ХОД БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ Фантастика Серебряного века Том II
Григорий Ольшанский ЛЕСНОЙ СПРУТ
Илл. И. Гранди
Когда мне пошел девятнадцатый год и я окончил коммерческое училище, — родные мои порешили, что мне пора прогуляться по морю.
— Поезжай, мой друг, поскорей, — говорит мне отец. — Конечно, нам будет очень без тебя скучно; но мир стал слишком тесен теперь для того, чтобы человеку с энергией, образованием и умом просидеть целую жизнь в маленьком городе. А уж если покинуть его, то надо ехать туда, где менее конкуренции и больше простора…
— Но куда же прикажешь мне ехать, отец? — ответил я на это неожиданное предложение со смешанным чувством бессознательной радости и жуткого страха. — Теперь в Америке тоже стало уже тесно…
— Правда, — согласился отец, — а потому ехать тебе в Америку я не советую, тем более, что ни родных, ни даже знакомых у тебя там нет, а без знакомства весьма трудно сделать карьеру. А ты поезжай на Цейлон, где живет уже лет тридцать твой родной дядя Иоганн, ведет свои дела очень успешно и, наверное, тебя где-либо устроит. Да кроме того, га! у него очень большая семья и несколько красавиц-дочерей, за которыми весьма хорошее приданое… Разумеется, будущее предвидеть нельзя, но свое счастье следует искать там, где для него более вероятия… Так вот, милый мой сын, собирайся — и говорить больше не о чем!
Через неделю после этого разговора я уже садился на пароход в Гамбурге и, высадившись в Коломбо, скоро очутился на плантации дяди, предварительно проехав около двухсот миль, сначала по железной дороге, а затем по превосходнейшему шоссе, проложенному среди непроходимого леса.
Небывалые впечатления до такой степени закружили мне голову, что я почти потерял сознание окружающего и чувствовал себя как во сне; однако, обжившись несколько в родственной и радушной семье, сохранившей на краю света наши добрые немецкие нравы, я начал понемногу сводить свои ощущения и осматриваться кругом.
Дядя мой, пятидесятипятилетний, но еще весьма здоровый и крепкий мужчина, представлял собой настоящий тип разбогатевшего немецкого боера[1], а супруга его Амалия-Екатерина превосходно этот тип дополняла. Кроме главных хозяев, в обширном одноэтажном дядином доме, весьма напоминавшем помещичьи дома времен крепостного права в России, помещалось еще человек до пятнадцати лиц обоего пола, на первый раз производивших впечатление родственников; но впоследствии выяснилось, что у дяди имелось только две дочери и три сына, а остальные оказались рабочими, попавшими сюда случайно и, кажется, навеки оставшимися. Нечего говорить, что из всей этой весьма приятной компании особенно привлекала мое внимание младшая кузина Лина, которая, в свою очередь, была необычайно приветлива со мной…
— Чем же вы тут занимаетесь? — начал расспрашивать я своих доселе невиданных родственников в первый же день по приезде.
— Как тебе сказать? — ответил дядя за всех, — делаем мы то, что под руку попадется, так как редко человек, ищущий заработка, может себе найти труд по призванию. Впрочем, главное наше дело — торговля, но такая торговля, которая, конечно, возможна в этой стране. Самый модный продукт здесь «копра», то есть волокна кокоса, из которых в Англии выделывают всевозможные ткани; а затем фрукты и лекарственные растения. Все это мы скупаем у тех, которые разыскивают товар по лесам, но этого мало, и потому мы уже успели насадить у себя целую рощу кокосовых пальм и завести собственное хозяйство, дающее нам весьма порядочные доходы. Но если бы ты знал, чего это нам стоило!
— Еще бы, я думаю, — поддержал я, — дикие звери, крокодилы и змеи…
— Ошибаешься, друг мой, — возразил дядя с улыбкой, — все это нам мало мешало, так как оружие у нас превосходное, а стрелять наши ребята умеют. Но растительность, растительность прямо адская — вот наше несчастье и зло. Помилуй! Не успеешь расчистить с тяжким трудом небольшую полянку, — а через год снова она зарастет, да еще такими растениями, которые даже и топор не берет… И как быстро они вырастают! Недаром существует поверье об индийских факирах, выращивающих в полчаса цветок из зерна… Почем знать, может быть, такие растения и бывают…
— Но, надеюсь, дядя, что ты такого растения не видел, — пошутил я.
— Положим, не видел, — ответил старик серьезно, — но зато видел много такого, о чем вы в Европе даже понятия не имеете. Тропические леса, — в особенности на Цейлоне, — еще слишком мало исследованы, а потому, что вам могут сказать ваши ученые? А здесь чудес у нас сколько угодно. Я не говорю уж о том, что из капустного семени здесь вырастает настоящее дерево в один год; о перце, действующем не хуже цианистого калия и о ядовитых фруктах, безвредно растущих и в европейских садах, но которые мы отправляем вместо лекарства. Все это и тебе должно быть известно; но что ты скажешь о растении, которое нападает на зверя и человека и их съедает дотла?
Я посмотрел на дядин стакан; он был налит слабым белым вином и отпит только наполовину.
— Но ведь это противоестественно, дядя, — заметил я осторожно.
— Противоестественно?! — горячо воскликнул старик, — а откуда ты это знаешь? Разве не видел ты мухоловку, которая ловит мошек и даже мух, а потом их переваривает? Ну, увеличь масштаб в сто раз, как и следует на Цейлоне, и ты получишь «Лесного спрута», как называют у нас это проклятое Богом растение, хотя вашим ботаникам, должно быть, оно неизвестно. Ты сомневаешься? — сказал он, расстегивая воротник, — так, вот, посмотри эти ранки на шее, которые у меня остались после борьбы с этим дьяволом! Да и не один я, многие с ним встречались в лесу, а мой бедный друг Фриц, приехавший вместе со мной, должно быть, пал его жертвой…
— Но как же? Но что же это такое?.. — еле мог вымолвить я, увидев ряд побелевших рубцов на шее у дяди.
— А вот, если хочешь, я тебе расскажу. Лет восемь назад, я один раз проходил по опушке дальнего леса и вдруг увидел ручей, которые попадаются у нас крайне редко. Положим, вода горячая в них, но я страшно устал и потому захотел выкупаться. Но только что я успел расстегнуть блузу, как что-то ударило меня по шее, точно кнутом, и потянуло в сторону. Вне себя от испуга, я, однако, выхватил нож и успел перерезать, как я думал, разбойничье лассо; но никаких разбойников близ меня не было; а, когда я воротился домой и показал свои раны, то покойный Вильгельм тотчас же мне пояснил, что я подвергся нападению не разбойника, а «растительного спрута». У нас его целые заросли, — говорил он, — и от одиночного отпрыска еще можно избавиться; но, если попадешь в заросль, то даже и слон не спасется… Что ты теперь скажешь на это?!
Я, конечно, не мог сказать ничего, а через несколько дней даже и забыл о рассказе.
В доме у дяди мне было весьма хорошо, так что, отложив разговоры о будущем, я на определенное время остался в радушной семье, по мере сил помогая в общей работе. Немало привлекала меня райская обстановка жилья, бальзамический воздух и летающие по саду звезды; но помимо всех звезд, еще более привлекали светлые глазки Линочки, на которые я загляделся с первого дня. Дядя и тетка заметили это, но, однако, не протестовали, и для меня началась буквально райская жизнь среди невиданной красоты цветов и деревьев. Мы по целым дням гуляли с кузиной в нашем саду, вместе читали, беседовали и даже работали.
Не поручусь, чтобы из этой работы выходило что-либо полезное для семьи, но для нас она имела большое значение…
— А не пойти ли нам кузина, настоящий лес посмотреть? — предложил я один раз своей очаровательной спутнице.
— Не знаю… — сказала она, — отец очень не любит, когда женщины ходят в лес, и даже мужчинам, без надобности, ходить туда запрещается.
— Помилуйте! — горько обиделся я. — Что же вы меня, за больного или труса считаете? Я возьму с собою оружие, наконец, возьму острый нож, — добавил я, улыбаясь, — и не посоветую никакому дьяволу на нас нападать, будь он хоть минерального царства — не то что животного или растительного…
Я вооружился, как обещал и, не сказав никому ни одного слова, мы с кузиной под руку отправились на экскурсию в лес.
Мы перешли через сад, прошли пальмовую рощу, окруженную высокой изгородью и, наконец, через калитку вышли на небольшую прогалину, за которой сплошной стеною возвышался тропический лес, переплетенный повсюду лианами.
— Великий Боже, — вскричал я, увидев такую картину. — Как же мы проберемся туда?!
— Говорят, здесь просеки сделаны… — заметила робко кузина, как видно, не меньше меня увлеченная недозволенной экскурсией.
И действительно, когда мы подошли поближе, то заметили в чаще тропинку, по которой можно было идти даже под руку. С замиранием сердца мы вошли под тенистые своды, где тотчас же начала приветствовать нас диковинная природа множеством невероятной красоты бабочек и разной величины птичек, доводя последних до размеров шмеля, в то время как жуки оказывались величиной с птицу. Глаза у меня разбежались; однако, помимо птичек и бабочек я успел рассмотреть также весьма красивую, но очень опасную коралловую змею и тотчас же раздробил ее ударом приклада.
— Пойдемте домой, кузина, — сказал после этого я, — по-видимому, здесь, действительно, девушкам гулять не годится.
— Вот еще! — ответила задорно кузина. — Да у нас этих змеек больше, чем лягушек во время дождя. Это вас с непривычки пугает.
Слово «пугает» мне весьма не понравилось и потому я уже без возражения пошел за своей легкомысленной спутницей все дальше и дальше. Наконец она, очевидно, устала и выразила желание отдохнуть, чему я так же беспрекословно повиновался.
Выбрав груду ярко-зеленого мха, больше похожего на бархатную подушку, чем на грязное растение нашей родины того же названия, я сначала ощупал его руками со всех сторон, а затем уже предложил на него опуститься своей повелительнице, в свою очередь поместившись у ее ног.
После этого я не считал уже времени и не видел кругом ничего, кроме двух голубых звездочек, сиявших надо мною на один шаг расстояния.
Но вдруг я услышал как будто удар бича. Моя собеседница отчаянно вскрикнула и покатилась на землю, продолжая оглашать лес громким криком. Я бросился к ней и увидел на мраморной шейке как будто конец веревки, из под которого выступали мелкие капельки крови.
Должно быть, я действительно не трусом родился, так как не потерял присутствия духа, а, наскоро выхватив патентованный нож, разрезал не без труда веревку, в то же время ощущая в левой руке страшную боль. Но о руке я не думал; приведенный в страшную ярость таким сверхъестественным нападением, я грозно махал ножом во все стороны, ожидая врага. Но враг не показывался и не нападал больше, и даже замеченной мною веревки не было видно, не говоря уже о присутствии Тугов[2], которым я приписал это все приключение. Тогда в паническом ужасе я схватил на руки бесчувственную кузину и бросился бежать к дому.
Не могу вспомнить теперь, сам ли я добрался со своей ношей домой или же кто-нибудь мне помог в этом, однако я пришел в сознание лишь у постели больной, над которой хлопотали мать и сестра, накладывая ей бинты и примочки.
— Как могло это случиться?! — всплеснул я руками в отчаянии. — Проклятие и месть Тугам!
— Да, месть, но только не Тугам, которых здесь нет, — ответил мне дядя, уже значительно успокоенный тем, что раны оказались ничтожными. — Даже на материке, — продолжал он, — Туги повывелись больше чем полстолетия назад, а на Цейлоне их никогда не было… Но постой, — наконец обратил на меня внимание дядя, — да ведь ты весь в крови перепачкан. Разве ты дрался с кем-либо в лесу?
Я поглядел на свою левую руку, в которой держал разрезанную веревку, и увидел на ладони несколько ранок, из которых сочилась кровь… Не будучи в силах вымолвить слова от изумления, я только отрицательно покачал головой.
— Ну, вот видишь, — сказал дядя с уверенностью, — значит, это сделали вовсе не люди, а то проклятое растение, которого, как уверяют индусы, находится целая заросль миль за двадцать отсюда. Что же тут удивительного, если семена этого дьявольского насаждения, заносимые зверями и птицами, дошли уже до нашего поселения и, прежде чем правительство обратит на это внимание, заполнять собою весь остров! Нет, дожидаться этого нам невозможно, и надо как можно скорей уничтожить это проклятое гнездо ужасов. Не пора ли уже устроить настоящий поход с целью выжечь и выкорчевать заросль до самого основания?
Намерение главы семейства было горячо поддержано всем мужским населением и мы тотчас же начали готовиться к действию, собирая связки горючих материалов, набивая мешки пороховой мякотью, смоченной нефтью, и натачивая топоры и ножи. Ровно через неделю наш отряд из двадцати человек, считая, в том числе, трех нарочно прибывших соседей и около десятка индусов, нанятых проводниками к роковой заросли, — выступил из дома, таща за собой на тележках и неся на плечах взрывчатые и горючие материалы. Долго пришлось нам идти. Сначала мы прошли около десяти миль по шоссе, а затем углубились в девственный лес, прокладывая себе дорогу топорами. Наконец проводники стали тревожно оглядываться вокруг и переговариваться между собой и скоро вывели нас на прогалину, представлявшую собой широкую котловину среди холмов, на которой, казалось, ничего не росло вовсе. Но это только казалось. Подойдя ближе, мы успели заметить, что все дно котловины было заполнено лежавшими на земле прутьями, отчасти похожими на нашу лозу и усеянными колючками, точно шерстью; но ни одного листочка на них не было видно. По всему берегу котловины рос короткий и скользкий мох, вызывавший опасение поскользнуться и упасть прямо в лапы чудовищ. Мы остановились в недоумении.
— Что же теперь делать? — спросил Роберт, старший сын дяди, принявший на себя командование нашим отрядом.
— Не знаем… — ответили прочие. — Но какой здесь воздух ужасный! — заговорили они, зажимая носы от невыносимого смрада.
— Это от трупов, от трупов, которые они едят, — объяснил проводник, указывая в глубь котловины, где прутья свертывались клубком, как будто что-то собой оплетая.
— Проклятые! — заметил сквозь зубы Роберт. — Ну, как бы то ни было, — тряхнул он головой, — а назад возвращаться нам не приходится. Конечно, спускаться в котловину и думать нельзя, но мы подойдем осторожно поближе и, вместо добычи, станем швырять в этот ад огонь и петарды; а затем — посмотрим, что из этого выйдет!
С крайней осторожностью отряд приблизился к самому берегу заросли, — и вдруг случилось невероятное чудо: до сих пор неподвижно лежавшие прутья при нашем приближении разом поднялись от земли и заволновались, как будто во время бури, хотя в воздухе царствовала полная тишина.
— Боже, кто бы этому мог поверить в Европе! — раздался чей-то молодой голос.
— Не робей! — крикнул Роберт, зажигая фитили на петардах. — Бросай! — скомандовал он. И в котловину полетело около десятка петард, выжигая на пути все окружающее.
За первой партией последовала вторая, а затем — третья. Никакое перо не опишет того, что произошло после этого! Еще петарды не загорались, а адские прутья уже их оплетали собою, словно желая погасить огонь своими телами, но погасить порох было нельзя, и они извивались, лопались и шипели, как змеи, далеко выбрасывая из себя очень длинные, похожие на кнутья побеги. Картина вышла неподражаемая, какую едва ли кому приходилось видеть даже во сне. Среди клубов едкого дыма и целого моря пламени отчаянно корчились какие-то фантастические существа, казавшиеся в дыму сказочными чудовищами, принимавшими всевозможные очертания. Мы потирали руки от радости и старались сыпать петарды чаще и чаще.
Но запас наш приходил уж к концу, а дьявольского растения еще много осталось. Правда, вся ближайшая к нам сторона была уже окончательно выжжена, но огонь не доходил даже до середины, и остальная часть оставалась совсем невредимой. Роберт скоро это заметил.
— Погодите, — вскричал, он увлеченный успехом, — я попробую взобраться на холмик с другой стороны, а затем мы все туда передвинемся!
И, захватив с собой петарду, он бросился в обход котловины.
Мы видели, как он бежал вдоль опушки, как скрылся за противоположным холмом и как, наконец, появился на нем и положили петарду перед собой. Вот он наклоняется, очевидно, желая зажечь фитиль…. но, Боже, что же это такое?! Вдруг он отчаянно вскидывает руками и катится быстро с холма, прямо на свившиеся клубком дьявольские побеги. Раздаются крики отчаяния; а в это время ужасающий клубок развивается и снова сплетается вокруг нашего несчастного брата. Произошла настоящая паника.
Большинство стали кричать о помощи, точно кто-нибудь мог их услышать; некоторые, схватив топоры, скатились на погорелое место и нанесли несколько ударов. Но, должно быть, сами успели их получить, так как дальше идти не решились и, зажимая рукою раны, с отчаянием возвратились назад. Стало ясно, что нашего бедного брата никакие силы спасти не могут.
— Назад! — закричал кто-то в толпе. — Назад, — если не хотите идти на самоубийство! Снарядов у нас уже более нет, а для того, чтобы уничтожить это дьявольское насаждение, требуется целый полк с артиллерией. Покоримся воле Провидения, братья, так как больше нам ничего не осталось.
Этот голос нас несколько образумил и мы порешили возвратиться домой, правда, после продолжительных пререканий. Но, действительно, что оставалось нам делать? И вот, оставив тело нашего брата во власти непризнанного еще чудовища и заливаясь слезами, мы поплелись по той же дороге домой.
Нечего говорить, как приняли старики наше известие: они оба чуть с ума не сошли и тяжко заболели от горя. Однако, крепкая натура взяла свое, и они начали выздоравливать понемногу и продолжать по прежнему жизнь. Нас с Линой родные порешили повенчать как можно скорей, но сами решили оставаться в этой ужасной стране. Я не отговаривал их; но, когда мы возвратились с женой по совершении свадебного обряда, я нежно обнял свою подругу и решительным тоном сказал ей:
— Дорогая супруга, выслушай неизменный приказ твоего мужа и господина, которому ты только что обещала повиновение перед Богом! Родители твои здесь остаются; но, что касается до меня, то я ни за что не останусь, и с первым же пароходом мы уедем в Европу. Что бы там ни было, но я не могу согласиться жить в подобной стране, где природа действует с такой невероятной силой, что человеку справиться с ней невозможно. Едем отсюда как можно скорей!
Через неделю мы покинули чудесный остров.
Владимир Воинов ТАЙНА АДВОКАТА КУКА
I
— Господин Кук!
— Войдите!
— Вы, вероятно, догадываетесь, почему я позволила себе побеспокоить вас?
— Еще бы! Если хозяйка решается беспокоить жильца, то, стало быть, у нее для этого есть достаточные основания.
Кук выпустил облако дыма и принялся что-то мурлыкать под нос. Казалось, что он углубился опять в свои мысли, забыв совершенно, что он не один.
Хозяйка помялась немного и громко откашлялась.
— Господин Кук…
— Что вам угодно? — резко выпалил Кук, глядя на посетительницу злыми глазами. — Денег? Опять денег? Но вы же меня скоро сделаете нищим.
— Сегодня последний срок. Мне самой нужно платить за квартиру, а жильцы не хотят этого понимать. Вот и новый жилец, господин Брикман из соседнего номера, обещал нынче дать, а теперь опять просит отсрочки на целую неделю. Говорит, что ужасно израсходовался на свои ноги и руки.
— На что?
— На ноги и руки. Что вы на меня так уставились? Ну да! Господин Брикман делают искусственные ноги и руки, а продавать их пока еще некому, потому что у большинства порядочных людей не чувствуется в них недостатка.
Кук улыбнулся краями бритых губ и полез за бумажником.
— Вот вам, хозяюшка, ваши деньги! Да постойте! Куда же вы? Так он делает ноги и руки? Вот чудак! И что же он их, хорошо делает?
— Удивительно, господин Кук! Я даже испугалась, когда вошла к нему в комнату. Как живые совсем! И кожа на них совсем настоящая, верите ли, — синие жилки просвечивают. Меня даже затошнило — такая гадость!
— А откуда он?
— Из Бреславля. Говорит, что открыл какой-то секрет и хочет взять патент, а пока возится с какими-то пружинами и ни за что не желает платить за квартиру.
Хозяйка раскланялась и вышла. А Кук задымил новую папиросу и принялся ходить из угла в угол по комнате.
Потом достал из кармана бумажник, пересчитал тщательно объемистую пачку кредитных билетов и, весело мурлыкая, вышел из комнаты.
У соседнего номера он остановился и стукнул три раза в дверь.
— Войдите, — ответил ему густой низкий голос с сильным акцентом и дверь распахнулась.
— Я ваш сосед по номеру, позвольте представиться, адвокат Кук!
— Брикман, ортопедический мастер и изобретатель из Бреславля, — отрекомендовался высокий грузный господин мрачного вида, — чем могу быть полезен?
— Вы мне — ничем. А вот я вам могу оказаться полезным.
— Как так? — спросил изобретатель, глядя на посетителя с некоторым изумлением.
— Я слышал, что вы временно нуждаетесь, и у вас даже нечем заплатить за комнату?
— К сожалению, это действительно так. Я только что приехал и еще не успел ознакомиться с рынком. Ведь товар у меня не совсем обыкновенный, не правда ли?
Бреславлец вытянул руку и указал ею на полки, развешенные вдоль стен.
Адвокат быстро скользнул проницательными глазами по полкам, где в величайшем порядке были разложены всевозможные протезы, и на лице его выразилось живейшее восхищение.
— Но ведь это же поразительно! Такой изумительной подделки под живые конечности я в жизни не видел!
Бреславлец гордо усмехнулся:
— Еще бы! Я убил на это дело двенадцать лучших лет моей жизни и, кажется, раскаиваться не приходится.
Кук повертел в руках несколько протезов и положил их обратно на полки.
— Вы гениальный мастер! И вы мне сделаете громадное одолжение, если не откажетесь взять у меня некоторую сумму взаймы: И не пытайтесь возражать! Получите!
Кук развернул бумажник, сунул в руку растерянного изобретателя кредитный билет и вышел не менее стремительно, чем вошел.
Бреславлец не успел даже пожать ему руку, как следует.
— Ну что же! Это мне очень кстати! — сказал он наконец и, взяв со стола один из инструментов, углубился в свою обычную работу.
II
У церкви св. Петра была страшная давка: служба только что кончилась и многочисленные прихожане спешили уйти по домам.
У левого выхода целой толпой стояли калеки и нищие, они громко взывали гнусавыми голосами о милосердии и каждый из них старался разжалобить жертвователей отвратительным видом своих физических недостатков.
Были среди них калеки с перебитой спиной, вынужденные ходить, как обезьяны, на четвереньках, были мужчины и женщины с проваленными носами; слепые ворочали из стороны в сторону мутными белками глаз, и все это стонало, кряхтело, взывало о помощи.
Среди этих жалких, безобразных фигур выделялся огромным ростом и богатырским сложением человек с отрезанными по локоть руками.
Он был немой и его громкое беспомощное мычание напоминало рычание раненого зверя.
Люди шли мимо, брезгливо протискивались сквозь толпу калек и раздавали направо и налево мелкие медные монеты.
Когда из храма Петра вышел последний человек и привратник с ключами показался на паперти, калеки сразу умолкли и начали расползаться в соседние улицы.
На углу, возле кондитерской, немого безрукого калеку нагнал какой-то юркий худой господин и сделал ему знак остановиться; потом показал ему крупную серебряную монету и пригласил следовать за собой.
Немой постоял с минуту в нерешимости, потом кивнул головой в знак согласия и пошел вслед за господином.
По дороге господин выяснил, что немой ничего не слышит, и это привело незнакомца в самое радужное настроение. Он весело кивал головой и все время указывал глухонемому калеке путь, куда нужно сворачивать.
У подъезда одного из домов с вывеской «Меблированные комнаты» господин позвонил и, когда отворили, повлек за пустой рукав своего спутника вверх по слабо освещенной лестнице.
— Можно войти?
— Войдите, — ответил густой низкий голос с резким акцентом.
Дверь открылась.
— Это вы, господин Кук? Очень рад! Да вы не один, я вижу!
— О, да! Посмотрите-ка на этого молодца, как его ловко обработали. Это прелестный объект для вашего гения.
И левая и правая отрезаны по локоть, но он, честное слово, не может на это пожаловаться! И знаете, почему? Потому что нем, как пень, да и глух к тому же. Ну видели ли вы когда-нибудь что-либо подобное?!
Немой калека стоял, прислонившись к стене, и глаза его с ужасом взирали на полки, в изобилии заваленные как раз тем, чего у него не было.
А Кук в это время оживленно беседовал о чем-то с ортопедическим мастером; и когда он заключил свою речь фразой «Я все заплачу», — недоумение сбежало с угрюмого лица бреславльца, и он принялся внимательно исследовать остатки конечностей глухонемого калеки.
Когда мастер поднес один из протезов для примерки и приложил его к обрубку руки, немой неожиданно вскрикнул и в глазах его засверкало безумное восхищение: он понял, что добрый господин собирается приделать ему, взамен отрезанных, искусственные руки; понял и не мог успокоиться от овладевшей им радости.
Когда же мастер нажал одну из пружин и пальцы на удивительном протезе задвигались, сжимаясь в кулак, — калека, как маленький, запрыгал по комнате и пудовые сапоги его так потрясли жидкий пол, что во всех концах полок заскрипели стальные пружины искусственных рук и ног.
— Через два месяца все будет кончено, — сказал, наконец, хмурый Брикман, — для вас, господин Кук, я сделаю то, чего не сделал бы никому другому.
Брикман и Кук пожали друг другу руки и тотчас расстались.
Ортопедический мастер принялся за новые чертежи, а адвокат знаками объяснил глухонемому, когда нужно прийти на примерку, и дал ему на прощанье обещанную серебряную монету.
Вечер этого дня Кук провел в ресторане, а по дороге домой зашел на почту и дал телеграмму:
«N-ск, Питтеру.
Дела поправляются».
III
— Вот вам мой долг! Я получил хороший заказ и, кажется, могу теперь спокойно работать, уверенный, что вы больше не будете меня беспокоить.
Брикман стоял у порога хозяйкиной комнаты, протягивая руку, на ладони которой лежала изрядная стопка монет.
— Вы получили заказ? Кому же это взбрело в голову привинчивать к живому телу ваши деревяшки?
— Есть один человек, который в них сильно нуждается. Господин Кук уже внес за него кое-что. Этот адвокат — человек выдающихся качеств. Он, кажется, только и думает, как бы это помочь тому или иному. Представьте себе, он мне сам предложил денег на взнос за квартиру и, кроме того, доставил весьма интересного клиента, приняв на себя все расходы. Да! Это удивительный человек!
— Постойте, постойте! Не все сразу, иначе я, кажется, не выдержу! Вы говорите, что Кук сам предложил вам денег взаймы?
— Да, я говорю это самое.
— Кук?
— Да.
— Денег?
— Да.
— Взаймы?
— Ну да же, черт возьми!
— И сам?' Ха-ха-ха! Нет, это великолепно! Идите-ка вы, господин Брикман, обманывать кого-нибудь еще. А я уже стара для этого и, кажется, не один месяц знаю этого адвокатишку. Вот уже полгода, как он сидит у меня, не имея и признаков практики и, кажется, не родился еще человек, который мог бы похвастать, что занял денег у Кука. Это такая жила! Такой скупой жилец, каких не найдешь на всем континенте! Он способен повеситься за медный грош, это знают все обыватели на несколько миль от моего пансиона! И вы мне изволите говорить, что Кук предложил вам сам деньги и еще обещал уплатить за какого-то. Воля ваша, а я еще в здравом уме и шутить над собой не позволю.
Хозяйка сгребла рукой монеты с широкой ладони Брикмана, и долго потом раздавался на лестнице ее возмущенный, негодующий голос:
— Этот новый жилец из Бреславля хотел меня обморочить. Слышите? Он меня уверял, что занял деньги у Кука! У Кука, как это вам нравится?!
А Брикман ушел к себе в комнату и, сидя за чертежами, самодовольно улыбался.
Одно из двух: или хозяйка права относительно нравственных качеств жильца адвоката, или она ошибается.
Если — второе, то заслуга открытия непроявившихся до сих пор способностей адвокатовой души принадлежит не кому иному, как ему, Брикману.
А если — первое, то это еще более лестно; стало быть, он, Брикман, одним своим видом внушает такое доверие, против которого не в силах бороться даже самые закоренелые, черствые люди.
Это тоже неплохо.
Довольный сделанными выводами, мастер раскинул по столу кальку, и остро отточенным карандашом принялся вычерчивать какую-то замысловатую спираль, которая, будучи помещена у предплечья, должна будет дать сгибательное движение фалангам трех пальцев.
Адвоката, по-видимому, целый день не было дома.
В комнате его все время стояла мертвая тишина, и только один раз был слышен стук в дверь; это было тогда, когда почтальон принес на имя адвоката объемистое письмо с отчетливым штемпелем, поставленным в N-ске.
IV
Две недели Брикман провел в своей комнате почти безвыходно; все это время он был занят выполнением принятого на себя заказа; приходил к нему только калека в указанные часы для примерки, и дело подвигалось вперед быстрыми шагами.
Внешняя форма удалась как нельзя лучше; внутренний механизм был собран уже до последнего винтика; оставалась теперь самая трудная, самая ответственная часть работы: предстояло придать поддельным конечностям живой, естественный вид.
Для этого нужно было покрыть всю поверхность протезов особым веществом, имеющим полное сходство с человеческой кожей по цвету и блеску; состав этого вещества и способы обращения с ним были открыты ортопедическим мастером после долгого ряда опасных работ; это и был знаменитый секрет Брикмана, выделивший продукты его труда из ряда других предметов этой оригинальной отрасли и послуживший одной из причин, заставивших смелого предпринимателя покинуть родину: кто-то пустил по городу вздорные слухи, что Брикман для своих операций пользуется настоящей человеческой кожей, содранной с трупов и обработанной известным образом.
И эта, самая главная часть работы, исполнена была лучше, чем можно было предполагать; и скоро немой калека получил возможность созерцать в почти законченном виде свои будущие руки.
День, когда был положен последний мазок на внутренней части ладони, был днем торжества мастера Брикмана, сумевшего оживить тупую бездушную материю; восторгам же клиента не было конца.
Когда Брикман опытным движением прикрепил окончательно готовые протезы к остаткам отрезанных рук, бедняга не мог побороть охватившего его волнения, ноги под ним подломились, и он упал на колени перед своим благодетелем.
Брикман, растроганный оказанными ему признаками благодарности, с чувством пожал новую руку сияющего клиента и в первый раз за два месяца позволил себе отобедать в порядочном ресторане за кружкой доброго пива.
Ко дню окончания работ появился и Кук, пропадавший неизвестно где целые пять недель.
Кук объяснял свое отсутствие поездкой к родным в деревню, но этому мало кто верил; находились такие люди, которые позволили себе усомниться в справедливости слов адвоката; а один из жильцов, студент, изучающий медицину, выдавал даже за верное, что он собственными глазами имел счастье видеть Кука в больнице св. Магдалины, где он в числе прочих студентов-медиков основательно изучал анатомию на трупах.
Впрочем, слухи эти были так маловероятны, что и им не особенно-то верили.
В самом деле, — для чего адвокату понадобилось посещать какие-то больницы и, в добавок ко всему этому, изучать анатомию?
Верно было одно: в день окончания Брикманом принятого на себя заказа, Кук уплатил ему полностью все, что следовало и в тот же день покинул навсегда меблированные комнаты, заявив, что уезжает в Америку.
Долго дивились жильцы последним поступкам чудака-адвоката, но мало-помалу забыли о нем совершенно.
Кук пропал из города, а приблизительно около того же времени прихожане храма св. Петра перестали встречать возле паперти высокого немого калеку, вызывающего чувство сострадания своим ужасным видом.
V
В начале, лета на одной из окраин города поселился в небольшом светлом домике небольшой человек с быстрыми, юркими глазами.
Человеку этот назвал себя адвокатом, но, по-видимому, дела его были из рук вон плохи, потому что еще ни один, человек не видал, чтобы к нему приходили клиенты.
Тем не менее, адвокат не имел угнетенного вида. Почти целый день он был занят у себя в рабочей комнате, а около шести часов вечера выходил на прогулку.
Шел он обыкновенно мелкими, быстрыми шагами, насвистывая громко игривые опереточные мотивы, и вовсе не видно было, чтобы он нуждался и бедствовал.
Прогулка его кончалась у старого кладбища, где в тихом безлюдном уголке поджидал адвоката неизвестный субъект огромного роста и молчаливо-сосредоточенного вида.
Поздоровавшись с большим незнакомцем, адвокат вынимал кошелек, доставал из него серебряную монету и клал ее на землю…
Незнакомец склонялся над ней, долго водил по земле неуверенной рукой, пока, наконец, ему не удавалось зажать ее в толстых не слушающихся пальцах; тогда адвокат улыбался, кивал головой незнакомцу и обычными шажками удалялся обратно к себе.
Свидания эти продолжались несколько дней, происходили они всегда в один и тот же час, в одном и том же месте, и вряд ли кто-либо из посетителей кладбища мог похвастаться, что встретил когда-нибудь эту странную пару.
Однажды, придя, как всегда, после шести часов, адвокат отдал монету высокому незнакомцу; но, вместо того, чтобы уйти, стал против него, поднял руки и принялся проделывать ими какие-то странные знаки.
Тот, кто знает азбуку глухонемых, без труда разобрал бы следующее:
«Я завтра вынужден уехать в деревню, но это вовсе не значит, что вы лишитесь своего денежного подаяния. Каждый день после шести часов приходите сюда и вы вот на этом самом месте найдете серебряную монету.
А пока до свиданья!»
Адвокат поклонился высокому незнакомцу, тот грустно качнул ему в ответ большой головой, и оба они разошлись в разные стороны.
С тех пор этот безлюдный пустой уголок посещал уже только один высокий незнакомец, и каждый раз на земле возле крайней плиты находил свой обычный паек.
VI
Восьмого июля на улицах города было заметно странное оживление; обыватели нарасхват покупали газеты, собирались большими группами на всех перекрестках и что-то горячо обсуждали, размахивая руками.
Причиной всеобщего волнения была необычайная газетная статья:
Еще одна жертва страшного незнакомца
Вчера около пяти часов вечера в полицейскую часть сообщили по телефону, что на старом кладбище обнаружен труп зверски зарезанной девушки.
Прибывшим чинам полиции предстала следующая ужасная картина.
На холодной могильной плите, раскинув в стороны тонкие руки, лежало молодое обнаженное тело девушки-подростка. В области живота зияла огромная кровавая рана, а открытые чистые глаза глядели в небо, вопия о правосудии.
Чинами полиции устроена была засада. А в шесть часов к трупу девушки пришел человек зверского вида с мутно-блуждающими глазами.
Незнакомец был арестован. На все вопросы ответил молчанием. Нет сомнения, что полиции удалось арестовать страшного безумца, наведшего ужас первым своим преступлением. Как, вероятно, помнят наши читатели, и в первом случае жертвой была молодая невинная девушка. А то обстоятельство, что рана была нанесена точно так же, не оставляет сомнения, что и то, первое убийство лежит на совести страшного незнакомца.
Убийца отправлен в Р-скую часть, где и будет снят первый допрос.
Два убийства на протяжении двух дней! Куда мы идем?
На следующий день газеты были полны подробностями убийства на кладбище.
Сообщалось, между прочим, что убийца до сих пор упорно молчит.
Все с нетерпением ждали суда.
Обществу было известно, что ни один адвокат не согласился принять на себя защиту преступника, все требовали самой безжалостной кары этому «зверю».
И можно представить себе, с каким негодованием граждане встретили последнее сообщение газеты, что нашелся все-таки, к позору для своего сословия, такой адвокат, который взял на себя защиту омерзительного преступника.
Сообщалось и имя.
Это был никому не известный, ни разу еще не выступавший молодой адвокат Кук.
VII
В залу суда пускали только по билетам и все-таки там стояла невообразимая давка; а о том, что происходило в это время на улице? и рассказать невозможно.
Весь город пришел сюда, горя нетерпением узнать, чем окончится страшное дело.
Убийцу вели под усиленным конвоем. Он дико стонал, ворочая белками глаз, но не было в зале суда ни одного человека, в ком вызвал бы он чувство жалости.
Мертвым молчанием встретила публика чтение обвинительного акта суда…
Прокурор сделал подробный анализ всему данному случаю и требовал высшей меры наказания.
Гул одобрения прокатился из края в край в ответ на слова прокурора.
Гражданский истец, за необнаружением личности убитой и за ненахождением родственников ее, — отсутствовал.
Дальше слово принадлежало защитнику.
Точно перед грозой повисло в зале тяжелое молчание, когда с своего места встал молодой юркий брюнет с пронзительно бегающими глазами, — защитник убийцы; всем было ясно, что ни какими словами нельзя поколебать созревшего уже решения, — это было написано на лицах присяжных; всем хотелось скорее конца!
После короткого вступления о причинах, по которым он нашел возможным выступить в качестве защитника по этому делу, Кук окинул залу горящими глазами и твердо сказал:
— Я уверен в невиновности подсудимого так же, как в собственной своей, и я докажу это.
Смутный гул прошел по переполненной зале; послышались отдельные голоса:
— Это уж слишком! Нахал! Постыдитесь!
— Остановлюсь на одной черте, необычайно характерной для данного процесса, — продолжал Кук, — это на том обстоятельстве, что до последнего дня не нашлось ни родителей, ни родственников зарезанной девушки.
Это необычайное на первый взгляд обстоятельство объясняется просто; прошу обратить внимание: у родителей этой девушки не было дочери, поэтому они и не пытались искать ее.
— Что такое? Абсурд! Адвокат не в своем уме! — прокатилось по залу.
— Выражайтесь ясней! — предложил председатель.
— Не абсурд, а факт! У родителей этой девушки не было дочери, потому что она… была зарезана еще накануне рассматриваемого сейчас убийства.
Я утверждаю, что тело, найденное на кладбище, есть то же самое тело, которое накануне было обнаружено на Р-ской улице. Убийств одно, а не два и я удивляюсь нашим судебным следователям, которые позволили себя провести таким простым способом.
В зале настало полное смятение. Председатель суда побледнел, и нижняя челюсть его запрыгала из стороны в сторону.
— Я утверждаю, — гремел дальше Кук, — что здесь произошла тяжелая, но курьезная судебная ошибка!
Подзащитный нисколько не симулирует немоту, он — глухонемой от природы, а что он не мог совершить инкриминируемого ему преступления, это вы сами увидите, если потрудитесь приказать находящимся здесь врачам- экспертам освидетельствовать руки мнимого убийцы. Это — протезы, которыми нельзя даже ножа удержать, как следует. Идеальнейшие протезы, приготовленные мастером Брикманом по открытому им самим способу.
При гнетущем молчании приблизились врачи к подсудимому, оттянули ему рукава, и через несколько секунд страшные руки убийцы с громом упали на пол.
Публика ответила на это неистовым хохотом…
VIII
На главной улице города в прекрасном особняке живет теперь первый на весь юг адвокат, — знаменитый и всеми уважаемый Кук.
Ни у кого в городе нет такой живописной мебели, таких пальм, таких обоев, портьер и выезда, как у Кука.
Живет он, как князь, имеет чудовищную практику, и совесть его совершенно спокойна.
Да разве могла она его беспокоить, если единственным темным пятном на его прошлом была только маленькая остроумная выдумка: выкрасть из больницы св. Магдалины труп накануне кем-то зарезанной девушки и отнести его ночью туда, куда приходил каждый день за своим подаянием облагодетельствованный им калека.
Кстати, уж пришлось и в полицию позвонить по телефону.
Напротив Кукова особняка красуется прелестнейший ортопедический магазин Брикмана, — известного всему медицинскому миру своими гениальными изобретениями.
А у подъезда особняка частенько сидит на скамье изящно одетый и тщательно выбритый господин богатырского роста.
Это — немой калека.
Владимир Воинов ХОД БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ Петроградский рассказ
1
Поступила она необдуманно; может быть, даже и жестоко. Но юность всегда бессердечна и относится очень легко к окружающим. Конечно, она разыскала меня без скверного умысла. У нее даже повод имелся для того, чтобы видеть меня: письмо из провинции от далекого родственника. Но, все-таки, лучше бы нам не встречаться после всего, что случилось два года назад и оставило прочный, незабываемый след.
Письмо можно было бы переслать с посыльным. Так было бы спокойней… Впрочем, я это все говорю за себя.
Валентина же, очевидно, решила иначе и проникла за мною даже в больницу, куда я нарочно ушел часом раньше после звонка ее по телефону.
Я когда-то любил Валентину хорошей, светлой любовью. Она была младше значительно и переживала как раз те легкомысленные годы, когда гимназист-семиклассник целиком заполняет девичью голову. Ну и пришлось мне в ответ на признание получить самый ясный отказ.
Я уехал. Сдал успешно государственные экзамены и принялся устраивать трудовую серьезную жизнь одинокого доктора. А она оставалась в провинции до вот этого дня, когда я нашел ее у себя в кабинете, — живую, восторженную, полную новых, невысказанных впечатлений.
Не скрываю — приятно и больно мне было с ней встретиться.
Приятно потому, что любил до сих пор. А больно… Ну, да об этом стоит!
Только уж слишком плескалось из глаз ее счастье, чтобы я мог обмануться.
Да она и не стала скрывать.
Очевидно, боясь, чтобы я не припомнил былого, она почти с первых же слов сообщила, что бежала из дома учиться та курсы и что будет здесь жить не одна, а с Сережей Матвеевым.
— Мы, конечно, не венчаны, но теперь это модно становится.
Матвеев… Сережа… Это тот «семиклассник», которому я уступил свое место.
Да! Довольно приятная встреча!
Все-таки, лучше было бы не говорить мне об этом… Будешь жить и живи… Для чего же причинять совершенно излишнюю боль человеку, который к тебе относился всегда с большой предупредительностью? Для чего выставлять напоказ то, что принято прятать? Ведь, ей-Богу же, можно подумать, что не письмо от какого-то дальнего родственника побудило ее разыскать меня, а именно это желание поглядеть, как я встречу известие о ее предстоящем сожительстве с каким-то Сережей.
Незаметно первоначальное чувство во мне подменилось глубокой обидой.
Стало что-то мыкаться враждебное, злое: может быть, к ней непосредственно; а, может быть, только через ее голову — к тому господину, который сумел стать счастливым сожителем прежней моей Валентины.
Больше всего меня дернуло, когда она с подчеркнутым легкомыслием бросила фразу «не венчаны».
Я совсем не какой-нибудь ретроград и на сожительство подобного рода смотрю очень трезво.
Но почему-то вот в этом случае мне почудилось что-то почти оскорбительное в словах Валентины.
— Дежурите?
— Да!
— Замотались?
— Нисколько!
— А я положительно без ума от всего. Была в Эрмитаже, видала Неву, Троицкий мост и еще очень многое. Красота и восторг и — каналы особенно! Что это за сказочная картина! Чернила! Буквально чернила! И в них отражение золотых куполов!
Я молчал и глядел.
Боже мой! Как это близко, знакомо!
Именно так вот: веселое личико с бойкими мальчишечьими глазами, тугая коса и высокая, крепкая грудь под простенькой вышивкой!
И, именно, все превосходно: и Невский, и Троицкий мост, и каналы, и набережная.
Крепкий животный восторг от избытка здоровья и счастья! Жадная радость вчерашней девицы после объятий Сережи Матвеева!
Скверный червяк шевельнулся в груди и заставил меня подобраться.
Появилось желание пустить каплю яда в это море весеннего ликования. Желание острое, властное.
— А у вас хорошо! Кабинетик уютный! Обособлено так! Вероятно, довольны работой и местом?
— Да! Доволен! — ответил я глухо, с трудом узнавая свой собственный голос. — Здесь прелестно работать!
Я раскрыл свой больничный журнал и почувствовал, что теперь не сумею уже удержаться.
2
— Вот! Смотрите! — обратился я к Валентине. — Это записано за день:
1) Николаев, Василий Петрович.
Так, пустяки человечишко. Одиннадцать лет. Гимназист. Шел спокойно к себе на уроки, а попал под мотор. Ничего! Будет жить. Только руки и ноги серьезно изломаны.
Валентина придвинулась ближе и улыбка сбежала с лица.
2) Алексей Калмыков и
3) Терентий Ладыжкин.
Два пожарных… Горело там где-то… Вместе с крышей упали в огонь. Переломы и вывихи. Если выживут, будут здоровы.
4) Антонина Беляшева.
Проститутка. Отравилась карболовой кислотой. Принял меры. Устроил промывку. С часа дня переместили в покойницкую.
Дальше идет разный сброд: алкоголики, хулиганы с проломами черепа и иное в таком же роде.
А вот, под номером 13, довольно курьезная вещь! Сандвич! Знаете? Нет? Это один из тех странных субъектов, что шагают с плакатами, рекламируя разную дрянь. Моего прозывают Угрюмов, Владимир Порфирьевич. Шел по Невскому в очереди. Дошагал до Аничкова моста, а потом подошел к парапету, да и ахнул в Фонтанку вместе со своей рекламой. Говорят, посмеялся народ основательно. Когда привезли, все дрожал и тихонько всхлипывал. Отстояли, дали выпить горячего, — отошел. И даже историю свою рассказал. Презанятно! Инженер, понимаете? Молодой человек! Изобрел там какое-то мыло, ну и, конечно, в столицу, скорее наживать миллионы. А столица-то строгая. Помотала беднягу по лестницам, вытрусила из него все, что было, да и пустила на улицу. Не помирать же от голода? Ну, и пошел бедный малый в «сандвичи». Нацепили все, что надо, и вышел на Невский, под глаза нашей хмурой толпы. И ходил до тех пор, пока в один день не пришло ему в голову глянуть, что такое несет на плечах? Глянул и обмер. Оказалось, то самое мыло, что придумано им же самим. Только фирма-то значилась не его, а его дорогого приятеля, что обещал хлопотать о постройке завода. Поглядел бедный «сандвич», да и плюхнулся с моста. Что? Занятно? Не правда ли?
Валентина глядела теперь на меня беспокойными бегающими глазами и жалась, словно от холода.
— «Ничего! — решил я. — Может быть, мне и не следовало бы говорить о всем этом, но и другим нужно помнить о границах дозволенного простою воспитанностью».
Я энергично захлопнул журнал и спокойно прошелся по комнате.
— Так вам нравится мой кабинет? — спросил я минуту спустя, заложив руку за руку.
Валентина взглянула, но ничего не ответила.
— Кабинет мой совсем хоть куда! — покачал я многозначительно головой. — И знаете, чем он хорош? Из него видно город.
Машинально метнула глаза на окна.
— Нет, не то. Не оттуда! Именно тогда, тогда шторы задернуты наглухо.
Поглядела опять на меня.
— Непонятно? А мне это ясно, сударыня. Вот, смотрите: четыре стены, а за ними — налево, направо, вверху и внизу, — город! Два миллиона людей. Знаете, что это за люди? Помните наших былинных богатырей? Встретятся двое, бывало, в чистом поле, да и почувствуют, что им уже тесно. Так вот, это потомки тех самых богатырей. Не похожи? Да ну? Что за ширь! Что за удаль! По подвалам снимают углы и уживаются со всеми своими печалями и радостями на глазах у других. Это они висят в люльках под крышами целыми днями с кистью и грязным ведром. Это они живут на извозчичьих козлах днем и ночью, в снег и в грозу. Это они стоят у машин и котлов, в поездах, на вокзалах, в трамваях, в редакциях, в ресторанах, театрах, публичных домах и еще во многом множестве мест, порожденных культурой. Не находите ли вы, что изрядно ушли они все от своих диковатых и милых, закованных в латы предков? Разнообразие? А? И все это живет, уживается, трется одно о другое. Что за контрасты! Что за игра всемогущей природы! Один ранним утром выходит на Невский, чтобы к обеду облюбовать через зеркальное окно гастрономического магазина какой-нибудь особенный деликатес. Другой тоже утром выходит туда же, чтобы стянуть у кого-нибудь кошелек. И оба находят, что надо. Миллионы потребностей и миллионы возможностей удовлетворить их. И какие потребности: от глотка сногсшибательного денатурата до самых изысканных, сложных, утонченных. И на все есть товар. Продают, потребляют. И идет это все в грандиозных размерах. Не единицами, нет! А сотнями и тысячами. Самый причудливый, самый невероятный пассаж отражается в тот же момент, словно в зеркале, в ком-то другом. Вообразите такую возможность: вдруг, по взмаху руки, все остается стоять в том положении, в каком оно было застигнуто. То-то занятные вещи окажутся! Несколько лиц будут вынуждены повиснуть в пространстве, не долетев до земли. Десятку младенцев, рождающихся в этот момент, придется повременить. Два-три человека застынут, склонившись с простреленным черепом, не смея упасть. И так далее. Представляете вы, что это значит? Здесь нет «единичных» случайностей! Где два миллиона людей кипят в общем омуте, там все «повторяется», там все выражается цифрой, числом. Травятся каждый день столько-то; топятся столько-то; подколотых чьим-то ножом, размозженных трамваем, обожженных бензиновым пламенем, сорвавшихся с лифтом и еще, и еще — все это будет число, и почти постоянное — для данного места, данного дня. Это как будто бы просто! Статистика! Газетная хроника! А ведь в этом лежит что-то жуткое, страшное, — в этой безжалостной «правильности». Кто-то Черный стоит за людьми и следит их движения. Сколько их, этих разных движений, — простых, механических и «движений души»! Вы представьте себе все пути! И какая же страшная согласованность должна быть заложена в них — в пространстве, во времени, в силе и темпе, чтобы все это живое, мятущееся и ищущее «число», дающее город, довело до конца свой один только день! Самое малое отклонение, едва уловимое несоответствие в направлении, в скорости, и — катастрофа готова: чья-то жизнь жестоко и спокойно вычеркивается. Кем? За что? Почему?
Нету дня… Понимаете? Нет и не может быть дня, чтобы кого-нибудь не убило трамваем, мотором, машиной, обвалом лесов… Нет дня, чтобы кого-нибудь не сожгло на пожаре; нет и не может быть дня, чтобы две или три проститутки не шарахнулись вниз головой в Неву и Фонтанку.
Каждый день даст нескольких отравившихся, четырех утонувших, одного изувеченного кислотой, восьмерых подавившихся костью, сорока двух опившихся суррогатами спирта, трех искусанных бешеной собакой и дальше, и дальше.
Вам, разумному, смелому, гибкому существу, мирно шагающему по панели, и в голову не может прийти, что кто-то из вас уже «обречен»: ибо его через пару минут раздавит мотор.
Улыбаетесь? Да? Улыбался и гимназист Николаев, который лежит сейчас в гипсе с переломанными конечностями.
Ведь поймите! Вас — два миллиона! Число! Огромное, страшное, живое «число»! Оно требует жертв, оно требует крови, изломанных рук, обезображенных лиц… За вашей спиной стоит непонятная, черная сила, живущая там, где «единицы» перейдут кем-то положенную грань в стремлении своем сплотиться и сдвинуться. Это — закон! Неумолимый, железный! Он — везде, где совершают свой ход «большие числа». И всегда люди кровью своей расплачивались за право стать «единицей большого числа».
А вот эта уютная комнатка — это дно той воронки, по которой стекают в холодную «Лету» обреченные жертвы.
Всех убитых, отравленных, недорезанных, истекающих кровью, самоубийц и утопленников — всех их привозят сюда.
Я их вижу вплотную, до ужаса близко.
И все они прыгали, щебетали, чирикали, влюблялись, ходили в театры, восхищались каналами, Невским, Шаляпиным, курсами… Все они — строили жизнь, все пробивали свой сложный, извилистый путь в плотном клубке перепутанных, сбившихся в темную толщу людских интересов. Все мечтали о чем-то и жили.
И вот их привозят ко мне: с глазами, изъеденными кислотой, с кусками отваливающегося мяса.
Был человек. Теперь его нет.
Страшный закон выжал свои единицы из «большого числа», и они докатились до горла воронки — ко мне.
Вы подумайте только: ни один, ни одна — не минуют меня!
Я — конторщик у Смерти! Я холодным, отчетливым щелканьем костяшек отмечаю проходящие единицы.
И они идут мимо и, уже по ту сторону, слагают какое-то новое, свое мертвое «больше число»…
Мне стало душно.
Я вскочил на окно и распахнул форточку.
В комнату хлынул густой слитный гул беспокойного города.
— Идите сюда! — сказал я безжалостно Валентине.
— Да ближе же! Ближе!
Она подошла, повинуясь неведомой силе.
— Слышите? А? — закричал я тогда.
— Вот стоим мы здесь с вами, а там, за окном, свершается «ход больших чисел». Кто-то огромный и мощный меряет жизнь своими аршинами. Слышите вы эти взмахи? Они — словно шелест материи, спускаемой в вечность! Я различаю их смену, чередующую бытие с небытием. И вот говорю я себе: «Нынче суббота, предпраздничный день, нынче еще привезут трех подколотых, семерых отравившихся, пару скакнувших с моста… А к ночи, подальше туда, шестерых обгоревших… Кто они? Не сидел ли один из них вчера еще вечером, так же, как вы, на диване, и не хвалил ли мосты и каналы?
— Ха-ха-ха-ха!
Нервная спазма сдавила мне горло.
Я отскочил от окна и поднял рук вверх.
На меня нашло то состояние, при котором я близок бываю к прозрению.
— Не успею еще опустить я руки, — крикнул я, задыхаясь, — как уже привезут! Понимаете? А?
Я махнул исступленно рукой, и в ту же минуту отчаянный, резкий звонок наполнил дежурную острой тревогой.
Я впился глазами в лицо Валентины, Она побледнела, зашаталась на месте, потом повернулась и, вытянув руки вперед, метнулась из комнаты.
А я подошел тогда к трубке, зажал ее в горячей руке и крикнул:
— Allo!
3
Больше она не была у меня. Она ушла в город прокладывать собственный путь в его недрах; и в бесконечное множество сложных движений влила свою «новую» жизнь, повторяя в блаженном неведении давно уже бывшее с кем- то другим и идущее даже сейчас под соседней крышей или даже просто за ближайшей стеной.
Для нее оно ново и сладко. Потому что «свое» и «впервые».
А я возвратился к суровой работе врача и, оставаясь осенними вечерами один со своим разумом в маленьком кабинете, вспоминал нашу странную встречу.
И чем больше я думал о ней, тем тревожней болела душа.
— Как-то выйдет? Усвоит ли темп?
И, когда по ночам затихали палаты и в открытую форточку с улицы рвался мятущийся, слитный, сплавленный гул неуемного города, я особенно чутко открывал ему уши и часами прислушивался к роковому движению чисел, уповая, что нынешний день не пошлет мне ничего ужасного.
Сам не знаю откуда, появилась боязнь.
Как? Чего? — Не умею сказать.
Но душа моя вся обострилась, насторожилась навстречу чему-то грядущему и застыла в безмолвном и трепетном ужасе тайного ожидания, откликаясь щемящей болью на каждый тревожный звонок телефона.
Дошло, наконец, до того, что дежурства пугать меня стали.
С замиранием сердца входил я теперь в кабинет, где меня обступали тотчас же обычные, черные мысли.
И, когда уходил на квартиру, облегченно вздыхал:
— Слава Богу! Пока все спокойно.
Потянуло на люди: в театр, на проспект, на бега, в ресторан.
Одевался возможно скромнее, нахлобучивал шляпу с полями и бродил в свободное время в суетливой толпе.
Было легче значительно, чем там, у себя в кабинете. Растворялась какая-то тяжесть в душе, исходили какие-то нити, тянулись к другим, приобщали к беспечной и серенькой суетности. Хорошо было чувствовать себя таким же, как все: затерянным, маленьким, единицей числа, которую так же легко «обронить», как и всякую другую. И невольно являлась надежда на что-то. Скоро, однако, я понял себя: я искал Валентину.
И однажды я встретил ее.
Это было в театре.
Шел «Фауст» с Шаляпиным.
После первого акта я вышел в фойе выпить чаю и съесть пирожок.
В это время вблизи, за спиной, расплескался серебряный хохот.
Я узнал его сразу.
Так могла хохотать только одна Валентина.
Обернулся и тут же увидал ее.
Она шла спиною ко мне рядом с высоким блондином.
Мне был виден один лишь затылок.
И, однако, я сразу почувствовал, что блондин этот — не Сережа Матвеев.
Большего я не хотел в этот вечер.
Я уехал сейчас же домой и с успокоенной, легкой душой в первый раз за большое количество дней принялся за запущенную работу.
Работал удачно и весело.
Отпустило. Стало легче дышать, и даже «дежурная комната» перестала пугать своим воздухом, нагнетающим мрачные мысли в тяжелом ночном одиночестве.
Так полгода почти прошло в спокойной и ровной работе.
И вдруг в один день я внезапно почувствовал признаки старой тревоги.
Родилась она сразу, без повода: просто сразу накрыла и пошла нарастать, обжимая всю грудь холодными звеньями.
Попытался упорствовать: выпил чашку ликера и попробовал сесть за рояль.
Сорвалось.
Тогда глянул на календарь, на часы и стал собираться. Было время идти на дежурство.
Обошел все палаты, побывал в операционной, назначил порядок работы и ушел покурить в кабинет.
— Что такое со мной? Нездоровится, что ли?
Подошел для чего-то к отворотной форточке.
Вдруг пронзительный, резкий звонок передернул меня до последних суставов.
— Allo! — крикнул я изменившимся голосом.
Все обычно. Звонок из приемной. Голос знакомый, — дежурного фельдшера: привезли пациента.
Но железной рукой захватило дыхание, и в артериях стукнула кровь.
Вне себя от волнения пробежал коридором.
— Где? Скорее!
Поглядел и земля поплыла под ногами.
На носилках была Валентина.
Выслал всех.
Сел у ног.
Стал глядеть.
Все обычно: весь осклизлый, пропитанный грязью костюм; та же кофточка с простенькой вышивкой на высокой груди. Только грудь неподвижна, и немые глаза удивленно и холодно смотрят из-за той черной грани, где теряется мысль и рассудок теряет значение.
Сам раздел. Осмотрел.
Впрочем, долго смотреть было незачем.
Все и так было ясно.
Завернул опять тело в сырые и скользкие складки.
Да! Конец! В роковом своем ходе «число» обронило еще единицу.
И вдруг холодок пробежал по лопаткам.
— «Я конторщик у Смерти… ни один не минует меня», — прозвучали в ушах мои собственные слова.
Я почувствовал их и согнулся, раздавленный скрытым в них смыслом.
Я при ней их сказал… Стало быть, в смертный свой час она «знала», что я «все узнаю».
Дальше силы мне совсем изменили.
Я упал на колени, и в глазах замелькали цветные круги.
Владимир Ленский СУДЬБА
Илл. И. Гранди
В детстве на меня произвела сильное впечатление приобретенная где-то моим отцом гравюра-снимок с картины какого-то иностранного художника, называвшейся «На жизненной ниве». Я смотрел на нее с содроганием отвращения и ужаса, и потом часто по ночам не мог заснуть от страха перед встававшей в памяти ужасной картиной…
На ней были изображены мужчина и женщина, согбенные в дугу, полуголые, напрягающие последние силы, чтобы сдвинуть с места плуг, к которому они привязаны режущими их тело веревками. Рядом с ними идет огромная, совершенно нагая мужская фигура с исполинской грудью, с невероятной мускулатурой тела, указывающей на его сверхъестественную силу. Это — хозяин человеческой жизни: его глаза смотрят мимо всего человеческого, обращенные к тайнам каких-то предвечных целей, его губы неумолимо сжаты, вместо лица — мертвая маска; он не видит человеческих страданий, глух к человеческим стонам и воплям. Мерно, беспощадно подгоняет он несчастную пару жестокими ударами бича по голым спинам, и они не смеют оглянуться, посмотреть на него.
Еще ребенком, глядя на эту страшную фигуру Судьбы с ее бесстрастным, мертвым лицом, я почувствовал над собой власть неведомого властелина, творящего мою жизнь, управляющего моей волей. Он шел за мной шаг за шагом, ни на минуту не предоставляя меня самому себе, и все мои мысли, слова, поступки являлись как бы со стороны, внушаемые мне этим страшным, невидимым спутником. Не всегда, впрочем, невидимым: он скоро показал мне свое лицо. Это случилось в тот день, когда так бессмысленно и страшно погиб мой отец.
Мне было тогда уже пятнадцать лет. Я шел с матерью и отцом за какими-то покупками; на одном перекрестке мы остановились перед трамваем, преградившим нам дорогу и стали ждать, чтобы он проехал. Но, когда кондуктор зазвонил и вагон тронулся — отец вдруг почему-то заторопился, бросился через рельсы — и перебежать не успел. Его сильно толкнуло в бок, он упал и тотчас же скрылся под наехавшим на него вагоном, из-под которого раздался глухой, придушенный страхом смерти, сразу же оборвавшийся крик, а затем — в наступившем мгновенно молчании — послышался страшный хруст ломающихся под колесами костей…
Моя мать тут же упала без чувств, а я стоял недвижно, охваченный непобедимым страхом, и этот страх был — не перед бедой, разразившейся над нашей семьей, не перед ужасной, такой неожиданной и нелепой смертью отца, а перед лицом вагоновожатого — в ту минуту, когда под колесами трамвая хрустели человеческие кости. Это лицо я запомнил на всю жизнь.
Оно не было похоже на человеческое лицо; это была какая-то каменная, слепая маска, не выражавшая решительно ничего, и весь ужас заключался именно в том, что в такую страшную минуту оно было неподвижно, бесстрастно; ни единая мысль, ни единое чувство не отражалось в нем в то время, как крутом толпились люди с искаженными от ужаса и сострадания лицами. Казалось, вагоновожатый в эту минуту перестал быть человеком и служил только слепым, бесчувственным орудием какой-то неведомой силы, которой для чего-то нужно было, чтобы он раздавил вагоном моего отца. И он покорно исполнил ее волю, окаменев на мгновение, ничего не видя и не слыша…
И когда прошло это мгновение и он совершил то, что было предназначено — он тотчас же снова принял человеческий образ — его лицо сразу почернело и исказилось страхом и болью, точно его самого перерезали колеса трамвая. Он затормозил вагон, выпрыгнул из него и бросился бежать, не глядя, через улицу, в паническом ужасе оглядываясь назад, точно ожидая погони, хотя в поднявшейся около трамвая суматоху никто и не думал его преследовать…
Пока из-под вагона извлекали окровавленный, изуродованный труп отца, я смотрел на оставленное вагоновожатым место и, несмотря на то, что там уже не было никого, все еще видел за стеклом это ужасное каменное, с невидящими глазами лицо исполняющего страшную волю судьбы. Так оно и осталось у меня в памяти, слившись с поразившей меня в раннем детстве картиной — этот образ тайны силы, всемогущего существа, страшного, неумолимого хозяина земли и людей…
Есть люди, которые не верят в судьбу; им приятней думать, что они сами творят свою жизнь и могут распоряжаться ею по своему усмотрению. О, как бы я хотел верить в независимость, свободу своего существования!.. Но у меня никогда не было такой уверенности. Я всегда ощущал над собой тяжкое иго неволи, внушавшее мне страх к каждому моему новому дню. Когда я полюбил Тоню, — я и тут не мог отрешиться от сознания своей беспомощности; нет, нет, это не я любил ее, это была не моя любовь: кому-то нужно было, чтобы мы соединились, чтобы произошло несчастье, чтобы я стал убийцей…
С первых же дней нашей супружеской жизни нам стало ясно, что мы сделали страшную ошибку. Вначале мы как будто любили друг друга, нас мучительно тянуло одного к другому, но наши ласки, наши объятия были отравлены какой-то горечью смутного сознания, что это не то, что нам нужно было, что мы только исполняем чью-то волю, управляющую нашими чувствами и желаниями. И после горячих ласк, после исступленных объятий мы расходились почти врагами, испытывая жгучую, непобедимую ненависть к самой нашей любви, к самому нашему союзу…
Тоня худела с каждым днем, точно таяла, ее глаза увеличивались, пугая меня застывшим в них непонятным страхом. Часто, в минуты разлада, она, плача, говорила:
— Зачем ты сделал меня своей женой?..
И я, раздражаясь, отвечал ей тем же вопросом:
— Зачем ты согласилась стать моей женой?..
Зачем?.. Разве мы знаем, что мы делаем? Разве мы понимаем что-нибудь в сцеплении обстоятельств, вынуждающих нас на тот или иной поступок во имя чьих-то, неведомых нам целей?..
Разлад возрастал с каждым днем, мы начинали тяготиться присутствием друг друга. Тоня стала почти каждый день уходить из дома, возвращалась поздно ночью. Лежа в постели, притворяясь спящим, я прислушивался к тому, как она, вернувшись откуда-то, раздевалась, прислушивался к шелесту ее платья, к ее тяжелому и глухому молчанию — и меня всего наливал холодный, леденящий страх. Что- то надвигалось на нас — грозно, неуклонно, неумолимо, — страшное разрешение этого «зачем», разгадка нашего соединения. Мы уже не ласкали друг друга, мы уже не спрашивали «зачем?» и не упрекали один другого. Мы только ждали, затаив дыхание, сжимаясь от страха, подозрительно следя друг за другом, каждое утро вставая с постели с немым вопросом в лице: сегодня?..
Было совершенно ясно: что-то должно было случиться, — но что, что?.. Напряженность ожидания грозила потерей рассудка; хотелось биться головой о стену, размозжить себе пулей лоб, чтобы прекратить эту пытку нестерпимого ожидания. Раз ночью, мучаясь бессонницей, я вспомнил о маленьком револьвере Тони, который она хранила в ящике туалетного стола. Бесшумно, чтобы не разбудить ее, я поднялся с постели, осторожно выдвинул ящик, и разыскав эту блестящую игрушку, унес ее в кабинет. Я хотел покончить с собой, со своей мукой; может быть, именно на это меня и толкала судьба. Тем лучше…
Но увы — в револьвере не было ни одного заряда; я вынул барабан и посмотрел через все шесть его ячеек на свет: они были совершенно пусты. Не доверяя своим глазам, я вложил его обратно и шесть раз щелкнул курком: выстрела не последовало. С досадой глубокого разочарования я бросил оружие на стол…
Тоня, по-видимому, тоже искала смерти. Я застал ее на другой день у себя в кабинете с этой же игрушкой в руках. Она, вероятно, также смотрела на свет в отверстие барабана; когда я вошел — она торопливо вставила его на место, бросила револьвер на стол и вышла, не сказав ни слова. Лицо ее было бледно, она в дверях испуганно оглянулась на меня…
Я в отчаянии схватился руками за голову. Нужно найти выход, нужно попробовать предотвратить то, что должно было случиться! И прежде всего — выяснить — что, собственно, происходит между мной и Тоней?.. Я долго ходил по кабинету из угла в угол; мне казалось, что я схожу с ума…
Тоня, полураздетая, была занята прической — когда я вошел к ней. Я сказал возможно спокойней:
— Мы должны объясниться. Скажи мне, что ты имеешь против меня? Что ты хочешь от меня?..
Ее лицо стало холодным, непроницаемым, глаза точно затянулись пленкой. Она пожала плечом и сухо сказала:
— Ничего. Я не понимаю, о чем ты говоришь?..
У меня похолодели руки и ноги; страх сжал мое сердце. Я продолжал, едва владея собой:
— Тоня, пойми же, что мы готовим друг другу гибель! Нужно что-нибудь предпринять, что-то сделать!.. Скажи же — что?..
Она сидела у зеркала, подняв к голове руки, пальцы которых, как лапки паука, скользили по волосам, нащупывая и укладывая в прическу отдельные пряди. Она ничего не ответила, но я увидел в зеркале ее лицо — бесстрастное, слепое, лишенное всякого выражения — и это было наиболее ясным, какого только я мог ожидать, ответом. Это было не ее лицо, нет. В нем не было ничего женского, ничего человеческого в этой каменной маске слепого орудия предопределения…
Что я мог еще сказать? Перед таким лицом бессмысленны человеческие слова, стоны, слезы… Меня точно придавило к земле; я вышел из ее комнаты, уже готовый покорно принять самое страшное…
Не помню, как я очутился на улице. Стоял конец октября, сверху сеял сухой, мелкий снег, ветер поднимал его с земли и нес белой крутящей дымкой вдоль улицы. Я вышел без шляпы и пальто, но не чувствовал холода; только руки и лицо неприятно кололи льдистые снежинки…
Недалеко от подъезда я увидел Ажинова. Красивый, здоровый, богатый, он всегда возбуждал во мне зависть своим уменьем жить легко, весело, беззаботно, пользоваться благами жизни и ограждать себя от неприятностей и страданий. Каждый раз, когда я встречался с ним, во мне поднималось вместе с завистью неприязненное чувство к этому баловню судьбы. И теперь, увидев его, я точно сразу проснулся от сжавшей мое сердце неприязни. Он стоял, прислонившись к стене дома и, видимо, кого-то ждал. И мне в голову точно ударило: «Он ждет Тоню!»
Не знаю почему, но от этой мысли я вдруг весь ослабел, у меня подкосились ноги — и я тоже должен был прислониться к стене. Была ли это внезапно впервые вспыхнувшая во мне ревность или то был только страх, что несчастье приблизилось и вот-вот разразится над нами?..
Возможно, что это был только страх. И возможно, что из желания отдалить страшную минуту, я старался быть с Ажиновым крайне любезным, несмотря на всю мою ненависть к нему. Я как будто хотел кого-то обмануть, отвести от себя и Тони внимание кого-то, знавшего, что у нас не все благополучно и подстерегавшего удобную минуту, чтобы нанести нам решительный удар. Я вынул из кармана портсигар и предложил Ажинову папиросу. Он закурил, — и я сказал, весело потирая руки и хихикая:
— Вы ждете мою жену? Она сейчас выйдет…
Ажинов молчал. Его лицо вдруг стало таким же, какое я несколько минут тому назад видел у Тони — бесстрастным, слепым, лишенным всякого выражения. Меня охватил ужас. Стараясь согнать с него эту каменную маску, я схватил его за рукав пальто и потащил, торопливо говоря:
— Тоня еще не скоро выйдет… Пойдемте… У нас подождете!..
Он пожал плечами и пошел…
Я ввел его в мой кабинет, усадил у письменного стола в кресло и крикнул через дверь жене:
— Тоня, я привел господина Ажинова!
Я весь дрожал от мысли, что, может быть, все обойдется благополучно; но страх, жуткий, ледяной страх скользил по моему телу змеистыми струйками дрожи, мои руки дрожали, губы прыгали, и я едва удерживался, чтобы не заскрежетать зубами, не заломить пальцев. Как мне хотелось броситься на Ажинова, впиться в его горло ногтями, душить его, рвать горло этого счастливого человека, которому так покровительствовала судьба… И вместо этого я прикидывался любезным, осчастливленным его посещением, хихикал, юлил около него, ни на минуту не забывая, что мне и Тоне грозит какой-то ужас, призывая в себе все силы на борьбу с невидимым, тайным врагом…
Ажинов не обращал на меня никакого внимания и все поглядывал на дверь, ожидал Тоню. Около него лежал револьверик. Он взял блестящую игрушку и осторожно, с опаской поворачивал его в руках. Я предупредительно заметил:
— Не беспокойтесь, он не заряжен…
Но Ажинов все же с такой же осторожностью положил его на стол, видимо, не доверяя мне. Моя ненависть к нему вдруг прорвалась, я подскочил к столу, схватил револьвер и взвел курок, исступленно крича:
— Вы мне не верите?.. Не верите?..
Как я жалел, что револьвер был не заряжен, что я не могу всадить пулю в его красивый, спокойный, ненавистный мне лоб!.. Но я тотчас же сдержал себя, закусив губы до крови. «Спокойствие! — сказал я себе. — Иначе ты исполнишь то, что хочет судьба! Следи за каждым своим шагом, чтобы она не могла воспользоваться твоей оплошностью. Одно неосторожное движение, слово, — и все пропало!»…
Я опять угодливо захихикал, говоря:
— Я шесть раз щелкну курком, — и вы увидите, что барабан пуст!..
Я поднял руку по направлению к двери и стал щелкать курком. Не помню, сколько раз я спустил курок, — три или четыре раза, — после чего в дверях вдруг появилась Тоня.
Я успел взглянуть на нее в промежутке между одним и другим ударом курка. Ее нежное, красивое лицо, обращенное к Ажинову, сияло любовью, оно было точно окружено светлым ореолом. Никогда она не казалась мне такой красивой, никогда она не была мне так близка, дорога, как в эту минуту, когда она, в моем присутствии, всем своим существом отдавалась другому. Мое сердце дрогнуло, сжалось, рванулось к ней и — оборвалось. Это был единственный миг, что я вдруг почувствовал к ней настоящую, мою любовь, мое обожание. Слезы брызнули у меня из глаз, и я крикнул Ажинову, не помня себя от горя и ужаса:
— Он не заряжен! Смотрите же!..
Сияние мгновенно сбежало с лица Тони; оно побледнело, посерело, глаза расширились и как будто заняли все ее лицо, налившись безумным страхом. Она окаменела, застыла, и только губы ее слабо шевелились, силясь что-то произнести… Рядом с ее лицом я увидел другое — мертвую маску, наполнившую мое сердце невыразимым ужасом. Чье это лицо? Боже мой, кто это?..
Это был я — и не я — отраженный в зеркале, висевшем над диваном, рядом с дверью. На моей голове зашевелились волосы. У меня было такое же лицо, как и у того властелина на картине, поразившее меня в детстве, как и у вагоновожатого, раздавившего трамваем моего отца, как у всех тех, кто избран судьбой орудием для исполнения ее страшных предначертаний…
Не знаю, до выстрела или уже после него все это пронеслось в моей голове. Вероятно, — после. Ведь это был один краткий миг. Ажинов вдруг закричал в страхе:
— Бросьте!..
Но уже было поздно. Палец нажал собачку одновременно с возникновением у меня в мозгу сознания, что револьвер заряжен, что я убиваю Тоню. Выстрел грянул — и она без звука повалилась на пол с простреленной грудью…
Вы можете мне верить и не верить, — но я опять-таки утверждаю, что оружие не было заряжено. То, что было предназначено, для чего нас судьба свела — должно было совершиться. И револьвер не мог не выстрелить…
Игнатий Потапенко КИТАЙСКОЕ СЧАСТЬЕ
Илл. О. Арбина
I
Я простой человек, живу на свете уже сорок пять лет, не мудрствуя лукаво, живу как все, с благодарностью принимая от судьбы то доброе, что она мне дает и не особенно пеняя на нее, если она посылает мне испытание.
Ведь жизнь состоит из радостей и огорчений, ничего среднего нет, и если б не было огорчений, а была бы только одна радость, то она перестала бы радовать нас. Ах, мы благословляем лучезарное солнце только потому, что есть ночь. И если бы не было леденящей зимы, мы не знали бы радостей благодатной весны.
У меня есть дела, которые приносят мне хорошие доходы, но я не отдаюсь им весь без остатка, как делают это многие. Я хочу, чтобы дела были для меня, а не я для них. Живя в Петербурге, я каждый день бываю в нашей конторе, провожу там час-полтора и нахожу, что этого вполне достаточно для убеждения служащих, что над ними есть хозяйский надзор.
Вместе с братом, по наследству, я получил большое хлебное дело. На Волге у нас есть баржи и пароходы, но этим всем ведает брат, я же только получаю доходы.
Еще скажу, что у меня есть семья: жена, которая осталась такой же красавицей, как была двадцать два года тому назад, когда я женился на ней. А, впрочем, может быть, мне только так кажется, но тем лучше для меня. Сын мой учится за границей. Ему двадцать лет, и он обещает сделаться хорошим инженером и деловым человеком, а дочери восемнадцать лет. Она похожа на мать, а значит — красавица.
Вот все, что я должен сказать о себе для того, чтобы всякий знал, с кем он имеет дело. Что же касается истории, которая так захватила меня, что я готов рассказывать о ней всем и каждому, то она началась с совершеннейших пустяков.
Это было часов в двенадцать весеннего петербургского дня. В этот час мы обыкновенно завтракали, а после завтрака я всегда отправлялся в контору. И когда в мой кабинет, где я сидел за письменным столом и просматривал какую- то новую книгу, вошла моя жена, то я был совершение уверен, что она хочет пригласить меня завтракать. Я, даже не дожидаясь этого, поднял глаза от книги и сказал:
— Я через полминуты. Вот дочитаю несколько строчек.
Но жена улыбнулась:
— Это не завтракать. Не хочешь ли взглянуть на китайца?
Я не понял, о каком китайце она говорит.
— Обыкновенный китаец, он торгует шелками, вышивками и разными китайскими безделушками. Мы с Тасей кой-что купили себе. Но он забавнее своих товаров. Взгляни…
Я вышел в гостиную, потом в переднюю. Здесь, на полу, китаец расположился со своим товаром. Группа была несколько странная: на корточках сидели — не только китаец, но и Тася и молоденький офицер Корнилов, который часто бывал у нас в доме и, как мне казалось, был влюблен в мою дочь. Жена сейчас же присоединилась к ним, а я придвинул стул и поместился на нем.
Я не много видел в своей жизни китайцев, но этот походил на всех тех, которых я видел. Безволосое бабье лицо, круглое, с детски добродушными маленькими глазками, губы, точно на пружинах, каждую секунду раздвигались в широкую улыбку, показывая большие желтые зубы и бледные десны. Одет в черный балахон, вроде поповской рясы, а внизу башмачки, высокие чулки и схваченные ими несколько ниже колен широкие плисовые штаны. Волосы на голове совершенно черные, от них до самого пояса спускалась тонкая коса. Вот и весь китаец.
Перед ним, на полу, его товары — разноцветные шелковые материи, шарфы, шали, платки и в коробочке какие-то ни на что не нужные безделушки.
Мне он тотчас же надоел, но дамы увлекались материями, а молоденький офицер все пытался выудить из него признание: республиканец он или монархист? Китаец же в ответ ему только ухмылялся и при этом совершенно так, как делают застенчивые деревенские девушки, — наклонял голову вбок и конфузливо закрывал рот рукавом своего балахона.
Но вот какая-то необыкновенная материя. Тася восторженно всплеснула руками, схватила ее, поднялась и помчалась в гостиную к зеркалу. Жена моя и офицер последовали за нею. Мы остались вдвоем с китайцем.
Он как-то комически вытянул шею, взглянул вслед ушедшим, потом оглянулся, как бы желая убедиться, что в передней больше никого нет, а потом суетливо начал шарить обеими руками в кармашках, которые были у него расположены где-то под балахоном.
— Барин, барин… — залепетал он низким сдержанным горловым голосом, — барин купит частье… у-у… такой частье еще никогда не был. Барин купит…
Вынул из кармашка маленький сверток, развернул бумагу, потом розовую вату и, наконец, в руках его оказался перстень. Он был белый, из серебра, очень незамысловатой работы: змея, согнутая спиралью, а в голове, на месте глаз, два зеленых камушка — маленькие, как точки, но с таким странным острым блеском, что первое впечатление от них было, как от укола булавки.
— Частье, — повторил китаец, преподнося кольцо к моим глазам.
Я усмехнулся. Склад моего ума был всегда реалистический. Ни во что таинственное я не верил.
— Что же это? Амулет? — спросил я.
— Нет… Частье, частье… — настойчиво еще раз повторил китаец.
— Вот как! Сколько же оно стоит, это счастье?
— Сто рублей.
— О! Это слишком дорого.
— Ну, половин-сто… Нет? Четверть-сто. И нет? Десять рублей… Ну, пять… Ну, даром. Китайска скоро придет опять и барин ему тысяча рублей даст… Сам даст… О!..
И он, видя, что из гостиной к нам направляются дамы и офицер, быстро ткнул мне в руку перстень и сейчас же обратился к ним с предложением какой-то новой материи, с таким видом, как будто между нами ничего и не было.
II
Странно было то, что я подчинился этой таинственности. Я не рассмеялся громко, не обратился к жене и дочери, показывая им перстень и осмеивая глупого китайца, который верил в его чудодейственную силу и, зажав перстень в руке, скрыл от всех эту историю, как будто бы поверил в нее. Я сидел и слушал восторженные отзывы Таси о том, как ей к лицу материя, которая тут же и была куплена.
Затем я разговорился о чем-то с Корниловым и во время разговора почувствовал, что в руке у меня какая-то вещица, почти машинально положил ее в жилетный карман, и, как это ни странно, забыл о ней.
Китаец кончил торг, спрятал наторгованные деньги в кошелек, который не без хлопот достал из кармана своих широких плисовых штанов, завернул свой товар в холстину, захватил лежавший на полу железный аршин и, приподняв свою круглую шапенку в знак прощального приветствия, пошел по коридору по направлению к кухне и при этом даже не взглянул на меня.
Но, сделав десять шагов, остановился, оглянулся и сказал дамам:
— Китайска скоро придет… новый товар носить.
— Приходи, приходи, — весело ответили ему дамы. А он раскрыл свой желтозубый рот, радостно взвизгнул, закрыл лицо рукавом и скрылся в глубине коридора.
Мы все направились в столовую, где был уже подан завтрак, сели за стол и повели обычный разговор о чем-то злободневном, прочитанном в газетах.
Я ни разу даже не вспомнил о перстне, должно быть, вследствие непривычки держать эту вещь в кармане.
После завтрака я зашел на минуту в кабинет, захватил сигары и вышел на улицу. Здесь, у подъезда, ждала меня пролетка. Я сел и поехал в контору.
В конторе у меня был очень миленький кабинет, в обстановке которого было мало делового. Только низкий шкаф с книгами и бумагами носил строгий конторский характер, остальное же было уютно и приятно.
Мягкий ковер, мягкая удобная мебель, изящный письменный стол, качалка, камин, недурные акварельные пейзажи на стенах.
Явился Семен Игнатьевич, управляющий конторой, милый человек, с которым я любил поболтать, рассказал мне все, что было нужно, о течении дел, а затем мы просто обменивались взглядами по вопросам, не имевшим никакого отношения к конторе и нашим делам.
Он спросил меня о моем сыне Аркадии, который учился за границей. Я объяснил ему, что Аркадий кончил все свои экзамены и на днях собирается выехать в Россию. Кстати, я поручил ему перевести телеграфом деньги на проезд.
Тут наступил момент закурить сигары. Я предложил одну управляющему, а другую взял для себя. Сигарный нож обыкновенно лежал у меня в жилетном кармане. Доставая его, я нащупал какой-то посторонний предмет и вспомнил о перстне. Это был он. Я вынул его.
— Как вам нравится, этот перстень? — спросил я управляющего, показывая ему свое приобретение.
— Очень странный. Это или что-нибудь древнее или, во всяком случае, не от здешних ювелиров.
— О, наверное, нет. Он достался мне очень странным образом. Сегодня мне подарил его китаец, который приносил к нам шелковые материи.
— Неужели подарил?
— Да, просто подарил…
И мне самому показалось странным, что я не рассказал ему всей истории с перстнем. Почему-то мне не захотелось рассказать ее.
Взяв от него перстень, я попробовал примерить его на какой-нибудь из пальцев. Он удивительно пришелся на указательном пальце правой руки. После этого я встал, прошелся по комнате и остановился у окна. Управляющий же продолжал что-то рассказывать мне.
Сперва я слушал его, потом мысли мои как будто ушли куда-то в даль, которая расстилалась передо мною по ту сторону окон, и я слышал позади себя только жужжание. Но и оно скоро прекратилось и перед моими глазами развернулась странная картина.
Я увидел улицу — широкую и длинную. Невский. Да, это Невский проспект. Почему он вдруг очутился передо мною, этого вопроса я себе не задавал.
На извозчике, — самом простом извозчичьем экипаже, — едет один из служащих нашей конторы — Мулызин. Я не ошибаюсь: у него такая характерная, единственная в Петербурге, узкая и длинная рыжеватая борода.
Он несколько согнулся и опирается подбородком на свою палку.
Вдруг из-за угла показался автомобиль. Извозчичья лошадь, должно быть, молодая, испугалась, вздрогнула, ударила задом и понесла.
Кучер, напрягая силы, тянет за вожжи, но лошадь обезумела и мчится, мчится, сворачивает с панели… треск… дрогнул фонарь… лошадь упала без движения. Кучера выбросило на мостовую, а Мулызин — где он?
Я присматриваюсь. Уже вокруг них собралась толпа. Мулызина подымают с окровавленной головой. Ведут… Я поворачиваю голову к управляющему.
— Скажите, Семен Игнатьевич, Мулызин в конторе?
— Нет. Я дал ему поручение, он поехал в страховое общество.
— На Невском?
— Да… На Невском. Почему вы спрашиваете?
— Не знаю… Это очень странно… Мне кажется, что я сегодня слишком много выпил за завтраком кофе… Это действует на воображение. Мне вдруг представилось, что Мулызин едет по Невскому… Автомобиль… Лошадь испугалась, понесла… Его, окровавленного, подняли… Можете себе представить, какой вздор…
— Дррр…
Это раздался звон телефона на моем письменном столе. Управляющий взял трубку, но уже через три секунды чуть не швырнул ее, а глаза его заблестели и запрыгали.
— Да, да… Он служит у нас… Неужели? Какое несчастье! Привезли в больницу? Очень опасно? Надежда? Ну, слава Богу… Благодарю вас…
Он положил трубку и как-то растерянно и даже, как мне показалось, боязливо смотрел на меня…
— В чем дело? — спросил я.
— Но это же просто невозможно… Ведь действительно все так, как вы сказали.
— Что такое я сказал?
— Мулызин… Автомобиль… Лошадь понесла… Разбит… В больнице…
— Вы шутите, Семен Игнатьевич?
— Боже мой! Да разве можно так шутить?
— Да, это правда, — сказал я, глядя прямо ему в глаза. — Так шутить нельзя. Но это не самое ужасное. Есть вещи и похуже, Семен Игнатьевич.
— Что же такое?
Но тут меня как будто что-то дернуло за рукав. Я остановился. То, что я хотел сказать, было действительно ужасно.
Дело в том, что у этого добрейшего человека была хорошенькая жена, гораздо моложе его, и про нее говорили…
Мало ли что говорят про женщину! Я не верил. Разве есть на свете человек, про которого не говорили бы дурно?
Но ведь я только что видел своими глазами — в его квартире, в гостиной, молодой человек, наш агент, которому он же сам, Семен Игнатьевич, протежировал. Я узнал его, — поцеловал ее в прелестную шейку…
И вот с языка моего чуть-чуть не сорвалось это. К чему? Ах, нет, пусть лучше заблуждается.
— Нет, пустое, — сказал я на его вопрос, — видите, как у меня сегодня напряжено воображение… Все это вздор. Вы, кажется, хотели показать мне образцы шведского овса, доставленного в контору? Так покажите, Семен Игнатьевич. Я немного тороплюсь.
Он растерянно поднялся и вышел, а я снял с пальца перстень и опять положил его в жилетный карман.
Мне была неприятна эта новая способность. С какой стати? Моя жизнь протекает так гладко и легко, в ней никогда не было ничего трагического.
С другими бывают несчастья. Я узнаю о них из газет и из рассказов. Но это же не то, что видеть воочию.
Не хочу, не надо. И это утомляло меня так, словно я два часа таскал тяжести.
Семен Игнатьевич показал мне образцы шведского овса, я их одобрил, докурил сигару и уехал из конторы.
Мне нужно было заехать в банк, справиться о биржевых ценах на некоторые интересовавшие меня бумаги, а часа в четыре я уже был дома.
В столовой был накрыт чай. Я снова погрузился в приятную легкую жизнь, какая текла в нашем доме.
III
На следующий день я встал, как всегда, рано, в восемь часов, и утро мое ничем не отличалось от всех других утр. Я за то и любил свою жизнь, что она была вся такая выровненная, как будто по ней прошел тяжелый каток, вдавил в землю все камешки, сравнял ухабы и она стала ровная, как шоссированная дорога.
Всегда знаешь, что тебя ожидает утром, в полдень и вечером. Никаких неожиданностей.
Около часа я просидел в столовой, прочитал газеты, — дамы в это время еще спали, — а потом перешел в кабинет и предался более серьезному занятию. Я любил книги и много читал их. Меня интересовали вопросы экономические и финансовые, и только изредка я отдавал свое внимание литературе художественной, если появлялось в этой области что-нибудь выдающееся.
Сидя в кабинете и спокойно разрезая листы книги, я слышал, как в доме началась жизнь, поднялись дамы, как они вышли в столовую, пили кофе и болтали. Часов в одиннадцать раздался звонок, и я услышал голос Корнилова.
Этот молодой человек начинал тревожить меня, и я тут же сделал себе в уме заметку — серьезно поговорить об этом с женой, а если понадобится, то и с Тасей.
Дело в том, что он явственно ухаживал за моей дочерью. Но хуже было то, что, кажется, и Тася увлекалась им. Лично против него я ничего не имел. В сущности, он был премилый молодой человек. Хорошо воспитанный, отлично умел держаться, неглупый и довольно развитой. На карьеру свою смотрел серьезно и, кажется, даже готовился в академию.
Но что он мог дать моей дочери? Мне было достоверно известно (он этого, впрочем, и не скрывал), что у него нет никакого состояния и жил он жалованьем, которое получал по службе.
Мне кажется, я был прав, рассчитывая для моей дочери на более выгодный брак. Я не говорю о каком-нибудь титуле или вообще знатном родстве. О, нет. Она родилась в семье честных коммерсантов, и я буду совершенно удовлетворен, если муж ее будет принадлежать к этому же кругу. Но он по состоянию, по крайней мере, должен быть равен ей.
У нее, правда, не колоссальное приданое, но и не маленькое все-таки. При том же, если бы она вышла за Корнилова, то приданое это пошло бы не на дело какое-нибудь, а просто на проживание.
И потому этот брак я признавал неравным, да, вот именно это слово: неравным, — потому что не равно было состояние.
Муж, в материальном отношении зависящий от средств своей жены, это с точки зрения коммерческого человека — не торгаша, а высшего порядка коммерсанта — недостойно уважения.
И жена, вначале, может быть, влюбленная, скоро перестанет уважать его, а это уже будет началом разрушения семейного очага.
И я твердо решил, очень твердо: этот брак не состоится.
Теперь, когда в столовой раздался голос Корнилова, я думал об этом. Должно быть, мысли о тех или других предметах приходят в ваши головы не зря, а есть какие-то неизвестные нам законы, которые управляют ими. Через четверть часа после этого в кабинет вошла моя жена и начала разговор как раз на эту тему.
Она уже знала мой взгляд, но не разделяла его, и это понятно: она была женщина. Женщины всегда на стороне чувства. Они думают, что чувство — это все, оно управляет жизнью, а разум — это так себе, какой-то не лишний придаток.
Она начала расхваливать Корнилова. Какой это прекрасный молодой человек, какая у него чистота и честность взглядов! Он, наверное, сделает хорошую карьеру, кончит академию и будет генералом.
Со всем этим я согласился. Но затем она перешла к чувствам. Тася безумно любит его, он отвечает ей тем же. И вот сейчас они заговорили о браке.
Разумеется, все зависит от меня, но они не решаются прямо просить меня, а хотят сперва выяснить мой взгляд.
— Мой взгляд ты знаешь, мой друг, — сказал я жене. — Он нисколько по переменился.
— Но это будет несправедливо.
— Кто знает, что на свете справедливо и что нет? Ты видишь, что вот нас здесь всего только двое и уже есть два различных мнения о справедливости. Мне кажется, что если жена приносит в дом полмиллиона, то муж должен по крайней мере принести столько же.
— Но он даст ей положение, почет…
— Всякий другой сделает то же самое.
— Но они любят друг друга…
— Это, конечно, очень важно. Но мы знаем, что это проходит.
— Ты неправ и жесток, — сказала жена, вставая. — И мне очень горько видеть такие качества в моем муже.
Она ушла. Кажется, первый раз во всю нашу жизнь она так сурово отозвалась обо мне. Но я не остановил ее, потому что чувствовал себя правым. Конечно, тут была с моей стороны и жестокость, но это — жестокость момента; она пройдет вместе с моментом, а затем получится общая польза.
И потому, когда жена вышла, я спокойно продолжал чтение книги, которая лежала передо мной. Но это продолжалось не больше пяти минут. Опять отворилась дверь и вошла Тася. Она села в кресло и принялась рыдать.
— Папа… Это жестоко… это ужасно… Я этого не перенесу… Я умру…
Мне было очень горько видеть слезы моей дочери. Я горячо любил Тасю и горе ее доставляло мне страдание. Я встал, подошел к ней, положил руку ей на голову и начал успокаивать ее. Я говорил:
— Милая Тася, ты еще слишком молода, чтобы правильно оценивать жизнь. Ах, она совсем не так проста, как это кажется. Я понимаю, что своим отказом доставляю тебе горе, но это горе, временное… Оно пройдет, как все на свете. И умирать тут решительно не от чего. Это только в романах от любви умирают, а в жизни — нет, в жизни умирают от болезней и от старости.
— Нет, нет, — как-то особенно уверенно возразила сквозь рыдания Тася, — умирают, умирают…
Что мне было делать с ней? Я не только не мог, но и не имел права отступиться от своего взгляда, который считал правильным. Если бы я изменил ему и, тронутый слезами моей девочки, дал бы согласие, я должен был бы лишить себя собственного уважения.
Я говорил с нею мягко, как только мог, но в то же время и бесповоротно.
— Так значит, папа, никогда, никогда? — спросила Тася, поднявшись, и вдруг глаза ее сделались сухими.
— Этот брак — никогда, моя дорогая Тася… — сказал я с жестокостью, которая мне самому причинила боль.
Крепко закусила она губу и, как-то согнувшись, беззвучно вышла из комнаты. Я стал ходить по комнате — нервно, беспокойно. Я так был расстроен, что не слышал, раздавались ли голоса в столовой или они перешли в другую комнату. Я не знал даже, сколько времени я шагал по комнате, но каким-то образом рука моя забралась в жилетный карман, извлекла оттуда перстень и вот он уже на указательном пальце правой руки.
Я стоял у окна и через крышу противоположного низенького дома видел небо, какие-то деревья, унизанные зелеными листьями… Плохо вымощенная улица где-то за городом, на островах… Большой сад, должно быть, при каком-нибудь приюте… Узенькая тропинка, которая ведет к старой полуразрушенной беседке… Под большим деревом скамейка…
По тропинке идут, взявшись за руки, двое… Кто это? Я пристально вглядываюсь…
Тася… Каким образом? Она только что была у меня… На ней легкая синяя кофточка и весенняя шляпа с большим белым пером. А рядом офицер… Да, это Корнилов… Я даже слышу звон его шпор…
Они садятся на скамейке. Он вынимает что-то из кармана… Я вздрогнул… Это револьвер… Но что же это? У них в глазах я читаю последнее решение… Вот рука его подымается… Он должен сперва убить ее, потом себя…
«Проклятый перстень…» Я сорвал его с пальца и швырнул на стол, потом схватился за голову и выбежал в гостиную, в переднюю — там была моя жена.
— Где они?
— Только что вышли…
— Куда, зачем?
— Хотели прокатиться…
— На острова?
— Да. Почем ты знаешь?
— Я знаю… Моя шляпа? Пальто?..
С ужасом смотрела на меня жена. А я схватил пальто и шляпу и выбежал на лестницу. Я мчался вниз, перескакивая через несколько ступенек, рискуя поскользнуться и свалиться вниз. Швейцар только что вернулся с улицы.
— Они уехали?
— Кажись, нет еще…
Я выскочил на улицу. У подъезда стоял автомобиль. Тася уже сидела в нем, а Корнилов занес ногу, чтобы вскочить в него.
— Стойте. Ради Бога… Вернитесь…
Я подбежал к нему и схватил его за руку.
— Вернитесь в дом, прошу вас… Тася…
Тася выскочила из автомобиля. Смотрела на меня изумленными глазами. Мы молча все трое поднялись наверх. Вошли в кабинет.
— У вас в кармане револьвер? — спросил я Корнилова.
— Да, если вы это знаете.
— Положите его на стол.
Он вынул револьвер и положил на стол.
— Вы так решили? — многозначительно спросил я.
— Да, папа, — твердо ответила Тася.
— Ну, хорошо… Вы правы… Если это для вас дороже жизни — пусть будет по-вашему… венчайтесь.
Не знаю, что было дальше. Они вышли. Там было ликование. Приходила жена, целовала меня в лоб. Корнилов жал мне руку.
А я сидел в своем кресле перед столом и с каким-то непобедимым ужасом смотрел на перстень, который лежал на столе и точно пронзал мою грудь своими миниатюрными зелеными камешками. Я боялся прикоснуться к нему и только, когда в передней раздался звон, а потом шаги, направлявшиеся в кабинет, я взял его и спрятал в ящик стола. Это принесли телеграмму от сына. Он извещал, что приезжает в Россию. Это отвлекло мои мысли от перстня и его изумительной силы. Я даже вышел к своим, разговорился с ними и теперь уже находил брак Таси с Корниловым вполне разумным и естественным.
IV
Дня три я совсем не вспоминал о перстне. Но у него, должно быть, было еще и другое свойство: он умел заставлять вспоминать о нем, когда это было нужно.
Я только что вернулся из конторы, вошел в кабинет, взглянул на стол и тут явилась мысль о нем. Я не выдвинул ящик стола, а только подумал, что там лежит перстень и что, в сущности, это смешно — придавать ему такое значение. Просто я очень впечатлителен, и на меня подействовала Тася, ее тон, подавленный вид, с которым она вышла от меня, все это и заставило меня вообразить эту ужасную картину. И настолько я проникся этим объяснением, что совершенно спокойно подошел к столу, выдвинул ящик и взял перстень. С минуту подержал я его в руках, положил на стол, потом опять взял и сказал себе: вот теперь я буду держать в струне свое воображение. Нет, лучше вот что: я надену его на палец и буду читать книгу. Утром я остановился на главе об опытах возделывания хлопка в Закавказье. Вот прекрасный сюжет, в котором решительно нечего делать воображению.
И я сел за стол и начал читать о возделывании; хлопка, а в это время, как бы играя, надел перстень на указательный палец правой руки. И вот, как-то совсем незаметно, страница книги сузилась до ширины газетного столбца, и меня нисколько не удивило, что я читаю не книгу, а газету. Крупным шрифтом в отделе телеграмм напечатано: «В семи верстах от станции Ораны, около полустанка, произошло крушение поезда, вышедшего из Вержболова сегодня утром. Вагоны первого класса разбиты в щепы, множество убитых и раненых…»
Я в ужасе откинулся на спинку кресла, а книга упала на ковер. Сегодня утром… Именно сегодня утром из Вержболова должен был выехать Аркадий. Это тот самый поезд. Но где же газета? Ее нет. Она выйдет только завтра… Совершенно потрясенный, я выдвинул ящик стола и с ненавистью швырнул туда перстень. Этот проклятый амулет не подарил мне еще ни одного приятного известия. Он умеет открывать только ужасное…
Но что же? Опять воображение? Да, конечно, это может быть. Я думал об Аркадии. Я всегда дрожу за его жизнь. Но эти соображения, которые, очевидно, были натяжкой, мало успокоили меня. Я все-таки несколько часов чувствовал себя отравленным. Только перед самым обедом принесли телеграмму, которая, хоть и успокоила меня, но в тоже время заставила побледнеть. Она была от Аркадия и помечена станцией Ораны. Он сообщал: «Было крушение, остался цел и невредим. Потерял только шапку».
На другой день приехал Аркадий и я обнимал его с такой нежностью, как будто действительно потерял его, а потом вернул.
И теперь я был решительно болен этим проклятым перстнем. Я садился за стол и думал о том, что вот он лежит здесь, но я не возьму и не надену, потому что не хочу узнать еще о новых несчастьях. К чему? Если им суждено совершиться, то я узнаю о них потом. Ничего не следует знать заранее. Это значит испытывать судьбу, а может быть, и заставлять ее непременно сделать то, чем она обмолвилась и что, быть может, перерешила бы. Пусть он там лежит, сколько ему угодно. Ведь он бессилен, когда я не хочу надеть его на палец. Он может пролежать там целую вечность, и сила его не проявится.
Вот теперь мы все в сборе, приехал Аркадий. Тася скоро выходит замуж и счастлива, как дитя. Жена моя здорова, я бодр. Дела идут отлично. От брата с Волги прекрасные известия. Что же нам еще нужно? Зачем мне заглядывать в будущее? Ведь он, этот перстень, наверное, напророчил бы только кучу огорчений. Я мог бы это проверить. Ведь в самом деле любопытно, может ли это чудовище с зелеными глазами хоть раз показать что-нибудь светлое. Надеть его на минуту и подумать о будущем, о далеком, далеком будущем.
Я делаю опыт. Я просто хочу посмеяться над ним. Я вынимаю перстень из ящика… А ну-ка, ну-ка… Напряги свою злостную фантазию, выдумай что-нибудь нечеловеческое…
Но странно: перстень как будто изменил самому себе. Я вижу бесконечную движущуюся ленту реки. Как серебрится ее зеркальная поверхность. Как живописны ее холмистые берега… Длинная вереница барж, ведомая пароходом, который пыхтит и напрягается из всех сил. И я узнаю их, эти баржи. На них наш флаг. Они сверху донизу наполнены хлебом.
Оживленная пристань… Разгрузка… Мой брат приехал из Москвы. Огромное дело. Стоят невероятно высокие цены. Он продал всю эту массу и выручил огромные деньги. Да, да, наши дела блестящи. Так он умеет рисовать и счастливые картины, этот волшебный перстень! Или сегодня у него праздник?
А дальше идут годы, один за другим… Сколько их? Не могу сосчитать. Что это? Комната моей жены, в нашей квартире… Жена в постели. Но она ли это? Худое, смертельно бледное лицо с ввалившимися щеками. Седые волосы. Доктор, сестра милосердия… Но это же, это… Смерть…
Да, это смерть… Из нашей залы вынесли всю мебель, посредине стоит длинный стол, а на нем гроб и в гробу исхудалое тело моей жены. Чувствую, как волосы мои шевелятся на голове, а на лбу выступают капли холодного пота.
Зимний день на петербургской улице. Толпа… Белый катафалк, певчие, духовенство, тихо движется печальная процессия… Торжественно-печально тягучее пение.
Все это я вижу, вижу глазами и они не слепнут… И опять идут годы, один за другим… Значит, сейчас я увижу и свою судьбу… Может быть, болезнь… Смерть… Я не хочу знать будущего. Я гораздо более счастлив, не зная даже завтрашнего дня… Счастье в незнании… Прочь — ненавистный перстень, я готов оторвать его вместе с своим пальцем.
А в доме шум, веселые голоса, смех… Вбежала Тася.
— Хочешь видеть китайца? Он здесь.
— Китаец? Пошли его сюда… скорее… Сию минуту…
И вот он передо мной, в своем черном балахоне, с длинной косой до пояса. Улыбка до ушей, блестят желтые зубы, но глаза с неописуемым изумлением смотрят на меня и на то, что я делаю. А я сую ему перстень:
— Возьми, возьми его обратно и вот это на придачу…
Я вынимаю из бумажника кредитки — сотня, другая, третья, не знаю еще, сколько, и отдаю ему. Он берет, смущенный, дрожащими руками и торопливо прячет куда-то в карманы штанов и за пазуху и почти испуганным голосом произносит:
— Частье… Частье… Барин не поправил… Китайска частье…
И только, когда он вышел и я плотно затворил за ним дверь, грудь моя облегченно вздохнула.
Игнатий Потапенко ТАЙНА ПРОФЕССОРА РЕДЬКО
I
В обширном зале ресторана средней руки десятка полтора молодых людей, расположившихся за большим круглым столом, весело пировали. Поводом была предстоящая женитьба одного из них, славного малого, служившего в одном из банков, человека с хорошими связями, которые обещали ему видную карьеру на избранном поприще.
Он выдавался среди других высоким ростом, стройностью, крепким сложением и большой силой, выглядывавшей из каждого мускула, из каждого движения. Его безволосое лицо дышало счастьем, а в глазах — ясных и открытых — было много смелости, даже дерзости. Каждым своим взглядом он как будто бросал вызов судьбе.
В своем кругу его знали, как смелого спортсмена, искавшего опасностей и на охоте, и на яхте в море, и на автомобиле. Были удивлены, что человек с таким неугомонным характером и беспокойными вкусами вздумал связать себя семейными узами, и как раз теперь, за дружеским столом, кто-то это высказал. Но он объяснил это очень просто и вполне по-своему.
— Женитьба, господа, это — спорт и притом, кажется, один из самых опасных. И вот я ищу опасности в этом неизведанном спорте. Если кто-нибудь из вас укажет мне что- нибудь более опасное, я, может быть, переменю намерения…
Ему аплодировали, протягивали руки с бокалами, смеялись, восклицали. Но вдруг все замолкли, потому что в зале, где из посторонней публики не было никого, появилась странная фигура, на которую все невольно обратили внимание.
Это был человек среднего роста, чрезвычайно худой телом и несколько согбенный вследствие чего голова его была наклонена книзу, и глаза смотрели на пол. Голова эта была украшена длинными, густыми, совершенно белыми волосами, а лицо, с тонкими благородными чертами, было начисто выбрито.
На нем был длинный, ниже колен, серый сюртук, шея его была повязана широким бантом, в правой руке он держал палку, а в левой — мягкую серую шляпу с широкими полями.
Он вошел, услышал шумный говор, на секунду поднял голову и, скользнув взглядом по сидевшему за столом обществу, сейчас же спокойной, неспешной походкой пошел через зал к двери и скрылся в соседних комнатах.
— Кто это? — негромко спросил молодой человек, виновник пирушки, которого все называли Максом.
— Как? Ты не знаешь знаменитого профессора Редько, который всю свою жизнь и все силы посвятил изобретению средства для продления человеческой жизни?
— Как? Это он? Я много слышал нем, но никогда не видал его.
— Что это он, лучше всего подтвердит тебе наш милый Алекс, который имеет честь быть его родственником.
— Да, это он, — сказал молодой человек со смуглым лицом, с смолисто-черными усиками и такими же густыми волосами на голове, — я имею честь состоять его племянником, точно так же, как он имеет честь быть моим родным дядей по матери. Я думаю, что он и испарился так быстро именно потому, что увидел меня.
— Ты с ним не в ладах, Алекс?
— С некоторых пор. Я очень усердно посещал его зверинец — так как, должен вам сказать, что из девяти комнат его квартиры он сам занимает только две, а остальные семь отдает морским свинкам, белым египетским мышам, кроликам, каким-то необыкновенным рыбам, черепахам, обезьянам и еще каким-то чудовищам. Все это нужно для опытов, которые он производит вот уже пятнадцать лет с упорством сумасшедшего. Но не так давно я сказал ему, что было бы справедливее те средства, которые он употребляет на содержание своего Ноева ковчега, отдать мне, его любезному племяннику, который зарабатывает слишком мало для своих культурных вкусов. Ну, понятно, с тех пор он не может меня видеть. Однако, будучи человеком справедливым, я должен вам сказать, что, благодаря его работам, мы — в этом я совершенно уверен — находимся накануне величайшего открытия, которое перевернет вверх дном всю нашу цивилизацию. Мой почтенный дядя держит это в глубочайшей тайне, но я, отверженный им племянник, не чувствую себя обязанным хранить его тайны…
— Ну, ну, Алекс, в чем же его открытие? — послышались со всех сторон нетерпеливые вопросы. — Неужели он нашел средство продлить жизнь? Но это великолепно! Она так коротка… Но тогда придется прибавить и количество выделываемого на земном шаре вина, ибо жизнь без вина ничего не стоит.
— Продлить? Да, если хотите. Он нашел способ прервать жизнь на какой угодно срок, чтобы потом возобновить ее. Я собственными глазами видел кролика, который, приведенный им в бесчувственное состояние, три года лежал без движения и без пищи, а затем был оживлен и продолжает жить… Вы понимаете, что, когда это будет достигнуто, то человека можно будет уложить в комод вместе с бельем, присыпать нафталином, чтобы его не подпортила моль, и он будет лежать там хоть сто лет, а потом вновь начнет жить, как ни в чем не бывало. Но беда дяди в том, что средство свое он мог испробовать только на животных. Насколько же оно пригодно для человеческого организма, как вы сами понимаете, он не может узнать, ибо не найдется такого смельчака, который согласился бы подвергнуть себя подобному опыту.
— А ты думаешь, Алекс, что подобный опыт может кончиться благополучно? — спросил Макс, видимо, больше всех заинтересовавшийся его рассказом.
— Я в этом ни одной минуты не сомневаюсь. Говорю тебе, сам видел кролика и еще какую-то рыбу…
— Если так, — сказал Макс, обращаясь ко всему обществу, — то этот смельчак нашелся. Но, господа, с каждого из вас я беру слово товарища, что это останется между нами…
— Что ты говоришь, Макс? Неужели ты решился? Помилуй, чуть не накануне свадьбы! — послышались отовсюду голоса.
— Но я же сказал вам, друзья мои, что если мне укажут спорт, более опасный, чем женитьба, то я переменю намерение. В настоящем случае я его даже не меняю, я только откладываю, на… на после смерти… И тебе, Алекс, нет надобности представлять меня профессору, я сам ему представлюсь.
Сказав это, он поднялся и, бросив на сидящих вокруг стола приятелей горячий и смелый взгляд, твердыми спокойными шагами направился в ту комнату, где скрылся профессор.
Это был час между обедом и завтраком, когда в ресторане обыкновенно бывало мало посетителей. И в той комнате был только один профессор Редько. Он сидел за небольшим столиком, накрытым белой скатертью. Перед ним стоял высокий узкий стеклянный бокал, в котором играл составленный им самим напиток из минеральной воды и коньяка. Напиток этот подкреплял его силы, в чем он изредка ощущал надобность.
Макс подошел к нему и почтительно поклонился. Старик поднял голову и с изумлением посмотрел на него.
— Прошу извинить меня, глубокоуважаемый профессор. Если я позволяю себе отнять у вас несколько драгоценных минут отдыха, то только потому, что мною руководит самое серьезное намерение.
— Не угодно ли сесть и объяснить, в чем дело? — сказал профессор тихим, но чрезвычайно ясным голосом.
Макс наклонил голову и сел. Он продолжал:
— Я знаю о ваших замечательных работах и о поразительном успехе, достигнутом вами опытами на животных. Я только позволю себе спросить: правда ли, что поставленная вами перед собой задача решена, и что вам не достает только проверки ее на человеческом организме? Мне достаточно будет услышать это из ваших уст, чтобы я был убежден в этом.
— Вот как! Я благодарю вас за доверие к моему труду.
— И к вашей личности, профессор, — прибавил Макс.
— Тем больше я благодарен. И я вам отвечу: да, это достигнуто, и опыт с человеческим организмом, это — единственное, чего недостает. Но, по-видимому, этот опыт мне не суждено произвести. Я охотно сделал бы его над собой, если бы мои годы— а их уже за моей спиной семьдесят, — не внушали мне сомнения относительно крепости моего сердца; да к тому же никто, кроме меня, не сумел бы сделать это.
— Мне втрое меньше лет, профессор, а сердце мое крепко, как вот эта мраморная доска стола. И я предлагаю вам себя для этого опыта.
— Повторите еще раз то, что вы сказали, — дрожащим голосом промолвил профессор.
— Я предлагаю вам себя для завершения ваших опытов.
— Я желаю слышать это еще и в третий раз, если это серьезно.
— Это вполне серьезно, и я повторяю это в третий раз.
— Достаточно ли вы обдумали то обстоятельство, что ни на одном человеческом существе мое средство не испытано, и вы будете первым?
— О, профессор, уверяю вас, что, если бы оно было испытано, и я был бы вторым, это меня не соблазнило бы. Если я что особенно ценю здесь, так это первенство.
— В таком случае… в таком случае, я не знаю, как и приветствовать вас. Приходите ко мне, когда вам угодно, я живу на этой же улице, три дома отсюда, номер семнадцатый.
Он поднялся, схватил обеими руками большую сильную руку Макса и крепко потряс ее, а в глазах его сияла радость.
— Вот, — сказал он, взяв свой высокий кубок, — я пью это за ваше здоровье, в честь смелого человека, благодаря смелости которого человечество получит продление жизни, а может быть, и бессмертие!
И он залпом выпил свой напиток и поставил бокал на стол. Потом профессор еще раз крепко пожал руку Макса.
— Так во всякое время, когда хотите, я всегда дома, — прибавил он и, взяв свою шляпу и палку, вышел в другую комнату.
II
Пятнадцать лет тому назад профессор Редько оставил профессуру при несколько странных обстоятельствах, изумивших тогда всю ученую коллегию.
Что кафедру свою он занимал по праву, в этом не сомневался ни один человек. Глубокий знаток своего предмета, человек колоссальных познаний и широкого взгляда, он пропускал мимо себя жизнь, как будто отказавшись от всех ее прелестей. Ученый мир знал и ценил его бесчисленные работы. На профессорском месте он отслужил все сроки, но, как исключительно крупная величина, мог бы оставаться еще долго, и все в этом были уверены.
Но однажды, произнося публичную речь на каком-то академическом торжестве, он, к изумлению всех присутствующих, посвятил ее доказательству положения, что неизбежность физической смерти человеческого организма, считавшаяся доныне аксиомой, никакими научными данными не доказана. А затем смело провозгласил новый принцип — физического бессмертия.
Это было до такой степени странно в устах ученого, что, когда он перешел к изложению опытов, которые, как оказалось, он производил у себя в лаборатории уже много лет, сидевшие в первых рядах ученые многозначительно переглянулись и взглядами сказали друг другу, что знаменитый профессор, увы, очевидно помешался.
Произошло смятение, которое передалось и остальной научной публике; во всех рядах раздавался сдержанный и тревожный шепот. Все это было так явно, что профессор не мог не заметить и, оскорбленный, оборвал свою речь на полуслове и вышел из зала.
Конечно, это был скандал, после которого он не счел возможным ни одного дня больше оставаться в профессорской коллегии и тотчас же вышел в отставку.
С тех пор он жил уединенно. Долгая одинокая жизнь со скромными потребностями дала ему хорошие сбережения, к ним прибавилась выслуженная пенсия. Наняв большую квартиру, он устроил в ней необходимую для своих целей лабораторию, поселил в ней множество разнообразных животных и весь ушел в работу.
Отношение к нему ученых товарищей внушило ему подозрительность. Он никому не доверял и ни с кем не говорил о своих опытах. С годами, а вместе и с видимыми успехами в работе, недоверие его к людям дошло до такой степени, что он уничтожил все свои записки и памятные книжки, где был последовательно, за много лет, изложен ход его работ. Не осталась записанной ни одна цифра. Все помещалось в его замечательной памяти, не только не ослабевшей, но даже окрепшей с годами.
Единственным лицом, связывавшим его с внешним миром, был племянник, но этого легкомысленного молодого человека он не допускал даже в свою лабораторию, а в последнее время разошелся с ним.
Даже к прислуге, которая, конечно, ничего не могла понять в его деятельности, он относился подозрительно и в последние четыре года держал для своих услуг глухонемую, которая сильно привязалась к его животным и ухаживала за ними, как за детьми.
Таков был профессор Редько. Оторванный от жизни, отчужденный от людей, он тем не менее в глубине души страстно любил и жизнь, и людей, для них работал, для них искал бессмертия, глубоко убежденный в том, что оно принадлежит человечеству по праву.
Вечером того же дня, как только стемнело и на улицах зажгли фонари, профессор Редько с трепетно бьющимся сердцем услышал раздавшийся в передней звон. Прислуга, благодаря своей глухоте, не могла услышать его, и он сам отправился в переднюю и отпер дверь.
Вошел Макс.
— Вот, вот, — говорил профессор, водя его по своей обширной квартире и показывая ему своих зверей, черепах и рыб, — сегодня я познакомлю вас с моими сотрудниками. О, как они мне помогли! Без них я ничего не достиг бы. И как досадно, что я не могу высказать им свою благодарность, ибо они не поймут меня! И как много принесли они жертв, сколько из них погибло от моих заблуждений и неудач! Но зато теперь я всем им увеличиваю срок жизни… Половина из них уже подвергалась моим опытам. Они оставались без движения, а следовательно, и без затраты сил по два и по три года, а затем я вернул им жизнь. Пойдемте же в лабораторию, я покажу вам, как воскрешают мертвых.
И в лаборатории Макс увидел поразительные вещи. Там, в отдельных помещениях, хранились на вид мертвые кролики, морские свинки, черепахи, рыбы; профессор вынимал некоторых из них, что-то с ними проделывал — и они начинали двигаться, становились на ноги, ели, пили, словом — начинали жить, как другие.
— Вы видите, что я не ошибался, что это не сумасшествие. Вот этот кролик, который с таким наслаждением грызет капустный листок, два года тому назад ему было от роду всего семь месяцев, и сегодня ему тоже только семь месяцев. За два года, находясь в этом ящике, он не истратил ни одной капли жизненной энергии! Напротив, ткани его только отдохнули, и к ним вернулась первоначальная свежесть. И, может быть, таким образом можно отсрочивать смерть на какой угодно период времени. Жить в двадцать первом и двадцать пятом веке, по желанию; может быть — я этого не смею утверждать — в этом уже заключается зерно бессмертия! Вот, когда вы испытываете это и после этого неизъяснимого отдыха всех жизненных сил, хотя бы в продолжение нескольких часов, встанете освеженный и как бы рожденный вновь, тогда я вас научу, я передам вам свои познания, добытые ценою неусыпных трудов половины жизни. И вы, мой юный друг, приведете меня в состояние замершей жизни, и я завещаю, чтобы я в таком состоянии оставался столетие. Да — целое столетие, меньше не стоит.
Много часов провел с профессором Макс. Он видел перед собой мудрого и убежденного человека и с упоением слушал его речи.
— Итак, — сказал профессор, когда было уже далеко за полночь и Макс стал собираться домой, — вы не переменили вашего решения?
— О, нет, напротив, — ответил Макс, — теперь, когда я познакомился с вами, профессор, мое решение сделалось для меня чем-то повелительным. Я хочу, чтоб это совершилось как можно скорей.
— Через три дня. Единственное условие: три дня вы должны питаться одним молоком; ваши пищеварительные органы должны быть совершенно свободны. На третий день вечером вы придете ко мне и через полчаса вы будете уже за пределами ощущений. А на следующий день в полдень к вам вернется, но уже в обновленном виде, жизнь.
Макс пожал руку профессора и ушел от него.
На следующий день он собрал своих друзей, тех самых, что присутствовали на пирушке, и сказал:
— Друзья мои, послезавтра вечером я переселяюсь в иной мир, доныне ведомый только некоторым счастливым экземплярам кроликов, черепах и обезьян, но неведомый ни одному человеку. Я первый из людей побываю в том мире. А на следующий день, ровно в полдень, приглашаю вас всех в квартиру профессора Редько, чтобы вы могли приветствовать меня по возвращении моем из того мира. А пока ваши языки связаны товарищеским словом.
Все подтвердили товарищеское слово и дали ему обещание, что в назначенный день в двенадцать часов будут у профессора.
III
Наступил назначенный день. Около семи часов вечера Макс пришел к профессору, который так был растроган этой точностью, что заключил его в объятия, как своего единственного друга.
— Ах, между прочим, — сказал профессор, — я только что перед вашим приходом совершил преступление, которым будет ужасно огорчена моя глухонемая прислужница. Она безумно любит моих зверенышей, но особую нежность питает к единственному и при том действительно замечательному экземпляру ангорского кролика, которого я вам вчера показывал. У него такая пышная белая шерсть и нежный пух… Но сегодня я погрузил его в Нирвану, и сейчас он уже лежит у меня в лаборатории, в шкафу. Она, когда увидит, будет плакать, и боюсь даже, как бы не возненавидела меня за это… Ну-с, а теперь я должен осмотреть вас, мой молодой друг, исследовать и затем так же, как и ангорского кролика, погрузить в Нирвану, что не помешает вам завтра после полудня чокнуться за завтраком с вашими друзьями. А затем… Затем мы объявим о нашем открытии миру.
То, что произошло затем в лаборатории профессора, было покрыто глубокой тайной. После того, как был произведен осмотр и тщательное исследование Макса, были зажжены зеленоватые электрические лампочки, все окрасилось в нежный оттенок лунного света, и комната наполнилась каким-то тонким наркотическим ароматом.
Макс, ни на одно мгновение не испытавший колебания, лег на особого устройства диван и предоставил себя в полное распоряжение профессора.
Когда профессор взял в руки инструмент, похожий на шприц, то только в эту минуту заметил, как он сам взволнован. Руки его дрожали первый раз в жизни. Ведь в первый раз перед ним лежал человек!
Но он овладел собой; из шкафа, где у него хранились всевозможные соли и щелочи, простые и самые сложные составы, достал пузырек, наполненный цветной жидкостью, и приступил к делу. Он останавливался перед каждым своим движением и строго обдумывал его. Макс, который вначале вполне сознательно относился ко всему происходившему, начал чувствовать, как будто он смотрит на жизнь сквозь зеленоватые стекла очков, все видит и слышит, все понимает, но сам уже не принимает в жизни никакого участия.
Затем профессор опустил над ним покрывало, и тогда прекратился для него свет.
В доме была глубокая тишина. Глухонемая прислуга в своей комнате улеглась спать. Окна квартиры выходили в сад, куда не доносились звуки улицы.
Профессор кончил работу, и когда увидел, что перед ним лежит человек, не движущийся, но живой, со всеми теми признаками, которые были для него явным доказательством верности его теории, глаза его загорелись радостным блеском, а в груди своей он ощутил такое неистовое биение сердца, какого не испытал ни разу в жизни, даже в своей далекой и светлой молодости.
Дрожащими руками положил он инструменты на стол и почувствовал, что ноги его ослабели, колени сгибаются. Он решил, что это происходит от сильного наркотического запаха, которым был наполнен воздух, отворил дверь и вышел в соседнюю комнату. Но тут он убедился, что запах был ни при чем: причиной же было его внутреннее волнение.
Может быть, всякий другой, глядя со стороны на то, как он умертвил человека, нашел бы, что ликование было преждевременно; но он-то, по ему одному понятным признакам, знал, что не умертвил, а дал ему возможность новой, еще никем не изведанной жизни, он это знал теперь наверное, и потому торжество его было выше всякой меры.
Голова его кружилась, ноги едва держали его легкое, высохшее от многолетней усидчивой работы тело, а сердце словно хотело проломить грудную клетку и вырваться на волю.
«Боже, — мелькало у него в мозгу, — я слишком стар для такого волнения, мое сердце может не вынести такой радости. Уймись же, уймись! Все-таки вспомни, что мне не двадцать пять лет, а семьдесят».
Но тут что-то подкатило к горлу и сдавило его, в глазах появился черный туман. Он пошатнулся и, как сваленный ветром столб, повалился на диван…
И тогда тишина в доме стала мертвой. В дальних комнатах спали звери, и рыбы, и черепахи, а около кухни, в своей конурке, наслаждалась сном глухонемая. Она не знала ни о чем, что произошло в квартире в эту ночь.
IV
Утром она проснулась в обычный час, оделась, неторопливо выпила свой кофе, взяла кошелку и отправилась на рынок за покупкой провизии для обеда профессору и корма для его зверей. Вернувшись, она отправилась к зверям, накормила рыб, черепах, обезьян, что отняло у нее много времени, а когда добралась до клетки, в которой обыкновенно проводил дни ее любимец, белый ангорский кролик, она с ужасом остановилась. Красивого зверька не было в клетке.
Печаль и гнев наполнили ее сердце. Смутно она представляла себе все то, что делал профессор со своими зверями, но от ее зорких глаз не ускользнуло самое главное: что звери умирали только на время. Как ни старался профессор прятаться с своей работой, но любопытство женщины подстерегало его. Глухонемая нашла для пары своих острых глаз щелку, в которую не раз глядела и пристально следила за его работой. И видела она, как он вынимал из ящиков неподвижно лежавшие тела зверьков, как доставал из шкафа пузырек с жидкостью — пузырек особой формы, отличавшей его от всех других пузырьков, — как маленьким шприцем набирал из него жидкость, а потом иглу шприца вонзал в неподвижное тело зверьков, впрыскивал в него жидкость, и как этот зверек оживал.
И теперь, когда она поняла, какая судьба постигла любимого кролика и что, может быть, ему придется годы недвижно лежать в профессорском шкафу, все это мгновенно промелькнуло в ее голове. Затаив дыхание, подошла она к двери профессорской комнаты и увидела, что профессор, одетый, лежит на диване.
— «Нечаянно заснул, — подумала она. — Должно быть, очень поздно работал и спит крепко и не скоро проснется».
Потом она другим ходом прошла в лабораторию. Там увидела выдвинутое на середину раскидное кресло, превращенное профессором в диван, прикрытый зеленым шелковым покрывалом, края которого спускались до пола. Подумала, что это какая-нибудь новая работа профессора, и не дотронулась до нее.
Осторожно отворяла она дверцы шкафов, осматривала ящики и в одном нашла своего любимца. Он лежал неподвижно на маленьком тюфячке. Она вынула его и, бережно держа на руке, как ребенка, потянулась к большому шкафу- лаборатории; среди множества пузырьков узнала флакончик, который был нужен, схватила лежавший тут же шприц и все это унесла в кухню.
Для всего этого потребовалось от нее немало времени. Было около полудня, когда она с своей добычей вышла из лаборатории. В это время в передней уже раздавался звон, которого она, благодаря своей полной глухоте, не слышала. Звон повторился раз, другой, третий, стал нетерпеливым, но никто в квартире не слышал его.
Тогда перестали звонить и начали стучать все сильнее и громче. Шаталась дверь, вздрагивали полы, испуганные животные подняли крик, а по ту сторону двери уже громыхали удары топора. Рубили дверь; наконец, она поддалась, и в квартиру ввалилась группа молодых людей, среди которых был и племянник профессора, Алекс. Он знал ходы в квартире и повел своих товарищей в кабинет дяди.
В комнате, несмотря на вливавшийся в окно дневной свет, горели электрические лампы. На диване, одетый, вытянувшись во весь рост, без подушки и как-то случайно, неудобно лежал профессор. Его начали будить.
— Профессор… Уже полдень… пора вставать!.. Проснитесь, дорогой профессор, мы пришли приветствовать вас и нашего друга!
Но профессор не откликался. Тогда прикоснулись к его лицу, к руке, стали теребить его и с ужасом отшатнулись. Он был мертв, и тело его уже окоченело.
Двое выбежали из квартиры и пустились на поиски докторов, остальных же Алекс повел в лабораторию. Подняли покрывало над диваном и увидели неподвижно лежавшего на спине, лицом кверху, одетого только в длинную белую рубаху Макса. Лицо его было спокойно, бледные щеки были слегка только окрашены слабым розоватым румянцем.
Пробовали будить его, называли по имени, но он не откликался и не двигался. Брали за руки, прикладывали руки ко лбу и все убедились, что тело его не умерло. Оно было мягко, и в нем была какая-то чуть заметная теплота.
Прибежали два доктора, осмотрели Макса и развели руками. Он не был жив, но никто не назвал бы его и мертвым. И для всех стало ясно, что профессор привел его тело в то состояние, в котором оно могло оставаться годы, десятилетия, может быть — и века, а сам, будучи слишком старым, не выдержал сильного волнения. Какое изумительное сочетание обстоятельств! Старый профессор умер от радости, он поплатился жизнью за то, что победил смерть.
Врачи определили, что профессор Редько умер от разрыва сердца. Но Макс, Макс, его судьба казалась ужасной.
Алекс кое-что знал. Он открыл все шкафы и ящики лаборатории и в кабинете, в письменном столе; полтора десятка пар рук поспешно рылись в них. Сотни пузырьков и флаконов с жидкостями, банки с порошками, шприцы, но ни малейшего указания на то, как следует воспользоваться всем этим.
А между тем, в течение четверти часа весть о необыкновенном событии в квартире профессора Редько распространилась по околодку. Прибыли знаменитые врачи, приехали ученые-естествоиспытатели из университета, те самые, что когда-то объявили профессора сумасшедшим. В страшной тревоге явились родные Макса, пришла его невеста. В квартире раздавался плач, дамы падали в обморок, и для приведения их в чувство потребовалась вода.
Несколько молодых людей побежали в кухню и, дойдя до растворенной двери, в изумлении остановились.
На столе, на маленьком тюфячке, неподвижно лежал белый ангорский кролик. Женщина стояла к ним спиной и, очевидно, не слыша их шагов, не обернулась. Она нежно гладила пушистую шерсть кролика и целовала его в голову. Затем взяла лежавший на столе шприц, опустила иглу его вовнутрь флакона, набрала жидкости, осторожно обнажила от пуха кожу на задней части его спины, ввела иглу под кожу и надавила шприц.
Все это произошло в течение полуминуты. И вот они видят, что у кролика открылись глаза, зашевелились передние лапы, потом задние. Зверек на глазах у них оживал, а женщина нежно гладила его то по спине, то по животу, то целовала его в мордочку. И вот он уже стоит на ногах, она сует ему блюдце с заранее приготовленным молоком.
Тогда наблюдавшие бросаются к столу, отстраняют от него женщину, схватывают флакон и шприц и, не помня себя от радости, несут их в лабораторию. Женщина с неистовым криком бежит за ними, она ничего не понимает и, может быть, думает, что это грабители.
Но проходить минута; она узнала о внезапной смерти профессора и увидела Макса и мгновенно поняла все, что произошло в эту ночь. О, она так хорошо изучила своего хозяина и всю его работу, когда по целым часам смотрела в щелочку.
И вот вокруг Макса собрались врачи и ученые, и женщина в грязном кухонном переднике выразительными знаками объясняет им, что делал профессор, когда хотел вызвать к жизни большую обезьяну, теперь благополучно здравствующую в своей клетке. Он впрыскивал жидкость в четырех точках ее тела. Вот здесь, вот тут и вон там.
И, следуя ее указаниям, один из врачей, наиболее опытный из всех, с величайшей бережностью, боясь уронить каплю драгоценной жидкости, набирал ее шприцем из флакона и впрыскивал в тело Макса.
Уже после третьего впрыскивания кровь стала приливать к щекам Макса, и веки его больших глаз начали слегка вздрагивать. Все, кто был в квартире, окружили его. Еще одно движение шприца — Макс поднял руку, пошевелил ногой, приподнял голову и улыбнулся.
Крик радости вырвался из нескольких десятков грудей. Макс ожил. Не только все прежние силы вернулись к нему, но они как будто удвоились, — он чувствовал себя богатырем.
Были торжественные похороны профессора Редько. Но напрасно ученые рылись в его шкафах и ящиках стола, стараясь отыскать хоть намек на состав тех жидкостей, при помощи которых он совершал свое чудо. Напрасно они с величайшей тщательностью производили анализ найденных у него составов, — нигде не нашли они нити, которая привела бы их к истине.
Через неделю была свадьба Макса. Ум его сохранил прежнее насмешливое направление, и он говорил, что после того, что испытал, женитьба уже не представляет для него никакой опасности.
Сергей Городецкий ГЕОСКОП КАЭНА
Илл. автора
В главном зале Славин, великого государства, шли последние приготовления к празднику. В древности, не говоря уже об эпохе до слияния городов, но и в те века, когда над единым Городом, покрывшим всю землю, не было еще возведено сводов, — приготовления к праздникам, по свидетельствам историков, были шумны и хлопотливы.
Но в эру, когда время стало измеряться не часами и календарями, а излучениями радия, не было уже ничего во всем Городе, что могло бы стать причиной суеты и шума.
Главный зал был достаточно обширен: одна из четырех колонн его покоилась на развалинах Германии, и в подземельях как раз под ней сохранялись еще остатки грубых сооружений так называемого Берлина. Противоположная ей колонна подымалась в нейтральной, по-древнему, и северной по современному названию России, невдали от того места, где сооружен был Музей Земли, в котором люди с атавистическими инстинктами могли еще удовлетворять своему странному желанию видеть обнаженную от камня почву.
Свод зала был раскрыт.
К отлету в безвоздушное пространство готовился отряд воздухолазов в своих странных костюмах, напоминающих водолазов древности, когда вода еще не была строительным материалом и в океане не было туннеля; четыре огромных рабочих аэроплана ждали знака, чтобы взлететь по вертикальной линии; пятый, изысканной конструкции, должен был поднять на себе недавно изобретенный геоскоп — последнее творение гениального Каэна.
Понемногу зал наполнился людьми. Тела их были гармонично развиты, но рост их был мал, носы и уши близились к атрофированию, и черепа были голы. Легко было видеть их тела, потому что одежды их были из почти невидимой термоткани, послушно облегавшей формы. Без бровей и без ресниц, но все с огромными печальными глазами были они. Поглотители шумов — аппараты с алюминиевыми рупорами, сверкавшие в стенах, — поддерживали законом установленную, нормальную тишину, хотя были уже в зале сотни тысяч людей. Тишина эта звучала, как ропот очень отдаленного прибоя. Почти у всех от глаз к ушам проведены были золотые нити, передававшие зрению функции слуха.
Каэн стоял вдали. На нем, как на немногих, были прозрачные, остроконечные крылья, от соприкосновения которых тело человеческое становилось легче воздуха и летало. Он тщетно напрягал свое зрение, приставляя к глазам зеленоватый кристалл и желая в толпе розовых тел узнать Аву.
Вероятно, ее не было, потому что он не получил ни одной еще от нее воздушной телеграммы, хотя послал уже с концов своих раздвоенных ногтей все двадцать, бывших в его распоряжении.
Он двинул плечами и взлетел. Тотчас же он услыховидел аплодисменты. Это было похоже на волну, поднявшуюся вдруг в гармоническом прибое. Он закинул голову в знак благодарности и подлетел к геоскопу. Быстро осмотрев аппарат, он подал знак к отлету. Медлить более нельзя было, и он решил послать аэропланы вперед, а самому, хотя это было и опасно, так как он мог попасть в вихрь метелей, отгоняемых полярными пропеллерами от земли, — лететь потом, увидавшись с Авой.
По его знаку все пять аэропланов взлетели и скрылись в темноте за сводами.
В эту минуту в толпу вошла Ава. Она ютилась в нижних городах, и стычка двух отрядов самоубийц задержала ее. Ей надо было ждать, пока две стальных коробки, вмещавших каждая до сотни человек, заряженные противоположными электрическими зарядами, не были брошены друг на друга и испепелены в пахнущую озоном пыль.
Войдя в залу, она с кончика мизинца послала телеграмму: «люблю». За этой последовали другие: «жду», «горю», «хочу» и так далее, ибо глаголы любви были те же, что и в древности.
Каэн в то же мгновение получил их и в восторге нажал ногой кнопку в центре зала. Тотчас со сводов в небо поднялись столбы теплого воздуха из подземных печей и вовлекли в себя снежные вихри пространства. Механически раздробляемый дождь полился сверху, но, не доходя до уровня человеческих голов в зале, испарялся под влиянием горизонтальных горячих струй; пар исчезал тотчас. В то же время тысячи солнц вспыхнули в стенах, и воздух был исполосован гигантскими радугами. Это зрелище Каэн приготовил неожиданно для всех. Люди были так восхищены, что некоторые поглотители шумов не выдержали и перестали работать. На мгновение ворвался грохот в залу.
Каэн отпустил кнопку, радуги исчезли. Он увидел Аву и перелетел к ней. Они вошли в одну из бесчисленных дверей зала. Это была комната из мягкого зеркала. Стены и пол ее принимали удобные, упругие формы. Они сели и нажали золотое колечко у себя на вороте; одежды из термоткани истлели.
Каэн осветил комнату зеленым светом. Поцелуй их был такой же, как и в первые от Рождества Иисуса тысячелетия, как и раньше того.
Потом Каэн сказал Аве (уже давно не говорили ни в первом, ни во втором лице):
— Число рождений точно определено законом. Если она почувствует себя матерью, она будет испепелена. Она знает это?
— Знает. Но испепелена она не будет.
— Она восстанет на закон?
— Она восстанет.
— Но тогда ей в наказание вспрыснут эвин, и она будет жить без конца, как тягчайшие преступники.
— Она будет жить без конца… — ответила Ава. Глаза ее фосфорически светились.
Каэн в отчаянии молчал.
— Тебя ждут, — сказала Ава.
И опять, одним прикосновением к золотому колечку, они создали на себе термоткань и вошли в залу.
Каэн в тоске перелетел на середину. Начал речь:
— Он улетает в безвоздушное пространство. Туда уже поднять его геоскоп. Геоскоп позволяет видеть снова всю историю земли. Поднявшись на высоту, откуда виден первый, как говорили, год, он примет на свои экраны величавые события вблизи Вифлеема и передаст их сюда в особую атмосферу, которая образуется в зале в виде облака. Он улетает.
Каэн услышал опять как бы звук прибоя. Ему был подан маленький аэроплан. Люди замерли, вглядываясь в излучения радия, мелькавшие светлой полосой на стене. Циферблата не было, и каждый считал счетом своей жизни, ведомым бессознательно.
Когда Каэн отлетел во тьму, его опять охватила тоска. Он знал, что решения людей его эпохи, произнесенные вслух, неизменны, он знал, что Ава обрекла себя на вечную жизнь. О, как сладостно было ему думать, что она согласится на испепеление! Тогда бы, как истый мужчина своей эры, он чувствовал в себе волю к жизни, он создал бы еще невероятные аппараты, его изобретения переменили бы технику земли! Но она, им один раз любимая, осталась жить навсегда. И он унес с собой тоску по ней, он не свободен теперь, он погиб.
Вокруг него кружились вихри мировых метелей. Легкий поворот руля, его унесет в ночь и бросит в холодную бездну. Соблазн был велик, но мысль, что люди ждут внизу и, если не увидят, не поверят в его геоскоп, заставила его усилить вертикальную скорость. Он вскоре увидел пять аэропланов, светящихся ярче звезд.
Он решил показать людям геоскоп, но на землю не возвращаться.
Ступив на площадку аэроплана, он привел в движение машину, вырабатывающую особый плотный пар. Облако оторвалось от аэроплана и полетело вниз. Каэн освещал его путь прожектором.
Потом он подошел к экранам, установил их в нужной плоскости и тронул главный рычаг геоскопа. С диким свистом низринулись вниз лучи-возбудители и по дрожанию экранов Каэн почувствовал, что они принимают уже давно минувшие движения, формы и краски и передают их в то облако, что стоить там, в зале.
Волнение овладело им, хотя ему самому не было видно ничего…
В главной зале напряжение сотен тысяч людей достигло апогея, когда облако, слетев, остановилось посредине.
Людям, считающим время в пределах своих личных жизней, трудно было представить тысячелетия, отделяющие зрелище, готовое им явиться, от его возникновения. Но все же они понимали всю цену нового изобретения, и когда первые смутные образы появились в облаке, сразу сломалось несколько поглотителей шума.
В облаке были видны три фигуры в тяжелых, непроницаемых одеждах, со странными украшениями на голове. Фигуры двигались, согнувшись. Над ними чувствовалось присутствие какого-то источника света.
— Поклонение волхвов, — сказал ученый дрожащим голосом, но мало кто его понял.
Ава в умиленном восторге смотрела на облако. Она почти не понимала того, что перед ней происходило, но она знала, что это — чудо, и что создатель чуда этого в ней самой создал иное чудо, в ней самой дал начало чьей-то новой жизни. От этой мысли гордость загоралась в ней.
Вдруг в облаке фигуры выявились с полной ясностью. Были видны даже лица, бородатые и волосатые, но с таким выражением, какого давно уже не знала земля.
Восторг увидевших не мог больше сдерживаться. Крики, аплодисменты достигли такой степени, что поглотители шумов разрушались один за другим. Рев океана не был бы сильней, чем шум, поднявшийся в зале. Исполнители воли государства испепеляли тысячами шумящих. Облако на глазах у всех стало блекнуть, меркнуть, исчезать: его атмосферу, по- видимому, разрушали эти дикие потоки звуков.
Ава в отчаянье стояла у стены той комнаты, где была она с Каэном.
Облако исчезло. Настала тишина. Сильный запах озона подымался от пепла казненных. Свечения радия мелькали на стене. Казалось, люди стали чувствовать время, так долго стояла тишина в зале.
А в ночном пространстве, на своем аэроплане, у геоскопа, Каэн, зная, какие видения он воскрешает на земле, в волнении перелистывал алюминиевую книжку, вникая в древний язык Писания, читая про Вифлеемскую звезду, про пещеру, про Деву и Младенца, про все то, что видели, как он думал, люди внизу, и что дал им видеть он.
Наконец цикл видений был закончен. Прекратив работу геоскопа, Каэн поблагодарил своих помощников и ринулся на аэроплане в один из снежных вихрей, бушевавших между землей и его аэропланами. Его сорвало с аэроплана и бросило в безвоздушную ночь в тот миг, когда всю силу своего существа он напряг, чтобы послать Аве свой последний привет.
Сергей Городецкий СКАЛА
Сегодня он решил дойти.
С первого же раза, как он увидел ее, подъезжая к мертвому поселку над морем, царственную и непомерно высокую, его сердце дрогнуло, как дрожит оно у людей при всех роковых встречах. «Живая», — подумал он с ужасом и вспомнил бесчисленные рассказы о том, как она колыхается и сбрасывает с себя всякого, кто пытается проникнуть в ее девственные высоты; о том, как пастух много лет тому назад ушел наверх, а назад пришли одни стада; о том, как в зимние вечера, когда море, не умея замерзнуть, тщетно бьется в оледенелые берега, она совсем наклоняется над поселком и, стряхивая метели, пугает нищих рыбаков.
Говорили, что идти надо три дня. Но все равно дойти нельзя. Есть горы много выше — там, на севере — лучше на те идти: на эту нельзя.
Но он решил дойти и вышел в путь рано, пока еще не наполнилась долина расплавленным золотом. Еще далее сгоревшая и, днем желтая, трава была серая от росы, и далеко сзади, где он прошел, тянулся рыжий тонкий след. Без единого облака голубел над ним опрокинутый купол, четкий контур первого перевала выгибался легко и упруго, и все, что было мучительного в жестокости природы, не допускающей к себе человека, развеялось, как вчерашний кошмар. «Я пошел — значит, дойду», — думал он, и большие верные шаги прокладывали дальше рыжий след по росе.
По временам пышные кущи, только и живые по утрам, смыкали над его тропою обожженные листы длинных гибких веток, и тогда птичий свист и гомон врывался в тихую, утреннюю душу.
В полдень, перед тем, как начаться подъему, он отдыхал и ел хлеб под несоразмерно маленькой тенью великанов- тополей. Теперь он один. На сколько-сколько верст кругом нет людей! Умри — и когда узнают. Закричишь — и он крикнул неестественным голосом человека, привыкшего к однообразным и тихим звукам городов и комнат. Слабое горло скупо разомкнулось, но что-то раздалось и в этой широкой пустыне, потому что напротив поднялась лежащая в камнях полдневная змея и повела египетской своей продолговатой головой в серых узорах. И когда она уж улеглась, и все, казалось, кончилось, откуда-то издалека мелко звякнул тот же крик: эху было не лень и в полдень передразнить человека.
Колючие кустарники зачем мешали крепким его ногам подыматься, цепляясь на каждом шагу, стараясь отнять назад этот уже завоеванный шаг неиденной земли? Колючие кусты, изогнутые, кривобокие, горбатые, ростом с человека, зачем хватали его своими беспалыми короткими щупальцами за сильные плечи, стараясь повалить навзничь? Мелкий ветер, отдыхающий в зеленых, всюду разинутых маленьких ртах, зачем выскакивал, бросаясь сухими колючками и песком, раньше, чем день докатился до сумерек? И раскаленные камни, зачем звали на свои ступени и ускальзывали из-под ног, только на них наступивших? — Чтоб он свалился вниз. Свалился и не дошел.
Но он, измученный и все-таки сильный, уже видит над собой то, что казалось снизу гибкой линией и что простирается теперь перед ним кривой спиной, морщинистой и мелколесной, первого и самого малого из трех чудовищ.
С той стороны спускаться надо было лесом. Можно было ждать, что с высоты откроются дали, но была только лесистая котловина, и над ней, спокойней и ровнее, чем первый, выгибался новый перевал. Лес, заведя в свои чащи, не выпускал из них. Породы не различались, так их было много. Смутный, предвечерний шорох переплескивался наверху. Перепутанные тени заметно удлинялись. Шаги тонули в мягких мхах и травах, и если б не такая чаща, можно было бы сразу скатиться вниз. Но путник не подавался видимой лесной ласковости. «Вечером всегда заигрывает, — говорил он себе, — но вспомни ночи». И, стараясь не замечать ни ленивых птичьих вскриков, ни всей панической жизни леса, он, как чужой, следил за одним: как его верные шаги пожирали пространство.
Вдруг в хор уже примелькавшихся звуков влились снизу новые. Непокорные и необычные, они потревожили сердце идущего. Неужели люди? В пустыне человеческое чутье узнает другого человека по признакам, почти неуловимым: он был уверен, что догадка пришла раньше, чем стали видны на земле протоптанные места. Сразу опала вся гордыня одиночества, и обыкновенный, почти городской, ум диктовал: может быть, найдешь себе ночлег.
На вечернем солнце заалели старые небеленые постройки. Жители были почти дикарями. Отдирая мясо с тучной туши, подгорающей на вертеле, они сидели неровным кругом в рваных, но ярких тканях. Женщины мало отличались от мужчин одеждами и жестами, у всех был одинаковый черный, жесткий волос. Дети кучей навалились на большой кусок и кричали, как птицы. Отдельно сидел старый с выколотыми глазами и, дергая три струны, вопил молитву заходящему солнцу. А вокруг стоял лес, просовывая ветки на отнятое у него дикарями и оголенное место.
Долго бежали за путником дикие лохматые собаки, надрываясь злобным лаем в ненависти, почти человеческой. И долго сквозь их лай были слышны три струны и молитвенный вопль. Но еще дольше верные шаги продирались сквозь улетающую вниз чащу, и стремительное тело, качаясь, обрывало попутные ветки.
Поздний вечер настиг уже в новой долине. Но сырость и синий туман обволакивали это неведомое дно, и пришлось до ночи спешить на другой склон, обгоняя лес, еще не завладевший им. Отсюда с небольшой высоты открылась та же котловина, но уж в зелено-сизой дымке, сгущенной там, где дикари жгли свою тушу.
Темнота не предупреждала. Не уговаривала уходящий свет уступить ей свое место — прямо столкнула его с острого края и налегла плотно. Как будто этого ждали ночные птицы. Захлопали неуклюжими крыльями. Острые крылья светящихся бабочек из разных мест врезались в темноту. Все молча, молча, а потом началось в звуках. Кто кричал, откуда, чем — в трубу ли, свернутую из коры, в тоненький ли дул свистящий лист, сверху или снизу — не человеческому слуху разбирать. Притаиться, прижаться в самый темный угол, чтоб не заметили тебя — вот все, что человек может ночью в лесу. И звать сон. Но медлит сон прилететь в живое место. Тяжело и медленно опускается на испуганные веки и, опустившись, еще куда-то временами отлетает.
Когда он, совершивший первый перевал и уже начавший второй, проснулся, серый свет размывал последние сгустки ночной черноты в сонных ветках, у подъемов деревьев, в липких объятиях вьющихся растений.
Теперь надо было идти каменной пустыней. Губчатая лава выветривала из себя земли едва настолько, чтобы могло хватать бородатым мхам, лишаям и камнеломкам. Изредка из трещины поглубже пробивался малорослый кустарник.
Идти было легко. Звонкие шаги будили ящериц, и пройденная дорога полна была тревогой низменных гадов. «Я видел вчера лес, — думал он, — и людей в лесу. Людей ли? Я, слабый человек из города, враждую с природой. Я вырву у нее тайну. Я ее увижу. Сын ли ей человек или враг? Не дикарь, а человек». И в ответ понемногу выползал на неуспевшее остыть пустое небо желтый глаз утреннего солнца с длинными и косыми ресницами. Камни накаливались незаметно, ютившийся на них холод сжимался и беспомощно прятался в тени, но ресницы солнечного глаза выпрямлялись и отовсюду высасывали его. Но опять было гордо и одиноко в душе идущего, и думал он о пастухе на скале, одолевшем людей, потому что он ушел от них, и одолевшем природу, потому что он живет с ней.
Полдень проплыл над такими же камнями, как и первый вечерний свет. Но как-то странно стали торчат камни, как будто темной природе помогала еще какая-то другая темная сила. Вывороченные и перемещенные по убогому замыслу, они громоздились, как бы пытаясь дать подобие жилищ. Нельзя было догадаться о силах, передвигавших эти камни, если б сами жители не сидели тут же на солнце, серые, как камни. Большие головы медленно ворочались на коротких, слабых туловищах. Страшно было за кривые и тонкие ноги, когда уроды подымались. Не по одному, а кучами, почти стукаясь раздутыми своими головами, сидели они, как молчаливые и неподвижные камни. Но можно было увидеть, приглядевшись, серую пестроту мелких, неловких движений и услышать пискливый шепот.
И не было странно на них смотреть. Они только продлили и видоизменили жизнь этой природы.
Так думал путник, убегая от ужасного города к окаменелой и голой спине второго чудовища, за которым стояла третья скала — цель его пути. По спине, и вниз таким же каменным склоном.
Опять ночь грузно налегла на землю, еще теснее приникая к гладким камням, чем к лохматому лесу.
Заснув еще в вечернем свете, он проснулся в предутреннем мраке: сегодня он дойдет.
Покрытая выжженной травой скала лежала, как огромный ленивый зверь, вся в каких-то круглых буграх, и за два шага перед собой ничего нельзя было видеть. Временами терялось чувство того, куда идешь: вверх или вниз.
Все томительное время до первых лучей ушло в пустоту. «Поднимаюсь ли я? — думал усталый. — И куда я поднимаюсь?» Человеческому терпению было непонятно это бесконечное повторение все таких же бугров и котловин, все таких же серо-желтых равнин. Верные ноги стали изменять, и часто на голых буграх нелепо чернело распростертое тело в городской одежде. Но вера и отчаянье в два кнута подымали лежащего, и опять вилась, узлами заплеталась злая дорога.
Когда же, наконец, предстала перед ним на целые версты распростертая спина скалы, пустым оком огляделся он и ничего не увидел, чего не знал бы раньше. Только выше всего он был теперь, и внизу лежали перейденные горы, и море вырезывало берег, и только эти обширные поля казались странными на такой высоте.
А пастух?
И глаза отыскали темное вдали. Путь до темного не дальше ли был всей дороги до скалы? Обглоданные ветром, с оборванными вершинами, сжались в кучу крепкие деревья, и под одним лежала куча обветренных человеческих костей, а наверху еще болтались на суку истлевшие следы веревки.
Сергей Городецкий 3974
Старый, расшатанный, в дождях и снегу заржавивший на себе все, что ржа берет, стоит он там, где начинается пригород с разваливающимися дачами, маленькими лавками, продающими что угодно, и хмурыми, заеденными беднотой и горем людьми. За ним стоит забор, за забором сложены дрова, и вывеска гласит об этом почему-то по-немецки: «Holzverkauf»[3]. Перед ним проходят рельсы трясучей конки, одной из последних синебоких старушек, влекомых парой ленивых кляч под патриархальное посвистывание и постукивание кнутовищем о железный передок вагона.
Я его заметил, едучи на империале в один из осенних вечеров. Да и нельзя было не заметить: вагон остановился так, что он оказался как раз передо мною. Ветер неистово трепал бляху с номером, огонь керосиновой лампы мигал, словом, это был обыкновенный уличный фонарь старого типа, причем фонарщик, чтоб не возиться каждый раз, отворяя его, вынул с одной стороны стекло и поставил его внутри.
Этому фонарю суждено было осветить мне два человеческих лица в такую минуту, когда на лицах отражается вся душа, и все мытарства и теснины, которые ей, вольной и прекрасной, приходится претерпевать, искажаясь и унижаясь без всякого предела.
Ехал старичишка, розовый и вертлявый, в выцветшем до желтизны на плечах, но крепком пальто и в серой шляпе не то отыгравшего свой век шарманщика, не то захудалого пожарного репортера. С ним была девушка в большом, надвинутом на глаза платке, хорошего роста, сильная и быстрая в движениях. Дочерью она ему быть не могла — уж слишком разная была у них порода; еще несуразнее была бы мысль о какой-нибудь романтической истории. Скорей всего, их связывало общее дело, причем старикашка был заинтересован не менее ее, но делал снисходительный вид. Разговаривали они громко, и только иногда вдруг понижали голоса до шепота, и, очевидно, разговор этот был начат гораздо раньше, чем они влезли на конку.
Дело шло о каком-то ребенке, которого надо было кому- то передать. Девушка требовала, чтоб старик сам пришел куда-то или сказал бы, где живет. Старик не хотел ни того, ни другого и обещал прислать доверенное лицо.
— Как же я узнаю, что это от вас, узнаю как? — кричала девушка.
В это время вагон подъехал к фонарю и остановился, так как тут разъезд.
Старик в ответ ей хихикнул, огляделся и, сообразив что- то, нагнулся к фонарю и поманил девушку нагнуться.
Я видел, что он приподнял рукой фонарный номер и показал его ей.
— Запомнили? — сказал он.
— Три тысячи девятьсот семьдесят четыре, — повторила она медленно, и я невольно запомнил это число. Она еще добавила:
— Дело кончено.
Как только тронулся вагон, я при свете фонаря заглянул им в лица.
Прекрасные, темные глаза девушки были озарены какой-то мстящей злобой, а ее рот был искажен сладострастной гримасой, будто она только что получила удовлетворение и наслаждалась им.
Старикашка следил за ней, и у него алчно горели глазенки, как у счастливого купца в момент удачливой покупки. Бегала боязнь в глазенках, что вдруг дело сорвется, но губы уверенно улыбались.
Она сидела прямо и смотрела перед собой, он изгибался перед ней, заглядывая снизу.
Скверное какое-то дело они решили, и мне было тяжело попасть в невольные свидетели этой сделки.
Скоро они слезли и, размахивая руками, провалились в один из самых глухих переулков.
Все-таки я не понимал, что произошло при свете старого фонаря.
Осень в тот год была мучительная и долгая. Снег не выпадал, ветер метался под облаками и на земле, не находя успокоения. Я часто бродил по окраинам пустынного парка. И вот однажды я увидел, что на траве сидит девушка в большом платке и плачет. Так это было странно и неожиданно, и в то же время так нужна была всей плачущей осенней природе эта одинокая девушка, что я остановился, грустя и созерцая. Мы разучились подходить к чужому горю естественно и просто, но все же, когда видишь человека в горе, чувствуешь в себе какие-то клочья древней мировой любви, какой-то смутно сознаваемый порыв подойти, утешить, исправить что-то в мире.
Я испытал этот порыв и отдался ему. Я подошел к ней, стал на колени и посмотрел ей в лицо. Почти в тот же миг я узнал ее по темным глазам и надвинутому на них платку. Старый фонарь, старикашка и весь непонятный разговор тотчас воскресли в моей памяти.
— Три тысячи девятьсот семьдесят четыре — вы об этом плачете? — спросил я ее.
Испуганная и недоверчивая к первому моему движению, она теперь широко раскрыла глаза, на один миг перестала плакать и, уронив лицо в колени, заплакала еще сильнее прежнего.
Я выждал, пока пройдет эта волна отчаянья, разглядывая девушку. Она не была работницей, судя по одежде.
Подняв лицо, она спросила меня еще сквозь слезы:
— Да, об этом. Вы откуда знаете?
— Если я это знаю, вы можете рассказать мне все, — сказал я, — вам будет тогда легче.
Она в последний раз посмотрела на меня недоверчиво, скинула платок и стала поправлять волосы. Я никогда не видал таких сильных волос. Она грубо подобрала их с лица и закрутила распавшуюся косу в крепкий узел.
— Вы и старика знаете? — спросила она.
— Да, я видел его вместе с вами.
— Один раз?
— Один раз.
Она опять готова была заплакать, но сдержалась на первой же слезе, крупной и выкатившейся, как градина. Видимо, она решила говорить.
— У меня сын был, — сказала она и закусила свои губы.
Теперь я понял, что еще в ней было, чего я не сумел назвать ни при первой встрече, ни в начале этой, второй: материнство. Сильная грудь была у нее и ловкие, уютней всякой люльки, руки. И в глазах не было той тихой тайны, которая туманит и влажнит глаза всех девушек. У нее в них была прямота и неистовая честность, как у всех молодых матерей.
— Да, сын, — повторила она и продолжала: — год тому назад. Отец мой — гармонный мастер, я единственная дочь. У нас работал он, Ванька Чертов. Фамилия по человеку бывает. Играл он так на гармонии, что не усидишь на месте и куда он захочет — за ним пойдешь. И заиграл он мое девичье сердце. Когда спозналась с ним, почти как без памяти была. А ему только смешки да усмешечки. Как опием, прожег он меня, окаянный. Провалялась до полудня, слезами обливаясь. Встала, вышла и отцу в ноги. А он побелел весь и бить не стал, только пострашнел очень да говорит чуть слышно:
— Чертов спозаранку расчет взял.
Хотел бежать отец, да некуда. В участок я не пустила. Только зубами скрипел, глядючи на мою искусанную губу. А я сама, кабы знала, где его найти, глаза бы ему выцарапала и с радостью распорола бы утробу!
Она остановилась, чтобы перевести дух, и глаза ее сверкали подлинной ненавистью. И вдруг, приблизившись ко мне и оглянувшись, она продолжала шепотом, хоть никто услышать нас не мог в пустынном парке:
— Он и вправду черт был, настоящий черт! Так люди не любятся. А, главное дело, все хохотал, да искоса посматривал на меня. И волосы в завитушках черные, как смоль, все в них спрятать можно. Я отцу этого не сказала, а сама давно знаю. И привел же Бог меня, несчастную, загубить свой век с дьяволом!
Чтобы не расплакаться, она опять замолчала на минуту, а потом заговорила с нежностью и тоской:
— И ведь засеял он меня, грешную, пустой не оставил. Восемь месяцев носила я и выращивала дьявольское семя. Ребеночек родился в отца, черноватенький, и зубы пошли у него рано так, как не бывает. Замучилась я с ним, обессилела. То видеть его не могу, зашвырнуть куда подальше готова одним взмахом, то к груди прижму, как родное свое, а он грудь-то возьмет и укусит. И опять плачу, не знаю, что мне делать с ним, как развязаться. Целый год промучилась с ним, молодость губила. Стал он становиться на ножонки, крикливый да смешливый, и увидела его у меня одна старушка знакомая. Заговорила со мной.
— Ты, — говорит, — девушка, младенца своего не любишь.
— Я, — говорю, — не люблю, коли правду сказать, а может, пуще всего на свете люблю, коли самую настоящую правду сказать.
— А ты самой настоящей правды не трогай, — говорит старуха, — она для людей заказана. Отдай ребеночка, кому скажу.
Поверила я ей и задумалась. Свела она меня со старичишкой, которого вы знаете. Плакала я плакала и отдала, потому что чертов сын, а не мой.
Она опять понизила голос, и в глазах ее проблеснуло безумие.
— Зачем же старику ребенок? — спросил я, хоть знал почти наверное, зачем.
— Он нищих делает, — ответила она глухо.
Теперь мы замолчали оба.
Я вспомнил об этом ужасном промысле. Я вспомнил, как мне однажды маленький калека рассказывал, что ему нечаянно добрый дедушка вывернул ноги. Это было где-то в глуши, но не всюду ли еще глушь на моей родине?
— Как же он нищих делает? — спросил я.
— Обучает петь жалобно и выпрашивать, добрых прохожих выбирать, слушаться главного нищего и самыми маленькими командовать.
— Вам хотелось бы теперь вернуть ребенка? — спросил я.
— Вы знаете, где старик, вы знаете, говорите скорей, я на край света побегу, я хочу своего сына, отдайте мне моего сына!
Она кричала, протягивая руки, и упала на траву.
— А старуха?
Она подняла голову. Глаза у нее стали злые.
— Старуха говорит: уехал.
— А как зовут его, она знает?
— Не знает.
— Вам не вернуть сына, — сказал я.
Она поднялась с травы, и в глазах ее блеснула дикая радость. Слезы высохли. Ветер сорвал с нее платок. Она нагнулась ко мне, роняя мне волосы на лицо. Страшны были ее расширенные, сочно-темные зрачки на молочных белках. Прошептала:
— Ведь он чертенок.
И, схватив платок с земли, она побежала от меня в чащу, и я увидел, какие у нее быстрые ноги. Силищей и сумасшествием молодости повеяло от этого бега. Ветер свистел, взметая с земли листья, а в небе прорывая клочковатые синие окна. Что-то торжествовало и плясало на радостях дикую пляску.
Она давно уже скрылась в чаще, а я сидел и вспоминал ее лицо, каким увидел его в первый раз, искаженное мстящим злорадством, при свете фонаря № 3974.
И я думал:
— Где ж самая настоящая правда, заказанная людям, по словам старухи, и отчего нельзя ее трогать?
Сергей Городецкий ОБЕЩАНИЕ
Борис Пестумский справлял день своего рождения, двадцать седьмой уже раз. Собственно, ему еще не исполнилось двадцати семи лет, потому что, когда он родился, до двенадцати часов оставалось всего несколько минут, а теперь был только десятый. Еще утром в постели он подвел итоги своей жизни и остался ими почти доволен. Жена с некоторым состоянием, двое детей и довольно солидная репутация талантливого беллетриста — таковы были итоги, а будущее сулило бесконечное улучшение. Особенно радовался Пестумский тому мерному, ровному горению, которое только что сменило в нем беспорядочный и пылкий огонь молодости.
Гости, приглашенные на дневной чай, засиделись и разъехались недавно. Это была докучная, но обязательная толпа родственников, с которыми редко встречаешься и мало имеешь общего, но в то же время поддерживаешь внешне сердечные, а внутренне холодные отношения во имя каких-то древних голосов, никогда не умолкающих в человеческой крови. От них остался беспорядок в гостиной, раздвинутая мебель, недоеденные коробки конфет и довольно много совершенно ненужных вещей, привезенных, тем не менее, в подарок. Большей частью, рукоделие кузин и теток. Пестумский перебирал подарки ленивыми руками, когда вошла его жена, переодетая уже в уютное и простое платье. Материнство и хозяйство исчерпывали в ее глазах назначение женщины, но в том, как она проводила в жизнь свои взгляды, было много целомудренной прямоты и прелести. Она не любила ни родственников, ни рассказов, ни литературных знакомых своего мужа, а брала в нем себе только простую душу, насколько она уцелела от постоянных хитрых и яростных посягательств жизни. До нее Пестумский много уже успел растратить, но она как-то сумела собрать остатки и холила и берегла их теперь с настойчивой страстностью.
Заслонив собой подарки, она отвела Пестумского от стола, и, приникая друг к другу, тихими шагами хорошо сжившейся пары подошли они к диванчику и начали там прерывистый и скупой на слова разговор давно сговорившихся людей, понимающих друг друга с полуслова и имеющих уже свой милый, интимный жаргон.
Немного усталые и нежные, они уже трогали в себе заветные струны, ласковыми перстами вызывая к жизни таинственные и спящие в глубинах звуки и чутким слухом внимая расцветающей знакомой музыке, когда резкий, звонкий и твердый, как судьба, звонок вонзился в мелодичную тишину их комнат.
— Кто это? — спросила жена, перебегая из гостиной через переднюю к себе в комнату.
— Да, кто это? — как эхо, слабее и протяжнее, повторил Пестумский, идя сам отворять позднему гостю, и добавил, поймав себя на том, что испугался:
— Больше никто не мог прийти.
Но кто-то пришел, потому что звонок сказал об этом еще звонче и тверже.
В сером, бледная и сероглазая, как к себе домой, вошла девушка и, замедлив на минуту, чтоб сказать: «Я к вам», — пригласила Пестумского в гостиную.
Прекрасное лицо было выпрямлено решимостью, и какая-то определенность сушила ласковые черты.
Пестумский, почему-то не удивляясь, провел ее через гостиную к себе в кабинет, и там они сели друг против друга, разделенные столом, как два берега рекой.
— Борис! — сказала она, и это имя в ее голосе далеким теплом опахнуло Пестумского, будто ветер с юга донес свою знойную негу до его остывшего сердца.
— Борис, вы помните…
— Наташа!
И, весь в порыве возвращенной молодости, он вскочил и протянул к ней руки, раскрывая душу детским грезам, розовым вечерам и острым молниям первой любви.
— Наташа, милая!
И ему захотелось охватить ее и в вальсе понестись, головокружительном как тогда, под открытым небом, на танцевальной площадке дачного поселка, где он познакомился с ней и протанцевал лето — может быть, лучшее свое лето.
Но она оставалась холодна, озаренная каким-то невидимым Пестумскому светом. Она ничего не напоминала собой неприятного, роман их протек яростно, но невинно, не было, казалось, ничего, кроме острой радости в этом посещении, но Пестумскому вдруг стало холодно и жутко, как перед лицом судьбы, которая сейчас заговорит.
— Вам сегодня двадцать семь лет, Борис, исполнилось? — спросила она, проверяя не себя, а скорее его.
— Да. Ах, нет! Еще не исполнилось: исполнится.
— Как?
Ее глаза помертвели, и губы задрожали в страхе.
— Часа через два.
— Ну, это скоро.
И холодом повеяло от ее слов в комнате на один короткий, но властный миг.
— Помните парк, Борис?
И опять волшебным, влажным и теплым ветром потянуло с юга жизни. Она встала, обошла стол и, склонившись к нему, положила на плечи большие свои и мягкие руки. От лица ее пахнуло свежестью и теплом в лицо Пестумскому, и тихая зыбь радости понесла его в далекое голубое море. А она так и осталась, дыша и глядя прямо в зрачки, с быстрой грудью на отвесе, заслонив его от всего, что было теперь вокруг и баюкая прошлым. Зыбь росла, и плавно вздымались волны нежданного счастья, и, как легкая жемчужная пена на гребнях их, звенел и перекатывался прерывистый ее голос.
— Вы помните, и все, и эту ночь, после которой я целый день была несчастна. Мы ушли с первой дорожки. В глубь куда-то. Я вас любила. У меня щеки болели от желания. Вы должны были поцеловать меня. Ведь вы меня любили. Ведь я была хороша. И вы меня тогда не поцеловали. Все равно мне, почему. Тогда не поцеловали…
Она жгла ему лицо своим дыханьем.
— Поцелуй теперь.
Пестумский, сдержавшись, не без удовольствия, ленивым движением, придвинул свои губы, ясно видные под расчесанными усами, к ее хорошим, алым и твердым губам.
И она тотчас отошла и села на свое место по ту сторону стола. Только-то? Она была достаточно мила для того, чтоб Пестумского могло забавлять ее посещение. Но он знал, что жена ждет его и, принимая полуигривый, полуделовой вид, сказал:
— Ну-с! Дальше что? Или вы только за поцелуем пришли?
— Дальше вот что.
И она по-прежнему холодно, не замечая шутливого его тона, посмотрела строгими серыми глазами и опять выпрямившимся лицом на него. Как будто не было этого короткого прилива нежности и теплоты, с которым подошла она к нему, чтобы взять у прошлого принадлежавшее ей. Как будто она даже и не вставала со своего места за столом, по ту его сторону. Пестумский ясно чувствовал эти перемены, и ему опять стало холодно и немного страшно. Он смотрел в упор на ее лицо и понемногу вспоминал его. Все было такое же, и семь лет, которые прошли со времени их первой встречи, почти не отняли ни свежести, ни красоты у влажных глаз, алого рта и полных, удивительно милых щек. Но весь смысл лица был другой, чем тогда, хотя что-то неуловимо связывало теперешнее ее лицо, строгое и решительное, с тогдашним, мягким и обещающим. Что? И почему она пришла сегодня? Какое-то предчувствие воспоминания затрепетало в Пестумском, когда гостья, с трудом прерывая молчание, опять сказала:
— Вот что дальше.
И голос ее окреп, и стал звонким и бесстрастным, как у судьбы. Пестумский встал в тревоге, поднял руки, чтоб не дать ей говорить. Как в западне, он вдруг почувствовал себя, как под мечом или под молнией, которая, неминуемо сейчас попадет в него. Но было уже поздно, и она сказала то, зачем пришла. Нелепые слова ее прозвучали просто, почти естественно:
— Вы сегодня умрете.
Пестумский хотел бы рассмеяться непринужденным здоровым смехом, который бы услышала жена, и вошла бы сюда, и весь кошмар рассеялся бы от ее присутствия, и гостья стала бы милой, давней знакомой. Но не мог. Даже улыбнуться не мог на эту странную шутку.
А гостья читала дальше приговор:
— Вы обещали мне умереть сегодня со мной.
И воспоминание, острое, колючее, пронзило мозг Пестумского. Он съежился весь и ушел в свое кресло. Да, да, был такой вечер, когда вдруг в суматохе, среди дачной толпы, стала ясной вся пустота жизни, вся роковая ее бессмысленность, непреодолимая ничем.
И две полудетские души, его и ее, со всей прямотой и искренностью, просто и смело не захотели такой жизни. У них хватило бы и тогда силы умереть, но это было бы слишком сложно, кругом были знакомые и родственники, музыка, скоро должны были начаться танцы, и, пожалуй, где-то чуть-чуть светилась вера: может быть, потом будет лучше. И вот решили подождать пять лет, до дня его рождения, двадцать седьмого дня. Пестумский вспомнил все очень ясно, и сердце его забилось ровнее и быстрее под дальним светом тех годов. Но вкрадчивый голос часов из столовой, отбивая четверть, вернул его в теперешнюю его жизнь, и, быстро встав, он сказал:
— Это была шутка. Вы, конечно, понимаете. Я нашел свою жизнь и могу только улыбнуться на детскую выходку.
Но улыбнуться он не мог, и лицо его было серым от волнения и страха. Гостья это увидела и подошла к нему опять. Тихим жестом матери, успокаивающей испуганного ребенка, положила она ему на лоб и волосы свою теплую руку. Ясным взглядом заглянула ему в самые глаза, и он увидел мелкую росу на концах ее длинных ресниц. Стала к нему совсем близко и, если б было у нее крыло, покрыла бы его совсем и спрятала в свое пушистое тепло. Сказала, смягчая голосом горечь слов:
— Милый! Ведь не нашел ты жизни. Все это — видимость одна. И все, как раньше. Да?
В ее тепле и ласке душа его струилась медленными, сладостными волнами. Мог ли он солгать? Но кругом стояла мягкая, уютная мебель, книги, диван, а за стеной еще уютней. Как отказаться от всего этого? И губы его сжались, что-бы не ответить против воли: да. Но она следила не только за его губами и все равно узнала, как ответила его душа.
Теперь она стала спокойной и печальной, как после трудной и страшной работы. Тихо подошла к столу и под лампой доставала что-то с груди. Пестумский, почти в лихорадке, тщетно старался надеть на лицо себе маску, чтобы подойти к гостье и прекратить мучение. Он верил, что все кончится, как только она уйдет. Но она сама обернулась и сказала так же мягко и заботливо:
— Вам трудно вместе со мной? Неудобно? Это все равно. Я уйду и умру одна, а вам оставлю смерть.
И она бережно положила что-то маленькое и белое на стол, а другое такое же взяла к себе в муфту. Просты и уверенны были ее жесты, прекрасно и сурово холодное, правильное лицо и, когда она подошла к Пестумскому, ее шаги прозвучали четко, как часы, мерно и неизбежно поглощающие время.
— Прощайте, — сказала она, не подавая руки. И вдруг, как бы изменяя себе, гибким, извилистым движением потянулась к нему, чтоб поцеловать на миг загоревшимися губами мертвый его лоб.
Он ничего ей не сказал и только, когда щелкнула дверь на лестницу, понял, что ее уж нет, и что все, значит, может пойти по-старому. Он старался припомнить полутемноту и негу, откуда вырвал его звонок гостьи, глаза и последние слова своей жены, но все заволакивал жестокий и холодный туман. Что-то иное владело теперь им, и он сел там, где стоял, в углу своего кабинета, в старое какое-то кресло, на которое никогда никто не садился и которое стояло только для того, чтоб занять место. Он никогда не видел отсюда своей комнаты. Все в ней изменилось от перемены точки зрения. Зачем этот резной, неуклюжий шкаф, и книги в нем, которых он никогда не читал и не прочтет? Зачем эти тяжелые колонны письменного стола, где лежит стопа бумаги — в одной и начатый роман — в другой? И зачем начат этот роман? Разве не сказал он уже все, что мог сказать? При чем в его жизни Вольтер, смеющийся так нагло, слепой Гомер и босоногий Лев Толстой, висящие на стенах в широких рамках на видных местах? Пестумский закрыл глаза веками, руками, рукавом, но красная темнота закрытых глаз была еще тяжелее, и он опять стал смотреть. Оттого, что он нажал себе глаза, теперь туман скрывал всю комнату, и только зеленое поле стола под стоячей лампой сияло яркой полоской. Пестумский без мыслей, почти без чувств водил по ней глазами от карточки к чернильнице, от одной вещи к другой, и вдруг увидел посредине маленькое, белое, уверенное в своем праве лежать там, где оно лежало, и спокойно ждущее, когда можно будет действовать.
— Вы сегодня умрете.
— Какой вздор! — попробовал отшутиться Пестумский, вспомнив ее слова. Но эта мысль была ничтожной, жалкой обезьянкой в сравнении с тем таинственным и огромным зверем, который копошился теперь в его душе, как чудовище в клетке. Маленькое белое, не обращая ни на что внимания, продолжало лежать, крепко и упорно. Пестумский только на него и мог смотреть. Это была, очевидно, крохотная коробочка, очень тщательно сделанная и оклеенная дорогой глянцевитой бумагой. Оттого она так и блестела. Простого не кладут в такие коробочки. Выбросить, подумал Пестумский, но не посмел встать; будто железная, тяжелая рука придавила его плечо раньше, чем он успел приподняться. Тогда покорно и сиротливо опять он ушел в свои мысли, и серыми, огненными облаками поплыла перед ним его жизнь. Все внешние блага, которые он с таким удовольствием подсчитывал сегодня утром, совсем потускнели, как золото без солнца. Какая-то гора загородила свет, и под ее тенью закопошилась неправда. Все дела его за последние годы, большие и маленькие, все повести, рассказы, книги, все знакомства, женитьба, дети — все это неправда. Все это случилось только потому, что он забыл про самое главное. Или должно было все быть по-другому, или ничего не быть. Острая жалость прилила ему к сердцу, когда он вспомнил себя прежнего, в начале жизни, с ясными требованиями и решительными поступками. Отчего он тогда не умер? И как могло случиться, что он переступил за этот первый, шаткий порог податливости и снисходительного отношения к себе, к людям, к жизни? Вдруг Пестумского охватило такое искреннее отвращение ко всему его окружающему, что он со всей силой раздвинул ручки кресла и выскочил из него. С протяжным треском сломалась одна ручка, резьба осыпалась, и обломки беcшумно упали на мягкий пол. Какой- то резной кусочек, оставшийся на конце ручки, постоял несколько секунд, высунувшись вперед, и свалился вниз к остальным. Пестумский быстро, твердо ходил по комнате. «Она права, — говорил он себе, — я должен сегодня умереть. Бессмысленна вся моя жалкая, уютная жизнь, и ее надо прекратить, как только я осознал это». Он косо посмотрел на белую коробочку. Она молчала и ждала своего времени. Вольтер смеялся со стены.
Часы опять били. И вещи, накопленные не без труда, опять соблазняли Пестумского продолжать уютную жизнь с людьми, к которым он привык, в комнатах, которые он сам украсил, с мыслями, которые он давно знал. Понемногу соблазн стал одолевать, то одна, то другая любимая вещь попадалась на глаза, то одна, то другая любимая мысль приходила в голову, и вдруг Вольтер еще больше рассмеялся со стены, внушая Пестумскому последнюю решающую догадку: ведь она, его гостья, не умрет тоже. Зачем молодой и сильной убивать себя? Неужели детская выходка может пересилить громкий голос алой, живой крови? Она просто пошутила, ей хотелось как-нибудь особенно напомнить о себе. Пошло было бы прислать поздравительное письмо, и вот она придумала всю эту шутку. А в коробочке, может быть, ничего и нет.
Пестумский робко придвинулся к столу, приподнялся на цыпочках за стулом и посмотрел. Тронуть он еще боялся. Но уже мог смотреть. Маленькое белое спокойно блестело под лампой на зеленом поле. С одного бока была разорванная красная печать. Увидев ее, Пестумский быстро отошел от стола. И вдруг ему стало страшно, одному, в этой комнате, со смертью на столе, с воспоминанием о странной гостье, с самим собой, потерявшим все равновесие и спокойствие, и, теряя способность сдерживаться дальше, он закричал коротким, острым криком, как будто невидимая стрела ранила его смертельно. Но на крик никто не пришел: тяжелые портьеры и закрытые двери, вероятно, заглушили его. Тогда страх одиночества охватил Пестумского еще сильней и, собирая остаток сил, он подошел к звонку и нажал его несколько раз порывисто и долго. На звонок, промедлив немного, вошла жена, почему-то бледная и расстроенная, с дрожащими руками. И как чужие, стали они друг перед другом, не зная, что сказать, что сделать, не умея больше взять друг друга за руку.
— Хочешь чаю? — спросила она сдавленным трепетным голосом.
— Да.
— Я слышала, как она ушла. Я думала, что ты работаешь…
— Да, да. Я работал. Ненужную тяжелую работу. Уведи меня от нее. Возьми.
И он придвинулся ближе. Но как неумелы, в сравнении с тихой лаской ушедшей, были ласки жены.
Какая она была смущенная, чужая!
Пестумский отстранился.
Она колебалась и, видимо, хотела что-то сказать.
Он посмотрел на нее и спросил:
— Да что с тобой?
— Ничего… Только тут, у нас на лестнице… случилось…
— Что?!.
И, согнувшись, со впавшими вдруг глазами, Пестумский ждал ответа, как приговора над своей жизнью.
— Никто не видел, как она приходила?! — испуганно проговорила жена.
— Никто.
— Она упала на лестнице…
— Ну?
— И умерла.
Пестумский выпрямился и побледнел. Черты его похудевшего лица расправились и стали строгими, как никогда. Жена договаривала:
— Подумали, что она приходила наверх… к студентам… Боже… Ты не беспокойся…
Пестумский, не слушая, быстрым, чужим взглядом окинул жену, стоявшую перед ним виновато, в простом платье, без прически, и сказал:
— Ты сделаешь чай? Я сейчас уйду.
— Приду, — поправила она… — Успокойся! Успокойся, милый! — И вышла сама, вдруг успокоившись, тихо, уверенная в счастливой и долгой их жизни так же крепко, как в наступающей ночи. Слышно было, как шаги ее проплыли в тишине, и потом звякнули где- то стаканы.
Быстрыми, кошачьими движениями подкрался Пестумский к письменному столу и цепко схватил длинными пальцами коробочку. Сел в кресло и открыл. На дне лежал блестящий, заманчивый шарик. Жалкая гримаса, как у ребенка, у которого отбирают игрушки, искривила его лицо, когда ясно очерченные губы скрыли за собой блестящий шарик. Он исполнил обещание.
Протяжно и торжественно стали бить часы над ним, отсчитывая двадцать седьмой и последний год его жизни.
Сергей Городецкий ТАЙНАЯ ПРАВДА
1
Жадными глазами пробегая прибавление к вечерней газете, только что купленной на улице, Костя подымался по лестнице к квартире своих друзей, у которых жил.
В донесении штаба Главнокомандующего опять говорилось о мелких стычках, и Костя был этим разочарован. Он ждал гигантского боя и представлял себя его участником с той страстностью, с какой мечтают только о том, что никогда заведомо не сбудется.
Костя был хром и уйти на войну не мог. Ушел на войну его друг по гимназии и университету, с которым он с детских лет жил душа в душу, Витя. Соединяло их сходство характеров, взглядов, привычек, и столь тесно, что, когда Витя ушел, его мать, вдова, предложила Косте поселиться у них.
В минуты, когда особенно злая досада брала Костю на то, что он не на войне, — он логически утешал себя тем, что его ближайший друг воюет. Но душа его на этом не успокаивалась.
Душа его так же, как и Витина, гармонически соединяла в себе созерцательность с любовью к деятельности. Часами друзья могли предаваться беседам о том, что дала человеческая мудрость, но как только они во что-нибудь уверовали, у них являлась потребность делом доказать свою веру. Но тут часто мешала Косте хромота. Он в делах отставал от друга. Зато сильнее развивалась в нем душевная жизнь, как всегда это бывает у людей с физическим недостатком. Впервые резко почувствовал эту разницу Костя по окончании гимназии. Они тогда решили, что России нужнее всего железные дороги, и оба выдержали в институт путей сообщения. Но как только начались практические занятия, Костя отстал и должен был переменить профессию. Он поступил на филологический факультет и увлекся психологией. Показалось ему, что в этой зачаточной науке больше, чем в какой-либо иной, он найдет применения и созерцательной, и деятельной сторонам своей души.
Друзья виделись часто, и общая жизнь их, несмотря на различие ближайших интересов, опять начала налаживаться.
Но загорелась война, и Костя вторично — и на этот раз гораздо больней — почувствовал свою оторванность и от друга, который в первые же дни записался добровольцем, и от деятельной жизни, которая возникла в России с началом войны.
Было это ему тем мучительней, что никогда не представлялось и никогда в будущем не могло больше представиться такого яркого случая проявить согласованность веры с делом тем, кто ее, как Витя и Костя, имели.
Веровали Витя и Костя и до войны еще, что не во внешнем техническом прогрессе, достигнутом германской расой, просвечивает будущее Европы, а в глубинах славянского духа и в молодой русской культуре. Столкновение славянства с германством встречено ими было радостно, и радостно готовы оба были бросить свои жизни на славянскую чашку бурно заколебавшихся весов мира.
Но исполнить это мог только Витя. Костя остался в бездействии и созерцании. Действием для него было только одно: взять ружье и идти. Правда, первое время он начал работу в комитетах, делал обходы, участвовал в кружечных сборах.
Но эти малые дела так непохожи была на те великие, о которых он мечтал, что он скоро оставил их.
Друзья переписывались, и связь между ними не прерывалась.
Временами подолгу не приходило писем от Вити. Тогда Костя вспоминал с тоской последнюю фразу, сказанную другом перед разлукой:
— Если я буду убит…
Конца не услышал Костя: тронулся поезд, поднялся шум, и тщетно хотел Костя хоть на лице друга прочесть конец его его мысли. Бледное лицо Вити улыбнулось и скрылось. Не то виноватое, не то обещающее было выражение этой улыбки, и Костя хорошо его запомнил.
2
Пробежав газету глазами, Костя позвонил довольно робко.
Было уже поздно, и ему было неловко возвращаться в чужой, все-таки, дом, когда все, вероятно, спят.
К удивлению его, в передней был огонь, и из гостиной доносились голоса.
— Костя, это вы? — спросила Витина мать, Марфа Николаевна, — какие новости? Входите сюда и рассказывайте.
Костя разделся и вошел в гостиную нехотя, потому что его тянуло к меланхолическому уединению. В гостиной он застал небольшое общество. Вокруг Марфы Николаевны сидели: доктор Красик, человек, несмотря на свою старость, с ярко-черными волосами и, несмотря на жизнь в городе, с сильно загоревшим лицом; Васса Петровна, дальняя Марфы Николаевны родственница, которую Костя терпеть не мог за один вид ее — подобострастной приживалки; и Пенкин, товарищ Вити по институту, фатоватый юноша, очень тщательно причесанный и слишком всегда почтительно целующий ручки Марфе Николаевне. Его Костя тоже не любил.
Костю заставили рассказать ночные новости с войны. Он вяло это исполнил и хотел уйти, но Марфа Николаевна остановила его:
— Посидите с нами. Мы интересные вещи обсуждаем. Послушайте, что начала рассказывать Васса Петровна! Только ты с начала начни, — обратилась она к ней.
Костя со вздохом опустился в указанное ему кресло, а Васса Петровна начала снова прерванный приходом Кости рассказ:
— Мать моя, — начала она с некрасивым жестом, как бы вынимая из себя слова, и срывающимся тоном, как будто ей никто и поверить не мог, что у нее была мать, — мать моя жила отдельно, и я сама отдельно. Ложусь я спать, надо сказать, поздно.
Она улыбнулась, как бы извиняясь, что рассказывает про себя, девушку, еще не сознавшую своей старости, такие подробности, и продолжала:
— Часу во втором ложусь. А все в том доме, где я жила, ложились рано, и никто уж к нам прийти не мог. Дверь, конечно, на запоре и на задвижке, и на цепочке. Все, повторяю, спят. И вдруг звонок.
Она привскочила на кресле и энергично дернула воздух, как дергают ручку звонка.
— Я к дверям. Спрашиваю: кто там? Слышу, что никого нет, да и быть не могло.
— Так это кто-нибудь пошалил, Васса Петровна, вот и все! — вскричал весело путеец Пенкин и обвел всех глазами, делая их страшными, — а вот я расскажу…
— Нет уж, дайте мне кончить! — обиженно сказала Васса Петровна, вся покрасневшая от удовольствия, что она в таком светском обществе рассказывает такую интересную историю из собственной жизни.
— Докончу, тогда и замолчу!
— Досказывай, досказывай! — поощрила ее Марфа Николаевна.
— На этой лестнице только наша квартира была, и входную дверь внизу мы сами запирали, — рассказывала Васса Петровна. — Никакой хулиган не мог забраться и позвонить. Это был не человеческий звонок!
Она сделала паузу и продолжала пониженным голосом:
— Не к добру это, подумала я и заснула. Утром просыпаюсь — телеграмма от сестры, что мать моя умерла. Еду к ней и узнаю, что как раз в том часу, когда был звонок, она повесилась. Вот и говорите тут, что нет чудес!
Конец рассказа был неожиданным. Все молчали. Марфа Николаевна чувствовала некоторое неприличие в том, что ее близкой подруги мать умерла так вульгарно — повесилась!
— Теперь — ваш рассказ! — обратилась она к путейцу.
Пенкин, поклонившись ей, деланно-докладным тоном проговорил приготовленные слова:
— Мой случай занял бы в телепатии не первое место — где-нибудь рядом с случаем Вассы, если не ошибаюсь, Петровны. Случай следующий. Я сообщу его с краткостью документа. 13-го ноября девятьсот тринадцатого года — я помню эти числа, потому что цифры дня и года совпадают — умер мой дядя, с которым я виделся незадолго до его смерти. По записи сиделки, умер он половина пятого утра. Половина пятого утра я проснулся от того, что меня кто-то позвал громко, по уменьшительному имени, как меня звали в детстве. Вот и все. Час я заметил, взглянув на часы, висящие всегда ночью над кроватью. Явление, как видите, не очень сложное, но очень четкое.
Он кончил и, обведя всех глазами, остановился на докторе, внимательно его слушавшем.
— Очень интересно! — с таким видом, как будто съела конфету, поощрила Пенкина Марфа Николаевна. — Ну, что вы скажете на все это, доктор?
Доктор еще молчал.
Ненавидя молчание в своей гостиной сильней, чем природа в своем царстве пустоту, Марфа Николаевна обратилась к Косте, скучавшему, выдавая скуку за задумчивость, в своем кресле:
— Вы знаете, наш доктор — необыкновенный доктор. Он друг факиров.
— Вот как? — немного заинтересовываясь, поддержал разговор Костя.
— Да! И он может прокалывать себе горло и щеки простой шляпной булавкой.
— Ах, какой ужас! — взвизгнула Васса Петровна.
— Не визжи! — остановила ее Марфа Николаевна. — Кровь не идет при этом. Вы, кажется, хотите что-то сказать, доктор?
Каждое слово подавая, как повар вкусное блюдо, доктор сказал:
— Только одно, Марфа Николаевна! А именно: не удивляйтесь, но изучайте. Прежним людям все, что мы знаем теперь, как азбуку, показалось бы чертовщиной. Поэтому и мы не должны считать чудесами случаи, рассказанные господином Пенкиным и Вассой Петровной. Кое-что в этой области мы уже знаем. Телепатия уже наука. Подобно тому, как радий испускает безостановочно лучи, излучает какую-то энергию и ваш мозг. Мы только не умеем еще улавливать эти мозговые лучи. Только случайно, когда удачно слагается обстановка, мы их улавливаем. Но бессознательно мы и теперь кое-что подметили и употребляем в повседневной жизни. Мы любим картины великих художников. В них есть для нас притягательная сила. Должно быть, они хороши не только тем, что их краски красивы, но и тем, что на них наслоилась энергия, излученная мозгом и глазами художника. По тому же самому волнуют нас предметы старины и вещи великих людей. Все это еще не изучено. Но когда будет изучено, мы будем пользоваться лучами нашего мозга легче, чем почтой и телеграфом. Повторяю, нужно усовершенствовать восприемники, ибо отправители действуют с сотворения мира. Я думаю, что нынешняя война, когда психическая жизнь целых наций находится в повышенном возбужденном состоянии, даст много нового в области телепатии, даст много такого, перед чем рассказанные здесь случаи будут казаться детским лепетом. Я, по обыкновению, заговорился и произнес целую лекцию вместо одного слова. Я его повторю и им закончу: не удивляйтесь, но наблюдайте и изучайте, в мире много еще тайной правды, которую мы должны открыть. Засим, позвольте закурить.
— Пожалуйста! — сказала Марфа Николаевна, подвигая доктору пепельницу. — Вы удивительно интересно все объяснили!
— Не понимаю, — опять обижаясь, сказала Васса Петровна, — как это может мозговой луч за звонок дернуть?
— А вы наблюдали уже что-нибудь за время войны? Или, может быть, вам сообщали о каких-нибудь фактах? — спросил доктора Пенкин.
Доктор задумался, как бы скупясь рассказывать.
Костя был несколько растревожен рассказами доктора. Весь день сегодня был он в странной сосредоточенности. Не от того ли, что друг его думает о нем? Может быть, он сегодня в опасности? Но ведь большого боя нет. И потом вся эта телепатия вовсе еще не наука, как уверяет доктор. Просто это непроверенные факты. А странное состояние сегодня от усталости. Надо пойти к себе в комнату и лечь спать.
Костя встал и начал прощаться.
— Как, вы не хотите еще слушать доктора? — задержала его Марфа Николаевна.
— Я очень устал. Я извиняюсь, — ответил Костя и прошел к себе.
Доктор не хотел больше рассказывать, как его ни упрашивали.
3
Костя прошел в свою комнату, которая прежде была Витиной, быстро разделся и лег в кровать. Но уснуть не мог.
— Переутомился, — подумал он, — надо забыть про то, что пора спать, тогда сон придет.
Он встал, надел халат и сел за стол.
Стол стоял посреди комнаты, все в нем было, как при Вите, только прибавился портрет Вити в рамке георгиевских цветов.
Небольшая зеленая лампочка уютно освещала комнату. В углах гнездились мягкие, зыбкие тени.
«Наверное, — подумал Костя, — когда являются привидения, так они начинают в тенях, то есть мы сами хотим что-то увидеть в тенях и, наконец, видим. Но почему я думаю об этом? Все глупые рассказы и докторские фантазии. Нужно же поддерживать разговор в гостиной! Лучше бы о войне говорили».
Костя придвинул блокнот, начертил течение Бзуры и стал проектировать обходы. Ведь стратегу можно быть хромым, и сладкая надежда чудом попасть в какой-нибудь штаб и там удивить всех знанием стратегии и талантом к ней, не покидала Костю. Он углубился в чертежи.
Прошло, — никогда не знал он сам потом, — сколько времени, и вдруг он поднял глаза по неодолимому внутреннему велению.
Перед столом, в нескольких шагах перед ним, стоял Витя. Он не из теней сгустился, не от стены отделился, а вошел, как входит всякий человек, и, поднимая глаза, Костя, казалось, успел заметить последние его шаги перед тем, как он остановился.
Он был совсем такой, как на вокзале в минуту отъезда, такой же бледный и с той же не то извиняющейся, не то обещающей что-то улыбкой. Впрочем, ничего частного ни в одежде, ни в выражении Костя не заметил. Костя увидел и понял только одно, что перед ним стоит Витя.
И в ту же минуту он услышал два слова, сказанные Витей обычным голосом, как он всегда звучал в этой комнате:
— Я убит.
И больше не было его в комнате. Он ушел так же мгновенно, как вошел.
В тоске, более сильной, чем страх, выскочил Костя из-за стола, пробежал по комнате и коридору до столовой. Никого нигде не было. Гости давно ушли, и огонь везде был погашен. Из комнаты Марфы Николаевны шел узкий красный свет. Это она молилась под лампадами о сыне своем.
Первым движением Кости, когда он опомнился, было броситься к ней, но у него не хватило мужества. Все, что случилось, было слишком реально для того, чтобы Костя сам мог не поверить. Но матери сказать он не решился.
В тягчайших муках дождался он дня. Под пыткой ожидания стал он жить. От Вити по-прежнему пришло письмо, но было оно последним. Через несколько дней он был опубликован в списке без вести пропавших. А потом стали известны и подробности того, как он погиб на разведке, в ту ночь, когда привиделся Косте.
Даже глядя на траур и слезы Марфы Николаевны, Костя не сказал ей про то, что было. Тайна явления друга стала самым важным в его жизни. Он усиленно стал изучать душевную человеческую жизнь, чтобы ускорить будущее, когда откроется тайная правда.
Сергей Городецкий ПОРТРЕТ УМИРАЮЩЕЙ
Илл. Е. Нимич
В огромном, заставленном книгами и завешенном портретами кабинете доктора каждый четверг собирались его друзья — писатели, художники и актеры. Доктор и себя самого считал более артистом, чем врачом, потому что его специальность была хирургия. Он не чужд был и поэзии: писал шутливые стихи, а большие, в красном сафьяне, тома его мемуаров давно составляли предмет вожделения историков литературы.
В один из зимних четвергов зашел горячий спор о том, как трудно стать настоящим, уверенным в себе художником. Много говорили на эту тему, час был уже поздний. Доктор, против обыкновения, слушал молча. Наконец, когда гости собирались уходить, он попросил их остаться и выслушать рассказ об одном его пациенте.
Случаи в его практике, действительно, бывали необыкновенные. Он обладал чуткой ко всему человеческому душой, он во многом напоминал московского доктора Гааза, и судьба за это часто давала ему возможность заглядывать в тайники жизни.
Все охотно, несмотря на усталость, стали его слушать.
— Да, — сказал доктор, — трудно стать художником. Но еще труднее, — знаете что? Перестать был художником. Чей мозг узнал, что такое творчество, тот никогда не избавится от особенной, странной болезни, — поэзомании, как я бы ее назвал. Вот один из примеров. Несколько лет тому назад я был приглашен на юг, в имение, к забытому мною прежнему приятелю, обладателю великолепного имения. Впрочем, нет, я должен начать не отсюда. Я должен попросить вас перенестись мысленно к началу нашего, двадцатого века, то есть лет на двадцать назад, к тому времени, когда все мы были молоды, не лысы и не седы. Я был тогда домашним врачом у дряхлой графини, прикованной к постели. Это было мучительно — состоять при ней. Каждый вечер я должен был являться к ее особняку на набережной и оставаться там до утра. Каждую минуту меня могли будить и звать к больной. Это была настоящая школа терпения. Пустынные залы со старинной мебелью, лакеи, похожие на мумий, музыкальный бой часов, все это, правда, создавало известное настроение, но пытка бессонницы мало способствовала восприятию тонких настроений.
Графиня была в параличе. Только при том уходе, который ее окружал, могла еще теплиться жизнь в этом полумертвом теле. Она с трудом говорила и могла одной рукой делать знаки, стучать по столу. Но я, кажется, вдаюсь в подробности, удаляющие от рассказа. В один прекрасный день она пожелала, чтобы с нее был написан портрет. Это было странное желание. Портреты ее в молодости и в средних годах украшали галерею дома. Были отличные фотографии последних перед болезнью лет. Но писать с нее портрет теперь могло бы заинтересовать только художника вроде Гойи. Трудность заключалась еще в том, что даже теперь в графине сохранялось женское кокетство и быть на портрете прикрашенной ей хотелось, наверное, не менее, чем лет в тридцать или сорок. Представьте себе голый череп в чепчике из драгоценных кружев, сморщенный лоб, два седых клока над глазами, из которых один сильно косит, крючковатый и немного вбок нос, провалившиеся щеки, тонкий длинный рот и маленький заостренный подбородок — и вы поймете, какую натуру я мог предложить художнику.
Сначала мы предложили обратиться к знаменитостям, но Серов был уже давно в могиле, а смелые приемы Репина никогда не нравились графине. Тогда я вспомнил про одного молодого, совсем еще неизвестного художника, который специализировался на передаче эпидермы, то есть кожи. Пушистую девичью щеку он умел нарисовать так же хорошо, как сморщенную старушечью. Я не скажу вам больше ничего, потому что он и теперь здравствует, и картины его вы можете видеть в наших музеях на видном месте. Будем звать его Вадимом. Так звали его сына, которого родила ему служанка и которого я при всех стараниях не мог спасти для жизни. Это был короткий и тяжелый роман, но не в нем дело. Вадим жил в мансарде. Его комната была мала, сыра, темна. Как сейчас помню неуклюжий шкаф, стоявший посередине, к которому он прикреплял свои холсты. Постель была завалена платьем, а в шкафу на дне стояли грязные тарелки и стаканы, пустые бутылки. Пол завален был этюдами. Вадим числился учеником академии, но работал самостоятельно. Бедствовал он страшно. После некоторых колебаний графиня согласилась пригласить его. Мне даже показалось, что ей было приятно соглашаться позировать молодому художнику, и ломалась она из упрямства. Вадим принял этот заказ, как знак милости к нему высших сил, в которые он, увлекаясь оккультизмом, верил. Он приготовил холст, и я его повез на первый сеанс. Встреча художника с натурой была замечательна. Графиня, казалось, насквозь его пронизала острыми своими глазами, и на губах ее появилась гримаса, которой я раньше не замечал. Она старалась скрыть свое волнение и рассердилась, когда я попробовал пульс. Вадим готов был отшатнуться, увидав ее в первый раз, но художник поборол в нем человека, и он принялся за работу далеко не с холодом. К концу сеанса она попросила меня оставить ее наедине с художником для окончательного разговора об условиях. Я был удивлен. Вадим вышел от нее с видом человека, продавшего душу черту. Он мне сказал, что плата за портрет, и без того значительная, ему будет удвоена, если он передаст желаемое выражение лица. Какое именно, он не сказал. Я остался в недоумении. Сеансы продолжались, но я на них не присутствовал. Портрет стоял в комнате графини, всегда закрытый! Она все время беспокоилась, чтобы кто-нибудь не опрокинул мольберта, не подсмотрел бы работу. Сеансы, как я заметил вскоре, изнуряли одинаково сильно и художника и натуру. Для Вадима ничего не существовало более, кроме этого портрета. Графиня позировала два раза в день, а остальное время отдыхала. Организм ее, как будто потрясаемый какими-то слишком острыми переживаниями, разрушался все более. Она торопила Вадима. Он исхудал, и чем ближе работа подвигалась к концу, тем больше становился он похожим на сумасшедшего. Душевный мир его никогда не отличался равновесием, а теперь был окончательно растревожен!.. Графиня спешно заказала раму для портрета и ящик для упаковки его. Когда Вадим узнал, что портрет куда-то отправляют, он пришел в ужас. В эту ночь я его не отпустил домой и оставил в своем кабинете. Он был возбужден и говорил многое, что в другое время не поведал бы никому. Меня уже начинала сердить вся эта история с портретом.
— Хотите, я вам скажу, что я должен изобразить на портрете графини? — спросил меня внезапно Вадим.
И прежде, чем я ответил ему, им овладел припадок смеха. Такой хохот я наблюдал только в палатах душевнобольных.
Оправившись, Вадим сказал:
— Я должен придать лицу графини на портрете, по тексту нашего условия, выражение нежное и страстное.
Как только он это сказал, лоб его насупился, губы задрожали, он готов был разрыдаться.
— Я понимаю, — сказал он, — графиня хочет отправить портрет кому-то, кого любила, и весь этот заказ не что иное, как развязка любовного приключения в старинном духе. Но, понимаете ли вы, я не могу расстаться с портретом. Он Он мне нужнее, я в нем поборол форму. Да! Я исполнил ее желание. Я нарисовал это чудовище с нежным и страстным выражением. Если у меня отнимут портрет, я брошу живопись, потому что для меня будут потеряны все пути. Я не отдам портрет, не отдам!
Он стукнул кулаком по маленькому столику, около которого стоял. Несколько камешков инкрустации выскочили и упали на пол. Раздалось три мелодических звонка: так меня звали к графине. Я был, как всегда, в белом халате, и тотчас вышел. Графиня обнаружила беспокойство. Ей, как бывало это часто, показалось, что она умирает. Она велела открыть мне портрет и, не смотря на него, сожалела, что он еще не окончен вполне.
Я имел неосторожность сказать, что художник здесь. Она тотчас пожелала позировать. Потом она сказала мне, показывая какой-то конверт голубого цвета:
— На случай нежелательного исхода (так всегда она говорила о своей смерти) вот письмо, — по этому же адресу я прошу вас отправить и портрет.
Я молча поклонился и привел ей Вадима.
Минут двадцать я провел у себя в кабинете, перебирая народные песни своей записи. Вдруг ко мне вошел лакей и с обычным видом доложил:
— Графиня скончалась!
Я бросился к ней. Мольберт был пусть. Вадима не было. Графиня лежала на постели, как будто отброшенная сильным ударом. В одной руке ее, судорожно сжатой, виднелись обрывки того голубого конверта, который она мне показывала. Тело ее еще не остыло. Я констатировал смерть от кровоизлияния в мозг — это был тот конец, которого я ожидал. Мои обязанности были окончены, я переехал на свою квартиру.
На другой день я пошел к Вадиму. Он не пустил меня в свою комнату, мы переговаривались через дверь. Он сознался, что портрет у него, но не показал мне его, несмотря на все мои просьбы. Я рассердился и ушел, решив забыть о всем этом.
Прошло полгода. Вдруг ночью меня вызывают по телефону в дом графини. Я еду со странными предчувствиями. Молчаливый, полутемный зал перед комнатой графини — все тот же. Я вхожу в комнату, в ней все по-прежнему. На полу сидит человек, связанный полотенцами по рукам и ногам, волосы закрывают его лицо. Он бьется и кричит. Перед ним, на мольберте, портрет, которого я еще не видал.
Я не могу сказать, что было страшнее: то ли, когда я в связанном душевнобольном узнал Вадима, или то, когда я увидел графиню на портрете.
Но обязанности врача заслонили все остальное. Вадим меня не узнал. В карете скорой помощи я его отвез в больницу. Около двух лет провел он там…
Я до сих пор не вполне отчетливо знаю, что случилось. Мне удалось установить следующие факты. После смерти графини Вадим работал вдохновенно и все, что он создал, — он создал в это время. Месяцев через пять вернулся из поездки в Индию сын графини. Он узнал о существовании портрета. Вадим отказался продать его. Через некоторое время мансарда Вадима сгорела в его отсутствие. Осталось только то, что он успел продать из своих картин. Несомненно, что тут был поджог: портрет, как вы уже знаете, оказался в комнате графини. Вадим пришел туда, я думаю, желая восстановить свои переживания.
История его душевной болезни свелась к борьбе художника с человеком. Он был здоров — он и сейчас отлично хозяйничает в своем имении — тогда, когда забывал про существование живописи. Но один вид красок или палитры делал его сумасшедшим. За эти двадцать лет были четыре острых приступа болезни и несколько слабых. Но, к счастью, lucida intervalla, то есть промежутки здорового сознания, делаются все длиннее. Я не рассказываю, как я вылечил Вадима — это тема нового моего специального исследования — скажу только, что все лечение сводилось к одному, чтобы Вадим перестал быть художником. И еще скажу, что курс его лечения, хотя и увенчался успехом, но был труден беспримерно. По-видимому, черты, присущие художнику, свойственны самой человеческой природе…
Когда доктор кончил свой рассказ, кто-то спросил:
— А что же было в голубом конверте?
— Я не знаю, что именно, — ответил доктор, — но это был любопытнейший человеческий документ: любовное признание полутрупа. Наверное, оно было не менее ужасно, чем выражение лица на портрете.
Сергей Городецкий ГОЛУБАЯ ВУАЛЬ
Илл. И. Гранди
I
Во всяком городе можно быть счастливым, но нигде счастье не бывает таким полным и беззастенчивым, как в Венеции.
Отошли в вечность вопли и вздохи страдальцев, замученных в каменных подземельях или задохшихся в свинцовых чердаках дворца Дожей. Но привычка к пышной праздности, к бесконечным наслаждениям осталась в воздухе, в дивном истомленном страстью небе, в зачарованных каналах и дворцах и в черной гондоле, — этой колыбели приключений.
И мудро делают влюбленные, слетаясь сюда со всех концов света сжигать дни любви…
II
Весенним вечером, когда цвет неба заметно зеленеет, а лагуна так тиха, как само же это зеленое небо, высокий гондольер ловко и быстро подвел гондолу к набережной.
Из нее вышли двое.
Женщина пугливо прижималась к мужчине, как бы ища у него защиты, и беспокойно оглядывалась.
Она была очень молода и красива, той чистой красотой, которая еще родится в глуши России, в последних дворянских гнездах.
Глаза у нее были почти синие, а от испуга они налились темнотой и казались огромными. Овал лица был еще девически, если не детски, мягок. Небольшой тонкогубый рот был полуоткрыт, как у напуганного ребенка.
Черно-синий бархат ее костюма подчеркивал бледность ее щек и маленьких рук, теребивших шнурок венецианского ридикюля.
Ее спутник, слегка склоняясь к ней большим своим телом, видимо, старался ее успокоить. Но на его открытом загорелом лице можно было заметить тревогу.
Он был в просторном, легком пальто и правую руку держал в кармане. Под тканью пальто отчетливо намечался контур револьвера.
Сезон еще не начинался, на Пьяццале было пустынно.
Они быстро, почти бегом, прошли между колонн и пошли дальше, не подымал глаз на кружевной дворец Дожей.
Дойдя до св. Марка, они оба обернулись к лагуне.
— Я вижу его гондолу! Сейчас причалит! — почти в ужасе воскликнула женщина, сжимая руку своего спутника.
И мимо св. Марка, не глядя на его мозаики, они еще быстрей пустились дальше.
Какая-то англичанка приготовилась позировать фотографу, окруженная голубями.
Они спугнули всю стаю. Англичанка сделала гримасу.
— Russi! Русские! — пожал плечами итальянец-фотограф и театральным жестом рассыпал корм, чтобы голуби опять слетелись.
Под Башней Часов они еще на минуту остановились и тотчас смешались с толпой в узкой улице.
Перейдя несколько высоких мостиков, ежеминутно сворачивая в сторону, куда попало, они пришли в глухой квартал. Улицы стали грязными коридорами, в которых не было ни магазинов, ни международной толпы. Нередко попадались навстречу или стояли в дверях своих жилищ венецианцы. Шел старик в плаще. Грязные дети со спутанными волосами протягивали ручонки. Оборванный художник набрасывал этюд. Воздух был спертый, тяжелый. Шаги звенели, как в пустой церкви. Из каналов, из всех углов пахло сыростью. Из маленьких тратторий — вином, сыром и кипящим маслом.
Вдруг улица-коридор вывела на небольшую площадь. Посреди нее был оправленный мрамором источник. Черноокая девочка, красиво сложив руки, смотрела, как прозрачная струя лилась в ее кувшин. Кроме нее, никого на всей площади не было. Прекрасный скульптурный фасад старой церкви подымался мрачно и величественно. Позеленевшие двери были наглухо закрыты. Около двери стояла стертая мраморная скамья с головами дремлющих львов на ножках. Дома вокруг стояли, как мертвые. Большая мраморная доска была вделана в стену одного из них, чтобы возвещать громко название площади крупными буквами. Тишина была здесь такая, как в самом дальнем зале давно опустевшего дворца. Вверху разливалось зеленоватое небо, внизу струя воды звенела, и девочка стояла над ней, как статуя.
Вот вода наполнила ее кувшин, она гибко наклонилась, подняла на плечо и ушла, как серна в свой лес.
Стало совсем пустынно.
— Здесь ты не будешь бояться, родная моя? Сядем на скамейку: смотри, какие львы!
— Здесь так хорошо! Здесь не страшно…
— Я ведь уверен, что тебе показалось, что ничего не было. Ты только заразила меня своим страхом.
— Нет! Это был он, это был он! Я слышала, как он сказал своему гондольеру: «Скорее, мерзавец!» Он всегда бранит слуг этим словом. И это был его голос. А когда его гондола настигла нас, я сквозь свою вуаль увидела его лицо. Ведь я же знаю эти глаза, эту бороду! Он был бледен от гнева, как в последнюю ночь, которую я провела дома.
— Мария, родная моя! Все равно, если даже это был он, успокойся, — я не отдам тебя, я защищу тебя. Ведь смог же я отнять тебя у него, это было гораздо труднее. А теперь, когда я узнал тебя, когда только начинается наше счастье, я буду защищать тебя. Как этот лев! Смотри: он дремлет, но сколько силы в нем, сколько смелости и осторожности…
— Александр! Я люблю тебя, я верю тебе. Ты мой защитник, ты мой спаситель. Но отчего же сердце мое полно тревогой, я дрожу от предчувствий скорой гибели… Уедем сейчас, бежим отсюда… Пока он здесь, у меня не будет минуты покоя. Он до сентиментализма нежен, но и жесток, как зверь. Бежим отсюда!
— Как, опять? Ведь мы вчера только приехали, еще ничего не видели… И потом, разве ты не устала от этой скачки? Из Рима мы бежали, из Флоренции мы бежали… И куда же теперь бежать?
— В горы! Увези меня в горы, в дикое место.
— В Европе нет дикого места.
— Поедем в море, на Корсику…
— Он сядет на тот же пароход. Он хитер, и у него шпионы. Но, конечно, если ты хочешь, мы завтра же уедем отсюда.
— Сегодня, сейчас…
— Это невозможно, Мария. Тебе надо отдохнуть, успокоиться.
— Если он здесь, он уже знает, где мы остановились.
— Я защищу тебя.
— Ты не покинешь меня ни на минуту?
— Ни на мгновенье!
— Милый мой, любимый мой…
Она положила голову свою ему на грудь, вздохнула сначала устало, потом счастливо. Закрыла глаза, открыла их и подняла на пего. В синеве ее зрачков сияло счастье. Небо, отражаясь в них, делало их еще более лучистыми.
Сумерки клубились в углублениях мрамора на фасаде собора. Фигуры святых стали сосредоточеннее и живее. Звери насторожились, готовые зашевелиться. Издалека пробили мелодичные часы. Вода журчала, не умолкая. В глуби переулков показались желтые огни, кое-где зажглись и окна. Прибежал фонарщик с лестницей, зажег фонарь в углу площади, и сразу стало темно в других ее углах. Небо покрылось густой сине-зеленой краской. На мраморной скамье у старой церкви поцеловались.
— Ты меня любишь? Ты меня никому не отдашь?
— Никому не отдам…
— Как ты крепко обнимешь… Мне даже становится не страшно. И… смерти не отдашь?
— И смерти не отдам!
— Так обними же еще крепче. С тобой я ничего не боюсь. Я всегда буду с тобой!
Целуясь, они поднялись и долго стояли, не расплетая рук, в тени церкви. Вверху зажглись яркие, круглые звезды.
— Пойдем!
— Постой, я только этого льва поцелую.
И, соскользнув на каменные плиты, она поцеловала мраморного льва в полураскрытую пасть, еще не успевшую остыть от дневного солнца. Ей показалось, что зверь дохнул на нее своим звериным теплом.
Потом, под руку, они пошли наугад в темную щель улицы. Редкие фонари со стен освещали их путь. Вода в каналах была черная и страшная. Проблуждав довольно долго, они вышли на сильно освещенную и многолюдную улицу. Вечерняя толпа была наэлектризована жаждой страсти и приключений. Всюду мелькали горящие глава, возбужденные лица.
Александр и Мария шли, близко прижавшись друг к другу. Они забывали про свои страхи и заражались общим счастьем. Улица привела их на площадь. Посреди ее играл оркестр. Итальянцы слушали, не роняя ни одного звука. Под арками гудела толпа. Черные, с длинной бахромой, шали венецианок делали ее торжественной и своеобразной.
Мария влекла Александра домой, в свою гостиницу. Эта гостиница была вблизи площади, на шумной улице и канале. В их комнату был вход с канала, через маленькую старинную дверь. Им хотелось скорее остаться вдвоем. Быстро подойдя к двери, они не заметили ни гондолы, притаившейся под мостом, ни зорких глаз, следивших за ними с моста. Александр дернул ручку звонка. Он не звонил.
Мария постучала железным кольцом в дверь. Не отворяли. Тогда Александр зашел за угол, к главному подъезду, бывшему в нескольких шагах от их двери. Прошла минута или две, пока он позвал портье и велел отворить. Когда он вернулся, Марии не было. Она исчезла бесследно.
III
He веря глазам, он бросился к двери, думая, что Мария вошла уже. Дверь была закрыта, как и раньше, ее еще не успели отпереть. Набережная, где он стоял, была шириной в три шага, длиной не больше сажени. Одним концом она упиралась в стену, другой выходил на улицу. С одной стороны ее была гостиница, с другой решетка канала с лесенкой к воде.
В первое мгновение Александр подумал, что Мария упала в воду. Но тотчас ему стало ясно, что это не могло бы пройти незамеченным на таком многолюдном месте.
Портье, отворивший, наконец, дверь, ничего не мог ему сказать. У Александра было движение броситься к людям, снующим взад и вперед по мостику, но их поток переменился в эти одну или две минуты несколько раз.
Он похолодел от чувства безысходного ужаса. Ему показалось, что он теряет рассудок. Потом, преодолевая себя, он стал думать.
Ничего особенного, сколько-нибудь выдающегося из обычной уличной суеты, здесь не произошло. Иначе в то же мгновение собралась бы толпа.
Мария не могла не сопротивляться. Значит, ее невозможно было, не привлекая внимания, увести по улице.
Оставалось одно: ее похитили на гондоле. Уплыть налево гондола не успела: она была бы видна еще на прямом канале. Значит, она ушла под мостик, за которым канал вскоре поворачивал.
Александр бросился к стоянке гондольеров, тут на углу, стал расспрашивать Но, плохо понимая язык, мог узнать только одно: что сейчас прошла крытая гондола, которая почему-то сильно качалась, как будто ее хотели перевернуть.
Он поплыл вдогонку. Но на первом же разветвлении каналов терялись все нити. Он поплыл наугад, ежеминутно меняя направления и умоляя грести скорее. Черная вода тяжело плескалась о борта, вздымались дома, то мертвые и темные, то кишащие людьми в освещенных окнах. Наконец, гондольер отказался продолжать эту погоню.
Александр вышел, сделал несколько шагов, прислонился к стене. Его толкнули. Он тихо пошел, куда вела его улица. Внутри него была странная тишина. Он еще не поверил, что Марии нет с ним. Он еще чувствовал ее руку в своей руке, ее плечо у своей груди. И боялся малейшим движением души или тела спугнуть это ощущение памяти и тем приблизить страшную минуту, когда он должен будет осознать, что Марии с ним нет.
Совсем стемнело. Редкие встречные пугали, как призраки. Скудный свет ложился пятнами на камни. Александр шел шатаясь, почти без памяти. Мгновениями ему начинало казаться, что Мария тут, с ним, ему стоит только наклонить голову, и он ощутит ее волосы своей щекой, стоит только прислушаться, и он услышит ее голос.
Он останавливался, рука его беспомощно хватала воздух, глаза блуждали, как у безумного. Так он стоял подолгу, не чувствуя времени, пока какой-нибудь звук или толчок прохожего не возвращал ему памяти.
Тогда он хватался за голову и быстрым шагом шел, не зная куда. Каждая тень, всякая фигура, мелькнувшая за углом или вдали, наполняла его сердце трепетом надежды. Он обгонял всех, кто шел впереди, заглядывал в лица, шептал бессвязные слова — слова любви, слова проклятий и угрозы, без конца повторял имя возлюбленной. Иногда, обессилев, он опускался на порог дома и сидел, пока его не сгоняли. Многие принимали его за сумасшедшего, убежавшего из-под надзора врачей.
Внезапно он услышал бой часов. Это пробудило его. Он не думал, что так поздно. Он вдруг понял, что каждая упущенная минута уменьшает надежды найти Марию, и, кидаясь к встречным, стал спрашивать, как пройти к его гостинице.
Через полчаса он был дома.
Тут же, в вестибюле, торопясь и путаясь в словах, рассказал, что случилось. В гостинице всполошились, затрещал телефон, за кем-то побежали. Александра окружили, утешали, ему давали советы и обещания, его расспрашивали, с его слов записывали, его интервьюировали и фотографировали. Потом куда-то увезли, опять расспрашивали и наскоро отпустили.
Только к полуночи, измученный и обессилевший, он вошел в свой номер. Везде были раскиданы вещи Марии. Голубая вуаль лежала на постели. Запах ее духов носился в комнате. Александр схватил ее платочек, прижал его к лицу и упал на ковер, потеряв сознание.
Когда он очнулся, было темно. Недоумевая, он приподнялся на ковре.
— Мария! — тихо позвал он.
Никто не ответил ему из темноты.
Он ощупью добрался до постели. Она еще не была открыта.
— Мария! — еще тише позвал он и, все вспомнив, в рыданиях упал на подушки. Еще вчера, ночью, Мария была здесь с ним, ее полосы раскидывались по этому полотну, ее дыхание, ее теплота были в этом воздухе. Заглушая рыдания, он притаился, стараясь вернуть эту ночь, всей силой воли и сознания пытаясь сплотить в одно все, что осталось в этой комнате от Марии, в ее вещах, на полотне ее постели, в самой темноте. Он терял себя, призывая ее. Лоб его покрылся холодными каплями. Он весь дрожал, а на спине чувствовал как бы мягкие и робкие прикосновения.
— Мария, ты? — скорей подумал, чем произнес он.
И в ту же минуту дикий ужас охватил его. Ему послышался едва уловимый шелест где-то вблизи или, может быть, вздох.
— Мария! — прошептал он и, не будучи в силах сдерживать нахлынувший страх, закричал, но голос изменил ему, издавая звуки, похожие на хрип животного.
Руки его судорожно впивались в подушку и простыню, головы он не смел приподнять, чувствуя что-то сзади, над собой.
В соседней комнате, за стеной, раздались голоса проснувшихся мужчины и женщины.
Александр тотчас оправился от страха. Отер лоб, перевел дыхание.
Темнота его комнаты опять была пуста, как лес, откуда только что спугнули птицу. Еще не луч, а первая серая мгла рассвета просилась в окно.
Александр перешел к дивану, сел на него.
— Что это было? — подумал он.
И жгучий стыд зажег его сердце и щеки.
Если ему все показалось, тогда не стыдно. Но если это была Мария или только дальняя, таинственная и неразгаданная весть от нее, тогда он преступник.
В невыразимом волнении он пытался сосредоточиться, опять собрать свои силы, но все было напрасно. Его мысли блуждали, его воображение то показывало ему Марию в горе и отчаянии, то окрыляло его надеждой, — боль настоящего сменялась воспоминаниями недавнего счастья. Наконец, он заснул от усталости, уронив голову на стол.
Наутро его разбудили стуком в дверь.
Ему сказали, что ночные розыски не дали никаких результатов, но надежда найти синьору не потеряна, и подали газеты.
Александр пробежал их. В каждой было по фантастическому рассказу об его несчастий. В одной был его портрет. В другой иллюстрация изображала похищение. Похищаемая была толстой и в кокошнике. К мучениям Александра прибавилась новая горечь.
IV
Прошло несколько дней. То в корчах отчаянья, то в трепете надежды, Александр не замечал их хода. Для него началась двойственная и страшная жизнь. Одна половина этой жизни была мучительно тяжелая. Целыми часами Александр просиживал в тупом одиночестве, целыми часами сомнамбулически бродил по Венеции.
От безысходных мук он покончил бы с собой, если б не было в его жизни другой половины — светлых мгновений, когда он вдруг начинал чувствовать около себя незримое присутствие Марии.
Тогда все существо его трепетало. Он забывал все внешние чувства, ничего не видел и не слышал, сосредоточиваясь на одном каком-то внутреннем чувстве, похожем и на слух и на зрение, но более утонченном и нежном. Ему также казалось, что тело его неосязаемо растет и распространяется в воздухе и всюду осязает так чутко, как на кончиках пальцев.
Тогда этим как бы вновь сотворенным существом своим он чувствовал Марию, созерцал ее, не видя, наслаждался голосом ее, не слыша, ласкал ее, не осязая. Это было одухотворенней и в то же время живее сна. Ничто из красоты Марии не ускользало от Александра. Даже казалось ему, что он лучше и полнее узнает ее. Раньше он знал ее душу и знал ее тело, теперь он касался Марии, как единой стихии, светлее тела и плотнее души. Если б он мог, он никогда бы не покидал этого блаженного состояния. Но оно налетало на него внезапно, почти помимо воли и, всегда встречая в нем радостную готовность, укреплялось и длилось минутами прекраснее и дольше вечности.
В первый раз это случилось на той площади, где он сидел с Марией под тенью старой церкви. Александр пришел туда случайно и тотчас был охвачен сладчайшим трепетом. Был такой же вечер, та же девочка пришла за водой. Он сел на скамейку со львами и, мертвея от счастья, почувствовал Марию…
Он пробыл долго на этом таинственном свидании. Очнувшись, ощущал печаль, усталость и примиренность.
Следующий день был томительно-пустым. Вести о розысках приходили одна другой неутешительней. Но Александр принимал их со странной невнимательностью. Он весь был полон внутренним ожиданием.
Он ничего не трогал в своей комнате и не пускал в нее никого, чтоб не потревожить вещей Марии, раскиданных ею самой.
Иногда позволял себе дотронуться до перчатки, взять в руки вуаль, поцеловать платье. Потом сосредоточивался в ожидании.
Он похудел и побледнел, приобрел вид приглядывающегося и насторожившегося человека, стал избегать людных мест и уходить вглубь Венеции, в рабочие кварталы, в переулки, где нет света, на грязные набережные, где ютится беднота, голодная и надменная.
Мгновенные ощущения Марии налетали на него нередко во время блужданий. Тогда он прислонялся к стене или перилам и стоял с закрытыми глазами и болезненно-счастливой улыбкой.
Однажды, очнувшись, он увидел перед собой старенького человека в истертом плаще. На губах его Александр узнал отражение своей улыбки. Лицо старика было измождено, голова тряслась и оборачивалась в сторону, взглядывая на кого-то, кого не было. Руки бегали по слоновому набалдашнику палки. Похож он был на доктора из старинных.
Это было на глухом мостике. В конце канала сияла лагуна.
Несколько минут они стояли молча друг против друга.
Дав Александру прийти в себя, старичок пожевал узкими губами и сказал довольным, несколько визгливым голосом:
— Bene, bene!
Потом быстро спросил по-немецки, понимает ли Александр этот язык.
Александр ответил утвердительно. Ему был приятен старичок. Ему показалось, что от него идут лучи не то теплоты, не то доброты.
— Доктор Альвиссен, — представился старик, — не слыхали?
— Нет…
— Ничего, ничего! Все услышат, все узнают. Скажите, с вами часто это бывает?
— Да, — тихо, как на исповеди, ответил Александр, сразу понимая, о чем идет речь.
— Удивительная сила. С вами чудеса можно делать. То есть не чудеса, а то, что считается чудесами в наш, то есть в ваш век.
Он захохотал змеиным смехом. На гладком лице его обнаружились бесчисленные, благообразно расположенные морщинки.
Александр тоже улыбнулся странной улыбкой. Со дня исчезновения Марии он ни с кем еще не говорил душевно.
— У вас несчастье?
— Да.
— Несчастье всегда источник новой жизни!
— Правда? — спросил Александр, загораясь надеждой.
— Человеческая правда! — ответил доктор Альвиссен. Они вышли к лагуне. Неподвижная вода, безоблачное небо лежали перед ними, как мир. Рыжие паруса огневели с краю вдали.
— Как зовут ее? — спросил доктор.
— Мария.
— Имя вечности, — торжественно сказал доктор. — Вы ведь не хотите оставить меня?
— Вы не оставьте меня! — воскликнул Александр. Старик стал ему дорог и близок.
— Тогда пойдемте!
Они вышли в полутемную улицу и в один из тех домов, где в нижних этажах живут без солнечного света.
Доктор отворил дверь старинным ключом, и они поднялись по узкой лестнице и вошли в маленькую квартиру с единственным узким окном в стену. В первой комнате можно было различить кровать, шкафы, столы и стулья. Вторая была темна. Они сели.
— Вы знаете, что вы медиум? — спросил доктор. — Я почти не обманываюсь в определении с первого взгляда. Вы никогда не участвовали в спиритических сеансах?
— Нет.
— Вы согласны сейчас устроить сеанс? Вы хотели бы видеть и ощущать кого либо из умерших?
— Разве она умерла? — в ужасе воскликнул Александр. Этой мысли он ч и допустить не мог.
— Друг мой! — сказал доктор. — Я ничего не знаю. Я шел мимо и почувствовал силу, потом увидел вас. Не скрою, мне около вас было заметно присутствие другого существа, женщины. Но в какой стадии бытия она находилась — в той ли, которую называют жизнью, или в другой, называемой смертью, — я определить не мог.
— А живых можно вызывать и чувствовать? — в том же ужасе спросил Александр.
— Может быть, — сказал доктор. — Это древняя мечта, но, кажется, она осуществима. Мне кажется, вы больше меня знаете об этом.
— Тогда скорей, скорей!..
Доктор зажег свечу, загоревшуюся красно-желтым огнем, и ввел Александра в соседнюю комнату. Она была почти пуста. Часть ее была отделена занавеской, перед которой стоял столик и три стула.
Доктор и Александр сели друг против друга, положив руки на стол.
— Силы, окружающие нас, придите! — призвал доктор.
Затем беззвучная тишина настала в комнате.
Это было тридцатого марта, по новому стилю, в шестом часу вечера.
Сеанс вышел неудачным и тяжелым для участников.
— Мария, Мария! — прошептал Александр, и обычное сознание его покинуло. Начались сумбурные, недобрые явления. Прикосновения были грубыми, стуки немелодичными; занавеска несколько раз вздымалась и слышался неприятный запах. Пламя свечи колебалось от волн, ходивших в воздухе.
На одно мгновение Александр почувствовал присутствие Марии, но тотчас какие-то темные силы оторвали его от нее, и она исчезла безвозвратно.
Доктор внимательно следил за Александром, перешептывался с кем-то.
Вдруг он воскликнул громко;
— Eins, zwei, drei! — и отнял руки от стола.
Александр проснулся. Они поспешно вышли из комнаты. Доктор открыл электрический свет. Кабинет его оказался уютным и удобным, как у истого немецкого ученого.
— Сеанс вышел заурядным и, значит, неудачным, — сказал он. — Вы, кажется утомлены очень?
Александр вспомнил, что он почти не ел эти дни.
— Да, — сказал он.
Его одолевала дремота.
— Вы где живете?
Александр сказал.
— Там остались какие-нибудь вещи Марии?
При одном имени ее Александр встрепенулся.
— Да. да! Там все нетронуто.
— Тогда идемте к вам, а по дороге я покажу вам, где умеют делать ризотто и выбирать вино.
Через час они входили в комнату Александра. Доктор внимательно и любовно осмотрел ее. Потом посадил Александра за стол, плотно задернул занавеси окон и алькова и сел рядом.
— Забудьте обо всем, кроме Марии, — сказал доктор.
— Забыл! — блаженно прошептал Александр, предчувствуя явление любимой.
В комнате было совершенно темно.
После некоторого молчания доктор спросил:
— Вы чувствуете что-нибудь?
— Я слышу ее шелест, ее голос, как будто она здесь, у постели, но я не могу говорить, потому что тогда я потеряю ее…
— Я больше не буду спрашивать, но вы соберите все силы, просите полного явления, полного воплощения, доступного не только вам…
В наступившей тишине Александр изредка вскрикивал. Он впал в обычное свое состояние, в котором чувствовал Марию. Только сегодня оно было длительнее и глубже. Уже всем существом он слышал ее, но, бессознательно исполняя совет доктора, он хотел, не теряя Марии, как бы вернуться в свои обычные пределы, не летать за ней, бесплотной, а вспомнить, что он сидит на определенном месте, за столом, и ее почувствовать тут же и так же, как себя.
Доктор, касаясь мизинцами его похолодевших мизинцев, помогал ему внушением.
Мария как будто сопротивлялась его желанию, как будто молила прожить минуту тайного свидания бесплотно и счастливо, как уж не раз. Александр настаивал, повинуясь чужой воле.
Тишину нарушило семь отдаленных ударов с башни часов.
Прошло еще несколько мгновений, и Александр почувствовал какую-то перемену. В душе пронесся ужас, как тогда, после исчезновения Марии.
По комнате медленно поплыли, на высоте человеческого роста, два небольших, чудесного цвета огня. Между ними было расстояние как между глаз.
Доктор почувствовал, что он улыбается.
Холодный ветерок пронесся над руками доктора и Александра.
— Вы видите? — прошептал доктор.
— Вижу, это ее глаза.
— Она уже не среди живых, — медленно и тихо произнес доктор, но Александр не слышал его слов, потому что огни приблизились к нему, склонились ниже, и ласковое, каким не может быть нежнейший поцелуй, прикосновение ощутил Александр в волосах своих, у лба.
Он тихо простонал от восторга и невыносимо сладостной тоски.
Комната наполнилась запахом цветов. За занавесью алькова показалось пятно нежно-фиолетового света и стало приближаться.
— Просим воплощения, полного воплощения! — быстро проговорил доктор.
Свет подлетел к Александру, не сводившему с него глаз. Свет приближался, готов был коснуться, благоухание было сильнее. Александр, инстинктивно отстраняясь, косился на него взглядом, и вдруг ужас, страшнее смертного, сковал его сознание: он в световом пятне различил черты тонкого профиля, профиля Марии, с полузакрытыми в нестерпимом страдании глазами. Именно от выражения этих глаз ужас и тоска охватили Александра.
Он закричал и откинулся на диван. Доктор успел одновременно с ним отнять руки от стола. Все явления мгновенно исчезли. Доктор дал свет. Голубая вуаль, которая, — он ясно помнил — лежала на постели, теперь покрывала лицо Александра, бывшего без чувств…
V
Той же ночью доктор Альвиссен сидел у себя в кабинете и записывал в толстую книгу следующие строки:
«30 марта. Редкое наблюдение из области телепатии и спиритизма. Объект наблюдения — русский интеллигент, неврастеничен, силен физически, по-варварски красив. Сильный медиум. Вызывал свою возлюбленную, Марию, которая, по-видимому, сбежала от него. Явления распадались по характеру и по времени на две категории. До семи часов вечера они имели вид психических сношений на расстоянии между живыми. Объект наблюдения, под моим внушением, добивался осязаемого появления в комнате опытов женщины, находившейся в другом месте. Медиумические данные, усиленные страстью, предсказывали успех; как вдруг, ровно в семь часов, явления приняли резко спиритический характер, что возможно только с мертвыми. Так как сношения были завязаны с одним и тем же лицом, то несомненно, что это лицо, а именно Мария, в семь часов умерла. Открытым и крайне интересным остается вопрос, поскольку смерть ее была вызвана потревожившей ее волей медиума. Возможны и другие причины, но последним, решающим поводом надо признать эту волю. Объект наблюдения оставлен мною в глубоком обмороке, со слабым пульсом. Поставить его в известность относительно смысла происшедшего было невозможно. Показания в общем неблагоприятны для вопроса о возможности явления живых. Обстоятельства смерти Марии подлежат обследованию. Подробный доклад посылается в Берлин в Лондон».
VI
Месяца через два, с поседевшими волосами, осунувшийся и бледный, Александр впервые после болезни встал с постели и при помощи сиделки подошел к окну.
Русская весна была в разгаре. Яркая молодая зелень берез горела на солнце. Ее благоухание наполняло воздух.
Александр не помнил, как он был перевезен в свое имение, и не представлял, сколько времени прошло от начала его болезни.
Но недолго он глядел в окно. Глаза его беспокойно забегали по столу, заставленному лекарствами, ища чего-то. Потом он умоляюще посмотрел на сиделку, сказал:
— Дайте, дайте! Я хорошо спал сегодня, а доктор сказал, что можно мне дать эти конверты после первого же здорового сна.
Глаза его наполнились слезами. Он был жалок, как ребенок.
Сиделка выдвинула ящик стола и вынула оттуда два конверта.
Александр жадно схватился за них и, шатаясь, опустился на постель.
Дрожащей рукой он вынул из одного вырезки из итальянской газеты и, содрогнувшись, вспомнил, как он прочел эти строки наутро после сеансов с Альвиссеном и от смысла их потерял сознание, вернувшееся к нему только теперь, недавно.
Другой конверт он разорвал, напрягая силы; вынутое письмо он поцеловал и стал читать мутными от слез глазами. Сиделка отошла к окну.
Письмо было написано полудетским почерком Марии. Карандаш местами стерся, строки были неровные, как будто писались в темноте; бумага смялась, как будто ее отнимали.
«Защитник мой, любимый мой! — писала Мария. — Он меня убьет, как только сжалится. Он меня держит взаперти, мучения мои невыносимы, он забыл, что он мне отец, а я его родная дочь, с той минуты, как я убежала с тобой из его дома. О, как ясно помню я эту ночь!.. Он следил за каждым нашим шагом, он гнался за нами по всем городам, он в Венеции с первого дня знал, где мы остановились. Ведь я умоляла тебя не покидать меня ни на минуту! Коли б ты не отошел тогда от меня, мы, может быть, до сих пор были бы вместе. Как только ты скрылся за углом, снизу из воды на меня бросились двое. Отец был в плаще, глаза его были безумны. Другой был страшен, как палач.
Они взяли меня под руки и прежде, чем я успела закричать, опустили в гондолу. Отец тотчас зажал мне рот рукой. Я стала метаться, чтоб опрокинуть гондолу. Один раз мне удалось наклонить ее так, что борт зачеркнул полу. Тогда меня стали грубо держать, и я потеряла память. Я не знаю, куда меня увезли. Я не знаю, где я. В моей комнате нет окна, время от времени мне зажигают ничтожную электрическую лампочку. Никакие звуки до меня не долетают, но одна из стен моей комнаты такая холодная и сырая, как будто уходит в воду. Меня кормят, от меня ничего не хотят. Изредка входит отец, но мой вид приводит его в бешенство. Я письмо это пишу медленно и ношу его на груди. Я все время с тобой, я все лечу к тебе. Помнишь, как мы сидели у старой церкви, и фонтан журчал? Иногда мне кажется, что душа моя навсегда соединилась с тобой, что я вижу тебя и целую, мой любимый. Отец стал говорить со мной. Он требует, чтоб я забыла тебя, он плачет и напоминает родной дом. Помнишь сад над рекой, где мы встречались? Правда, я была тогда тоненькая? Как хорошо, что наши имения Бог устроил рядом, а то б я никогда не узнала тебя и счастья с тобой. Отец больно сжал мне руку и показал отточенный кинжал. Я вскрикнула, но не испугалась. Я все время с тобой. Но где ты? На меня вдруг нападает смятение, я мечусь по комнате, роняю вещи и плачу. У нас на постели я забыла свою голубую вуаль. Наверно, ты целуешь ее, когда ложишься спать. Она моя любимая, а зеленой, которую мы купили в Риме, не люблю и спрятала ее на дно чемодана. Часто я слышу твой голос. Ведь ты зовешь меня, ты зовешь? Ведь я прихожу к тебе? Ведь мы бываем вместе? Я лечу к тебе, мне больно, как будто я отрываюсь от тела, но я лечу. Когда умру, мне будет легче приходить к тебе. Как только я услышу, что ты опять меня зовешь, я умру, чтоб прилететь к тебе. Я доведу отца до бешенства, я буду кричать ему про свою любовь к тебе, про то, как я тебя ласкала. У него лицо почернеет, как чугун, и он ударит меня кинжалом в грудь, куда ты целовал меня так часто… Или, может быть, ты спасешь меня еще раз? Ты можешь? Ты меня похитил в первый раз. Отец меня похитил во второй раз. Кто похитит в третий? Ты или смерть, все равно, это будет для тебя, я твоя. Я сама шепчу свое имя — Мария! Мария! — и мне кажется, что это ты меня зовешь. Отец вошел сейчас. Я спрятала письмо. Он ушел. Вот опять идет… Александр! Спаси!..»
Письмо обрывалось внезапно. Последнее слово было едва написано.
Александр закрыл глаза и так лежал долго, без движения, вспоминая все, что было. Только благодаря слабости и болезни он вынес эти воспоминания.
Потом взял и перечел вырезку из газеты. Там сообщалось об ужасном убийстве русской девушки, происшедшем, по определению врачей, вечером, часов в 7, тридцатого марта. Смерть была мгновенная, от верного удара кинжалом. Тело было случайно обнаружено в канале. Убийца разыскивался.
И, опять лишаясь сознании, он успел подумать:
— Неужели это не смерть?
Сергей Городецкий СТРАШНАЯ УСАДЬБА
Илл. В. Сварога
1
Мне уже более двадцати лет, у меня белокурые косы и очень большие серые глаза; все, что я умею, это выразительно читать, почти не уставая. Профессию лектриссы я избрала тотчас по окончании гимназии, и вплоть до прошлого года ничего особенного со мною не случалось. Эту зиму я провела в санатории. Я думаю, всякий на моем месте был бы принужден избрать именно такое местопребывание, если б пережил то, что пережила я. Теперь я уже достаточно оправилась от нервного потрясения, и воспоминания начинают даже доставлять мне некоторое удовольствие, тем более что доктора положительно мне запрещают возвращаться мыслями к событиям, которые послужили причиной моей болезни.
Как теперь помню ясный осенний день, когда я приехала в Варшаву, бросив хорошее место в богатом имении из-за несносных приставаний ясновельможного пана, которому было уже за шестьдесят. Мой отъезд вышел довольно бурным, мне даже не заплатили за последний месяц. Необходимость немедленно найти новое место ощущалась очень остро, потому что на свете я одна, и деваться мне было положительно некуда. Я дала несколько публикаций, обошла, кого застала в городе, из знакомых и уже начинала отчаиваться. Денег оставалось очень мало. Голода я не выношу совершенно, и если утром не съем пирожного, то начинаю немедленно проникаться психологией самоубийцы.
От тоски я ходила гулять на кладбища. Есть неизъяснимое очарование в этих жилищах мертвых, особенно осенью. Золотые листья на деревьях, в воздухе и под ногами, строгое голубое небо и печальные памятники нравились мне необычайно. Я ходила от могилы к могиле, читала надписи на мраморе и лентах. Однажды мое внимание привлек фамильный склеп Ясницких. Огромный белый ангел со стиснутыми в отчаянии и мольбе руками стоял над этой могилой. Я не раз видела приоткрытым вход в сам склеп, и жуткое чувство охватывало меня при мысли, что кто-нибудь навещает эту усыпальницу.
И, действительно, я вскоре увидела у этого памятника высокую женщину в трауре. Она сначала молилась, потом сошла в склеп и пробыла там довольно долго. Я сидела на мраморной скамейке невдали и думала о жизни и смерти.
Женщина в трауре заметила меня и подошла. Мы разговорились. Под густой черной вуалью я разглядела лицо, уже немолодое, но с явными еще чертами красоты, с воспаленными от слез, безумными глазами и выражением решимости в тонких линиях рта и подбородка.
Узнав, что у меня никого не умерло, женщина удивилась. Когда же я ей сказала про свое печальное положение, она тотчас же предложила мне место лектриссы у себя самой. Мы назвали друг другу свои фамилии. Ее звали пани Ясницкой. На следующий же день пани Ясницкая должна была сама зайти ко мне для окончательных переговоров. Она именно сама хотела прийти ко мне, уверяя, что ее номер завален покупками и что ей неудобно принять меня в нем. Она показалась мне интересной и умной, кроме того, мне ничего не оставалось делать, как согласиться на ее предложение.
Пани Ясницкая пришла ко мне на другой день, вечером. Не снимая шляпы и вуали, она сразу приступила к разговору. Меня тогда же удивило, что она больше старалась узнать о моих верованиях и взглядах на загробную жизнь, чем об условиях, на которые я согласна. Впрочем, когда я, улучив минуту, сказала ей о них, она приняла их тотчас и просила только быть готовой к отъезду во всякое время.
После этого наша беседа продолжалась еще более часа. Было похоже на то, что пани Ясницкая долго не имела никаких собеседников и торопилась высказаться. Ее более всего интересовали вопросы загробного существования. Она оказалась очень начитанной в теософии, в оккультных науках. В то же время ей очень нравился христианский миф о сотворении первого человека из глины, и она рассказала мне несколько увлекательных его вариантов. Я с некоторым недоумением слушала ее и думала, что моя должность лектриссы будет, вероятно, больше похожа на положение наперсницы, обязанной сочувственно выслушивать все, что говорит госпожа. Но и эта роль меня не пугала, потому что я от природы любопытна.
Уж не помню, как я перебилась два-три дня, прошедших до нашего отъезда. Поздно вечером за мной приехал мотор. Пани Ясницкая была очень довольна и говорила, что из-за границы ей выслали все, чего она в Варшаве дожидалась, а остальное вышлют в имение. Я не смела расспрашивать, что же именно такое это «все» и «остальное», хотя была заинтересована очень.
2
На вокзале я видела, как слуга гостиницы, где жила пани Ясницкая, сдавал в багаж три странных, продолговатых, тщательно упакованных и похожих на гробы ящика.
На рассвете мы были уже в имении пани Ясницкой. Я знаю хорошо запущенные усадьбы нашего края, но ничего подобного усадьбе пани Ясницкой я представить себе не могла.
Огромный дом с двенадцатью колоннами видел еще Наполеона в своих залах, как я потом узнала. Значительная его часть была заколочена. Строго говоря, жилым оставался только мезонин да одна комната внизу, столовая. Старый парк окружал этот дом. Он пришел совершенно в дикое состояние, никто о нем не заботился, дорожки заросли, и неожиданно, совсем в глуши, можно было встретить мраморную колонну или статую. Круглый, прекрасной формы пруд зацвел. Все дремало здесь таким непробудным сном, что я почувствовала себя, как в заколдованном царстве.
Слуг в доме было очень мало, они появлялись и исчезали незаметно.
Мне отвели комнату в мезонине, окном в парк. В первый же вечер меня до смерти напугала своим криком сова, облюбовавшая себе ветку совсем вблизи от меня.
Дни потекли очень однообразно.
По условию, я должна была читать два раза, утром, от одиннадцати до двенадцати, польских классиков, и вечером, от семи до девяти — французских. Но утренний час пани Ясницкая обыкновенно просыпала, а вечерние сокращались то из-за обеда, то из-за ужина. Делать мне было почти нечего. Я скоро привыкла ко всем странностям моей пани. Она тоже перестала на меня смотреть, как на чужую.
Однажды она повела меня показывать зал, где висели портреты ее семьи и рода. Предки мало меня заинтересовали. Но когда я увидела черноусого старика, ее мужа, молодого гусара с неестественно блестящими глазами, ее сына, и томную красавицу в кружевах, его жену, я поняла многое в темной душе пани Ясницкой. Она мне рассказала очень мало про всех них. Сказала только, что муж убит на войне, а сын и его жена утонули в океане.
В этот же день она мне показала две чудесной работы акварели на фарфоре, изображающие двух девочек пленительной миловидности. Это были младшие ее дочери. Она мне ничего но сказала про них, но по траурным рамкам, окружавшим акварели, и по ее глазам я поняла, что и они не в живых. По-видимому, все эти несчастья обрушились на пани Ясницкую в короткое время.
После этого дня я стала относиться к ней с особенным вниманием и теплотой.
Ужинали мы вместе, внизу, в столовой. Подавал полуглухой старик в нитяных перчатках.
Зная, что пани любит предаваться размышлениям и воспоминаниям в той же столовой, где, конечно, часто проводила она время со своей семьей, я не мешала ей и уходила к себе. Не знаю, что бы я делала без огромной библиотеки, предоставленной в мое распоряжение. Библиотека помещалась внизу, невдали от столовой, и часто, уйдя к себе, я потом опять спускалась вниз переменить книгу.
Один раз — это случилось довольно поздно, часов около двенадцати, пройдя мимо столовой, я увидела в щели свет. Удивившись, что пани сидит так поздно, я через минуту пришла в столбняк: сквозь закрытые двери мне ясно послышались голоса. Я наверно знала, что разговаривать пани не с кем. Слышался ее голос, и еще какие то, похожие на ее. Потом непонятный визг, похожий на детский.
Я в ужасе убежала наверх, не заходя в библиотеку. В скором времени я расслышала шаги пани, возвращавшейся к себе.
Меня серьезно напугала эта история. Со следующего дня я стала более зорко присматриваться ко всему. Я заметила, что посуды ставится на стол гораздо больше, чем для двоих. Я заметила скрытую обоями дверь в столовой. Особенно меня заинтриговала эта дверь.
Задержавшись после завтрака в столовой, я решила ее открыть.
Это не было трудно.
Гораздо труднее было ее закрыть, потому что у меня от страха одеревенели пальцы. Ничего особенного я не увидела. За дверкой я увидела обширный шкаф. В нем стоймя стояли те три похожих на гробы ящика, которые меня напугали еще в Варшаве.
Крышки их были приоткрыты, но мной овладел такой страх, что я ничего не могла разглядеть и отлетела от этой двери, как стрела с тетивы, к противоположной стене. Там я упала в кресло.
Вошел старик-слуга и, подозрительно поглядев на меня, плотно захлопнул дверь шкафа.
Мое спокойствие было потеряно.
Казалось мне, что и пани чем-то взволнована. Последние дни она чаще обычного посылала на почту и ждала чего-то. Акварельных портретов своих дочерей она прямо не выпускала из рук. Достала несколько альбомов с фотографиями и, вместо чтения, мы проводили время в разглядывании этих карточек. Отрывистые восклицания, невольно вырывавшиеся из уст пани, ничего мне не говорили о судьбе всех этих людей, но я очень хорошо изучила лица всех покойных Ясницких, вполне отчетливо представляла себе их рост, походку и фигуры. Не скрою, что мне особенно приятно было думать о сыне пани. При романтической моей мечтательности мне было сладостно думать, что этот красавец умер и что я никогда его не увижу, хотя, может быть, уже люблю.
3
В ветреные дни я всегда чувствовала тревогу в этой усадьбе. Скрип старых дубов, безнадежное качанье заметно оголившихся верхушек деревьев, целые вихри рыжей, красной и желтой листвы действовали на меня подавляюще.
И в то же время, я не могла оторваться от природы, уйти в свою комнату и забыться. Меня тянуло в парк, к пруду. Мучительны и приятны были мне такие дни, и особенная прелесть была для меня в том, что я одинока, что никогда ни души не встречу в парке.
Пани обыкновенно сидела в своей комнате в такие дни.
Тем более странно было мне встретить ее однажды в парке, на довольно глухой аллее. Как обычно, она вся была закутана в черное, и мне понравилась ее фигура на фоне осеннего пейзажа.
Мы пошли рядом.
Листья шуршали и хрустели под ногами. Мне, в моих тонких туфлях, было немного больно ступать на крупные желуди, сыпавшиеся с дубов.
— Я знаю, вы любите этот парк, — сказала пани.
— Да, — ответила я.
Я привыкла отвечать ей односложно.
— Мне мучительно в нем бывать, — продолжала пани. — Воспоминания связаны с каждым деревом, и тщетно я желаю, чтоб парк совсем зарос, обратился в дебри, в которых бы все спуталось и забылось. Деревья растут, но воспоминания тоже.
Она подняла желудь, задумчиво поглядела на него и опять заговорила:
— Вот и на желудь не могу смотреть. А их каждый год все больше и больше…
Я молчала. Я иногда любила ее слушать.
Она вдруг остановилась и с трудом выговорила:
— Сегодня именины одной из моих девочек. И вот помню день. Лет пять ей было. Такой же день был. Она играла желудями. Поднимала их. Давала мне.
Ее голос надрывался. Я в первый раз увидела слезы на ее глазах. Это с ее стороны было знаком большого доверия и дружбы, что она плакала при мне.
Я прикоснулась к ее руке.
— Я, кажется, плачу? — спросила она.
Я погладила ее тонкие выхоленные пальцы.
— Но сегодня у меня есть некоторое утешение, — сказала она.
Ее лицо преобразилось. Я прислушалась внимательней к ее словам.
— Я надеюсь получить сегодня то, чего давно ждала, чего мне не хватало.
Она высоко подняла голову. Опять, как при первой встрече, меня поразило выражение решимости в губах и подбородке.
— У меня есть еще надежда, — прошептала она.
Она была, как в экстазе. Я где-то видела гравюру, изображающую Екатерину Сиенскую в минуту молитвенного экстаза. Пани Ясницкая показалась мне теперь похожей на эту святую. Такими, должно быть, бывают лица у творящих чудеса.
Не нарушая молчания, мы долго потом гуляли по старому парку. Ветер несколько утихнул, листья шелестели жалобней и примиренней.
Мало-помалу у нас завязался разговор о теософии и магии, о тайных науках. Пани называла имя какого-то средневекового мудреца, который будто бы умел отделять от тела душу и вселять ее, куда угодно.
— Я не верю, — сказала я, как думала, — что душа отделима от тела, это одно целое, неразлучимое.
— Значит, мумии живут, а погребенные в землю умирают? — с неожиданной насмешливостью спросила меня пани.
Я ничего не могла ей ответить, потому что, по правде сказать, меня мало интересовали эти вопросы.
— Вы забываете, — сказала пани наставительно, — что тело человека было сотворено, а душа в него вдунута. И только потому, что тело было сотворено художественно, душа осталась в нем жить. И как только от болезни или старости это тело, это художественное произведение, начинает портиться, душа его покидает. Вы не думали об этом?
— Нет, — сказала я. Про себя я думала: «А твои дети? Разве они не были прекрасны? И разве они не умерли?»
Странной показалась мне эта теория. А пани еще спросила меня:
— Думаете ли вы, что искусство, с древнейших времен до нашего, беспрерывно улучшалось, все усовершенствовалось?
— Конечно, — ответила я.
— Вы еще не знаете, как оно всесильно, — загадочно сказала пани.
Глаза ее горели. Она похожа была на сумасшедшую.
Когда мы вернулись домой, оказалось, что с почты привезли два ящика. Это были два небольших, похожих на два детских гроба, ящика.
Меня передернуло, когда я увидела их. Пани бросилась к ним почти в истерической радости. По исступленным ее глазам я поняла, что единственное, чего она в эту минуту хочет, это остаться одной с своими тайнами.
Любопытство мучило меня, но я не стала ей мешать и ушла к себе.
Кроме того, все впечатления этого дня были так сбивчивы и странны, что моя восприимчивая натура не выдержала, и я должна была прибегнуть к испытанному еще с детства средству.
Уткнувшись головой в подушки, я всласть, бессмысленно и долго, не вытирая слез, стала плакать.
4
Когда я проснулась, было за полночь. Подняв голову с подушки, мокрой от слез, я почувствовала, что сон освежил меня и успокоил. Я зажгла свечи, открыла окно, и тотчас увидела полосы света, падавшие в парк, от освещенных ярко окон столовой. Так много свечей еще никогда не зажигалось в старинных канделябрах за все мое пребывание здесь.
Не скажу, чтобы мне хотелось читать. Мне хотелось, если говорить правду, сойти вниз, будто бы в библиотеку, а на самом деле, в надежде что-нибудь увидеть и услышать.
Свое желание я тотчас привела в исполнение.
Уже спускаясь с лестницы, я услышала громкие голоса в столовой. Опять все они были очень однообразны, как будто один человек говорил за нескольких, меняя голос. И этот голос был, несомненно, голосом самой пани Ясницкой.
Я осторожно, стараясь не шуметь, спустилась с лестницы. Дверь в столовую была плотно закрыта и завешена с внутренней стороны тяжелой бархатной портьерой. В щель ничего не было видно.
Голоса раздавались все громче. Я разбирала отдельные слова.
— Ян, родной мой, не хочешь ли еще чаю? — слышался голос пани.
И странный голос по-польски отвечал:
— Нет, благодарю вас. Вы знаете, я всегда один стакан пью.
От этих простых слов я пришла в неописуемый ужас. Я знала, что Яном звали сына пани, красавца, который мне нравился. Но любопытство пересилило страх. Я решила во что бы то ни стало увидеть все, что происходит в столовой. Из парка нельзя было увидеть, потому что деревьев вблизи не было, а окна были высоко, и стена без выступов. Я хладнокровно рассуждала так, но казалось мне в те минуты, что я седею от ужаса. Вдруг я снова расслышала голос пани:
— Крошка моя, цветик мой, наконец-то ты вернулась!
После этого ясно были слышны всхлипыванья и поцелуи.
Я выдернула шпильку из своих полос. Я люблю длинные толстые шпильки. Тихо просунула ее в замочную скважину, и, зацепив портьеру, заслонявшую отверстие, с счастливой ловкостью оттянула ее в сторону. Загнув шпильку, я могла теперь видеть.
Я прильнула к скважине правым глазом, который всегда у меня был более зорким.
Первое, что я увидела, было лицо девочки ослепительной миловидности. В то же мгновение я заметила целое общество за столом: старика с черными усами, блестящего гусара, белокурую красавицу в том же платье, что на портрете, и еще и девочку с дивными, как у куклы, локонами, сидевшую ко мне спиной.
Это было одно мгновение, это было короче мгновения. Молнией пронеслась в моей голове мысль:
— Мертвые!
И я без памяти упала на пол.
Доктора мне потом говорили, что в этот миг и началось мое душевное расстройство.
Я не помню, сколько времени я лежала на полу, перед дверью.
Очнулась я от сильных криков за дверью. Кричала пани, повторял почти одно слово:
— Живи! Живи! Живи!
Я ощущала страшную боль в голове, но, пересиливая ее, поднялась и прильнула к замочной скважине.
Все сидели, как прежде, в тех же позах, с остановившимися глазами.
Пани, с поднятыми руками, бегала вокруг стола и, останавливаясь, кричала то же слово:
— Живи! Живи!
Она прибавляла еще что-то, не по-польски и не по-русски. Свет в столовой был другой: только три огромных красных свечи стояли на столе. Серебряная чаша была до краев налита водой.
Не помня себя, я смотрела.
Вдруг пани схватила одну из девочек и прижала к груди своей, целуя исступленно и крича все громче то же слово.
У девочки беспомощно свисали ручки.
Пани кричала уже в истерике, она топала ногами и скрежетала зубами.
На лице ее невозможно было задержать взгляда. Полуседые волосы ее растрепались. Напряжение ее достигало крайних пределов.
Вдруг она дико захохотала и, бросив девочку, в судорогах упала на пол.
Не теряя ни секунды, я распахнула дверь и вбежала в столовую.
Прежде всего я бросилась к Яну, сыну пани, моему Яну, которого я любила.
Отвратительной мертвой улыбкой были приподняты его красивые, ярко-красные губы. Прекрасная рука лежала на столе.
Я взяла ее и выпустила: она была ни теплая, ни холодная, ни твердая, ни мягкая. Я оглянула всех: это были восковые куклы. Я еще нашла в себе силу наклониться к тонкой золоченой пластинке, прикрепленной к воротничку гусарского мундира. На ней были выдавлены слова: «Paris. Premiere qualité»[4].
Как на крыльях вылетела я из столовой, взбежала наверх, схватила кошелек и накидку и помчалась через парк на дорогу, быстрее, чем если б за мной гнались все сидевшие в столовой.
Начинало смутно светать.
До станции было двенадцать верст.
Я не помню, как я прошла их, как садилась в поезд. Очнулась я в больнице, в незнакомом городе. Доброта врачей дала мне возможность провести в ней время почти до полного выздоровления, а потом даже отдыхать в санатории.
Только теперь, когда я начинаю возвращаться к жизни, я поняла все безумие мечты, овладевшей панн Ясницкой. Ведь она хотела воскресить этих кукол, вдунуть в них жизнь! Она говорила с ними, сама отвечала за них.
Я ничего не знаю и не хочу знать про нее, но думаю, что навсегда я сохраню способность проникаться беспредельным ужасом при каждом воспоминании о ней.
Евдокия Нагродская МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ
Илл. В. Н-ского
«В отъезд требуется гувернантка к шестилетней девочке, 75 р. на всем готовом» — следовал адрес именья, лежащего вблизи одной из станций Балтийской дороги.
Я задумалась не надолго — положение мое было критическое. Я очутилась почти без средств в чужом городе и была рада всякому месту.
Случилось это потому, что отец семейства, где я служила, внезапно скончался, а его вдова с детьми, при которых я состояла гувернанткой, уезжали за границу.
Мне заплатили мои сорок рублей за месяц вперед и простились со мной.
Плохо заканчивался для меня старый год. — «Может быть, новый принесет мне счастье» — подумала я.
«Напишу-ка я этой баронессе Грабенгоф. Я молода, здоровье у меня цветущее, работа меня не пугает, а если мне не понравится — я уеду, все-таки проведу праздники в семье, хоть и в чужой, а вознаграждение даже блестящее». — Я написала письмо с предложением своих услуг.
Баронесса ответила мне телеграммой, прося приехать немедленно.
На одной из ближайших от Ревеля станций я сошла и справилась, присланы ли лошади из именья баронессы. Мне ответили, что лошади здесь, но кучер просит обождать несколько минут, пока он исправит какую-то порчу в упряжи.
В ожидании отъезда я пила чай в маленьком станционном буфете. За стойкой буфета стояла полная краснощекая немка. Она давно поглядывала на меня с любопытством и, наконец, не выдержав, вышла из за своей стойки и подсела ко мне.
— Вы едете в именье Грабенгоф? — спросила она. — Гостить?
— Нет, я приглашена баронессой в гувернантки.
— А каким образом вы нанялись к баронессе Юлии?
— По объявлению. Почему это вас интересует? — довольно сухо спросила я.
— Потому что, кажется, все бюро для найма гувернанток уже не хотят иметь дела с баронессой. Она должно быть очень капризна. Приедет какая-нибудь барышня, поживет два дня и сейчас же уедет. Баронесса отказывает ей под предлогом, что ее дочке не нравится новая гувернантка.
— Ну, я постараюсь понравиться, — сказала я.
— Все равно, вы долго не проживете, — уверенно сказала буфетчица, — через месяц заболеете и уедете сами; воздух там, что ли, такой, но те, которые уживались у баронессы, заболевали и уезжали, а две даже померли: одна гувернантка, другая служанка. Теперь вы не найдете ни одной девушки в окрестности, которая бы согласилась служить в Грабенгофе. Представьте себе, что старухам ничего не делается — живут себе, а молодые, да здоровые сейчас же заболевают.
Со странными мыслями я подъезжала к Грабенгофу и этих тревожных мыслей не успокоил вид старого помещичьего дома. Это было довольно длинное здание, в два этажа, под высокой черепичной крышей. Его стены были лишены всяких архитектурных украшений, кроме герба баронов Грабенгоф над воротами.
Старые развесистые деревья окружали этот дом. Теперь, в зимнем своем уборе, они резко отделялись от темных стен. Надвигались сумерки. Меня почему-то поразила тишина. Кругом было жутко тихо.
Выходя из саней, я нарочно громко что-то сказала кучеру и хотела сильней дернуть звонок, чтобы нарушить эту несносную тишину.
Но не успела я этого сделать — дверь открылась и на ее пороге я увидела старого слугу в темной ливрее.
— Баронесса ожидает барышню в гостиной, — кланяясь, доложил он, и, взяв канделябр с зажженными свечами, повел меня через большой темный зал, который я не могла рассмотреть при трепетном свете свечей.
В гостиной было и тепло и светлее от топившегося большого старинного камина.
С кресла поднялась мне навстречу дама в сером платье — высокая и стройная.
— Добро пожаловать, mademoiselle, — сказала она ласково слабым голосом, — благополучно ли вы доехали?
Я поблагодарила.
— Садитесь, дорогая, вот сюда, — указала она на кресло, по другую сторону камина, — и познакомимся.
Она протянула мне свою худую почти прозрачную руку и пошатнулась. Я поспешила поддержать ее.
— Я нездорова и очень слаба, — с грустной улыбкой сказала она, — и я, и моя маленькая Минночка очень слабы здоровьем. Может быть потому я так и люблю видеть кругом себя здоровых людей.
Едва я взглянула на баронессу — все мои тревожные мысли рассеялись и заменились жалостью к этой милой ласковой женщине, такой болезненной и слабой, с нежными и словно испуганными глазами.
— Как я рада, что вы такая симпатичная — я думаю, что вы понравитесь Минночке, моей милой, маленькой Минни — и полюбите ее… Она немножко избалована, я сама чувствую, что она избалована, но она у меня одна! Это — моя жизнь… Я живу только для нее. Она такая слабенькая и болезненная… Вы будете ее любить — не правда ли?
Баронесса взяла мои обе руки и смотрела на меня своими кроткими глазами.
Я была растрогана — эта нежная материнская любовь преобразила ее черты и сделала ее почти красавицей в эту минуту.
Слуга доложил, что обед подан.
Обед был роскошный. Баронесса неотступно потчевала меня и сама ела очень много, хотя с видимым усилием.
— Доктора мне советуют как можно больше есть, у меня сильное малокровие — кушайте и вы побольше, гуляйте на свежем воздухе, вообще берегите ваше здоровье.
Обед уже кончался, на стол подали фрукты и десерт, когда баронесса ласково сказала:
— Теперь я познакомлю вас с вашей ученицей.
Она вышла и через минуту вернулась, ведя за руку свою дочку.
Я люблю детей, люблю и красивых, и некрасивых, чистеньких и замазанных, здоровых и больных, но никогда ни один ребенок, как бы некрасив он ни был, не производил на меня такого отталкивающего впечатления, как эта девочка.
Она была необыкновенно худа, ее руки и ноги были похожи на паучьи лапки. На этой скелетообразной фигурке сидела большая голова с мертвенно-бледным лицом. Большой рот с тонкими губами был, наоборот, ярко-красен, при улыбке он растягивался в длинную щель и обнажались редкие, острые зубы.
Веки почти закрывали глаза и глаза из-под этих тяжелых полуопущенных век, светлые, почти белые, казались незрячими.
Что еще поразило меня в ее наружности — это уши. Очень большие, оттопыренные, тонкие — они напоминали крылышки летучей мыши.
Я даже слегка вздрогнула от неприятного ощущения, когда в моей руке очутилась паучья лапка девочки, но я сейчас же упрекнула себя.
«Бедный, больной ребенок, надо приласкать его».
— Вот мы и познакомились, Минна, — весело сказала я, — надеюсь, мы подружимся. Хочешь меня поцеловать?
Девочка медленно подняла свои тяжелые веки, взглянула на меня пристально и вдруг впилась в мою щеку каким-то жадным поцелуем.
— О, она вас полюбила, полюбила! Какое счастье! — воскликнула баронесса, сжимая мою руку. В ее кротких глазах блестели слезы восторга.
Шел уже третий день моего пребывания в Грабенгофе, и я уже чувствовала, что воздух его мне вреден. На первый же день моего пребывания, встав поутру, я почувствовала себя очень слабой и целый день у меня кружилась голова, чего раньше со мной никогда не бывало. Я решила, что это с дороги, так как ночь я спала, как убитая. Я едва имела силы, после чаю, который я пила с баронессой, дойти до постели и раздеться.
Меня удивило, что и на другой, и на третий день тот же свинцовый сон овладевал мною к вечеру. На четвертый день я думала, что я не встану — так я себя скверно чувствовала. Хорошо, что занятия с ученицей еще не начинались. Я ее видела только по вечерам, после обеда: она обедала отдельно.
— Минночке доктор предписал строгую диету, — сказала баронесса, обнимая девочку.
Кажется, сама девочка добровольно подчинялась предписанию доктора, так как с жестом отвращения отказывалась от десерта, который я ей предлагала.
Ко мне она чувствовала какую-то страстную нежность и все жалась ко мне.
Этот час после обета, пока Минна не уходила спать, был для меня тяжел. Я упрекала себя… но я чувствовала отвращение к этому ребенку.
На третий день мы, как и во все эти дни, пили чай у камина.
— Завтра канун Нового Года, — сказала я грустно. Мне вспомнилось, что в этот день все будут веселиться, а я буду сидеть одна с этой тихой женщиной в занесенном снегами, мрачном доме.
— Ах, и в самом деле завтра 31 декабря по старому стилю. Я перепутала все числа. Вся моя жизнь сосредоточилась на моем ребенке и для меня праздник тогда, когда моя крошка здорова и счастлива. Вы не осуждаете меня за такую всепоглощающую любовь?
— Что вы, баронесса. Что же может быть прекраснее и благороднее материнской любви, — сказала я.
— Не правда ли? Но почему вы так долго не пьете ваш чай?
— Благодарю вас, мне что-то не хочется, — отвечала я.
— Нет, нет, вы, пожалуйста, выпейте его. Это полезно… чай… пожалуйста!
— Право, мне не хочется, — отвечала я, удивленная ее настойчивостью.
— Как же так без чаю… Это нельзя… ну, милая, сделайте мне удовольствие! — ее голос дрожал и она нервно мяла в руках чайную салфеточку.
Выражение мольбы и тревоги на ее лице меня поразило, и чем больше она приставала ко мне, тем упорнее я отказывалась.
Она замолчала, грустно вздохнула и опустила голову.
Придя в свою комнату, я удивилась — мне вовсе не хотелось спать и я долго просидела, читая и работая, и на другой день встала гораздо бодрее, голова не кружилась.
Я подошла к зеркалу и увидала, что лицо мое не так бледно, и красное пятно, которое у меня появилось на шее, почти прошло.
Я целый день не видала баронессы, я даже обедала одна.
Только к вечеру она вышла, чтобы, по обыкновению, пить чай у камина.
— Сегодня, я надеюсь, вы будете пить чай, — любезно спросила она.
— О, да, — ответила я.
И вдруг, сама не знаю почему, подумала:
«А не подливает ли она мне чего-нибудь в чай, чтобы я спала… ведь вчера я не хотела спать». Зачем ей это нужно? Что она скрывает? Ведь я, кажется, помещаюсь так далеко от ее комнат, что не могу ничего подслушать или подглядеть.
Мне отвели большую комнату с тяжелыми, дубовыми панелями в верхнем этаже, тогда как внизу было несколько маленьких уютных комнаток.
Сама не знаю почему, но недоверие мое все возрастало и возрастало и я незаметно для баронессы не выпила, а вылила за кресло, налитый ею чай.
Я скоро ушла, сказав, что хочу спать, но спать мне совсем не хотелось. Сначала я думала почитать, но потом я решила не зажигать огня, чтобы баронесса не догадалась, что я не сплю. У меня почему-то явилась твердая уверенность, что она что-то подливала в мой чай.
Итак, я должна была встретить Новый Год одна, полубольная, далеко от всех близких, ожидая что-то — во всяком случае, не радостное и не приятное.
Я невольно прислушивалась.
За панелями часто возились мыши, но это меня не пугало — я не боюсь мышей.
Моя комната освещалась маленькой ночной лампочкой. стоящей на камине.
Вдруг, я услыхала скрип и часть панели отодвинулась, баронесса тихонько заглянула в комнату из темного квадрата потайной двери.
Я не шевелилась на постели.
Тогда баронесса подвинулась и пропустила Минну. Девочка прыгнула в комнату. С минуту она стояла, вся подергиваясь, шевеля руками и втянув голову в плечи, потом быстро метнулась в мою сторону, прыгнула на меня и впилась в мою шею.
Я дико закричала и, оторвав ее от себя, бросила на пол.
Мой крик слился с криком баронессы, которая бросилась к корчившейся на полу Минне.
О, как отвратительно было это чудовище, извивавшееся всем своим скелетообразным телом, с вытаращенными глазами и со ртом, полным крови — моей крови…
Я увязывала и укладывала свои вещи. Ночь под Новый Год я провела, дрожа от ужаса, спрятавшись в конюшне.
Кучер не понимал, что я ему рассказывала, — он едва знал десяток слов по-русски, но он не очень удивился, когда я вбежала полураздетая к нему я конюшню.
— В дома много чудес, — старая дома, ах, старая дома! Барон сраза умер — ходит, видят, старая барон.
Только когда совсем рассвело, я решилась пойти в мою комнату, чтобы собрать вещи и немедленно уехать.
Я была почти готова, когда вошла баронесса. Она едва дошла до кресла и, опустившись в него, с мольбою сказала:
— Не уезжайте, я согласна на какое угодно вознаграждение… сжальтесь над нами… сжальтесь над несчастным ребенком.
Я молча завязывала свою корзину.
— Послушайте, застонала она, ломая руки, — неужели у вас нет жалости! Ведь моя дочь, бедный ребенок умрет с голоду… Ведь она может питаться только человеческой кровью! Свою я ей отдала всю, я едва жива. Если я ее накормлю еще хоть раз, я умру! А если я умру, кто о ней позаботится? Неужели вы так жестокосерды, что не захотите спасти бедное дитя?
— Дитя, — крикнула я, — это не дитя, а отвратительное, вредное чудовище. Я бы на вашем месте радовалась, что умрет такой выродок, а вы еще жертвуете жизнью и здоровьем других людей, чтобы кормить эту гадину.
— Но я — мать! — зарыдала баронесса, — вы не имели детей, вы не знаете материнской любви — этого святого, всепоглощающего чувства.
Она упала на колени, схватив меня за платье, но я имела «жестокость» оттолкнуть ее и уехать.
Долго лечилась я от острого малокровия, никому не жалуясь, да и кто бы мне поверил.
Теперь я выхожу замуж и желаю только одного: если у меня будут дети — никогда не чувствовать к ним такой сильной материнской любви.
Влас Ярцев ИЗ СКЛЕПА МОГИЛЬНОГО
Как раз в один из святочных вечеров Владимир Иванович Красавкин возвращался по железной дороге домой в свой родной город.
Владимир Иванович был молодой человек лет тридцати, стройный и красивый брюнет с тем жгуче-нахальным взглядом больших черных глаз, который особенно нравится женщинам.
Удовлетворительно образованный, он был к тому же и не совсем глуп; пользовался цветущим здоровьем с прекрасным пищеварением и, в довершение всего, обладал солидными средствами.
Словом, в личности этого героя по капризу судьбы соединился счастливый человек.
Но теперь, сидя на бархатных подушках вагона l-го класса, Владимир Иванович и для постороннего взгляда не совсем оправдывал последнее предположение. В наружности и поступках его не замечалось вовсе самодовольства. Напротив, его бледно-осунувшееся лицо свидетельствовало о несомненном расстройстве или даже о потрясении чем-то.
Несмотря на поздний час, когда все другие пассажиры вагона давно покоились крепким сном, Красавкин еще не спал. Попытки его заснуть были тщетны: сон бежал от его глаз. Он брался за книгу… Но и тут мысли его, отказываясь сосредоточиться на открытой странице, всецело устремлялись к одному и тому же неотвязчивому и неприятному предмету.
Владимир Иванович то погружался в глубокую задумчивость, то вскакивал и нервно прохаживался по вагону, с остервенением куря папироску за папироской.
— Какая мерзость! повременим, — содрогаясь, мысленно восклицал он, — это черт знает что такое!.. Вот и не верь после того разной там чертовщине… Не угодно ли, исполнить этакую роль по внушению какого-то выходца с того света…. быть явным орудием дьявольского духа… фу!.. Приятное положение, нечего сказать!.. И все это, главное дело, — не сон, не результаты расстроенного воображения или свихнувшегося рассудка, а совершенно реальная действительность…
И Красавкин в бессчетный раз с томительным увлечением погружался в детальное воспоминание только вчера пережитых им странных обстоятельств.
Действительно, то, что приключилось с Владимиром Ивановичем и что в данный момент так беспокоило и даже пугало его, — далеко не соответствовало естественному порядку вещей и явно обнаруживало в себе участие чего-то или кого-то из мира неведомого.
Началось это с того, что Красавкину, как-то за неделю приблизительно до Рождества, в послеобеденном отдыхе приснилась снеговая равнина с перекрестком дорог; на перекрестке, будто бы, стоял столб с черной доской, на которой белыми буквами была какая-то надпись, сначала совершенно неразборчивая. Но вот, сон этот с полнейшей торжественностью начал повторяться каждую ночь и, наконец, мало того, черная доска на перекрестке дорог до того уяснилась и крепко въелась в зрение Владимира Ивановича, что ему потом, даже и наяву, стоило только зажмурить глаза и затем открыть их, устремив на какое-либо светлое пространство, как там мгновенно появлялся черный прямоугольник с отчетливой надписью белыми буквами: «В сельцо Мало-Каменское», а немного пониже, — «28 декабря».
Никакого сельца Мало-Каменского Красавкин не знал и, как он ни усиливался припомнить, выходило, что он и не слыхал даже такого названия.
Галлюцинация делалась все назойливей и. наконец, не на шутку начала беспокоить Владимира Ивановича и заставлять его задумываться: что бы это значило?..
Нужно, однако, заметить, что Красавкин отнюдь не был суеверен и первоначально вовсе не усматривал в этой странности какой-нибудь чертовщины: но он возымел только сомнение, не начинает ли пошаливать его зрение или, того хуже, — мозговой или нервный аппараты, и поэтому обратился за советом к врачу.
После надлежащего освидетельствования и расспросов, доктор успокоил Красавкина, говоря ему:
— Это вам только кажется, что вы никогда не слыхали такого названия, как «сельцо Мало-Каменское», но в действительности функции вашей же памяти запечатлели это название особенно крепко, и вот теперь в силу каких-нибудь неуловимых причин это самое запечатление и всплывает пред вами с наибольшею ясностью. Если же вы не можете теперь припомнить: откуда, зачем и что такое — это название, то происходит это потому, что из вашей памяти утратились ассоциации идей в данном направлении, без которых невозможен процесс воспоминания. Иначе тут и быть ничего не может. Вообще же, это вещь пустячная и беспокоиться тут ровно не о чем. Вы здоровы во всех отношениях. А, впрочем, старайтесь развлекаться и не думать об этой ерунде и тогда она, вероятно, скоро исчезнет сама собой.
За несколько дней до Рождества Владимир Иванович получил письмо от своего богатого дяди, который, поселившись недавно в новоприобретенном имении, звал туда на праздники племянника, суля ему веселые сельские святки с толпою гостей из окрестных помещиков и хором музыки, с катаньем на тройках по снеговым равнинам, с деревенскими хороводами, песнями и, наконец, с грандиозной облавой на волков.
Пресытившийся городскими развлечениями, Красавкин с удовольствием принял приглашение дядюшки — тем более, следуя совету доктора развлекаться — и, не уведомляя дядю о своем приезде, с целью сделать ему со своей стороны сюрприз собственным появлением — он за несколько дней до нового года сел в вагон железной дороги, захватив с собой на всякий случай корзинку с несколькими бутылками настоящего ямайского рома — «с негром», да дюжиной искристого «Аи».
Направляясь в имение дяди, Красавкину предстояло ехать по железной дороге около полсуток до небольшой станции и, затем, далее верст 70 на лошадях.
Выйдя из поезда на пустынной станции, Владимиру Ивановичу не без труда, чрез посредство станционного сторожа, удалось найти возницу с парой кляч, которые и повезли его далее.
Потянулись бесконечные снежные равнины с холмами, оврагами и перелесками…
Погода стояла мягкая с небольшим морозцем.
Лошаденки бежали мелкой, ленивой рысцой, ускорявшейся разве только на несколько мгновений после редких взмахов кнута.
Умостившись очень удобно на мягком сиденье из сена и подушек, Владимир Иванович покачивался в полудремоте.
Отъехав, таким образом, верст 25, он даже было всхрапнул немного; но вдруг порядочный толчок на рытвине разом заставил его открыть глаза.
И вот тут-то он вздрогнул и остолбенел, не будучи в состоянии понять сразу: сон ли это, или действительность…
Пред глазами его расстилалась точь-в-точь та самая местность с перекрестком дорог, которая преследовала его во сне. Черная доска с надписью: «В сельцо Мало-Каменское» торчала теперь на столбе воочию перед ним в трех-четырех шагах…
И все это было уже явная, несомненная действительность.
— Стой, погоди! Это что такое?! — дико вскрикнул Красавкин, порывисто почти вываливаясь из саней и бегом кидаясь ощупывать столб с надписью.
Возница не вдруг остановил лошадей и удивленно-подозрительным взором оборотился на седока.
— Вы чаво ефто, барин, теперичи?…
— Я тебя спрашиваю, что это за столб?! — повторился нетерпеливый вопрос.
— Да как, што за столб?.. обныковенный столб… дорога тутотка в Мало-Каменска… на ем, стало-быть, ефто и прописано…
Красавкин как-то бестолково взмахнул руками и выпучил глаза.
— Сельцо Мало-Каменское!.. Да понимаешь ли ты, олух бессмысленный, как меня одолевают эти чертовские слова! — в несообразительной раздражительности воскликнул он, хватаясь за голову.
Седобородый мужичок тоже вылез из саней и, почесывая затылок, стал пристально, не без участия вглядываться в Красавкина.
— Да вы, батюшка-барин, пошто этак-то?… В голову вам, видно, вдарило шибко, аль попритчилось што!.. Оно, знамо, всяко бывает… чай, все под Богом ходим…
И, не получив никакого ответа от задумавшегося седока, возница сокрушенно покачал головой и развел руками…
— Ишь, ты дело-то какое выходит…накось!..
Очнувшись от минутной задумчивости, Владимир Иванович только теперь сообразил всю бестактность высказанного им и неловкость поступка своего вообще; он моментально принудил себя принять беззаботный вид и уже совершенно спокойно с усмешкой проговорил:
— Это я, голубчик, спросонья, задремал что-то… И перед этим в санях-то заснул крепко; да как меня на ухабе тряхнуло, я и не очнулся еще хорошенько.
— А… ну, коли так, в эфтим кака беда!.. С просонков, знамо, чаво не померещится! — с облегченьем согласился извозчик, принимаясь оправлять сбрую на лошадях.
Но Красавкин не торопился еще усаживаться в сани, пытаясь уяснить загадку более благоразумным способом.
— А скажи пожалуйста, что это за сельцо Мало-Каменское, далеко оно отсюда, большое это село?
— Да от поворота-то от ефтого оно пять верст будет. Ну а село-то оно — не шибко, чтобы большое… Усадьба тамот-ка барыни Юрасихи…
— Это, значит, имение Юрасовой, так, что ли?
— Да, этак, этак! — барыни Юрасовой… Овдовемши она таперечи…
— Да ты что же, сам-то бывал там, знаешь это село?
— Как же мне не знать-то яво?.. У меня там, чай, зять в фершалах состоит, при бальнице, значит… Егор Гаврилыч… Можа, и вы его знаете… Недавно он туда из города перешел.
Владимир Иванович с минуту соображал.
— Вот что: до села, где мы ночевать хотели, сколько еще верст осталось?
— Энто до Микольского-то? Да верст 12 либо все 15 еще будет.
— А если в сельце Мало-Каменском, там найдется у кого переночевать?
Возница зачесал затылок.
— Стало быть, вам желательно в Мало-Каменском ночевать-то?… В сторону оно будет вовсе, вот ведь што! — заключил он с сокрушенным вздохом.
— Ну об этом, что в сторону лишних ты 10 верст сделаешь, — толковать нечего: я тебе три или четыре рубля прибавлю. А только можно ли у кого ночевать-то там, в Мало-Каменском?
— А ежели энтакая-то милость ваша с прибавочной будет, так об ночевке там чаво и баить! — самодовольно поглаживая бороду, услужливо заговорил извозчик. — К Егору Гаврилычу — на што лучше!..
— Но удобно ли к нему будет?
— А пошто же нет-то?… Да он, можно сказать, человек как есть на господский лад… Всяки там науки превзошел, и не токмо што примет нас с превеликим удовольствием, а и со всяким почетом, потому, первое дело, я ему родным, значит, тестем прихожусь…
— Ну хорошо, если ты так уверен, так поезжай к нему! — решил Владимир Иванович, усаживаясь в сани.
Возница повернул лошадей на дорогу в сельцо Мало-Каменское и, работая теперь кнутом более усердно, добавил:
— А ежели вам, барин, примерно, скажем, и недужится маненько, так и в таком разе, будем говорить, на што лучше к Егору Гаврилычу побывать… Потому он по дохтурской части больно дошлая голова… какую хоть там болесть вызволит в лучшем виде…
Но совет этот пропал бесплодно, пролетев мимо ушей Красавкина, погрузившегося в дальнейшие соображения.
«Побываю в этом селе, погляжу на него, ну и все! — думал он. — И это будет самое лучшее. Тогда, вероятно, вся эта галиматья отвяжется от меня окончательно».
Почти уже в сумерки подъехали они к сельцу Мало- Каменскому.
Село выглянуло на вид из-под горы сразу, — самое заурядное, маленькое, захолустное.
На пригорке возвышалась крохотная деревянная церковь, окрашенная в лиловый цвет. Немного отступая, в зелени развесистых елей и целой роще голых прутьев из лиственных пород утопала господская усадьба. Пониже — к реке — тянулось десятка два убогих крестьянских хат, да в конце их, со значительным промежутком, выделялся двухэтажный дом грязно-желтой окраски — сельская больница.
К этому-то последнему зданию усталые клячи и подвезли Владимира Ивановича.
Фельдшер Егор Гаврилович, занимавший особый флигелек во дворе, встретил приезжих, действительно, очень радушно и «не без почета».
Это оказался молодой еще человек (из народа), правда, чрезвычайно гостеприимный, веселый и порядочный.
Особенно в нем понравилась Красавкину его исключительная скромность в одном отношении, слишком несвойственная сельским обывателям вообще, к какому бы классу они ни принадлежали. Он совершенно не касался в разговоре с Владимиром Ивановичем неприятных вопросов: кто, куда, откуда, зачем? — что в большинстве случаев непременно практикуется у русского народа с особенной пунктуальностью на первых же порах, а ограничился только осведомлением об имени и отчестве, причем отрекомендовался и сам и представил свою жену.
Очевидно, он был доволен редкостным посещением свежего, интеллигентного человека и рад был провести с ним время.
Не прошло и полчаса, как на столе кипел уже огромный самовар, окруженный выпивками и обильной закуской домашнего, незатейливого характера.
Владимир Иванович немедленно же, хотя и с достаточной осторожностью, начал осведомляться как о самом селе Мало-Каменском, так и о личностях наиболее выдающихся из его обитателей.
Но все, что сообщил в этом направлении на первых порах Егор Гаврилович, являлось очень ограниченным и не представляло для Красавкина ничего знаменательного.
Егор Гаврилович сам поселился в сельце Мало-Каменском тому назад не более пяти месяцев, перейдя сюда из городской лечебницы на место фельдшера при больнице, содержимой на средства помещицы Юлии Павловны Юрасовой. Он знал только, что Юлия Павловна овдовела приблизительно за полгода до его приезда сюда. Муж ее умер где-то заграницей, и тело его было привезено оттуда в свинцовом гробу и погребено на сельском погосте за церковью, в особом склепе, где теперь и горит неугасимая лампа. Юлия Павловна после смерти мужа безвыездно живет здесь, в своей усадьбе, с своей матерью, больной старушкой. Жизнь они ведут очень замкнутую. Вдова Юрасова — молодая еще и очень красивая женщина, по-видимому, продолжает сильно тосковать по мужу: ходит она в неизменном трауре, всегда печальная и очень часто, несмотря ни на какую погоду, посещает могилу мужа. Кроме помещицы, вся интеллигенция села состоит только из старика-священника да сельской учительницы, горбатой, пожилой девушки.
После двух-трех рюмок водки Владимир Иванович, с благосклонного разрешения хозяина, обратился к собственной запасной корзинке и, вслед за этим, на скромном столе фельдшера вспыхнул изысканный огонек жженки, шумно захлопали пробки редерера.
Красавкин любил иногда выпить и, нужно отдать ему справедливость, был в состоянии пить много, обладая и в этом случае счастливой, богатырской натурой.
Отведавши драгоценной шипучки, Егор Гаврилович расчувствовался еще более и стал откровеннее.
— А знаете, Владимир Иванович, — говорил он, — но только пускай это останется между нами, — за нашей вдовушкой-помещицей водится одна странность, и странность, можно сказать, очень загадочная и даже этак таинственная.
— Что же это такое? — насторожился Красавкин.
— Да видите ли, я вам уже говорил, что Юлия Павловна часто ходит на могилу мужа, ну-с, и знаете, в какое время она больше туда ходит?
— В какое же?
— По ночам-с.
— Гм… с кем же это она ходит туда? — ухмыльнулся Красавкин.
— То-то и есть что — одна-одинешенька, в глухую полночь, и просиживает там но несколько часов. А вы не видали здешнего погоста? Место это совершенно пустынное, позади церкви.
— Однако, что же она там делает по стольку времени?
— Да, во первых, ну этак поплачет немного, как водится, а потом, изволите ли видеть, разговаривает. Да-с, именно, разговаривает.
— Но ведь вы сами же говорили, что она туда ходит одна. Так, следовательно, что же, она сама с собой разговаривает, что ли?
— Ну, нет-с, по способу ее разговора, на это совсем не похоже.
— Тогда я ровно ничего тут не понимаю! — пожал плечами Красавкин и тут же спохватился: — А! впрочем, кажется, догадываюсь: значит, туда является еще некто — другой дорожкой, на свидание с ней?..
Егор Гаврилович выразительно замотал головой.
— Могу вас уверить, что ничего подобного!..
— Так, попросту, она психопатка?
— На это я вам опять-таки возражу: я почти каждое утро бываю у нее — ну, как бы сказать, с докладом, что ли, о состоянии больных — и с полной уверенностью могу утверждать вам, что более нормальной и здравомыслящей женщины не может и быть.
Владимир Иванович с скептической усмешкой опять пожал плечами.
— В таком случае повторяю, что все это совершенно непонятно. С кем же это она, по-вашему, ведет там разговоры?
— А вот тут-то и загадка! — таинственно подчеркнул Егор Гаврилович.
И затем он рассказал, что не далее, как с неделю тому назад, он сам собственными ушами слышал у ограды погоста в первом часу ночи этот странный разговор Юрасовой; причем вполне убедился, что Юлия Павловна была тогда на могиле мужа одна.
На вопрос Красавкина, почему способ ее разговора Егор Гаврилович нашел не похожим на то, чтобы она разговаривала сама с собой, — фельдшер объяснил:
— Да, видите ли, ее разговор тут был точь-в-точь такой же, как говорят в телефон: она так же, например, громко произносила вопросы, на которые не иначе, что получала чьи-то ответы, слышные только ей, так как речь ее была все-таки последовательной, и она в свою очередь отвечала на чьи-то вопросы.
— А не припомните ли вы даже что-нибудь из ее слов, что она тогда говорила? Это было бы еще интереснее! — с явной уже иронией подтрунил Красавкин.
— Да вот, если хотите, я хорошо помню, — задумчиво произнес Егор Гаврилович, — она тогда несколько раз упоминала «28 декабря»… и, далее, как я понял, она ждала в это число кого-то увидеть… Кстати, как раз это сегодняшнее число…
Слова эти точно обожгли Владимира Ивановича: он вздрогнул и отшатнулся. Пред глазами его с особенной ясностью на мгновение появилась призрачная доска с надписью и с тем же числом внизу: «28 декабря»…
— Да, это… это слишком странно! — вырвался из уст его чрезвычайно изумленный возглас.
Фельдшер взглянул на гостя с не меньшим удивлением:
— Что это вас так поразило?
— Да это я… тут мне показ… я хотел… — растерянно забормотал Красавкин и, чтобы замаскировать дальнейшее смущение, он порывисто налил полный стакан рома, залпом выпил его и вслед за тем, налив снова уже два стакана, настойчиво стал угощать Егора Гавриловича последовать его примеру.
Как ни отбарахтывался от такой солидной порции хозяин, но, в конце концов, уступил-таки желанию гостя и осушил весь стакан до дна.
Через полчаса Егор Гаврилович захрапел на диване мертвецки-пьяным сном.
Красавкин же продолжал оставаться твердым на ногах. У него только в голове шумело. Но зато он чувствовал большую бодрость и беспечность духа.
— Вдумываться и доискиваться знаменования какого- то химерического бреда… этого только недоставало! — брезгливо соображал он, накидывая на плечи легкую, дорогую шубу. — Нет-с, уж это мы предоставим женщинам и слабым натурам, а сами воспользуемся лучше прохладой и свежестью ночной…
И Красавкин вышел на улицу.
Время было уже около полуночи.
Морозный лунный блеск алмазными искрами переливался кругом по беззвучным снеговым равнинам.
Владимир Иванович вздохнул полной грудью и остановился в самодовольно-созерцательной позе.
— «И ночь, и луна!» Недостает только любви! — ухмыльнулся он, подвигаясь но пустынной дороге. — А впрочем, и в этом отношении, тут где-то недалеко обретается жаждущая любви вдова неутешная… Не послан ли я и в самом деле роком неисповедимым утешить ее… хе, хе, хе!.. Итак, сегодня 28 декабря… Ведь это что-нибудь, черт возьми, да значит же… да-с!.. Ну что же, в таком случае я, пожалуй, не прочь из сострадания этак оказать ей услугу… разумеется, если только она по своей наружности достойна этого… А интересно бы знать, где она сейчас пребывать изволит?.. Не там ли уж, над прахом милого супруга, практикуется в спиритическо-психопатической беседе… Не мешает, пожалуй, полюбопытствовать… Но где тут к тому месту злачному дорога?..
И Красавкин остановился и стал вглядываться.
При свете луны он вскоре же различил узкую тропинку по снегу, которая, сворачивая от дороги, извивалась вверх на пригорок, — как раз к церкви.
Владимир Иванович направился о этой тропинке, продолжая свои размышления все в том же игривом тоне.
Подойдя к церкви, он начал обходить ее кругом и тут же, встретив кладбищенскую изгородь, — остановился и стал прислушиваться.
С первых же моментов в беззвучной тишине ночи он ясно различил какой-то голос, который доносился откуда- то недалеко, но довольно глухо, как бы из дверей какого-либо здания.
Красавкин с возрастающим интересом добрался до обвалившейся калитки в изгороди и вошел на сам погост.
Среди немногочисленных покривившихся могильных крестов и столбиков, в местности ближе к церкви возвышалась серая, квадратная постройка склепа в виде часовни с куполообразной крышей под блестящим металлическим крестом. Дверь этого склепа была открыта и оттуда, в контраст алмазному блеску лунной ночи, пробивался красноватый полусвет, в котором виднелась темная человеческая фигура.
Подойдя ближе, Владимир Иванович хорошо различил, что фигура эта была женская и стояла к нему спиной. Но затем он сейчас же осторожно отошел немного в сторону, чтобы не быть заметным самому, и с напряженным вниманием начал прислушиваться.
До ушей его теперь совершенно ясно доносился из склепа мягкий грудной голос, который, именно как бы в телефон, говорил с перерывами:
— Если бы ты только знал, с каким нетерпением я ждала сегодняшнего числа… что?.. ну да, да, часы… а теперь уж и минут не могу дождаться… а?., да ты уж про это мне говорил… хорошо, хорошо, будь покоен, ни слова не буду про это поминать… Но неужели это правда, что я опять увижу тебя: ты сам придешь сюда?.. А мне все не верится…
Наступила некоторая пауза.
Владимир Иванович как-то невольно приблизился на несколько шагов к дверям склепа.
Голос же оттуда продолжал:
— Ты говоришь, осталось только несколько минут?.. О, Боже мой, дождусь ли я их!.. Приди же, приди ко мне поскорее!..
В этот момент Красавкин почувствовал в себе какое-то необыкновенное возбуждение, с настойчивой мыслью: «Надо подшутить над ней!» — и вслед за этим из уст его вырвался громкий возглас:
— Я уже здесь!
Из дверей склепа порывисто выскочила темная фигура, оглянулась и с распростертыми объятиями кинулась прямо к Владимиру Ивановичу.
— Володя, милый!.. Неужели это правда!..
Красавкин отшатнулся.
— Сударыня, вы ошибаетесь… я ведь только пошутил! — хотел проговорить он, но слова эти замерли на его устах: язык точно не повиновался ему…
Перед ним стояла высокая, стройная брюнетка в распахнутой, едва держащейся на плечах ротонде, и ее радостно-лучезарное лицо с черными, пламенными глазами, влажными от слез счастья, глядело при лунном сиянии дивно прекрасным…
Тонкие, гибкие руки обвились вокруг шеи Владимира Ивановича и страстные уста сливались с его устами в жгучем, трепетном поцелуе…
Кровь ударила в голову Красавкина. В первое мгновение у него было промелькнула мысль: «Не иначе, что эта женщина — сумасшедшая»; но затем всякое соображение отошло от него куда-то далеко — точно только теперь поглощенный им хмель разом затуманил его рассудок, разжигая лишь страстное обаяние красоты…
А чудная женщина, между тем, оборотив его лицо против луны и любовно вглядываясь в него, говорила:
— Милый, дорогой мой, ты ведь ни капельки не изменился… совершенно как был… Возьми же меня к себе, возьми, как обещался ты!..
— Но когда же я это обещался?.. И куда же я тебя… то есть, вас возьму? — недоумевал Красавкин.
— Ах, да, да… Понимаю! Про это ведь говорить нельзя… О неестественности нашего положения даже и намекать не следует… Хорошо, хорошо, не буду!.. От радости забыла я об этом… Ну, тогда пойдем ко мне!
Она взяла Красавкина под руку и он автоматически последовал за ней.
Они вышли с погоста, обогнули церковь и направились к господской усадьбе.
Дорогой красавица, продолжая горячие ласки, между прочим говорила:
— Друг мой, знаешь ли, как я обрадовалась, когда случайно нашла в витрине одной фотографии твой портрет… И с каким восторгом сейчас же купила его… А я так и думала, что ты и правда никогда не снимался…
— Как никогда?.. Напротив, я снимался много раз! — возразил Красавкин.
— Однако тогда, прежде, — подчеркнула брюнетка, — ты сам же уверял меня, что никогда не станешь сниматься…
Ровно ничего не понимая, Владимир Иванович сделал только неопределенный жест, поводя очарованными глазами.
А красавица еще крепче прижималась к нему и нежно-умоляюще прошептала:
— Милый, хороший мой, скажи хотя теперь вполне откровенно: ты никогда не обманывал меня и не изменял мне, нет?
— Да это была бы совершенная невозможная вещь! — по-своему основательно ответил Красавкин.
— Хорошо, хорошо, теперь я вполне верю! — и слова эти спутница заключила новым горячим поцелуем.
Тут они подошли к крыльцу барского дома, и красавица, освободив свою руку из-под руки спутника, сказала ему, чтобы он с минутку подождал за крыльцом, покуда она удалит прислугу, которая в противном случае, увидя его, непременно страшно перепугается и поднимет переполох.
— Неужели я так страшен?! — удивился Красавкин.
— Напротив, ты мил и хорош бесконечно, — возразила спутница, — но ведь ты сам знаешь, как все это необыкновенно…
— Да, впрочем, правда, положение тут не совсем удобное! — согласился и Владимир Иванович.
Через минуту он вошел в дом, никем не замеченный…
Он провел там ночь… «безумную, бессонную ночь», полную тех же неизъяснимых тайн жгучего сладострастия, за которые самоотверженные обожатели египетской царицы платили ей ценой своей жизни…
Под утро лишь, истомленный негой необузданной страсти, он забылся тяжелым сном; но вскоре же на рассвете проснулся и с изумлением огляделся вокруг.
Черноволосая красавица с бледным, античным лицом и полуобнаженной пышной грудью дышала рядом с ним в крепком сне.
Все подробности минувшей ночи ярко восстали в памяти Красавкина. Голова его хотя и была тяжела, но соображение теперь господствовало в ней с достаточной ясностью.
Почти с ужасом он вскочил на ноги и торопливо, но бесшумно стал одеваться.
— Какая гнусная подлость и мерзость! — злобствовал он мысленно сам на себя. — Воспользоваться сумасшедшей женщиной!.. покуситься на безумного человека!.. Ай, ай, ай! Какую же, однако, низость и скверность я сделал!.. Скорее бежать, бежать отсюда!..
Но тут он вспомнил разговор о его собственном портрете и стал оглядываться: нет ли его здесь где-нибудь? Но портрета тут не оказалось.
Одевшись, Владимир Иванович, крадучись, пробрался в сени, осторожно отворил двери и вышел на улицу. Тут только он вздохнул свободнее и поспешно направился мимо церкви.
Рассветало уже порядочно.
Миновав церковь, Красавкину опять бросился в глаза вчерашний склеп.
— А все-таки, разве зайти, посмотреть, что в нем такое?
И он, недолго думая, перелез через невысокую изгородь и по ближней тропинке подошел к склепу.
Ажурные металлические двери склепа были открыты и внутри его видна была мраморная гробница с надписью на передней стороне: «Владимир Петрович Юрасов. Скончался 28 декабря 190… На стене, противоположной двери, горела лампада перед образом, а пониже образа белелось еще какое-то изображение.
Владимир Иванович вошел в склеп и с зажженной спичкой приблизился к этому изображению.
Оно-то и оказалось его собственным портретом кабинетного формата, вделанным под стеклом в степу склепа…
Волосы на голове Красавкина зашевелились и хриплый вздох ужаса вырвался из его груди…
С минуту он стоял как окаменелый и вдруг в его голове вихрем пролетели странные соображения, которые, как почудилось ему, разом объясняли всю загадку:
— В этой могиле лежит мой двойник… и вот этот мертвец обещался своей вдове, что придет к ней в годовщину своей смерти, именно 28 декабря, и утешит ее своими ласками… И он сдержал свое обещание и явился к ней в моей личности… Да, я пришел вчера сюда именно в образе мертвеца и пришел я потому, что мертвец внушил мне чрез этот проклятый сон и галлюцинацию, — заставил меня явиться сюда вместо него, чтобы утешить эту женщину… ха, ха, ха, ха!..
И этот дикий смех его, с дребезжанием прозвучав над мраморной гробницей каким-то глухим эхом, отозвался, казалось, откуда-то из под земли…
И Красавкин, как безумный, выбежал из склепа.
Николай Давыдов ТАРАНТАС-ПРИЗРАК
У Бавиных в этот вторник было очень оживленно за ужином. И хозяин и гости декламировали по очереди шуточные, малоизвестные стихотворения в жанре Кузьмы Пруткова, рассказывались веселые анекдоты и целые сцены.
Наконец очередь дошла до музыки и при звуках фортепиано, за которое сел кто-то из присутствующих, замолк шум разговоров. Григ, Шопен и Чайковский настроили общество несколько на иной лад и, особенно в женской его половине, зародился запрос на что-либо более серьезное, чем смешные рассказы и сцены, даже запрос на мистическое.
Сначала дело это не налаживалось и никто не брал на себя обязанность серьезного рассказчика; гости стали уже посматривать на часы, но положение неожиданно спас малознакомый обществу молодой человек, из судейских, временно гостивший в Москве провинциал, — Петр Петрович Граблин.
Он объявил, что передаст событие, недавно им пережитое и очень странное, пожалуй, даже фантастическое.
— Рассказ мой, — начал свое повествование Граблин, — связан со смертью моей тетки, скончавшейся недавно в небольшом своем имении, скорее хуторе, «Дубравке», расположенном в десяти верстах от станции С.-В. железной дороги. Тетушка моя — Аделаида Сергеевна Хижина, вдова генерала, бездетная, уже за пятьдесят лет, жила за последние годы в «Дубравке», где имелся небольшой деревянный господский дом с хозяйственными постройками и флигелем; в последнем ютились на положении «богаделок» несколько старушек, жалких, забитых жизнью, бездомных, подобранных где-то Аделаидой Сергеевной, отличавшейся редкой добротой.
Скончалась Аделаида Сергеевна внезапно, по-видимому, от кровоизлияния в мозг; она была дама полная и вела образ жизни сидячий. Случилось это поздней осенью, в октябре, и в это время у нее, кроме постоянных ее сожительниц-старушек, гостили только две младшие ее внучки, мои кузины, совсем молоденькие барышни. Они так растерялись от неожиданного несчастия, что не знали, что им предпринять и кого уведомить, и уже одна из старушек догадалась послать мне в Т., где я живу с сестрой, телеграмму.
Мы с сестрой тотчас же собрались и выехали в имение тетушки в тот же день с вечерним поездом; в первом часу ночи мы были уже на нужной нам станции. Оттуда до хутора всего десять верст по шоссе и потом в сторону с полверсты.
Ночь была, как оно и полагается осенью, темная, — зги Божьей не было видно; дул холодный, порывистый ветер, нанося низкие, густые тучи, тотчас же выливавшиеся дождем на мокрую, грязную и без того землю. Мы наняли одного из стоявших на станционном дворе извозчиков парочкой в коляске, то есть, в сущности, в пролетке, и двинулись в путь, не желая ночевать на неприглядной станции, грязной, полутемной, вонявшей накоптившими керосиновыми лампами, в обществе нескольких серых, сумрачных фигур, валявшихся или дремавших, сидя на лавках. Как только мы вышли на крыльцо станции, нас охватило ветром и в лицо брызнуло дождем; пришлось поднять верх пролетки и натянуть на ноги дырявый, давно не отстегивавшийся, заскорузлый кожаный фартук. Скоро по верху и по фартуку застучал крупный дождь, и как мы ни укрывались от усилившегося, казалось, резкого ветра, прижимаясь к задку пролетки, он проникал к нам со всех сторон, обдавая холодными брызгами. Вообще, нам чувствовалось очень скверно и полная темнота достаточно-таки смущала нас. Беловато-серую линию шоссе можно было, впрочем, кое- как разглядеть на остальном, уже безусловно черном фоне, а извозчик наш, знавший, конечно, наизусть каждый толчок на этой дороге, и совсем не унывал, поддерживая тем в нас некоторую бодрость, и подгонял лошадей, весело покрикивая, словно бы ехал днем.
По дороге до Дубравки всего одно жилье — постоялый двор, стоящий на восьмой версте от станции; а как раз у девятого верстового столба съезд с шоссе направо, через канаву по мостику, и идет грунтовая, обсаженная ветлами и обкопанная канавой, дорога до усадьбы тетушки. Других свертков с шоссе до этой дороги нет, а первое селение — Иванищево — находится в версте за поворотом на хутор. Прямая дорожка, ведущая в Дубравку, не идет никуда дальше и с нее нет ни одного бокового съезда.
Извозчик отлично знал, где надо сворачивать на Дубравскую аллею и даже в это утро возил кого-то со станции к тетушке, но я все-таки от времени до времени высовывался из пролетки, стараясь разглядеть дорогу.
Ехали мы довольно быстро, не встречая и не обгоняя решительно никого, что было неудивительно в такую темную, ненастную ночь, и вскоре миновали постоялый двор, видный издалека светившимися еще окошками и по еле мерцавшему зажженному фонарю, укрепленному на столбе около крыльца. Судя по времени, прошедшему с тех пор, как мы миновали постоялый двор, мы должны были уже находиться у мостика, но верстового столба не было видно. Извозчик остановил лошадей, утверждая, что мы, несомненно, подъехали к повороту, и слез с козел, чтобы провести через мостик лошадей под уздцы. Нам не было видно ямщика, но мы слышали его шаги, сначала удалявшиеся, потом опять приближавшиеся; он долго бродил по обе стороны от пролетки, ворча, зажигал спички, гасшие тотчас же на ветру, и, наконец, вернулся к нам, не найдя ни верстового столба, ни мостика.
Он, видимо, был расстроен и даже ругался.
— Черт лысый унес столб! На дрова ему понадобился, — ворчал он, влезая на козлы.
Мы шагом, внимательно следя за дорогой, двинулись вперед и, наконец, въехали в околицу Иванищева: очевидно, мы прозевали съезд. Пришлось, конечно, вернуться; несколько раз мы останавливались; и я, и извозчик слезали и шли пешком, спускаясь даже в придорожную канаву и перебираясь на ту сторону шоссе; но верстовой столб, мостик и ветловая аллея положительно исчезли. Мы опять сели в экипаж и проехали по направлению к станции до постоялого двора; оттуда двинулись шагом и, наконец, извозчик, передав мне вожжи, слез и пошел пешком по самой канаве, рассчитывая если не увидать, то прямо-таки натолкнуться на мостик. Но переезда не было и мы, неожиданно, вторично очутились в Иванищеве. На обратном пути опять не оказалось мостика и мы дотащились до постоялого двора… Становилось жутко.
Что-то творилось с нами неладное.
— Не заночевать ли на постоялом? — заговорил струсивший извозчик. — Куда еще ехать? Нас прямо-таки леший водит. В Дубравку ни за что нам не попасть! Уж это верно!
Но я не согласился. Не верить же в лешего! Да и сестра запротестовала.
Мы в третий раз тронулись вперед от постоялого двора, и вдруг до нашего слуха долетели сперва неясные, а потом все более и более отчетливые звуки бубенцов. Вскоре мы нагнали бежавшую легкой рысцой тройку, запряженную, судя по звуку колес и всего хода, в тарантас; подъехав ближе, мы разглядели даже, как нам казалось, кузов экипажа…
На том месте, где должен был находиться поворот на Дубравку и где мы только что исходили вдоль и поперек все шоссе, шедшая впереди нас тройка, за движением которой мы следили по гудению бубенцов и шуму колес, повернула на всем ходу направо, и мы тотчас же различили топот лошадей и гул колес по мосту, а затем шлепанье лошадей по мягкой грязи.
Извозчик наш даже перекрестился.
— Ваше благородие! Ведь вот он сверток-то! Где ж он прежде был? Барин, а тройка-то не наша, господская! Чудеса! И тоже к Хижиным едет!
Следуя вплотную за тарантасом, мы въехали на мостик, у которого на этот раз заметили-таки версту, и зашлепали по размякшей грунтовой дороге, не отставая от тройки. Подъезжая к воротам усадьбы, я велел извозчику немного задержать лошадей, чтобы дать время въезжавшим в этот момент во двор путникам выйти из экипажа.
Нас в Дубравке ждали. На крыльце дома стояли несколько человек и старый слуга Хижиной держал в руках зажженный фонарь, при свете которого мы с чувством великого облегчения выбрались, наконец, из пролетки. Кузины встретили нас заплаканные, расстроенные и тотчас же сознались, что необычайно рады нашему приезду, а то им одним со старухами тяжело и даже страшно стало на хуторе, особенно к ночи.
— А кто это приехал как раз перед нами в тарантасе? — спросил я.
— Никто не приезжал, — отвечали кузины. — Вы первые и единственные наши гости. Утром только был вызванный нами доктор, но он уже не застал тетушку в живых. Вас мы давно поджидаем и уж отчаялись, а тут Иван, наконец, услыхал шум вашего экипажа, пока вы еще не въехали во двор; кроме вас, никого не было.
Мы переглянулись с сестрой и ничего не сказали про указавший нам путь и предшествовавший до самого крыльца тарантас. Но обоим нам стало очень не по себе.
Мы только тут сообразили фантастичность появления тройки как раз у Дубравского мостика. Откуда взялся этот тарантас? Он оказался впереди нас… Но ведь этого не могло быть! Ведь мы только что доезжали до Иванищева, не встретив никого, а он двигался в одном с нами направлении, от станции. Оттуда, к тому же, никто, кроме нас, и не выезжал, да у здешних извозчиков и не бывает таких бубенцов. И куда же, наконец, девалась тройка с тарантасом? Дорога с шоссе ведет только на усадьбу тетушки и кончается тут, не идя никуда дальше: проехать мимо усадьбы невозможно.
Все это мы с сестрой обдумали молча, про себя, но извозчик, попросивший дозволения поставить где-нибудь и покормить замотавшихся лошадей и побыть до утра на усадьбе, рассказал, конечно, на людской о встретившемся нам тарантасе-призраке, а из людской рассказ его перешел быстро во флигель старушек и, наконец, на нашу половину.
Я, однако, не желая пугать и без того нервно настроенных кузин, объявил, что тарантас мы, действительно, встретили, но только на шоссе и что он вовсе не въезжал в Дубравскую аллею.
До света было еще далеко, назавтра ожидался утомительный день, и я попросил отвести мне где-нибудь место, чтобы прилечь и соснуть.
В доме не было свободной комнаты, и я отправился в стоявшую за домом в саду баню, где мне наскоро постлали на лавке постель. Мне и в прежние приезды не раз приходилось ночевать там.
Не раздеваясь, я завалился на лавку, потушил свечу и уже стал было засыпать, когда услыхал, как с шумом растворилась наружная дверь, ведшая в предбанник, которую, как мне помнилось, я запер на крючок. Я прислушался и сейчас же до меня долетел совершенно явственно скрип двери из предбанника и кто-то, тяжело шлепая обутыми в мягкое ногами, вошел в баню и, постояв немного на месте, двинулся ко мне; я расслышал даже скрип одной плохо пригнанной половицы. Я схватил положенную рядом со мной на стул спичечницу, зажег свечу и убедился, что в бане никого нет. Наружная дверь оказалась запертой на крюк, плотно лежавший в петле.
Результат нервного настроения, навеянного смертью тетушки и странной историей с тарантасом, подумал я и, хотя уже не так охотно, но расположился опять на постели и, подождав немного, потушил свечу.
Но как только я очутился в темноте, я услыхал, — я не галлюцинировал и мне ничего не «казалось», — тот же очень громкий шум отворяемой с силой двери в предбанник, скрип второй двери…
Я вскочил и схватил спичечницу, но, торопясь, выронил ее; пока я искал спичечницу, шаря по полу, я слышал, как, тяжело шлепая мягкими туфлями, ко мне приближался, не спеша, кто-то грузный.
Я, сознаюсь, испугался этого молчаливого, не видного, но несомненного движения на меня чего-то неведомого, хотел крикнуть, но не мог и, найдя, наконец, спичечницу, сел на лавку и чиркнул спичку, но она не зажглась; в это время я почувствовал, как на мою лавку, в ногах постели, опустился пришедший, — лавка погнулась под его тяжестью… Спичка вспыхнула и я, не глядя в ту сторону, где «он» сел, зажег свечу и, наконец, заставил себя посмотреть туда… Ни на лавке, ни где-либо еще в бане не было никого, и дверь опять оказалась запертой.
Я уже не решился тушить свечу и, хотя прилег, но чувствовал, что не засну. Свеча плохо освещала темную, закоптелую баню; на нее тянуло из окна и пламя колебалось; казалось, вдоль стен двигаются какие-то тени; по наружной стене бани порывисто и назойливо стучали сучья куста, росшего подле, раскачиваемые ветром; слышно было, несмотря на шум дождя, как на усадьбе отвратительно завывала собака.
Я не сомневался в том, что мои испытания еще не кончились и ждал чего-то; по спине пробегал неотвязный холодок и охвативший меня неразумный страх все нарастал. И вот, наконец, раздались удары в окошко, а потом в наружную дверь. Я бросился в предбанник, но не решался отворить дверь. Однако, удары учащались и мне не под силу стало слушать их, ничего не предпринимая. Держа перед собою свечу, я снял крюк с петли… В то же мгновение дверь распахнулась и свечку задуло порывом ветра… Не знаю, что было бы дальше со мною, если бы я не узнал голос сестры, робко и испуганно спрашивавшей: «Петя, это ты?»
Сестра пришла ко мне в сопровождении обеих кузин, чтобы звать в дом, где они не решались оставаться одни без меня. Там было нехорошо.
— Покойная тетушка ходит по всему дому, словно ищет чего-то, — уверяли буквально дрожавшие от ужаса кузины.
По их словам, как только они улеглись и потушили огонь, в спальне тетушки, где она скончалась, послышались шаги и небезразличные…
Они обе узнали тетину походку, какая у нее была под конец ее жизни, тяжелая и в мягких теплых туфлях. Шаги были сперва слышны в тетиной спальне, в коридоре, столовой и, наконец, приблизились к комнате кузин, которые сидели на своих постелях, не смея двинуться и даже заговорить. Но в это время к ним вошла с зажженной свечой сестра, и страшные звуки замолкли. Слышали эти шаги не только кузины и сестра, а также одна из флигельных старушек, оставшаяся на ночь в доме и сидевшая в кухне.
Я, конечно, исполнил желание кузин, и в эту ночь мы уже более не ложились, не тушили нигде огня и сидели все вместе в столовой до утра. Шагов более не было слышно.
Утром приехал приходский священник и была отслужена первая панихида по тетушке. Раньше нельзя было добиться священника: приходский и два соседние батюшки отсутствовали в день смерти тетушки; все они были на освящении новой церкви большого соседнего села и вернулись к себе лишь поздно вечером.
Тетушкины старушки, посовещавшись, выяснили для себя совершенно бесспорно причину странных явлений, свидетелем которых мне пришлось быть.
По их авторитетному толкованию, тройка, явившаяся нам на шоссе, была не что-либо реальное, а видение, посланное нам покойной тетушкой, душа которой еще не рассталась окончательно с земным, чтобы помочь нам добраться до нее. Шаги в бане и доме были ее, — ходила сама покойница; а потому ходила, что не было успокоения ее душе, и она требовала себе от нас молитвенной помощи. Скончалась она скоропостижно, не только без исповеди и причастия, но и без последнего напутствия; никто и отходной над ней не прочел, а потом более суток по ней не было отслужено панихиды; ей оттого не было покоя.
Решение старушек подкреплялось, по их словам, тем, что на следующую ночь, да и дальше в бане и в доме все было покойно и никаких шагов не было слышно.
— Лично для меня, — добавил Граблин, — история эта, то есть не столько шаги, которые, конечно, могли быть результатом настроенного нервно и в определенном направлении воображения, притом у всех нас одинаково, а появление и исчезновение тройки с тарантасом, — осталась совершенно неразгаданной. Во всяком случае, это не плод моего воображения: кроме меня и сестры, слышал и видел тройку извозчик, молодой малый, по-видимому, вовсе не нервный, посторонний нам.
Приподнятое настроение общества, под влиянием странной истории Граблина, очень понизилось, да было уже поздно, и гости поспешили разойтись по домам.
Л. Л. Толстой НЕОБИТАЕМАЯ УСАДЬБА
Илл. В. Ч.
В Рязанской губернии есть старая-престарая усадьба, давно заброшенная владельцами и до сих пор никем не обитаемая, несмотря на ее красоту и великолепный каменный дом в три этажа.
Вокруг дома раскинулся прелестный парк, украшенный вековыми липовыми аллеями, старыми соснами, вековыми дубами и плакучими березами.
Перед домом течет изгибами красивая река.
Почему же в этой усадьбе никто не живет, кроме сторожа с женой, детьми и тремя ценными собаками? Почему уехали из нее владельцы? Почему усадьба эта переходила уже десятки раз из рук в руки и до сих пор ни зимой, ни летом никто не может жить в ней более суток?
Я расскажу вам, что мне удалось узнать об этом таинственном месте от одного из бывших владельцев этой усадьбы барона Александра Ш., который два года тому назад скоропостижно скончался. Бедный барон, — он не думал так скоро умереть и все еще мечтал о богатстве и счастье. Для него это были синонимы.
Я познакомился с ним случайно в одном ресторане, и вот что он поведал мне в одну бессонную ночь за бутылкой шампанского.
— Я купил эту усадьбу по газетному объявлению, — сказал барон, — она мне чрезвычайно понравилась, и я охотно заплатил за нее сорок пять тысяч, которые с меня просили. Тем более, что станция всего только в двух верстах, там же почта, доктор, телефон, вообще, все удобства.
В мае прямо из Петербург мы переехали с семьей на новоселье.
Около двенадцати дня мы приехали со станции на усадьбу, а на другой день в полдень уже навсегда ее покидали.
Надо вам сказать, что третий верхний этаж дома состоял из шестнадцати совершенно пустых комнат. Эти комнаты были расположены по двум сторонам длинного коридора и каждая имела по два окна… В этих комнатах на потолках висели чугунные кольца, по четыре кольца в каждом углу, а в простенках между окнами были устроены какие-то странного вида ниши, в которых можно было сидеть. Так как стены дома были толщины неимоверной снизу до самой крыши, то ниши эти были довольно глубокие. Я никак не мог понять, для какой надобности были кольца в потолках и для чего были устроены ниши, и, хотя мы предположили, что кольца были для подвешивания провизии в старое доброе время и ниши, может быть, для той же цели, мы все же не были убеждены, что предположения наши верны.
В верхнем третьем этаже мы решили устроить наши спальни.
Второй этаж состоял из парадных комнат.
Чудный просторный зал с балконом на реку, за ним столовая, потом три гостиные, — все эти комнаты в ряд были меблированы старинной мебелью красного дерева и были необыкновенно симпатичны на вид. Правда, в них не было уюта, они казались необжитыми, но от них веяло стариной и благородством.
Я почувствовал себя дома, когда первый раз прошел через них; точно я попал не в центр России, а в наш культурный и чистый Прибалтийский край.
Впрочем, я буду краток… Вам интересно, почему мы не остались в усадьбе и почему так скоро ее покинули… Можете верить мне или не верить, я расскажу вам все, что сам видел и что сам испытал за эти ужасные сутки.
С дороги мы очень устали. Но красота местности и чудная погода так подействовали на нас, что мы не чувствовали усталости до позднего вечера, и только, когда солнце зашло и взошла не совсем еще полная луна, мы вернулись домой из парка. Выходили мы и в поле, ходили в лес, бродили по берегу речки.
В столовой нас ждал чай и деревенский ужин. Маленькие дети, три мальчика, ушли спать раньше, а я, жена, француженка и старшая дочь остались еще сидеть за самоваром.
Я никогда не забуду того настроения блаженства, какое я испытывал в тот вечер. После опротивевшего Петербурга, после пустой городской жизни я отдыхал душой, глядя через открытые громадные итальянские окна в зеленый сад и на чистое весеннее небо с редкими тучками.
Соловьи пели в сиреневых кустах звонко, страстно, точно какая-то необыкновенная радость готовилась на земле.
И я тоже испытывал необыкновенную радость, точно со мной случилось какое-то громадное, неожиданное счастье.
В двенадцатом часу мы последние с женой пошли наверх, в нашу спальню. Это была четвертая комната справа по коридору, а в трех первых спали дети и наша француженка.
Кое-как и пока наспех все эти комнаты были меблированы привезенными отчасти из Петербурга, отчасти из Рязани кроватями и комодами, и теперь, казалось, почти все было готово для того, чтобы начать безмятежно проводить давно жданное лето. Мы разделись и легли… Я потушил свечку.
Луна светила прямо мне в лицо через одно из незанавешенных окон, которые были на юго-восток. Штор пока не было, и, чтобы избавиться от яркого лунного света, я встал и стал на булавках привешивать к окну мой дорожный плед. Второе окно было уже завешено каким-то темным одеялом.
Жена, очень утомившаяся за день, молчала и, казалось, засыпала.
Я кое-как повесил плед и снова лег в постель. Было уже за полночь.
Я повернулся на правый бок и закрыл глаза.
Только что я успел забыться, как страшные, рыдающие звуки заставили меня насторожиться и я ясно расслышал в соседней комнате жуткие, глухие рыданья. Я испуганно привстал в постели, думая, что плачут дети и что что-нибудь случилось с ними. Громко, насколько мне помнится, я произнес:
— Что такое?
От звука моего голоса проснулась жена и тоже приподняла голову.
— Слышишь? — спросил я ее.
— Да… Кто это? — в страхе спросила она.
— Не знаю.
Рыдания продолжались — упорные, глубоко грустные и неописуемо жуткие, надрывающие сердце и нервы. Вне себя от ужаса, я не знал, что делать. Это не было в комнате детей, а было дальше, в следующих комнатах, и рыдал теперь не один человек, а рыдали сразу многие, многие голоса, десятки, может быть, сотни.
Сначала слышались только женские голоса, но потом присоединились к ним и мужские, и все они слились в один адский, скорбный, безнадежно-скорбный хор. Они плакали, стонали, всхлипывали, все эти странные голоса, и близость их была так ужасна, что волосы шевелились у меня на голове, а может быть, и встали дыбом.
Барон провел рукой по своей лысой голове и улыбнулся.
— Да, — продолжал он, — я улыбаюсь теперь, а тогда было не до улыбки.
— Что же вы сделали? — спросил я, заинтересованный его сказкой, — пошли посмотреть?
— Да, пошли, — бледный, продолжал барон, — и хорошо сделали, что пошли!
Вообразите, я взял в руки револьвер, жена взяла другой, и мы с ней вместе со свечкой в руках вышли в коридор…
В коридоре продолжалась то же самое. Рыдания и плач стали только ближе. Они доносились теперь ясно из всех комнат, кроме тех, в которых спали дети.
И вот мы подошли к двери пятой комнаты. Я сразу храбро отворил ее настежь. В ней не было никого. Так же торчали чугунные кольца на потолках и так же в пустой нише никого не было.
Я закрыл дверь и бросился ко второй комнате.
Так же, когда я растворил ее дверь, в ней никого не оказалось.
Но как только я затворил за собой обе эти двери, так опять за ними послышались те же глухие рыдания.
Мы бросились открывать двери всех комнат подряд и заглядывать в них и каждый раз повторялось то же самое. Тогда мы, ошеломленные, остановились среди коридора, не зная, что делать, что дальше предпринимать.
— Нам это чудится, — сказала жена, — мы нездоровы.
— Вероятно, — согласился я.
— Давай разбудим mademoiselle, — предложила жена, — если мы нездоровы, она ничего не услышит. Если же и она услышит, значит…
— Хорошо…
В страшном нервном возбуждении я прошел быстро к двери, где спала француженка, и постучал в нее. Жена все время цеплялась за мою руку и жалась ко мне. Все так же мы слышали вокруг себя несмолкаемый рев жалобных стенаний, от которых становилось мучительно тяжело на душе.
Особенно один жалкий голос кричал что-то неопределенное визгливо и пронзительно, выделяясь среди других.
Француженка в ужасе вскочила и в рубашке подбежала к двери. В ту же минуту она испуганно вскрикнула и стала спрашивать, что случилось. Мы вызвали ее в коридор. Она накинула халат и выскочила к нам.
Никогда не забуду ее лица. Оно исказилось до неузнаваемости. Глаза ее раскрылись и брови поднялись до волос. Она вдруг бросилась к нам, но не удержалась на ногах, упала и стала биться на полу в нервной истерике. Ее плач присоединился к плачу всех остальных голосов.
Неожиданно блеснула сильная молния и раздался страшный удар, а за ним раскаты грома.
Откуда нашла весенняя туча?
Небо только что было почти чисто.
И в ту же секунду все двери всех двенадцати свободных комнат настежь распахнулись и ветер со свистом пронесся по коридору, распахнув в конце его и двустворчатое окно.
Из каждой двери стали медленно выходить какие-то страшные, жалкие фигуры. Одни были сгорблены, другие — с окровавленными частями тела, третьи — больные, четвертые — хромые, пятые — с искаженными отчаянием и злобой и скорбью лицами, — на всех их лежала печать приниженности и рабства.
Я уже не помню ужаса, который сковал меня в ту минуту. Я даже совсем не помню, что я тогда испытывал. Я только смотрел на эту толпу несчастных людей, собиравшуюся перед нами, и мне было так искренне жаль их, что я только думал о том, как я могу помочь им.
— Что вам? — спросил я их. — Что с вами? Говорите же!
Они не отвечали мне, даже не замечали нашего присутствия и продолжали жаловаться и рыдать. У одного больного вся половина оголившегося тела была покрыта живыми червями.
— Александр! Александр! — в отчаянии вскрикнула моя жена, падая мне на плечи. Рыдания вдруг прекратились; лица несчастных просветлели.
— Александр!.. — благоговейно проговорили тени в один голос.
И вдруг все исчезло.
Гром умолк. По крыше застучал весенний благодатный дождь. Все двери комнат беззвучно сами собой затворились.
По коридору промелькнула маленькая фигура старика в красном бархатном халате и парике, который стремительно убегал куда-то.
Я едва пришел в себя. Едва мы привели в чувство бедную француженку, и только, когда она убедилась в том, что рыдания в комнатах прекратились, она чуть-чуть успокоилась. Мы поклялись ей и друг другу в том, что завтра же мы навсегда покинем усадьбу.
Всю ночь шел дождь, изредка гремел гром. Рыданий больше не было слышно. На другое утро, к удивлению всех наших служащих, мы велели спешно собираться и в тот же день после завтрака покинули заколдованное место. Я спрашивал местных жителей, не слыхали ли они чего-нибудь особенного об усадьбе, не слыхал ли кто-нибудь сам, как в доме рыдают по ночам.
Никто ничего не знал и все только снисходительно мне улыбались.
Я очень скоро и легко перепродал мою красивую усадьбу одному русскому купцу, но он не прожил в ней и двух дней и снова продал ее новому охотнику, который поступил с ней так же, как и мы.
Георгий Северцев-Полилов ГРИФ
Совсем уже свечерело, когда я высадился на малолюдной платформе станции; время близилось к семи часам. Пока я расспрашивал о дороге, отыскивал извозчика, говорил с начальником станции, прошло около часа. Наконец, возница нашелся, в сани уставили мою довольно большую корзину со стеклянными образцами, закутали мне ноги толстым войлоком, и сытая лошаденка мерной рысью повезла нас по гладко укатанному морозом проселку. Немного отъехав от станции, мы сразу попали в густой еловый бор.
— А не все ли тебе равно? Сегодня другого поезда уже не будет, везти на станцию некого.
— Да, сегодня, если бы и было кого везти, ни за что бы не повез: праздник большой наступает.
— Какой же праздник? — изумился я.
— Рождество завтра…
Тут только я вспомнил, что сегодня — одиннадцатое число, а по новому стилю — двадцать четвертое! Прибалтийские немцы справляют свои большие праздники по заграничному календарю.
— Что ж, ты прав, ступай тогда скорее, я не против того, чтобы ты успел попасть в кирку к вечерней службе, — согласился я, и меньше, чем в час, мы были на обширном дворе богатого помещичьего дома.
Длинный, невысокий старинный флигель, слегка изогнутый по концам, казался каким-то червяком-исполином с огненными глазами.
Не ожидая особого приглашения, я выбрался из саней, расплатился с возницей, не позабыв дать ему хороший Trinkgeld[5], и поднялся на невысокое крыльцо. Ящик внесли за мной. Дверь была открыта, я вошел в большую переднюю, где молодой парень, в серой куртке на меху, снял с меня шубу и стащил с моих ног меховые высокие калоши.
— Bitte, mein Herr[6], — пригласил он меня, открывая дверь в комнаты.
В большом, но низковатом помещении, заставленном старинной мебелью, находилось человек десять-пятнадцать. Большая часть из них, столпившись, стояла вокруг небольшого фисгармониума, на котором играла молодая женщина. Пели один из бесчисленных немецких хоралов. Из кучки выделился высокий, полный, еще не старый мужчина; он подошел ко мне и, узнав о причине приезда, радушно проговорил:
— Очень рад, что вы попали к нам в такой великий вечер; надеюсь, что не откажетесь провести его с нами!
Сейчас же я перезнакомился с остальными присутствующими, — они оказались родственниками говорившего со мной хозяина.
Около стола в старом дедовском высоком кресле сидел отец владельца имения, «древний денди» Отто фон Е. Несмотря на свои девяносто два года, старик так сильно сжал мою руку, что я невольно поежился. Он, родоначальник целого поколения, бодро поглядывал на своего старшего сына Вильгельма, на остальных своих детей: Карла, замужнюю дочь Шарлотту и молодую еще девушку Клару.
Все это были рослые, здоровые люди, мало чем уступающие старику отцу.
— Это моя младшая, — объяснил мне старый Отто, указывая на Клару, — ей всего только девятнадцать лет, она у меня от третьей жены, последыш. Ну, подойди, моя крошка, сделай книксен этому господину! — ласково обратился он к «крошке», перед которой я казался лилипутом. Девушка церемонно исполнила все, что требует немецкий этикет.
— А где же ваша супруга? — спросил я старика. Он молча указал рукой вверх и, немного спустя, медленно ответил:
— Они все три на небе, у всемилостивейшего Творца! А Конрада все еще нет? — недовольно обратился он к Шарлотте.
Молодой, если так можно было назвать человека, имеющего более полусотни лет на плечах, пришел на помощь к сестре.
— Конрад явится, вероятно, скоро, я уверен в этом, батюшка!
Вскоре в комнату вошел еще новый персонаж из «Нибелунгов»; другого имени я не мог ему придумать.
Я залюбовался на его могучую фигуру, искренне сожалея, что вместо современного куцего пиджака и брюк на нем не надет костюм древних германцев.
— А мы, Конрад, думали, что ты струсил, — заметил Карл, — и не сдержишь данного слова.
Владелец лесопилки долгим, внушительным взглядом окинул говорившего шурина с ног до головы.
— А я иначе думал, Карл, чем все вы! Раз сказано — сделано! — промолвил он и сильным движением руки легко отодвинул тяжелый дубовый стол; стоявшие на нем стеклянные кружки с пивом запрыгали.
— Значит, решено? — робко спросил кто-то из дам.
— Да, я пойду! — спокойно ответил Конрад.
Меня заинтересовал этот разговор; я спросил у моего соседа, солидного рыжего немца, в чем дело.
Он с изумлением на меня посмотрел, точно уверенный, что все должны знать причину пари.
— Простите! Я совершенно забыл, что вы не здешний и вам ничего не известно!.. Левое крыло этого, очень древнего дома уже много лет совершенно необитаемо, по крайней мере — старый господин Отто не помнит, чтобы кто-нибудь там жил, после этой истории… — Рассказчик запнулся: он, видимо, не решался открыть чужому человеку тайны близкой ему семьи.
— Если ты, Фриц, замолчал, я сам расскажу все… — услышал я сзади себя знакомый голос хозяина.
Он опустился на стул рядом со мной, закурил небольшую трубку и ровно, точно по метроному, продолжал рассказ Фрица.
— Этот дом, по преданию, построен более полутораста лет <назад>. Раньше имение принадлежало другой фамилии; в наш род оно перешло при нашем дедушке, не более семидесяти лет назад.
После перехода его в наше владение, нежилую половину дома снова отделали, в нем должна была жить только что вышедшая замуж сестра моего отца со своим мужем. Но в первую же ночь, как только они там поселились, весь дом был поднят на ноги страшными криками, раздававшимися оттуда. Все бросились туда, перепуганные ими.
Обоих супругов нашли в бессознательном состоянии; она лежала на кровати, и на шее ее отпечатались знаки нескольких когтей; голова мужа была всунута в печку, откуда с большим трудом удалось ее вытащить. Когда их привели в чувство, они ни на какие расспросы не могли отвечать и ничего не помнили, что с ними произошло. Оставаться дольше в этих комнатах новобрачные не были в состоянии; таинственный ужас охватывал их обоих, лишь только они переступали порог этой комнаты. Следы когтей на шее остались у тетки на всю жизнь. Заново отделанное помещение стало снова необитаемо, в него пугались даже заходить; если кто-нибудь пытался пробыть один в этой комнате час-другой даже днем, то какая-то таинственная сила, против его воли, изгоняла его оттуда.
— А теперь я, не верующий во все эти бабьи сказки, решился провести ночь в этой комнате! — весело проговорил Конрад. — Посмотрим, удастся ли ее обитателям впихнуть эту башку в печку!
И он тряхнул густыми кудрями.
— Ну, посмотрим, дружок, долго ли придется тебе с ними побороться! — не унимался младший брат хозяина.
— Тем лучше, тем мне приятнее! Слушай, Вилли, неужели у тебя нет ничего получше пива, оно и так каждый день, надоело. Время у нас еще есть, вели сварить пунш!
— Охотно, Конрад, охотно, — согласился хозяин, и скоро на столе в большой серебряной чаше забегал веселый синий огонек по большому куску сахара, положенному над дымящимся ароматным пуншем.
Зазвенело стекло, разговор оживился, заблестели у всех глаза.
Когда стрелка перешла половину полуночи, Конрад залпом допил свой стакан и, поднявшись со стула, спокойно сказал:
— Теперь пора, пойдемте!
Точно послушное стадо, тронулись мужчины вслед за ним. Мы перешли холодную переднюю и очутились у запертой двери, ведущей на другую половину дома. Вильгельм, несмотря на свою мощную фигуру, оказался уже теперь трусливее ребенка и никак не мог попасть ключом в скважину замка; было заметно, что руки его дрожат.
— Брось, дай мне, я отопру! — хладнокровно сказал Конрад и сейчас же отпер дверь. Тяжелый и в то же время сырой запах пахнул на нас; захваченные нами свечи стразу стали гореть не так ясно; звук наших шагов глухо отдавался в громадных пустых комнатах и бесследно замирал. Жуткое чувство охватило меня, мне казалось, что мы вошли в склеп.
Пройдя пять-шесть больших чистых помещений, я уже теперь не помню, мы вошли в одно из них. Здесь стояла кровать, вся покрытая слоем обвалившейся штукатурки; пол тоже был ею устлан. — В углу помещалась старинная изразцовая печь с небольшим сравнительно устьем. Стояли еще два стула, небольшой умывальник; окна были забиты ставнями, дверь в следующую комнату оказалась запертой.
— Тебе, Конрад, ничего не понадобится, — сказал хозяин. — Достаточно, если ты пробудешь здесь всего один час, и пари тобой выиграно.
— Это еще посмотрим, — может быть, я здесь и заночую! — упрямо отозвался лесопромышленник, пробуя засмеяться, но смех, против его желания, прозвучал как-то жалко, слабо. Он запел первую строфу рождественского хорала, но и последний сейчас же погас в этой мрачной комнате.
Стараясь оглядеться, я заметил на широком фризе печки старинное, вышитое шелками passe partout[7]; в него была вложена пожелтевшая от времени бумага с французскими стихами.
— Где вы нашли эту вещь? — спросил меня Карл, рассматривая находку.
Я сказал.
— Вот странно! Сколько раз я и брат бывали здесь, но ничего подобного не видели!
— Ну, уходите, скоро полночь! — твердо заметил Конрад. — Я остаюсь один, как мы условились.
Он поставил оба канделябра с зажженными свечами на стулья, вынул из кармана пиджака револьвер Смит и Вессона, посмотрел, заряжен ли он, в порядке ли курок, и молча, знаком руки предложил нам уходить.
Странное желание поскорее выбраться отсюда заставило нас ускорить шаги. В последней комнате, прилегающей к прихожей, хозяин остановил нас и, притворив двери в анфиладу, сообщил нам:
— Хотя мы и условились с зятем, что он останется совершенно один в этом помещении, моя сестра, его жена, просила меня, чтобы мы не уходили отсюда и при первом его крике бежали бы к нему!
Мы молча стояли в этой пустой комнате, только у одного Карла нашелся револьвер, ни у кого другого из нас не было никакого оружия. Было жутко, каждое мгновение мы ожидали услышать, уловить чрез неплотно закрытую дверь хотя слабый звук.
Время тянулось страшно долго.
— Чу! — мне почудился слабый крик из недавно оставленной нами комнаты. Не доверяя самому себе, я стал всматриваться в лицо хозяина; заметно было, что он волновался не менее меня. Еще мгновение, и мы, точно сговорившись с ним, бросились бежать к оставленному нами лесопромышленнику. За нами последовали и другие. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что тут, в комнате, произошла какая-то страшная драма! За пять минут перед тем жизнерадостный человек лежал без движения на полу, головой у самой печки.
По упавшему одному из канделябров было заметно, что Конрад с кем-то боролся, но, тем не менее, шума борьбы мы не слышали. С трудом нам удалось привести его в чувство. В то время, как остальные заботились об этом, мы с рыжим Фрицем, двоюродным братом хозяина, обратили наше внимание на следы громадных когтей, явственно отпечатавшихся на известке, покрывавшей пол комнаты.
Это не были когти какого-нибудь зверя, скорее — они походили на птичьи… Но какого же исполинского роста была эта птица! Фриц, страстный любитель естественной истории, сообщил мне, что только страус мог оставить подобные следы.
Тяжело дыша, Конрад начал приходить в себя. Он долго осматривался вокруг, кулаки его невольно сжимались, видимо было, что он порывался что-то сказать.
— Где, где он?.. — чуть слышно прошептали его побледневшие губы.
Оба шурина, поддерживая его с обеих сторон, пытались увести, но Конрад неохотно шел за ними.
Наконец-то мы все выбрались из этого проклятого помещения и вздохнули свободно, когда очутились в большом помещении, где проводили вечер раньше.
Сильная натура Конрада все-таки переборола тот ужас, который ему пришлось испытать воочию.
— Только что вы меня покинули, не прошло и минуты, ваши шаги я слышал еще, — как незнакомое мне чувство страха сковало мне руки и ноги. Я сознавал себя совершенно бессильным, готовился к появлению чего-то ужасного… Я не помню, не сообразил, откуда на меня сразу навалилась тяжелая масса, живое, таинственное существо! Я ощущал неприятный запах перьев, чувствовал прикосновение сильных лап, сковавших меня, как железом…
Бороться с таинственным врагом я не был в силах! Он властно захватил меня и куда-то повлек! Сдавленный крик вырвался из моего горла… Что было затем, я не помню…
На другое утро я уехал от моих гостеприимных хозяев, устроив свои дела.
С тех пор прошло десять слишком лет, вторично мне никогда не пришлось бывать в этом поместье; наш стеклянный завод давно уже не существует, и из моей памяти временно изгладилось это странное приключение.
Несколько месяцев тому назад случай невольно возобновил его в моей памяти.
При занятии в одном из архивов, с целью исполнения одной исторической работы, мне попалась старая книжка с оригинальным названием: «Мифы и предания Курляндского Герцогства и Эстра-Ботнии».
Я совершенно машинально пробежал ее, но курьезный подзаголовок одной из глав обратил невольно мое внимание.
«Помолвленная с грифом», — называлась она. Предание гласило, что один из баронов Эстра-Ботнии, в отдаленные от нас времена, дал клятвенное обещание невидимым, но злым силам, за какую-то услугу ему с их стороны, выдать замуж свою единственную дочь Оттелинду за одного из них, могущего принимать только образ сказочного грифа.
Обещания своего, благодаря ухищрениям католических монахов, барону удалось избегнуть, но возмущенный дух не переставал являться в образе грифа в его замок. Когда же последний был разрушен, визиты настойчивого духа продолжались и в новый дом, построенный на этом месте. Неисполненное обещание барона дало ему право уничтожать каждого смертного, которого он находил в этом месте после полуночи. Предание это натолкнуло меня на мысль разузнать дальнейшие подробности. Благодаря им, я убедился, что необитаемая половина дома винного заводчика была построена как раз именно на месте древнего замка коварного барона.
Сергей Гусев-Оренбургский ТАЙНА СТАРОГО ДОМА
На Введенской улице выделялся своей странной архитектурой старинный дом господ Николаевых. По фасаду его шли колонны. Из тени колонн, как впавшие глаза, смотрели высокие окна, всегда темные, никогда не освещавшиеся.
Про этот дом ходили легенды.
Говорили, что под ним находятся обширные подземелья, где в старину господа Николаевы держали похищенных девушек, прежде чем продать их в Бухару. Старожилы еще помнили блестящие празднества, когда весь дом сиял огнями и ночь напролет гремела музыка в обширных комнатах переднего фасада, а на балконе, меж колонн, слышался смех и говор… В один из таких праздников хозяин застрелился в мезонине. Самоубийство было засвидетельствовано официально, но молва говорила, что здесь сын убил отца в борьбе за обладание похищенной девушкой. Этот сын, после смерти отца, долго дивил город безумными кутежами и дикими выходками, убегом обвенчался с богатой купеческой дочкой, потом, после пяти лет беспутной и пьяной жизни, исчез. Никто не мог понять, куда он девался, об этом не знала даже и жена, но по городу ходили странные и темные слухи об обстоятельствах, сопровождавших это исчезновение. Рассказывали, что последние месяцы он бросил пить, стал постоянным посетителем подгороднего монастыря, где часто его видели в темных углах церкви, на коленях, со слезами молившегося. Потом однажды он собрал всех своих кредиторов, честно с ними рассчитался, а дом и весь остаток имения перевел на жену. Было это загадочно, но происходило открыто у всех на глазах. Существовало, однако, еще обстоятельство, неопределенное и смутное, о котором люди передавали друг другу только шепотком, боясь высказать вслух свои неясные подозрения. За два, за три месяца до его исчезновения никто не видел его жены: она не выходила из дома, не бывала в церкви и, — странно, — даже прислуга не видела ее, словно она была все это время взаперти. Только потом, месяц спустя, она появилась первый раз в церкви, — исхудалая, бледная, словно после тяжкой болезни, с тем выражением странного, сурового спокойствия на лице, когда-то веселом, которое уже больше не оставляло ее. И она продолжала жить так, как будто ничего не случилось, одинокая в своем опустевшем доме. Между тем, находились люди, утверждавшие, что в свое время хорошо в ней заметили признаки беременности. Передавался также рассказ ночного сторожа о том, как в ночь исчезновения Николаева он заснул в тени у набора, проснулся от детского крика, увидел у подъезда темную карету. И будто бы сошел с подъезда сам Николаев со свертком на руках, быстро сел в карету и уехал. Многие, однако, относились с сомнением к этому рассказу: ведь могло это сторожу присниться и во сне, тем более, что он был хорошо известен, как горький пьяница…
Николаева ничего знала об этих слухах.
Она жила одиноко, уединенно, как затворница, в опустевшем и ветхом доме, где-то в задних комнатах, выходивших окнами в запущенный сад, предоставив роскошным залам переднего фасада, с их забитыми окнами, медленно разрушаться от времени, пыли и полчищ крыс, шумно возившихся там ночами. Казалось, она не могла забыть своего мужа, хранила память о нем всю жизнь и поклялась ему в вечной верности…
* * *
Прошло много лет…
Весь город знал старушку Николаеву.
Она отличалась благотворительностью и была так же необузданна в этом, как был необуздан в разгуле ее пропавший муж. У дома ее была штаб-квартира нищих всего города. Нищие были ее свитой. И уж сами следили, чтобы никто не подходил другой раз, потому что она, не глядя, клала в каждую протянутую руку. Она была молчалива с ними, как и со всеми, и ее худое, никогда не улыбавшееся лицо было как бы слепое. В тюрьмах ее звали «нашей матушкой»: каждый праздник туда доставлялись корзины съестного на всю братию. Но знали ее особенную любовь к детским приютам. Когда ее высокая, молчаливая фигура появлялась в приютской улице, юное население, с гамом и смехом радости, окружало ее. Об ее елках мечтали круглый год. Уж стадо традицией, что на третий день Рождества бывала елка у Николаевой. В этот единственный день открывались старые залы, выбивалась серая пыль, разбегались по подпольям удивленные крысы, унылые комнаты превращались в веселое царство игрушек и сластей, и свет лился потоками через высокие окна на улицу, где собиралось пол города любопытных. Радостные детские крики и смех не умолкали до полночи и топот детских ножек, к ужасу крыс, наполнял весь хмурый дом нежными звуками незнакомой ему жизни. Сама Николаева редко показывалась в ярко освещенных залах с их радостной суетой. Лишь иногда проходила своей медленной, спокойной походкой и со своим как бы слепым лицом. Даже на это веселье она не отзывалась улыбкой, словно когда-то разучилась навсегда улыбаться. И люди, в смутном недоумении, слушали рассказы прислуги, как их барыня из темной кухни смотрит на детское веселье или уходит в свою комнату и стоит на коленях перед киотом, как застывшая… А потом из темного подъезда выходили попарно детские фигурки, прижимая к груди что-то им драгоценное. Снова глухая тьма одевала залы: крысы, пыль и время вступали в свои права…
* * *
…Однажды осень наступила очень рано…
Осень в нашем городке — царство скуки, от которой люди ищут спасения в бесконечном винте, сплетнях и слухах, — занятиях таких же скучных, как и монотонный, непрерывный шум дождя и бульканье луж во тьме ночной под ногами извозчичьих кляч. На этот раз, однако, городок был оживленно взволнован двумя необыкновенными происшествиями. Одно из них — возвращение с Афона купца Небесного, который сам по себе был целым происшествием! Тучный, кирпично-красный человек, с черной бородой и взглядом разбойника, он был известен тем, что вогнал в гроб первую жену побоями, замучил сына до того, что тот утопился, несколько раз с большим барышом банкротился, нажил миллион, построил в городе дворец на соборной площади, женился на шестнадцатилетней девочке и, когда она сбежала, добился развода, женился в третий раз… и тогда поехал на Афон, во всех прегрешеньях каяться. Теперь, по возвращении, он был везде первым гостем, со своей старообразной, робкой, безмолвной женой. Он ораторствовал весьма многоречиво, со своей грубой, властной манерой человека, ни с чем не считающегося, ругал Афон, ругал монахов, как вообще и все ругал, и к чему давно и все привыкли. И не это занимало обывателей городка. Удивительным, всех взволновавшим в его рассказе было одно обстоятельство: его афонская встреча. Он полгода провел на Афоне. Жил в Руссике, жил в греческих в болгарских монастырях, путешествовал к знаменитым келиотам. И вот однажды болгарские монахи привели его в дикое ущелье, где, по их словам, уже долгие годы спасался какой-то неизвестный монах, обетом которого было вечное молчанье. Он был дик и грязен с виду, неизвестно было, чем он питался… жил в пещере, вход в которую густо зарос травой. На голос человека он редко появлялся, а в пещеру его никто не смел входить. Но было всем на Афоне известно, что он человек святой и может творить чудеса. Однажды, по рассказам монахов, шла распря между русскими и греками из-за монастырских владений, — обычная на Афоне распря. Было много шума, криков, спора, пока дело не дошло до побоища между двумя монастырями. Напрасно игумны и старцы метались между рассвирепевшими монахами, — дело грозило стать кровавым, — в руках появились палки из разрушенных оград, крики перешли в безумный рев… как вдруг общее внимание привлек бежавший по горе человек. У монастыря гора обрывалась отвесной стеной. И вот человек встал на отвесе: человек с лицом скелета, как бы одетый в вечный саван. Он странно выделялся на фоне набежавшей тучи. Глаза его, казалось, метали молнии.
Но он молчал.
Он только резким, повелительным, грозящим жестом как бы разъединил обе толпы монахов и поднял руку вверх, указывая в небо. В тот же момент сверкнула ослепительная молния и раздался такой сокрушающий удар грома, что монахи в ужасе попадали на землю, видя в этом проявление гнева божьего. Когда они опомнились, человека уже не было. Но свара прекратилась.
Вот этого человека видел Небесный.
Человек вышел из пещеры на призыв монахов. Увидев постороннего, гневно сверкнул глазами, но ничего не сказал. И не дал руки для поцелуя. Молча смотрел на Небесного. И вдруг Небесный, вглядываясь в лицо этого скелета, стал припоминать знакомые черты…
И узнал:
— Николаев!
Монах вспыхнувшим взглядом впился в лицо его, потом, не ответив ни слова, повернулся и ушел в пещеру.
Напрасно Небесный звал:
— Николаев! Николаев!
Монах не отозвался ни звуком.
* * *
Теперь весть об этой странной встрече облетела весь город, вызывая всюду оживленные толки, так что другое событие прошло на первых порах незамеченным. Между тем, оно ближе всего касалось городка. Из пересыльной тюрьмы бежал важный преступник. Бежал он при обстоятельствах исключительных, проявив безумную дерзость: среди белого дня, на тюремном дворе, он внезапным неожиданным выпадом ранил конвойного и, перебросившись через высокую стену, бесследно скрылся. Второй день шли усиленные поиски. Власти сбились с ног, была поставлена на ноги вся полиция. И городок мало-помалу охватила жуткая тревога: ведь этот бежавший злодей, по слухам — многократный убийца, таился где-то тут, возле, он мог оказаться под крышей каждого дома, в любой момент он мог появиться перед каждым обывателем и никто не был застрахован от его безумной отчаянности. Всех охватил страх за себя, за детей и жен.
Двери на ночь запирались крепкими засовами.
У кого были ружья, револьверы, чистили их, заряжали и на ночь клали под рукой, чтобы во всеоружии встретить опасность. Городок вооружился как бы в ожидании врага. Появились добровольные сыщики, которые вели розыски на свой страх, тем более, что за поимку беглеца была назначена награда. Наконец, ввиду все растущей тревоги, а также и бесплодности поисков, образовались добровольные патрули, обходившие городок с видом заговорщиков и останавливавшие одиноких прохожих после двенадцати ночи. Слухи ходили один нелепее другого. Находились люди, перепуганно уверявшие, что видели беглеца то там, то здесь, описывали даже его приметы. И тогда погоня направлялась в эту сторону. Говорили, что смотритель тюрьмы и исправник получили по телеграфу нагоняй из губернии. Городок был оцеплен караулами. Казалось, не было во всем городе мышиной норы, где бы мог притаиться беглец…
Но следов не находилось.
Сам исправник руководил поисками.
Он не спал, не ел, сбился с ног, похудел за эти дни. Обходил патрули, крался вдоль заборов, напоминая сумасшедшего, засматривал в лица… Весь город мало-помалу превратился в лагерь сыщиков. А исправник, возвратившись домой, бессильно падал на диван и говорил:
— Жена, намочи мне голову уксусом.
Как-то вечером вломился к нему в комнату человек, напоминавший юркого хорька.
— Нашел! — кричал он.
И беспорядочно махал руками.
— Кого? — вскочил исправник.
— Его… нашел!
Моментально исправник был на улице и мчал на всех парах куда-то в другую часть города. По дороге к нему присоединялись люди с ищущими лицами. Вооруженные с ног до головы городовые сбегались из переулков на тревожный свисток. Спешили за ними любопытные. Человек-хорек бежал впереди, проворный, юркий, возбужденный, руководил походом. По его приказу толпа смолкла, шла осторожно, стараясь не производить шума. Окружили в пустынном переулке темный флигель с вывеской над крыльцом. Сквозь закрытые ставни его пробивался свет и плыл смутный гомон.
Бесшумно вошли по крыльцу, проникли в сени.
Распахнули дверь.
Ввалились спешащей кучей, заранее протягивая руки, чтобы хватать. Освещенная тусклыми лампами, полу-кабак, полу-чайная полна была бродягами и нищими, шумно пировавшими тут. Они как бы замерли при виде ворвавшейся толпы, не двинулись с места, смотрели в тревоге и удивлении. Лишь один человек вскочил, шумно отбросив стул, и дико смотрел из темного угла комнаты. Это был человек с бледным, напряженно и нервно злым лицом, видимо, наскоро выбритым. Губы его дергались судорогой ярости. В глазах горело неукротимое, страшное, звериное бешенство. Всем видом своим он был бродяга больших дорог, привычный, не знавший другой жизни. Его одежда представляла собой какую-то фантастическую, случайную смесь, как бы не купленную, а наворованную, где придется…
Только секунда прошла.
С диким, бешеным криком, с ножом, сверкнувшим в руке, бросился навстречу ворвавшимся так неожиданно преследователям. Но внезапно круто повернул, с разбега кинулся на окно, выдавил его всей тяжестью своего тела, сквозь сорвавшиеся ставни выскочил на улицу.
Исправник выстрелил.
Но он уж был далеко.
Люди скакали в окно за ним следом, полицейские — громыхая шашками, исправник, яростно потрясая револьвером. Тихие улицы наполнились шумом погони. Люди скакали, как странные черные зайцы, перегоняя друг друга, спеша, задыхаясь.
— Сто-о-й!!
Но он бежал, как олень.
— Сто-о-й… стреля-ю!
Бахали выстрелы.
Теснясь, вбежали в узкий переулок, видели его скачущую тень далеко перед собой, как мечущийся прицел.
— Уйдет! — хрипел исправник.
В отчаянии он распоряжался:
— Прибавь шагу!
Но и так бежали за совесть.
В тусклом свете фонарей с главных улиц походили на нелепые черные тени, вязли в лужах, ругаясь, сталкивались друг с другом. Тесной кучей свернули на Введенскую.
Было пусто.
Беглец исчез!
В недоумении остановились, сгрудились.
— Черт! — вскричал исправник. Он был в бешенстве.
— Ну, куда же он мог деваться? И как назло, хоть бы один человек был на улице!
Стояли, озирались.
Шел дождь, непрерывно, как саван, оседая на землю. Фонари тускло мигали сквозь туман. Ветер шелестел в оголенных ветвях деревьев николаевского сада. Подошли, посмотрели на мертвые окна угрюмого дома Николаевых. Все глухо, все мертво, все заколочено. По тротуарам текли дождевые потоки, смывая всякие следы.
Нигде никакого следа.
Человек исчез!
— Он, вероятно, успел допрыгать до переулка, — сказал человек-хорек.
Все всколыхнулись.
— Идем! Вперед!
Спешащей толпой бросились мимо высокой ограды николаевского сада. Растянулись вереницей. Только теперь человек-хорек уж не командовал. В растерянной задумчивости шел он позади. Внезапно взгляд его юрких глазок остановился на каком-то странном предмете, трепетавшем от ветра на ограде сада.
Он остановился.
Бесшумно, осторожно вытянул вверх руку, поднимаясь на цыпочки, пока не достал пальцами предмет. Сорвал его, рассмотрел…
Это был кусок рубахи!
Мгновенно он был за углом.
А через минуту вся толпа, бесшумно, шагая журавлями, подкралась к забору…
* * *
…Между тем, старуха Николаева ничего не знала обо всех этих слухах и происшествиях. В ее уединение, в тишину ее пустынных горниц, не проникал ни один звук мирской суеты. Только тяжелые черные тучи, по целым дням застилавшие небо, бросали туда свою угрюмую, мрачную тень, да дождь, не переставая, барабанил по крыше днем и ночью.
И ветер уныло выл.
В этот вечер она зажгла лампу, плотно закрыла дверь на террасу и одиноко сидела у самовара, прислушиваясь, как ветви деревьев шелестят о стены и царапают в стекла окон, словно кто-то там, озябший и одинокий, просился в тепло. Застывшим, неподвижным взглядом всматривалась она в темноту окон: казалось ей, — какие-то голоса звучат там и зовут ее, сегодня настойчивее, чем всегда.
Какое-то смутное предчувствие возникло в ней. Иногда ей даже казалось, что она не одна в комнате. Лицо ее мало-помалу принимало тот суровый вид, с каким она бывала на людях. Внезапно, властным движением, она протянула руку к соседнему столику и взяла оттуда шкатулку. Из шкатулки вынула несколько старых, пожелтелых писем. Из них она взяла одно. Долго всматривалась… и несколько раз прочитала, все повышая голос:
— «Я не скажу тебе, где он. Он несет на себе печать проклятья за грехи моих отцов… и за мой неискупный грех. Я выбросил его в мир, на волю Божию, за пределы нашего преступного рода, как выбросил себя. Так лучше. Пусть, неведомый, не зная прошлого, проживет он в этом мире. Да спасет его Бог!»
Она смяла письмо, не замечая, и беззвучно повторила.
— Пусть Бог его спасет…
Под смутный шум непогоды перед нею вставали воспоминанья, как серые, кричащие призраки кошмарного сна, каким была вся ее жизнь. Уже мертвым пеплом покрывался пожар ее души, но из-под пепла все еще вырывались синие угарные огни, и тогда привычная тоска ее переходила в то глухое отчаяние, когда человек неподвижно и как бы спокойно сидит часами, не шевелясь, и смотрит невидящим взглядом.
— Пусть Бог его спасет! — шептала она под шум непогоды, прислушиваясь к шелесту оголенных ветвей.
Вставали перед нею все протекшие годы, годы метаний, годы поисков пропавшего сына, так грубо оторванного от груди ее. И, вспоминая это, она тихо перебирала пальцами, как бы лаская то нежное маленькое существо… оно жило в ее душе… и никак не когда она представить его себе уже взрослым.
* * *
Внезапно она насторожилась.
Тихие, крадущиеся шаги послышались ей в саду. Что- то заскреблось у окна… уже не ветви. За окном мелькнуло как будто чье-то лицо, во мраке прижалось к стеклу. Скрипнуло крыльцо.
Она встала.
Худая, строгая, с сурово сжатыми губами, стояла недвижно и темным взглядом смотрела на дверь, ожидая. Это кто- то крадется, тайком высматривая, это не обыкновенный посетитель. Это не ветер, не дождь… это из недр ветра и дождя, из мрака осенней непогоды кто-то вышел, как тень, и тайно бродит. Внезапно предчувствие чего-то рокового сжало ей сердце.
Дверь сторожко скрипнула…
Она ждала.
Несмело постучали.
Тогда она бесшумной, но решительной походкой подошла к двери, повернула ключ и отпахнула ее. На минуту ветер ворвался, холодные капли дождя брызнули в лицо, и глянул мрак, в котором, как привиденья, колыхались деревья. И словно порывом ветра из мрака втолкнуло в комнату человека, при виде которого сердце ее сжалось и заколотилось, — она чуть не вскрикнула:
— Муж!
Но нет, тот был таким в молодые годы, ведь уж давно… это только живой портрет его… Она быстрым, вспугнутым взглядом окинула его костюм бродяги, разорванную на груди рубашку, его наскоро выбритое лицо, так странно знакомое. Он весь был пропитан сыростью, дрожал, дождевая вода текла с него и капала на пол. Дикий взгляд его, отчаянный и просящий, впивался в ее лицо, словно он изучал его и старался определить: друг перед ним или враг. И в тоже время было во взгляде его что-то угрожающее, страшно мрачное и больное. Внезапно с шелестом и странным стуком он повалился перед нею на колени.
— Матушка… спаси!
Она, побледнев, взглянула на него:
— Кто вы?
— Эх, пропадай голова… все одно, скажу. Из тюрьмы бежал, слыхала?
— Нет.
— Я… тот самый! Третий день. Ищут — гонятся!
Невольным порывом она захлопнула дверь и повернула ключ. На лице ее вспыхнуло удивление и безумная радость.
— Укроешь? Спасешь?!
— Из тюрьмы? Третий день? След потеряли? — поспешно спрашивала она.
— Сейчас гнались, матушка.
Она опять побледнела от этого слова.
— Где? Где? Близко?
— На суседских улицах. Да я обманул, со следа сбил. Через ограду в сад шмыгнул, вишь, рубаху изорвал… а они мимо пробежали. Теперь далеко… я тут час сидел, в саду- то.
— Идите к столу, — властно сказала она, — вы продрогли. Отогрейтесь чаем.
Во всех движениях ее проявились энергия и властность.
— Садитесь!
Он не заставил просить себя.
Он уже жадным взглядом голодного зверя осматривал стол и сам тянул руки к чайнику, к сдобным булкам, накладывал в чай без счета сахара, словно пользовался редким случаем сделать запасы в своем тощем теле. А сам чему-то улыбался и успокоительно бормотал с набитым ртом:
— Ты меня, старушка, не бойся. Видать, ты славная. Я тебя не обижу. Я ведь только… когда туман находит…
— Какой туман? — спросила она с жутким чувством.
Он продолжал набивать рот булками и почти давился горячим чаем.
— Туман-то? Такой туман… вроде крови. Находит. С детства это у меня. Уж тогда я ничего не помню…
Она не могла оторвать от него взгляда своих жутко потемневших глаз. Она хотела пойти, достать ему какую-нибудь сухую одежду, но не могла двинуться с места, словно завороженная его диким, грязно выбритым лицом.
— Вы за что сидели? — тихо спросила она.
Он с насмешкой взглянул на нее.
— Ишь, любопытная… Сидел, знамо, за хорошие дела.
— Какие?
— Не следует тебе, матушка, знать об этом, к ночи страшно будет. Моя слава худая. Прямо скажу — поймают…
Он засмеялся хриплым, страшным смехом, обнажив ряд белых, хищных зубов. И привел ее совсем в трепет, когда подмигнул ей:
— Дадут орден на шею!
Она враз склонилась к столу, оперлась о него ладонями, мутно смотрела.
— Вы откуда родом?
— Я-то?
Он засмеялся.
— Из тюремной губернии, острожского уезда, села Кандальникова… слыхала, може?
Она тихо, настойчиво проговорила:
— Я вас серьезно спрашиваю!
Он взглянул на нее с несколько опасливым недоумением и ответил серьезно:
— Издалека я. Из города Мензелинска. А може и дале…
— Давно оттуда?
— Сто лет с полугодом. Позабыл, когда и был.
— А ваши… родители…
— Чево-о?
— Живы?
— Мои родители?
Почему-то это ему показалось необыкновенно смешно, он принялся изгибаться на стуле от хохота.
— Ну и любопытная старуха! Ишь чего знать захотела: моих родителев… Да у меня их и не было никогда. Ведь я номер шестой.
— Номер шестой?
— Воспитательный!
Вся кровь бросилась ей в лицо, даже воспалила глаза, потом вмиг отхлынула к сердцу. Диким, испугавшим его взглядом впилась она в его разорванную рубашку, в его волосатую грудь. Он сторожко нахмурился.
— Чудная ты какая-то… чего смотришь? Аль своих признала? Мотри-ка, уж не ты ли моя мать? Ха-хха!
И, не обратив внимания на ее смертельную бледность, внезапно он пришел в какую-то мутную, бешеную ярость, отбросил стакан и закричал с искривившимися губами, причем глаза его стали вдруг косыми:
— Р-родил меня какой-то чер-рт… да, как пса, бросил! Будь он проклят!! Проклят!! Ну, да… я и стал псом! Гоняйся за мной, анафемы! Ха-хха! Ночька темная да нож вострый… вот мои родители! А скоро мне и жену сосватают, как поймают, ха-хха. А мне все равно! Думаешь, воспитательный-то сласть? Тюрьма! А большая дорога сласть? А острог… сласть? Да я, просидевши семь лет в остроге… одного человека…
Он опустил на стол кулак.
— Убил! Так, зря… ни за что. Встретил на дороге… убил! Думаю: може, ты и есть отец-то мой!
Внезапно он увидел ее мертвенную бледность, ее остановившийся, дикий взгляд, стих… и какая-то мягкая, даже нежная улыбка прошла по губам его.
— Да ты, милая, не бойся! Нешто я… я ведь только для зверей зверь!
Она не слышала его.
Все смотрела на его открытую грудь.
И вдруг крепко, больно схватила его за руку, вне себя, с безумным видом, глухо крикнула:
— Где у тебя крест?!
Он отшатнулся.
Вырвал руку.
— Чего ты… оставь! Да ты што… не в себе, што ли? Чего пристала?
Он даже встал с сторожким видом.
— Чудна кака старуха!
Но она все повторяла, упорно и глухо:
— Где крест? Где крест?
Он провел рукой по груди.
— Оборвал… через ограду лез. Вишь, рубаха-то располосована.
— Потерял?
— Зачем терять? В карман спрятал.
Она вся потянулась к нему, протянув руки, с таким видом, что он отступил к стене в недоумении и смутном испуге.
— Покажи!! — крикнула она.
Он невольно опустил руку в карман.
* * *
Но в этот момент раздался громкий стук в дверь, топот многочисленных ног на крыльце и говор голосов.
— Отоприте! — сказал кто-то.
А другой голос сурово произнес:
— Именем закона!
Старуха опомнилась, порывисто, крепко схватила за руку своего странного гостя.
— Беги… беги!
Толкала его за ширмы, к скрытой темными занавесами двери.
— По коридору прямо, в конце налево дверь. Сломай задвижку… в правой стене окно в переулок…
Он юркнул за занавесы.
А она дернулась к столу, стояла неподвижно, как застывшая, смотрела на дверь и молчала. После стука в дверь сильно ударили, замок звякнул, дверь отпахнулась. На пороге показался человек в мундире, с фонарем, за ним теснились полицейские и люди в штатском, хлопотливые и зоркие.
— Извините, — вежливо сказал вошедший, дотронувшись рукой до фуражки, — извините, — повторил он, — но мы стучали… Дело в том: из тюрьмы бежал важный преступник… Следы привели сюда…
Она беззвучно, глухо, как бы откуда-то издалека, спросила:
— Что сделал этот человек?
— Он известный вор-рецидивист… и многократный убийца.
Казалось, она вздрагивала при каждом слове обвинения, но стояла прямо, неподвижно, с мертвенно-спокойным лицом, и как будто к чему-то тайно прислушивалась. Но в глазах ее было что-то до того страшное, что жуткое чувство овладело вошедшими, они стояли безмолвно, не шевелясь.
Человек с фонарем повторил:
— Следы привели сюда.
Она продолжала смотреть на него взглядом невидящим и мертвым. Тогда он пожал плечами и подал знак, указав на ширму. Внезапно она метнулась с места и загородила ширму.
— Там… моя уборная.
Но человек вежливо отстранил ее.
— Наш долг…
Толпа кинулась за ширмы.
Она закрыла глаза.
И так осталась.
Дом наполнился шумом поисков, странно, жутко ожил. Где-то вблизи завязалась борьба. Борьба была упорная, молчаливая, но недолгая. Упали ширмы, с треском повалился ночной столик, что-то со звоном разбилось на мелкие куски.
Она даже не повернула головы.
Знакомый голос зло прокричал:
— Ну ладно, проиграно сражение. Вяжи. Только дай мне старухе слово сказать.
Задвигались, шаркая, топая, как бы во тьме, в страшной вечной тьме. Она не видела их. Она видела лишь протянутую руку и в ней… крестик… давно знакомый ей, страшно знакомый серебряный погнувшийся крестик… с тайным значком, который она когда-то спешно сделала.
— Возьми… на память, матушка, мне уж не к чему!
И крестик перешел в ее руку.
Кто-то тихо спросил:
— Вы знаете этого человека?
Она молчала.
Вокруг нее веяла жуткая тайна, и люди как бы слились со тьмою, неподвижные, ждущие ответа ее. Но были они для нее как призраки сна. Она не слышала их и они не дождались ее ответа. Тишина заколыхалась, как бы от движения прячущихся теней. Шаги замолкли вдали, утонули в черной тьме. И тишина снова пришла в спокойствие. Только ветви деревьев скребли по стене, царапали в окна… и временами дождь начинал робко стучать в оконные стекла.
Внезапно в пустынных комнатах послышался глухой шум паденья.
…Наутро старуху Николаеву нашли мертвой на полу ее комнаты, с крепко зажатым в руке серебряным, погнувшимся крестиком…
Федор Зарин-Несвицкий КОШМАР
Илл. В. Сварога
I
Был знойный день.
Лошаденка устало плелась по узкой проселочной дороге; таратайка подпрыгивала на ухабах. Хотелось вытянуть ноги, развалиться и вздремнуть. Но таратайка была узенькая, сиденье низкое, так что мои колени чуть не подпирали подбородок.
Я снял шашку и большой револьвер Нагана, висевший через плечо, и положил их в ноги. На мне осталась только сумка с восемнадцатью тысячами, с которой я ни на минуту не разлучался. Это были полковые деньги, полученные мною сегодня утром из казначейства в городе. Я исполнял обязанности казначея.
Наш полк был расположен верстах в тридцати от города.
Зной становился нестерпимым. Меня совсем разморило, тем более, что ночь почти не пришлось спать. Я встретил вчера в городе знакомых драгун и мы чуть не до самого утра играли в карты и пили.
Мой ямщичок тоже, по-видимому, где-то уже «зарядился» и раза два чуть не вылетел на ухабе.
До ближайшей почтовой станции было еще верст пять.
Справа тянулись необозримые поля желтеющей ржи, налево — густой лиственный лес, который так и манил под свою сень, в свежую прохладу.
Я не вытерпел. Мне захотелось хоть немного расправить затекшие ноги.
Я приказал ямщичку остановиться.
— Отдохнем, приятель, — сказал я, — покури, полежи, а я немного поброжу по лесу.
Он с видимой радостью согласился на мое предложение.
— Заснет, бестия, — подумал я, — ну, да тем лучше. Не скучно будет ждать меня.
— Да не разлеживайся, передохни малость и поезжай шажком вдоль леса, — приказал я, — а я пойду лесом. Да смотри, я оставил в таратайке шашку и револьвер — не потеряй.
— Зачем терять, — лениво ответил он, — не первый раз с господами езжу. Я малость посижу, а там и нагоню ваше благородие. Не извольте сомневаться.
— Ну, ладно, — ответил я.
II
Темная прохлада леса охватила меня. Я решил пройти немного в глубь, не теряя из виду пути. Но лес был густой. Не сделал я в его глубину и ста шагов, как уже след потерял из виду.
— Все равно, — подумал я, — я знаю, в какой стороне дорога, и пойду параллельно с ней.
Я шел довольно долго, не замечая времени, наслаждаясь тишиной и прохладой роскошного леса.
Но усталость брала свое. Я остановился на уютной поляне и решил выкурить папироску.
Растянувшись на густой мягкой траве, я с наслаждением закурил. Я лежал на спине. Сквозь узорную листву голубело небо. Чирикали какие-то птички. Шелест листьев, легкий треск кузнечиков, щебетанье птиц… все таинственные голоса леса напенили дремоту… Я незаметно задремал…
Чьи-то шаги, голос, потом прикосновение к моему плечу разбудили меня.
Я мгновенно пришел в себя и сел, предварительно нащупав, на мне ли сумка.
Передо мной стоял корявый мужичонка.
— Жив, значит, — проговорил он, широко улыбаясь. — Прости, значит, барин, — продолжал он, — а то лежишь тут, рот раскрыт… и тихо, ровно не дышишь.
— Ну, я думаю, нечасто здесь увидишь мертвое тело, — ответил я.
— Не скажи, — ответил мужичонок, — в мае как-то наткнулись мы… подрядчик тутотко лежал. Спервоначалу подумали, спит… А глядь — не дышит…
— С чего же это? — полюбопытствовал я.
— Фершал сказал, будто толст очень, а по-нашему не иначе, как задушили, — ответил он.
— Как надушили?! — воскликнул я, — а доктор был?
— Какой такой доктор! — махнул рукой мужичок. — Фершал позвал урядника, к доктору бумагу только тот подписал. Становой был, еще какой то барин. Ну, посмотрели бумагу и говорят — от полноты умер. У него племянник в городе… Так, сказывают, очинно даже обрадовался. Тут ему и лесопилка и торговля мелочная и дом… А только что беспременно удушен, не иначе…
— Ну ладно, — ответил я, — я то заспался, и как на дорогу попасть — не знаю, кажется, туда?..
Я взглянул на часы. Оказывается, я проспал около трех часов.
— Туда-то-туда, — произнес мужичок, — я сам оттуда. Только идти-то до дороги версты три, а до станции по дороге еще пять… Вот оно что! Да постой, не твоего ли я встретил, Ваньку рябого? Он все аукал, аукал, — говорит, — барин в лес пошел, а у меня поклажа его… Так, говорит, поеду на станцию, там и оставлю имущество, значит.
Я чувствовал себя очень скверно. Идти пехом восемь верст!
— А нельзя ли, где лошадей добыть? — спросил я.
Мужичонка снял шапку и почесал в затылке.
— До моей деревни верст семь, — ответил он, — а тут (он словно замялся) версты не будет до помещицы, барышни Крутогоровой. Там лошади найдутся… Да только…
Он замолчал, на его лице промелькнуло какое-то странное выражение…
— Да что только? — спросил я.
— Чудно, — произнес он — давно живет здесь, а как неприкаянная. Ни к ней никто, ни она к кому. Гордая, — добавил он.
— А что, молодая она? — спросил я.
Он помолчал немного с тем же странным выражением лица.
— Ишь, молодая, — наконец ответил он, — смуглявая такая, нос птичий. Ну, да теперь светло, — вдруг неожиданно закончил он.
Меня, помню, поразило такое неожиданное заключение.
— Где же ее усадьба? — спросил я.
— А вот, иди по этому оврагу, как кончится, значит, направо до первой поляны, там еще дуб поломанный, а потом через поляну напрямки — там уж сам увидишь. Да ты того, все же остерегайся…
— Чего? — спросил я.
Он с испугом оглянулся вокруг.
— Может, все пустое, значит, — начал он, — а только болтают, будто у барышни того…
— Что того? — допытывался я.
— Смутно все, сердешный, — ответил он, — кабы темь была — прямо сказал бы, — не ходи туда.
«Какой вздор, — подумал я. — Что он хочет сказать?»
Но, несмотря на мои расспросы, я ничего не мог добиться больше; мужичонок твердил одно, что теперь светло и советовал торопиться.
Я поблагодарил его, дал ему полтинник и пошел по указанному пути.
Признаюсь, меня очень интересовала эта отшельница глухой усадьбы.
III
На высоком холме возвышался старый барский дом. Колонны уже облупились. Некоторые балконы скосились, часть окон была выбита. Было заметно, что дом клонится к разрушению. Но все же он производил величественное впечатление со своими башенками, бельведерами и вызывал печальные воспоминания и картины когда-то кипевшей здесь грешной, бурной и роскошной жизни…
Жуткое безмолвие встретило меня на широком, заросшем дикой травой дворе.
— Однако, — подумал я, — какие же и где здесь лошади?
Какой-то угрюмый рыжий парень встретил меня во дворе.
Я попросил провести меня к барышне.
Он хмуро взглянул на меня и ткнул пальцем по направлению к когда-то, должно быть, роскошному подъезду.
Львы у подъезда имели теперь жалкий вид. Лапы были отбиты. Колонны облупились, ступени покосились…
Я прошел в вестибюль. Та же картина разрушения. Потрескавшаяся живопись на потолке и стенах, изношенный ковер на лестнице… грустно и жутко… Но стариной дикой и прекрасной веяло от этих старых стен.
Медленно и неловко, с каким-то жутким чувством, словно среди призраков, я подымался по лестнице…
Чувство неловкости вызывалось отчасти тем, что на мне не было привычного оружия.
Штатскому это трудно понять, но каждый военный в форме будет чувствовать себя неловко и непривычно, если он без шашки. Вроде того, как штатский без галстука.
На верхней площадке лестницы показалась высокая женская фигура… Я не успел разглядеть ее, она сейчас же скрылась. Я заметил только необыкновенный для женщины рост, широкое скуластое лицо и злобный взгляд под нависшими бровями, да подоткнутый передник.
— Конечно, это не барышня, — подумал я, вспоминая описание мужичка.
Едва я вступил на верхнюю площадку, как дубовые двустворчатые двери широко открылись и на пороге показалась женщина. Ее вид сразу поразил и, признаться, очаровал меня.
Невысокого роста, замечательно стройная и гибкая, в красном платье, плотно облегавшем ее фигуру, со смуглым лицом резкого южного типа, томными мерцающими глазами, она вызывала образы далекого мира, — Иродиады или Юдифи.
Я низко поклонился ей и поспешил объяснить свое неожиданное посещение.
Ее гортанный, глубокий голос поразил меня. Он так шел к ее типу.
— Не извиняйтесь, — сказала она, — я живу такой отшельницей, что ваше посещение доставляет мне истинное удовольствие, и я должна еще вас благодарить…
Она улыбнулась и крепко пожала мне руку.
— Насчет лошадей, — не беспокойтесь, они будут готовы по первому вашему требованию, но надеюсь, — добавила она, глядя прямо в мои глаза своими мерцающими глазами, — надеюсь, вы все же уделите мне час-другой. Мы вместе пообедаем.
Я звякнул шпорами и с удовольствием согласился.
Внутренняя обстановка, к моему удивлению, совершенно не соответствовала наружному виду разрушения. Напротив, она сохранялась в полной исправности. Ковры, зеркала, картины и портреты на стенах, мебель empire — все производило такое впечатление, словно еще живы были ее прабабушки времен Благословенного[8].
Она, казалось, поняла меня.
— Меня называют нелюдимкой и отшельницей, — начала она, — но я предпочитаю тишину и воспоминания этого дома пошлой суете современной жизни. Этот родовой дом — моя святыня, и из этих старых стен мне не хочется никуда уходить. Здесь жили мой отец, мой дед, мой прадед. Вы видите, воя обстановка сохранилась. К сожалению, я не настолько богата, чтобы поддерживать внешний вид дома и парк с его бесчисленными беседками, павильонами и храмами любви, дружбы и так далее. Да положите же вашу фуражку, снимите эту сумку с несносными казенными бумагами!..
Я невольно взялся за сумку, и мне показалось, что ее глаза со странным любопытством следили за моими движениями.
Я положил фуражку на столик.
— А сумку? — спросила она. — Положите здесь. Она будет в полной сохранности.
— Я не сомневаюсь в этом, — ответил я, — но, чтобы случайно не забыть ее (в ней очень важные документы), я решил с ней не расставаться. К тому же, она нисколько не стесняет меня.
Она повела меня по дому, все время неумолчно разговаривая.
В доме были и оранжерея, и большая зала с хорами, и портретная зала. Напудренные парики, строгие и легкомысленные лица на потемневшем полотке, мундиры, звезды и шитые золотом камзолы, молодые и старые, нежные и суровые, красивые и уродливые лица женщин в фижмах, с мушками у губ и на щеках, мелькали перед моими глазами.
А она не переставая говорила:
— Вот это мой прадед, генерал-аншеф Кирилл Яковлевич, он был недолго в случае при Екатерине, да не поладил с Потемкиным. А это прабабка — первая красавица времени Павла. Она навлекла на себя его гнев тем, что, когда встретила его на Невской перспективе, в ненастную погоду, не пожелала выйти из кареты в грязь, чтобы отдать ему реверанс… за что и была сослана сюда… А это мой дед. Он был адъютантом Кутузова при Аустерлице, и потом погиб при Лейпциге, в корпусе Раевского. А это брат деда — декабрист — он и умер в Нерчинске…
Она говорила с таким знанием истории, с таким увлечением, что все эти портреты словно оживали передо мной, и картины минувшего ярко вырисовывались. Я живо представлял себе и этого красавца, генерала-аншефа, не поладившего с всемогущим Потемкиным, и дерзкую красавицу, не пожелавшую испачкать в грязи бальные туфли, чтобы приветствовать императора, и этого героя Лейпцигского сражения.
Голос Крутогоровой производил на меня тоже сильное впечатление. До сих пор я еще не знал ее имени и спросил ее.
— Нина Александровна, — ответила она. — Моя прабабка была грузинка. Ее звали тоже Ниной. Находят, что я похожа на нее, — добавила она. — Вот ее портрет.
Я остановился, как вкопанный, перед портретом молодой красавицы в национальном горском костюме.
— Но это ваш двойник! — воскликнул я.
— Да? — неопределенно отозвалась она. — Моя прабабка рано овдовела и уехала в свое имение в Грузии, а сына отдала в корпус. Это было вскоре после присоединения Грузии к России. Говорят, она была жестока и скупа. Мы не знаем подробно ее историю… Она была что-то вроде царицы Тамары, — помните:
«Прекрасна, как ангел небесный, Как демон, коварна и зла…»[9]Она как-то исчезла и судьба ее неизвестна. Вероятно, она была убита…
Чем больше я слушал Нину Александровну, тем больше поражался ее начитанностью, умением вести разговор, аристократической простотой и непринужденностью обращения.
Мы прошли в парк и, опять, каждая беседка, каждый обелиск вызывали с ее стороны интересные, полные жизни воспоминания. Парк словно оживал под ее рассказами, словно шелестели вокруг нас незримые тени, вставшие из забытых могил. В темных аллеях слышался шепот, звук поцелуя…
Настоящее сливалось с минувшим и, под влиянием ее чудного голоса и былей минувшего, странное чувство овладевало мной. Все мне начинало казаться сном. И мой полк и моя поездка. А давно минувшие времена представились действительностью. И казалось мне, что я уже не поручик Степного кавалерийского полка, а молодой сержант лейб- регимента, что она не разорившаяся помещица, а придворная дама и мы не в полуразрушенной усадьбе, в заглохшем парке, а в чудесном саду, куда мы ушли от докучных гостей, унося и пряча свои мечты… Это впечатление было до такой степени сильно, что я до сих пор не могу понять, как я решился взять ее за руку.
Она не отняла своей руки. Ее тонкие длинные пальцы, напротив, с неженской силой сжали мою руку так, что мне даже стало больно.
Я поцеловал ел руку.
Мы сидели в полуразрушенной беседке, посреди которой стояла статуя Амура; лук в руках Амура был сломан… Поломаны и стрелы в колчане, но все же он, видимо, был по-прежнему всемогущ…
Она первая нарушила очарование.
— Пора, — с нервным смехом сказала она, — пора!
Она встала.
Я хотел ее удержать, но она резко вырвала руку и быстро пошла по направлению к дому. Я последовал за нею… Она скоро овладела собой и вернула свой прежний непринужденный тон.
— Теперь мы пообедаем, — сказала она, — а потом, если вы торопитесь, вам дадут лошадей.
По правде сказать, желание торопиться у меня пропало…
IV
Когда мы вышли в столовую, стол уже был накрыт.
В металлической миске стоял суп, весь стол был уставлен деревенскими соленьями. Не были забыты и бутылки. Мне случалось бывать в этой губернии у богатых помещиков, и я сразу узнал эти толстопузые бутылки, покрытые плесенью и пылью. Мед, старая водка и столетнее венгерское.
Сервировка была смешанная, хрустальные рюмки и бокалы, переливающиеся всеми цветами радуги, тонкий фарфор и рядом самые обыкновенные тарелки.
Большие букеты полевых цветов наполняли комнату свежим дыханием полей.
Я не заставил повторять гостеприимное приглашение хозяйки. Я был голоден, как волк. Хозяйка ела мало, но усиленно угощала меня и подливала мне вина. Себе она налила маленькую рюмку токайского.
Приятное чувство разнеженности и покоя овладело мной. Я уже не ждал ее приглашений и с удовольствием потягивал вино.
Должно быть, под влиянием вина я стал несколько неловок. Раза два приподнимаясь за бутылкой, я задевал сумкой за прибор.
— Да снимите же вы эту несносную сумку, — смеясь, сказала она, — она мешает вам.
Напоминание о моей сумке, о моем ответственном поручении словно отрезвило меня.
— Нет, нет, — торопливо ответил я, — она нисколько не мешает мне.
И невольным движением я прижал сумку.
Нина Александровна слегка передернула плечами.
Мы кончили суп и она несколько раз топнула ногой.
По этому знаку открылась дверь и вошла женщина. Я невольно вздрогнул.
Вошедшая была та самая, которую я видел на лестнице. Теперь я имел возможность ближе рассмотреть ее.
Клянусь, никогда в жизни не видел я более отвратительной фигуры. Это была не женщина, это была горилла в юбке. Необычайной длины мускулистые руки, огромный рост, неженское сложение, — широкие плечи и узкие бедра — и лицо с покатым маленьким лбом, хищным ртом и черными жесткими, как у дикаря, волосами, подстриженными на лбу.
— Какая каторжная физиономия, — подумал я.
Впечатление было настолько сильным, что я отвернулся.
Нина Александровна заметила это.
— Поскорее, Анфиса, — сказала она.
Анфиса убрала посуду и вышла.
Прошло несколько мгновений. Мы не прерывали молчания. Почти сейчас же снова явилась Анфиса с большим блюдом. Поставив его на стол, она так же молча удалилась.
— Не правда ли, наружность моей Анфисы производит неприятное впечатление, — произнесла Нина Александровна, — но уверяю вас, она олицетворенная доброта и преданность… Наружность вообще, по моему мнению, редко соответствует действительным качествам души.
Мы были одни.
Она говорила, не умолкая. Я ограничивался короткими репликами. Сложное чувство, тяжелое и блаженное, овладело мною. Странно путались в моем представлении мерцающие глаза Нины Александровны и угрюмый взгляд Анфисы.
Анфиса появилась снова и молча убрала все со стола.
— Теперь я сяду сюда, — произнесла Нина Александровна, отходя к окну, — и займусь вышиванием на пяльцах, а вы садитесь на диванчике, курите и говорите.
Я закурил папиросу и сел на маленьком диванчике, стоявшем за моим стулом.
Между диванчиком и стеной было свободное пространство.
Лучи заходящего солнца падали на склоненную голову Нины Александровны и таинственным, нежным светом озаряли ее строгий восточный профиль.
Говорить мне не хотелось. Я молча любовался ею.
Не знаю, что было со мной, — усталость ли, выпитое ли вино тому причиной, но я чувствовал какое-то оцепененье во всем теле. С каким удовольствием я бы растянулся сейчас… Словно дремота начала овладевать мною. Она что-то говорила. Я слышал ее чудесный, убаюкивающий голос, и оцепенение все сильнее охватывало меня. Все смешалось в моей голове, я чувствовал, что засыпаю и всеми силами боролся со сном…
Резкий удар каблука в пол заставил меня раскрыть глаза и выпрямиться.
Это топнула Нина Александровна.
Почти тотчас открылась дверь и появилась Анфиса. Ее руки, жилистые и мускулистые, были обнажены; верхняя губа приподнялась, придавая ее лицу дьявольское выражение жестокости. Глаза, маленькие крысиные глаза, горели… Подстриженные надо лбом волосы словно стояли дыбом.
Страхе охватил меня. Да, страх — я испугался. Я не стыжусь сознаться в этом. Я не трусливее других. Я с честью исполнял свой долг на полях Манчжурии, я видел ужасы Ляояна и Мукдена, и никто не бросит мне в лицо упрека в малодушии. Но тут я испугался. Я испугался этого зловещего лица, этих нечеловеческих рук, этой гориллы в образе женщины.
Инстинктивно я схватился за то место, где привычно находил эфес шашки…
Но мой страх дошел до безумия, когда я увидел, что Нина Александровна поднялась с места и молча указала ей на меня.
Отблеск закатных лучей упал на ее лицо и ее глаза показались мне кровавыми. Черты ее прекрасного лица исказились, ноздри расширились, длинные пальцы тянулись, тянулись и мне казалось, это я чувствую уже их теплое и страшное прикосновение на моей шее.
— Нина Александровна! — крикнул я, вскакивая…
В эту минуту Анфиса с нечеловеческой силой сдвинула на меня тяжелый дубовый стол, за которым могли усесться двадцать человек.
Опрокинулся стул, в одно мгновение я был сбит с ног и упал на диванчик.
Ноги мои были прижаты…
С невероятным усилием освободил я их и вскочил на низенький диван.
О, никогда не забыть мне ужаса этих мгновений! Я смотрел, как безумный, не остался ли на столе случайно забытый столовый нож, вилка, хоть что-нибудь…
Ничего… Ничего!..
Медленно, как змея, пристально глядя на меня маленькими, страшными глазами, подвигалась ко мне Анфиса в промежутке между диванчиком и стеной. Ее нечеловечески длинные железные руки были протянуты, словно ища моей головы. А с другой стороны, между столом и средней стеной, тоже с протянутыми руками, с искаженным лицом, как пантера, так же медленно приближалась Нина Александровна…
Что я мог сделать против железных рук Анфисы! Эти руки, казалось, можно было кусать — и обломать зубы, колотить по ним кулаками, как по наковальне…
Стенка диванчика не позволяла мне свободы действия, а нечеловеческая длина ее рук делала невозможным нанести ей удар в лицо или по голове…
Это были непередаваемые минуты смертельного ужаса, безобразный хаос мыслей и чувств, обрывки воспоминаний, тоска, бешенство и страх, животный страх.
Руки Анфисы тянулись к моему горлу, я бегал по маленькому диванчику, бил кулаками эти ужасные руки, но они даже не дрожали.
В эту минуту сильные руки другого врага схватили меня за ногу… Это была Нина Александровна.
Сильным движеньем мне удалось высвободить ногу… Я увидел ее зверское, прекрасное лицо и в отчаяньи и бешенстве, не помня себя, изо всей силы ударил ногой в сапоге со шпорой в это прекрасное лицо!..
Невероятный, безумный крик боли раздался в вечерней тишине, и Инна Александровна упала… С каким-то звериным ревом Анфиса, забыв обо мне, бросилась к ней.
Я воспользовался этим мгновением, вскочил на стол, с него спрыгнул на пол и к дверям; но обе двери были заперты.
Я бросился к окну и выпрыгнул со второго этажа.
Я опытный гимнаст и удачно совершил свой прыжок…
На дворе я встретил рыжего парня и приказал подать мне лошадь.
Когда он попробовал мне возразить, я одним ударом сбил его с ног. Во мне еще был большой запас бешенства…
В конюшне я нашел лошадь и без седла, в недоуздке, с непокрытой головой добрался до станции. Я был без фуражки.
Там я нашел свои вещи и вечером благополучно прибыл в расположение полка…
Несколько дней я был не похож на себя, — тревожно спал, бредили вскакивал, хотя ничем не был болен и аккуратно бывал на занятиях. Я никому не рассказывал о своем приключении, и под шумок навел справки о судьбе Крутогоровой.
Мне сообщили, что она была нездорова, а потом куда- то уехала со своей служанкой.
Куда? Никто не знал.
Дом был брошен на произвол судьбы.
Вот и все…
Но часто, часто мне грезится прекрасное лицо, лицо Иродиады, ее мерцающие глаза, голос сирены… И кажется мне, что все пережитое было лишь кошмаром… И… мне хочется снова увидеть эти глаза и услышать этот волшебный голос…
Федор Зарин-Несвицкий ТАЙНА ГРАФА ДЕВЬЕРА (По данным из архива князей Долгоруких)
I
На самом берегу Дона, верстах в пятидесяти от Воронежа, раскинулось богатое поместье графа Михаила Девьера. Далеко с реки бросался в глаза, на самой круче, огромный белый барский дом на красном кирпичном фундаменте, с остроконечными вышками, увенчанными цветными флагами.
В темные летние ночи, когда граф устраивал у себя пиршества, барский дом представлял сказочное зрелище.
Сверху донизу унизанный гирляндами цветных фонарей и окруженный пылающим кольцом смоляных бочек, он горел, и сверкал, и пугал и очаровывал запоздалых рыбаков и едущий люд на широких плоскодонных баржах, тянущих по Дону грузы.
Широкой волной разливались в такие ночи звуки музыки. Дворовый оркестр графа, состоявший из ста музыкантов, славился во всем воеводстве. Граф любил пожить. Все, что было в Воронежском воеводстве знатного и богатого, начиная с самого воеводы, считало за честь приглашение на «Валтасаровы пиршества». Впрочем, воевода не был у графа в числе почетных гостей. Настоящим воеводой был сам граф. Он не позволял воеводе вмешиваться в свои дела, не считался ни с чем и вел себя, как царь.
Воевода так и смотрел на это; держался тихо и скромно, сносил насмешки, и зато пользовался от щедрот графа. А граф был богат и щедр с нужными людьми.
Несколько лет назад граф овдовел. На торжественных похоронах жены он выказал такое непритворное горе, что даже изумил всех. Было хорошо известно, что он пользовался свободой нравов, и графиня немало перенесла на своем недолгом веку, — были не только измены, издевательства, но и побои. Но она оставила ему двух сыновей и, быть может, стоя у ее наглухо заколоченного гроба, он раскаивался и плакал о детях, у которых отнял мать.
Ее похоронили над горой в родовом склепе графов Девьеров.
Сама императрица Елизавета Петровна выразила ему через воеводу соболезнование.
Но все проходит, и через пять лет после смерти жены граф Михаил женился снова.
Он был уже немолод, за его плечами было примерно полвека; но граф мог еще нравиться женщинам. Сухое бритое лицо его было гладко, седина едва тронула его густые черные волосы. Глаза горели молодым огнем, и во всей его фигуре, стройной и гибкой, было много жизни и силы. Он был смелый наездник. Любил объезжать диких степных коней. Лошади были его страстью. Неутомимый охотник, он целыми днями пропадал из дома; ходил в одиночку на медведя.
Через год у него родился сын.
Но и с этой женой повторилось то же, что с первой: после рождения сына граф охладел к ней.
Одиноко и грустно жила молодая женщина в огромных покоях старого дома.
II
Графиня Елена Ивановна тревожилась, боясь за мужа; но мало-помалу привыкла к его отлучкам. А бояться было чего. В последнее время участились разбои. Они то стихали, то вспыхивали с новой силой. В последний год неведомые злодеи дошли до какого-то исступления. Нападая и грабя, они не оставляли в живых. Хорошие кони исчезали, плохие возвращались домой вместе с экипажами, в которых лежали трупы их владельцев.
Произошел случай, повергший в ужас всех окрестных помещиков.
Богатый дворянин Воропаев поехал в Воронеж с большой суммой денег. С ним ехал приказчик. Выехал Воропаев рано утром, а к ночи умная лошадь вернулась домой и привезла в возке труп приказчика. Кучер исчез. На трупе приказчика нашли письмо Воропаева. Он собственноручно сообщал брату, что захвачен разбойниками и что за его выкуп требуют две тысячи рублей. Было назначено, когда и куда принести деньги. Место было назначено в лесу у заброшенной сторожки лесника. Воропаев предупреждал брата никому не говорить об этом, если он дорожит своей и его жизнью.
«Они поклялись вернуть меня, если получат деньги», — кончал письмо Воропаев.
Его брат положил в назначенное место деньги. На другой день ему вернули брата. Рано утром приехал один из воропаевских крестьян и привез его труп. Крестьянин нашел барина недалеко от дома. На трупе была записка: «Возвращаем».
Брат бросился к воеводе. Тот растерялся. Послал донесение о разбойных делах в Петербург, а сам отправил гарнизонную команду на поимку злодеев. Но команда, пробродив дня два без толку по окрестным деревням, пьянствуя и мародерствуя, вернулась в Воронеж ни с чем.
Через несколько дней так же загадочно погиб Кучуров, богатый помещик. Труп его нашли недалеко от усадьбы.
Из окружных деревень пропадали красивые девушки.
Обезумевшие отцы, братья, женихи, с разрешения своих господ, не раз отправлялись вооруженными партиями на облаву разбойников, но это было бесплодно.
Помещики выставляли на ночь усиленные караулы, хотя еще не было случал открытого нападения на усадьбы.
Уезжая в гости или в город, брали с собой чуть не целые отряды вооруженных людей. Помещики стали беречь пуще глаза своих дочерей. Только один граф Михаил оставался спокоен. Он выезжал не более, как в сопровождении двух человек — кучера и старшего егеря, если ехал в экипаже, и одного егеря, если верхом.
Он только презрительно смеялся на предупреждения жены и соседей.
III
После долгого затишья граф неожиданно решил отпраздновать 21-го мая день именин жены. Едва ли не более всех была удивлена этим сама графиня. Она уже отвыкла и от внимания мужа, и от шума «Валтасаровых» пиршеств.
Соседи были довольны, и съезд начался дня за два до именин. Съехалось человек десять крупнейших помещиков с семействами, челядью, приживальщиками, с шутами. Кроме знатных персон, понаехало и много шляхетской мелкоты.
Граф Михаил был ровен со всеми.
Но дни, предшествовавшие именинам, граф не проводил с гостями. Им был предоставлена полная свобода. Ели и пили, когда кто хотел; целый день был открыт стол. Находились любители, которые почти круглые сутки не отходили от стола, разве только на свою перину, чтобы потом с новыми силами заняться едой и питьем.
Сперва испуганная непривычным шумом, графиня Елена скоро стала радоваться гостям.
Было с кем отвести душу.
Приехал и Воропаев со своим сыном, сержантом Преображенского полка, уже третий год находившимся в отпуску то в Петербурге, то в Москве, то в имении отца, что в то время легко достигалось при средствах и связях. Воропаев чувствовал приязнь к графу Девьеру. Приязнь эта основывалась на том, что его убитый младший брат был близок к семье графа, особенно при жизни первой жены графа, и редкое участие проявил граф при вести о его трагической смерти. Внимание графа тронуло и племянницу убитого, Настю, первую красавицу в крае.
Воропаев не взял с собой, впрочем, ни жены, ни дочери, напуганный разбоями. А граф Девьер, не видя Насти, попенял Воропаеву за это, прибавив, что он, если бы ведал про подобные опасения, выслал бы для охраны дорогих гостей хоть сотню своих егерей.
IV
Приближался торжественный день именин.
Преображенский сержант все чаще и чаще находил случай оставаться наедине с красавицей-графиней, и она не избегала этих свиданий.
Никогда еще ее муж не был так внимателен к ней. Но по ночам ей было жутко на своем одиноком ложе. Страшные сны преследовали ее. И в ночной тишине, нарушаемой странными звуками, словно шедшими откуда-то из- под пола ее спальни, она плакала и молилась…
В ночь перед именинами графиня в ужасе проснулась. Ей приснилась большая, ярко освещенная комната, и она увидела своего мужа, с красным лицом и налившимися кровью глазами, среди пьяных, и себя саму.
Муж что-то гневно кричал, те хохотали… вдруг он вскочил и схватил ее за горло. Она хотела вскрикнуть, но не смогла и жалобно застонала…
Графиня проснулась и, вся дрожа, села на постели, опустив на пушистый ковер босые ноги.
Кругом было тихо.
Она взглянула на слабо освещенный лампадками киот и перекрестилась… и вдруг вся замерла от ужаса. В жуткой тишине спальни пронесся не ее, а другой — такой же тихий жалобный стон.
Вот он повторился… еще… еще…
— Агаша! — не своим голосом закричала графиня.
Ее любимица, сенная девушка Агаша, спавшая в ее одинокий ночи у дверей спальни, полуодетая бросилась к ней.
— Что это? Что это? — в ужасе шептала графиня. — Агаша, слышишь, слышишь!
— Христос с вами! — зашептала сама оробевшая Агаша. — Почивайте спокойно, графинюшка.
Но графиня молчала, смотря расширенными глазами на потемневшие образа.
И опять по комнате пронесся тихий стон. Откуда несся этот стон? Казалось, что страшный стон наполнял всю комнату и одновременно раздавался и из угла, и из-за киота, и из-под кровати…
Агаша бессмысленно повторяла: «Господи! Господи!»
В тяжелом молчании прошло несколько мгновений. Послышался неясный, странный шум… и все стихло. Графиня не спала до рассвета.
Нерадостно встретила она день своих именин.
V
Праздник начался пальбой из ружей и старой пушки, стоявшей у графских ворот, и колокольным звоном со звонницы маленькой деревянной церкви под горой.
Последовал пышный выезд именинницы в церковь, молебен, поздравления, снова пальба и парадный обед. Граф Михаил, в мундире бригадира, принимал поздравления, а рядом с ним стояла бледная, измученная бессонной ночью его жена.
Сержант старался быть около именинницы.
За шумным обеденным столом было весело и пьяно. Сдерживаемые сперва почтительной робостью перед хозяином гости скоро разошлись, и пьяный говор слился в один веселый гул.
Воевода Герасим Иванович Верхотуров, сидя в углу стола, весь красный, громко кричал, что он перевешает всех разбойников, и грозно сверкал воспаленными глазами и стучал кулаком по столу.
Старый лейб-кампанец Бахметев, со слезами на глазах, пил за матушку Елисавет.
Дочери захудалого князя Бахтеева закатывали глаза и взвизгивали от ужаса, слыша о разбойниках, но, утратив уже надежду на замужество, были бы не прочь попасть в плен хоть к злодеям. Граф Девьер ничего не пил, и чем разгульнее вели себя гости, тем глубже прорезались морщины на его высоком лбу и мрачнее горели темные глаза.
Воропаев в сотый раз уже клялся, что тень брата является к нему каждую ночь.
— И я отомщу, клянусь! — кричал Воропаев.
— Дядя будет отомщен, — повторял сержант Володя, украдкой пожимая руку графини, которая не имела силы, да и не хотела отнять свою дрожащую руку.
Не один раз недобрый взгляд темных глаз графа Михаила останавливался на жене и молодом Воропаеве.
— Быть может, брат твой, Илья Ильич, заслужил свою смерть, — неожиданно произнес граф Девьер.
Все смолкли.
— Коемуждо по делам его, — с недоброй улыбкой закончил граф, не обращая внимания на произведенное его словами впечатление.
Воропаев набросился на него. Кто не знал младшего брата? Графу ли говорить таким языком, когда убитый Иван был его другом и постоянным гостем? Если бы могла восстать из гроба покойница-графиня, она защитила бы память Ивана…
Губы графа Михаила передернула странная улыбка.
— Да? Но мертвые не встают из могил, — заметил он. — Но, впрочем, я говорю, — на все воля Божия.
Воевода крякнул, выпил большой кубок романеи и произнес:
— Воистину так.
Граф пренебрежительно взглянул на него.
Среди пьяной толпы были, однако, два человека, забывшие в это время обо всем и во всем мире видевшие только друг друга: Владимир Воропаев и графиня Елена. И пока за столом лились пьяные и разгульные речи, они опьянялись своей близостью, молодостью, предчувствуя свое счастье.
Сержант упорно настаивал, графиня колебалась. Едва ли кто-либо из присутствовавших, кроме графа Девьера, понял, чем покончили они свой разговор.
VI
На закате солнца того же дня красавица Настя Воропаева вышла за калитку сада, спускающегося к реке. Ей строго было запрещено выходить из ограды сада, но вечер был хороший и, кроме того, она была недовольна, что отец и брат не взяли ее с собой на праздник Девьера; и она решила назло всем сделать по-своему, — погулять по берегу Дона или покататься на лодке.
Заря погасала, начинало темнеть. От реки повеяло сырой прохладой. Насте стадо холодно и жутко. Но она не успела подойти к калитке, как кто-то крепко схватил ее за локти, заткнул ей тряпкой рот, накинул на голову большой платок; она едва не задохлась… и лишилась чувств…
Когда же она очнулась, то увидела себя в прекрасно обставленной, освещенной комнате, устланной мягкими коврами. Сама она лежала на турецком диване, прикрытая шелковым одеялом, а у дивана стоял столик, и на нем были закуски и графин с вином.
Над диваном висело зеркало в золотой раме.
Настя не была трусихой. Почувствовав себя свободной, она вскочила с дивана и бросилась к двери, но обитая сукном дверь была заперта. Настя стала стучать в нее. Но глухие удары оставались без ответа. Она закричала. Обитые войлоком и завешенные коврами стены заглушали ее голос, и ей самой казался он чужим, слабым и бессильным.
Долго Настя кричала, била кулаками в двери, рвала со стен ковры и наконец, утомленная, в отчаянии легла на диван. Для нее не было уже сомнения, что она похищена теми же разбойниками, что убили ее дядю и уводили других красивых девушек.
Ужас все более и более охватывал ее. Что делать? Она напрягала слух; тишина прерывалась гулом, как шум волн. Казалось, что волны шумят над головой и у передней стены. Шум по временам словно прерывали звуки, похожие на протяжный вздох или стон.
— Отворите! Отворите! — снова в ужасе закричала Настя, и опять никто не откликнулся.
VII
Гости графа лениво потягивались на пуховиках после сытного обеда, когда троекратный пушечный выстрел возвестил начало ужина. Они торопливо повскакали с постелей и поспешили в столовую.
Уже горели причудливые потешные огни. Целые фонтаны разноцветных огней били на берегу. С треском взлетали ракеты, рассыпаясь разноцветными искрами на темном небе.
Вышли в сад, на берег реки. Графиня Елена с сержантом, избегая толпы, стояли в стороне.
Вновь прогремевшие пушечные выстрелы привели их в себя.
— Пора! — сказала молодая графиня.
— О, богиня! — нежно ответил сержант.
И тихонько он увлек молодую женщину в глухую часть сада, где почти у самой воды стояла заброшенная беседка. Но едва они приблизились к ней, как в полосе лунного света показалась высокая фигура Девьера. Он стоял неподвижно на пороге беседки, пристально глядя на приближающуюся парочку. Окованная ужасом графиня даже не вскрикнула и судорожно сжала руку Владимира.
Но Владимир высвободил руку и сделал шаг вперед.
— Сударь мой! — произнес он, хватаясь за эфес шпаги.
Молчаливая фигура графа повернулась и исчезла в беседке.
Сержант стремительно бросился за ним. Он смело вошел в беседку… ярко освещенная лунным светом, она оказалась пуста.
Юный преображенец весь похолодел и, крестясь, отступил за порог.
— Наваждение! — прошептал он. — Никого нет!
— Домой, домой! — затрепетав, вскричала графиня…
Уже все гости сидели за столом, плохо проспавшиеся после обеденного хмеля, полупьяные и шумные.
Граф вошел и, не садясь за стол, любезно стал обходить гостей; на жену он ни разу не взглянул, а она боялась поднять глаза от серебряной тарелки и пугливо сторонилась сержанта.
В самый разгар пира в соседней комнате вдруг послышались тревожные голоса, чей-то крик, спор. На пороге столовой показался воропаевский гайдук Кузьма, без шапки, с растрепанными волосами и бледный. Восемь рук тянули его за синий кафтан.
— Не трогать его! — грозно крикнул граф Михаил.
Восемь рук скрылись.
Но Кузьма, не обращая внимания на графа, ринулся вперед прямо к своему изумленному господину и, упав перед ним на колени, закричал отчаянным голосом.
— Барышня пропала! — простонал Кузьма.
Воропаев пошатнулся.
— Барин, Илья Ильич, помилуй, помилуй! Горе-беда на нас!..
Ударом кулака по голове сшиб Воропаев на пол своего гайдука и с пеной у рта закричал.
— Настя! — отчаянно вскрикнул он и закрыл лицо руками.
Владимир успел поддержать отца.
Граф Михаил мрачно сдвинул брови и угрюмым взглядом смотрел на испуганных и растерянных гостей.
— Лошадей, граф, лошадей, — закричал Владимир, — мы найдем ее!
Минутная слабость Воропаева прошла. Он вскочил с места.
— Да, да, — взволнованно говорил он, — нельзя терять ни минуты, едем!
— Куда? — спросил граф. — Куда?
Ни отец, ни сын не могли ответить на угрюмый вопрос графа и беспомощно смотрели друг на друга.
Их молчание прервал Кузьма.
— Не все еще, боярин, сказал я…
— Как! Еще что? — упавшим голосом спросил Воропаев.
— Еще дворецкий Антип пропал, а с ним и прибор столовый, серебряный, дедушки вашего…
— Ах, — проговорил Воропаев, — до прибора ли теперь!..
Женщины испуганно жались друг к другу. Среди них, бледная и неподвижная, как статуя, стояла графиня Елена; тяжелым, потемневшим взором глядела она на своего угрюмого мужа, и словно зрела в ней тайная, зловещая дума.
— Дамы, прошу вас уйти! — раздался резкий голос графа Михаила. — Ныне вам не место здесь!
Испуганной стаей женщины торопливо покинули столовую…
Через час, по распоряжению графа, верховые отряды его дворовых уже скакали по всем направлениям. Сам Воропаев был так потрясен, что не мог принять участия в розыске. Его усадили в возок и, под охраной верховых, отправили домой.
Графиня ушла в свои покои.
Граф исчез, огорченный, недовольный, страшный, и в доме наступила тишина.
VIII
Владимир Воропаев приказал оседлать лошадь и со своим конюхом бросился домой.
В большие ворота он выехал на берег Дона.
Дон волновался и глухо шумел. Дул сильный ветер. Тяжелые тучи заволокли месяц.
Дорога змеилась по берегу. Едва успел Владимир проехать версту, как круто остановил коня. На его глазах происходило что-то необычайное. Впереди, саженях в ста, словно из земли, появился человек, ведущий под уздцы оседланного коня. За ним другой, третий, — мелькнула целая вереница.
Скрывшись за поворотом, Владимир с ужасом наблюдал.
Неведомые люди вели коней на водопой к Дону, садились на них и исчезали в ночном мраке.
Когда последний всадник скрылся в темноте, Владимир осторожно выехал и осмотрел местность.
Песчаные откосы высились над берегом.
При блеснувшем лунном свете Владимир узнал на мокром прибрежном песке следы лошадиных копыт. Они вели к песчаному обрыву и там кончались.
Конюх снял шапку, перекрестился, и, дрожа, произнес:
— Нечистая сила! Господи, спаси и помилуй!
Владимир остановил лошадь, спрыгнул с седла и кинул поводья конюху. Он подошел к песчаному отвесу, где кончались лошадиные следы, и остановился.
Держа в поводу лошадей, Ивашка не отставал от него.
Несколько минут Владимир стоял неподвижно перед песчаной стеной. Потом он пристально посмотрел на темневший на горе дом Девьера и вплотную подошел к откосу.
После недолгого исследования он нашел под нависшими глыбами глины, за грудой камней и песка, замаскированный сухими, наскоро набросанными ветвями проход в пещеру; еще ребенком он сам нередко со своими товарищами забирался в подобные пещеры, выбитые прибоем волн в крутых берегах. Следы копыт вели из этой пещеры.
— Ивашка, видишь? — пораженный, тихо спросил он, указывая на следы.
Но Ивашка уже давно видел.
— Недобрые люди тут были: ужли в самому графу подбираются?
Молодой Воропаев припомнил таинственное исчезновение графа у беседки, взглянул на пещеру и вздрогнул.
«Нет, не может быть того: граф и…» — думал он.
Его колебания длились недолго.
— Ивашка, — сказал он, — а надо все же идти.
— А пойдем, Владимир Ильич, — отозвался Ивашка, — а как же кони?
— Оставь их, не уйдут.
— И впрямь, не уйдут.
Ивашка выпустил из рук повод.
Умные лошади, как собаки, двинулись за ним следом.
Вход, постепенно понижаясь, провел в просторную пещеру.
Владимир выбил огонь и, при слабом свете трута, огляделся. Глинистый пол был испещрен следами копыт и подков. В дальнем углу лежали грудой наваленные, длинные, тонкие смоляные палки. Ивашка поднял одну из них и зажег. Из пещеры вел вглубь просторный коридор.
Ивашка вынул из-за голенища кистень, и Владимир со шпагой в руке пошел вперед. Направо и налево из коридора виднелись новые пещеры и, к своему великому изумлению, Владимир увидел, что то были конюшни. Стойла были выложены соломой, кормушки наполнены зерном. Висели уздечки, седла, плети. Не здесь ли прятали разбойники похищенных кровных коней?
— Боярин, — прошептал Ивашка, — вернемся, соберем людей, скажем воеводе.
— Молчи, — угрюмо прервал его Владимир, — идем дальше.
— Ладно, боярин, но я хоть лошадей пристрою.
Лошади все время шли за ними.
Ивашка ослабил подпруги и ввел лошадей в стойла.
Коридор понижался. Осторожно, чутко прислушиваясь, шли Владимир с Ивашкой.
Все было тихо. В одном из стойл они увидели больную лошадь драгоценной золотой масти. Владимир узнал в ней известную во всем воеводстве лошадь убитого Кочурина[10]. Сомнения быть не могло. Они напали на самое гнездо разбойников! Но где же жили люди?
Коридор кончился. Дальше пути не было. Напрасно Владимир искал дверь. Перед ним стояла влажная стена.
Взволнованный и задумчивый, он вернулся назад.
— Мы никуда больше не поедем, — обратился он к Ивашке, когда они вышли из пещеры и сели на лошадей.
IX
Елена не могла спать. Она тихо встала с постели, накинула телогрейку и босая пошла через ряд покоев в оранжерею.
Сквозь стены и потолок светила луна, и страшно было в душной оранжерее среди резких и причудливых теней. Графиня хотела вернуться назад, но, залюбовавшись лунным светом, забыла страх. Она думала о муже, о Владимире, о своей бесплодно увядающей молодости.
Тихо было вокруг.
«Кто эти разбойники? — думала она, — где теперь несчастная Настя?»
Графиня вздрогнула. Поведение мужа, ночные стоны, его улыбка, таинственное появление у беседки… Она уже раскаивалась, что ей пришла в голову сумасбродная мысль идти ночью в оранжерею.
Раньше она часто просиживала здесь до рассвета. Но теперь ей было тяжело и жутко.
Торопливо направилась она к дверям и, не успела она переступить порога, как позади ее раздался скрип.
Она вскрикнула и обернулась.
У большой пальмы, бледный, в лучах лунного света стоял граф Михаил.
Она неподвижно остановилась, с ужасом глядя на него.
— Вы, кажется, ждали не меня? — раздался резкий голос.
Словно молния осветила все темное до сих пор и, повинуясь непреодолимому чувству, Елена сделала шаг к нему и, сама удивляясь себе, громко крикнула:
— Убийца!
Он вздрогнул и, подняв руку, бросился на нее.
Графиня быстро повернулась и побежала.
Она не помнила, гнался ли за нею граф.
Гости стали разъезжаться с самого раннего утра. Каждый думал о своем доме. Они торопливо собирались с испуганными женами и дочерьми и покидали один за другим гостеприимный кров Девьера.
Остался только пьяный воевода да несколько молодых помещиков, вернувшихся с бесплодных ночных поисков.
Гости даже не попрощались с хозяевами.
Графа Михаила никто не видел.
X
Воевода Верхотуров слишком отяжелел, чтобы принять какое-нибудь участие в преследовании преступников. Он всецело вверился графу, а тот сказал, что все берет на себя.
Уже вечерело, когда вернулся Михаил. Вид его был грозен, и дворовые в испуге прятались от него. Вскоре за ним приехал Владимир.
К обеду вышла Елена. Царило принужденное молчание.
Владимир успел шепнуть хозяйке несколько слов; она вся побледнела, низко опустила голову и молча вышла из столовой.
Граф Михаил резко спросил:
— Ну, что вы нашли?
— Что я нашел? — медленно начал Владимир. — Ничего. Но я знаю теперь, где искать сестру.
Граф тихо рассмеялся.
— Где же?
— В тех же местностях, может быть, где есть тайные конюшни, — ответил Владимир.
Граф побледнел.
— Где же? — повторил он.
Владимир объяснил.
— Странно! — после некоторого раздумья произнес граф. — Надо расследовать! Бред какой-то!
Он круто повернулся и вышел из столовой.
При этом разговоре присутствовало третье лицо. Если бы граф и заметил этого человека, едва ли, однако, принял бы его во внимание.
Это был его давний полуюродивый приживальщик. История его была темна. Было известно только одно, что при Анне Иоанновне он сильно пострадал. Был он богат и хорошего рода, у которого насчитывалось четыре боярских шапки. Был он в то время не хуже других. Но теперь он был нищ, ступни его были вывернуты пальцами врозь, пятками вместе, одной руки не хватало, голова повернута была налево, один глаз всегда закрыт, лицо иссечено рубцами, а на голове не было ни одного волоса. Это все произошло от короткого знакомства с начальником тайной канцелярии, любезным и ласковым, «в обращении сверхмерно приятным», знаменитым генералом Андреем Ивановичем Ушаковым.
Сосланный в Сибирь, он, по воцарении Елизаветы Петровны, был помилован и, искалеченный и разоренный, скитаясь бездомным бродягой, попал в воронежскую губернию, и судьба столкнула его с Девьером. Он остался у графа. Это было давно, очень давно, еще до первой женитьбы графа Михаила.
Этого получеловека звали Григорием Григорьевичем Радунцевым.
Владимир не знал, что предпринять: броситься ли за графом, потребовать объяснения или терпеливо ждать будущего. Вдруг из темного угла выползла эта фигура в рваном красном кафтане, с обезображенным лицом, с заплетающимися одна за другую ногами. Его можно было принять за чудовищно безобразную заводную игрушку.
XI
— Довольно, сударь мой, довольно, — хриплым голосом заговорил Радунцев, однообразно двигая сверху вниз левой рукой.
— Не страшитесь, государь мой, я, калека, зла на вас не имею…
Он страшной, подпрыгивающей походкой приближался к Владимиру.
— Кто вы? Чего вы хотите? — спросил Владимир.
Но чудовище, ухватив его рукой за блестящую портупею шпаги, бессвязно и страстно зашептало:
— Знаю… слышал… Дон… пещеры… лошади… под домом… она плачет… на цепи… уже семь лет!.. Она, солнце мое… счастье… спаси ее… спаси ее!..
С ужасом слушал его Владимир, а Радунцев, плача и волнуясь, продолжал шептать:
— Пойдем… Довольно, государь мой, довольно, все обнаружу, все покажу… есть Бог на небе… иди…
И он с силой, какой нельзя было ожидать в его единственной руке, потащил Владимира за собой.
Уступая неопределенному чувству ужаса и любопытства, Владимир молча дал себя увлечь.
Необычайно быстро для своих искалеченных ног Радунцев вел за собой Владимира и продолжал тревожно и бессвязно шептать:
— И эту… молодую… погубить, как и ту… и ради нее… твоей сестры… Все докажу… Бог не велит дольше молчать… близок мой час… Суд страшный, огонь вечный…
Владимир был суеверен; хотя и готов был осмеять все, он верил в приметы, гаданья, юродивых…
И теперь мгновениями ему казалось, что рядом с ним не живой человек, а призрак, выходец из могилы или упырь, увлекающий его за собой в свою кровавую могилу.
Через длинный ряд темных покоев Радунцев привел Владимира в оранжерею, выпустил его руку и снова залопотал:
— Ход… бочку…
Он подбежал к большой кадке, в которой высилась красивая пальма, и сдвинул ее с места.
Владимир наклонился, и голова его закружилась. Он увидел глубокое и темное, как колодец, отверстие. Крутая лестница вела на дно.
— Туда, туда, — твердил калека, низко наклоняясь над черной дверью. — Иди!..
Но Владимир колебался.
— Иди, — настойчиво повторил Радунцев и с ловкостью акробата, ухватясь рукой за край отверстия, спустился в бездну, и вскоре уже далеко из глубины раздался его дикий, торжествующий, сдержанный смех.
Мурашки пробежали по спине Владимира, но он последовал за калекой.
Ступени были крутые и узкие. Нога скользила.
Упираясь руками в стены, Владимир осторожно спускался вниз в глубокой темноте. Наконец ощутил под ногами пол и наугад двинулся вперед.
— Иди… сюда… — услышал он голос Радунцева.
Его толкнули влево, и он очутился в просторном коридоре, слабо освещенном из глубины горевшими масляными плошками.
XII
Проходили часы. Свечи гасли. Совсем обессиленная, лежала Настя на диване. Целые сутки она ничего не ела, не слышала человеческого голоса и не знала, где находится. Свечи погасли, и глубокая тьма наступила.
Девушка погрузилась в тяжелую дремоту… Яркий свет, шум шагов, властный голос разбудили ее. Она вскочила с дивана. В двух шагах от себя она увидела стройный стан и сухое и насмешливое лицо Девьера.
В ужасе она протянула руки, считая все сном; но, вспомнив, что граф Девьер был давним другом ее семьи, она сразу почувствовала облегчение и с радостным криком бросилась к нему:
— Граф, граф! Вы пришли спасти меня!..
Но Девьер отступил назад и загоревшимися глазами глядел на Настю.
Она остановилась, беспомощно опустив руки, с недоумением и страхом:
— Вы не ошиблись, Настасья Ильинишна, — начал граф, — и голос его дрожал. — Я друг ваш, я больше, чем ваш друг, — продолжал он.
Она попятилась…
— Я люблю вас, давно люблю, — сказал граф, хищным взором окидывая ее фигуру, — я люблю вас. Это я украл вас, вы у меня! Вы в моей власти! Я люблю вас! — настойчиво и безумно повторил он, медленно приближаясь к ней. — Я покажу тебе, как я богат, как силен я!.. Завтра же я обвенчаюсь с тобою!.. Одно слово!
— Побойтесь Бога! — простонала Настя.
— Или ты думаешь, я женат? Я сегодня буду вдовцом.
Настя прижалась в угол, а граф, стоя перед ней, говорил, как исступленный:
— Я смеюсь над ними! Я богат! Я знатен! Я беру, что мне нравится! Убиваю тех, кого не люблю! И все могу, все сделаю! И возьму тебя или как жену, или как… ты понимаешь? Тогда берегись. Выбирай сама, чем хочешь быть!..
Он подошел к ней вплотную, крепко схватил ее за руки, и продолжал:
— Я убил твоего дядю. За что? — потом скажу тебе. Это я убил…
Он вдруг остановился.
Он услышал крик, стон, пистолетный выстрел и выпустил руки Насти.
Настя бросилась в противоположный угол и отчаянно закричала:
— Ко мне! Помогите!..
Граф стремительно выбежал.
Он забыл даже запереть за собой дверь.
Когда его шаги смолкли, Настя, не помня себя, помчалась по коридору все с тем же отчаянным криком:
— Помогите! Помогите!
Но она бежала, не зная куда, по слабо освещенным и совсем темным коридорам, мимо каких-то запертых дверей. И вдруг она услышала голоса.
Задыхаясь, остановилась она у двери. За дверью слышался однообразный, но полный отчаянья вопль, повторявшийся:
— Михаил, пусти меня к детям! Михаил, пусти меня к детям!
Это приводило в ужас и надрывало сердце.
Но все же близость страдающего живого существа внушала Насте менее страха, чем могильная тишина подземных переходов.
Она толкнула дверь и очутилась в склепе, слабо освещенном плошкой. В углу тряслось странное, дикое существо. На изнуренном теле висели обрывки одежд, длинные всклокоченные волосы космами спускались почти до самого пола, закрывая лицо, и сквозь них с невыразимой скорбью глядели большие, блестящие безумные глаза.
— Кто вы? — дрогнувшим голосом спросила Настя, беря с пола плошку.
— Михаил, пусти меня к детям! — раздалось в ответ.
Женщина умоляюще подняла руки, раздался слабый звон, и Настя увидела на ее руках цепи. Она подошла ближе и громко вскрикнула, заметив на ее шее стальной ошейник. Цепь, как змея, обвивала всю женщину. Конец был продет в кольцо на стене и замыкался тяжелым замком.
Растерянная, оцепенелая, остановилась Настя.
Но через минуту энергия вернулась к ней. Забывая о своей опасности, она смело подошла к женщине и осветила ее лицо. Несмотря на синеватую бледность и худобу, было очевидно, что женщина эта молода и была когда-то красива.
— Кто вы? — тихо, с состраданием, снова спросила Настя.
Безумные глаза остановились на ней с выражением испуга, потом удивления и, наконец, словно промелькнуло в них сознание. Но женщина ничего не ответила.
Настя поставила плошку на пол. Стала на колени у стены и пыталась сломать замок цени. Но усилия Насти были напрасны. Замок был крепок, и цепь нельзя было сорвать. Настя поднялась.
— Я не могу, — сказала она.
— Никто, никто не может! — с тоской простонала женщина.
— Укажите мне, как выйти отсюда, — продолжала Настя. — Я позову людей и мы освободим вас.
На лице женщины отразился ужас. Она заметалась на своей короткой цепи.
— Нет, нет… Не надо… — бессвязно залепетала она и вдруг в страхе прибавила: — Идут, они идут… Дверь, дверь… Они будут бить!..
И, действительно, раздался шум бегущих шагов.
Настя затаила дыхание.
Шаги приближались.
— Михаил, пусти меня к детям, — раздался отчаянный вопль.
— Отворите! — крикнул мужественный голос, и испуганная Настя, узнав голос брата, открыла дверь.
Владимир вбежал с калекой Радунцевым. На минуту он остановился, но узнал сестру и с криком бросился к ней:
— Настя!
Настя вскричала:
— Владимир! Посмотри, спаси! — и указала на прикованную женщину.
Странное зрелище увидел Владимир.
У ног несчастной, плача и что-то бормоча, ползал калека, а женщина склонила к нему голову и смотрела сознательным взглядом.
— Она… она… — лепетал калека…
— Кто она? — спросил Владимир.
Женщина подняла голову.
— Где дети мои? — простонала она и ослабевшим голосом, лишаясь чувств, прибавила: — Я графиня Девьер…
XIII
Когда Владимир с Радунцевым спустились в подземелье, им преградил путь часовой.
Владимир выстрелил, и этот выстрел и стон умирающего услышал граф из комнаты Насти.
Бросившись на выстрел, граф лицом к лицу столкнулся с Владимиром. Но, увидя хорошо вооруженного противника, как призрак скрылся в полутемном коридоре. А Владимир преследуя его, услышал отчаянные крики сестры и нашел ее и первую графиню Девьер.
Чтобы освободить пленницу от цепей, пришлось позвать кузнеца. Владимир послал за ним Радунцева и велел ему привести всех оставшихся молодых гостей, принимавших участие в розыске. Но запретил пока сообщать о случившемся графине Елене.
Когда через полчаса явился перепуганный кузнец и с ним молодые гости Девьера, Владимир коротко объяснил, в чем дело. Негодованию их не было предела.
Кузнец, между тем, расковал графиню, и ее на руках перенесли наверх.
Владимир сам предупредил Елену.
К его удивленно, Елена выслушала его почти спокойно.
— Я чувствовала, что он злодей… да будет воля Божья, — тихо сказала она, отстраняясь от сержанта.
— Но ты теперь свободна! — воскликнул Владимир.
— Оставьте меня, я не могу, — ответила графиня и, вырвавшись из его рук, ушла к себе.
XIV
Розыски в подземелье продолжались, граф Девьер исчез. В просторной кухне подземелья нашли человек десять хорошо вооруженных холопов, но все были мертвецки пьяны.
Первую графиню принесли наверх.
— Где мои дети? Покажите мне детей, — воскликнула она и начала бредить.
Соседние помещики были извещены и прислали на подмогу своих дворников.
Весь дом графа был оцеплен. Испуганный воевода не знал, что делать, но, по настоянию окружающих, принужден был вытребовать из Воронежа отряд.
Графиня Елизавета, первая жена графа Девьера, была перенесена в покои Елены.
Елена теряла все: имя, положение, и что особенно было для нее мучительно, — ее годовалый сын Михаил становился незаконным.
Что ожидало их в будущем?
Но Елена, несмотря на свое личное горе, ухаживала за Елизаветой. Было очевидно, что графиня умирала. Никакие усилия лекаря, вызванного из Воронежа, не могли вдохнуть жизнь в ее истощенное тело.
Она пришла в себя, потребовала к себе детей, девятилетнего Александра и восьмилетнего Петра, и не отпускала их от себя. Испуганные дети с любопытством смотрели на измученную женщину, которая была их матерью.
Графиня успела дать показание и рассказала свою печальную историю. Ничего нового к тому, что было ясно всем, она не могла прибавить. Только одно, в связи с показанием Насти, обращало на себя внимание. Умирающая сказала, что граф Михаил ревновал ее к Воропаеву.
На третий день, к вечеру, благословив детей, попрощалась со всеми окружающими, причастилась и умерла.
В тот же день в доме появился граф Михаил.
Со своей обычной, жесткой и холодной усмешкой, он отдавал приказания.
Но было это недолго. Соседи заставили воеводу арестовать графа. С сердечным трепетом тот повиновался, и все же не посмел отправить графа в город в острог. К дверям его комнаты приставили только солдата.
Между тем, при осмотре девьеровских подземелий нашли целые склады награбленных сокровищ, серебряной и золотой посуды, ценных камней и золотой монеты. В пещерах стояли лошади. В темницах нашли прикованных к стене дворовых графа, измученных, искалеченных, и среди них был воропаевский дворецкий Антип.
Негодование и возмущение помещиков и крестьян было так велико, что воевода перетрусил. Он боялся, что крестьяне сожгут усадьбу Девьера.
Сам старик Воропаев лично отправился в Петербург к императрице.
Неизвестно, на что надеялся граф Михаил, но он не падал духом. Владимир быль очень сдержан по отношению к Елене, как и она к нему. Но все его существо трепетало от радости при мысли, что она свободна.
Радунцев со смертью графини снова впал в слабоумие, и от него ничего нельзя было добиться.
XV
Через три недели вернулся Воропаев с именным указом императрицы. Дело это глубоко возмутило Елизавету, и она отдала строгий приказ воеводе: «Наикрепчайше в железах доставить онаго злодея в Санкт-Петербург».
А за смертью первой жены графа поведено было признать Елену законной женой и сына Михаила рожденным в браке[11].
Граф упал духом.
Указ пришел в полдень; на другой день на раннее утро был уже назначен отъезд. Граф умолял воеводу до отъезда не заковывать его. Воевода, помня его прежние щедроты или, может быть, воспользовавшись новыми, согласился. Поздно вечером граф пригласил для последних распоряжений своего доверенного приказчика Савелия, ближайшего к себе человека и молочного брата.
Часовой, стоявший у двери, слышал оживленный шепот. Потом все стихло. Была уже ночь. Часовой задремал, прислонясь к притолоке. Вдруг в комнатах графа раздался гулкий выстрел, и из дверей с громким криком, закрывая лицо руками, выскочил Савелий:
— Помогите! Помогите! — кричал он. — Убился боярин, убился!..
И он пробежал мимо часового.
Когда же сбежавшиеся на выстрел и крики люди, во главе с Владимиром, вломились в комнату графа, они нашли его на широком турецком диване.
Он лежал на спине, свесив одну руку, сжимая в другой большой пистолет. Вся голова его была раздроблена и снесена от самой нижней челюсти. Лица не было видно. Граф выстрелил себе в рот. Стали искать Савелия, но его и след простыл, что не особенно всех удивило. Савелий сильно был замешан в преступлениях графа и скрылся, боясь суда.
О смерти графа было донесено в Петербург, и дело об его разбоях было прекращено.
Графа торжественно похоронили в родовом склепе, рядом с его первой женой, тело которой было положено в тот же гроб, в котором семь лет назад он кощунственно похоронил, вместо жены, вязанку дров.
Потрясенная графиня Елена приходила в себя. Пережитое все дальше и дальше отходило от нее и все ярче светилось, озаряя ее, счастливое будущее.
Владимир часто бывал у нее и все были убеждены, что, когда минет срок траура, молодая вдова выйдет за Воропаева.
Старик Воропаев благосклонно смотрел на их любовь с тех пор, как Елена стала «законной» вдовой графа.
В усадьбе все повеселели.
Да и губерния вздохнула свободнее. Дороги вновь стали безопасны, разбои, грабежи, похищения девушек прекратились.
Владимир решил ехать в Петербург и просить у императрицы полный абшид[12]. Графиня Елена была очень опечалена разлукой, но утешалась мыслью о скором свидании.
XVI
Накануне отъезда Владимир засиделся у Елены. Молодым людям не хотелось расставаться.
Был уже июль месяц. Ночи стояли душные, ароматные. Владимир и Елена долго, рука с рукой бродили по саду, опьяненные негой ночи, своей молодостью, своей любовью…
Но все же ехать было надо, и у веранды дома давно уже ждал Ивашка с оседланным конем.
На прощанье, крепко обнимая Владимира, Елена расплакалась.
— Не плачь, моя радость, — успокаивал он ее, — месяц, много два, я вернусь, и уже никогда, никогда не оставлю тебя.
— Я боюсь без тебя, я боюсь без тебя, — шептала графиня, крепко прижимаясь к нему, — я боюсь этого страшного дома. Мне все кажется, что по ночам бродит он, и все ищет чего-то, — и она вся дрожала, озираясь кругом.
— Скоро я увезу тебя навсегда отсюда.
Владимиру удалось успокоить ее. Заплаканная, но улыбающаяся, она в последний раз поцеловала и перекрестила его.
И, свесясь за перила веранды, она напряженным слухом долго ловила удаляющийся топот коня.
Все затихло. Графиня постояла несколько минут и тихо направилась к двери.
Темная тень преградила ей путь. Она вскрикнула.
— Не кричи, Елена, — произнес знакомый ей насмешливый голос…
— Господи! Господи! Сгинь, сатана! Пропади, наваждение лукавого! — прошептала обезумевшая графиня.
— Я не тень, не наваждение, — прозвучал словно издали металлический голос, — я действительно твой муж, граф Михаил, которого ты так оплакиваешь.
Елена увидела, что перед ней живой человек, но ее ум никак не мог помириться с этим.
— Радуйся же, верная жена, — продолжал граф, и его голос звучал уже нескрываемой угрозой. — Дети! несмышленые дети! Я жив назло вам! Я застрелил Савелия, нарядив его в свое платье! А вы так обрадовались, что даже не сомневались! Вы даже не посмотрели на его руки! Разве у него такие руки?
Граф протянул свои бледные узкие руки с длинными, тонкими пальцами.
— А, — продолжал он, — вы думали, — он умер, а мы будем наслаждаться его именем, его деньгами, любовью, молодостью, всеми радостями жизни, ради которых я погубил свою душу! А вы, не продав души дьяволу, хотите взять все! Да если бы я на самом деле умер и вы меня похоронили вон там под горой, — я бы все-таки встал из своей могилы и пришел бы к вам и задушил бы вас собственными руками!..
Он был страшно бледен, глаза его сверкали.
Елена вся застыла, не имея силы произнести ни слова. Но мысль о любимом человеке, о погибших надеждах, страстная ненависть к этому человеку, кровавым призраком вставшим из могилы, вдруг охватили ее.
Подняв руки, она громко закричала:
— Так будь же ты проклят! проклят! проклят!..
Когда на ее дикий, отчаянный крик на веранду вбежали люди с фонарями, они увидели лежащую без чувств на полу молодую графиню и склоненное над ней бледное, сухое, с хищным очерком лицо графа Михаила Девьера.
Владимир в ту же ночь утонул в Доне, а Ивашка погиб, спасая его.
Через два дня их искалеченные о камни трупы были выброшены на берег. Лошади прибежали одни домой.
Слух о восстании из мертвых графа Михаила глухо пронесся по округе.
Воевода растерялся. Ездил к графу и ничего не решил. Он боялся снова поднимать дело, конченное «по Высочайшему повелению». А из соседей никому не было охоты связываться со страшным графом. Один ему мог быть только опасен — Воропаев. Но старика разбил паралич, когда он узнал о гибели сына.
Графиня была долго больна, а когда поправилась, ее нельзя было узнать. Она поседела, глаза угасли; она плакала и молилась, и всю жизнь сосредоточила на маленьком Михаиле.
Граф тоже сильно постарел после описанных событий.
Почти все время он проводил дома, угрюмый и озлобленный…
Так и прожил он в своем поместье, никем не тревожимый, несколько лет до самой своей кончины…
А. Дунин ТАИНСТВЕННОЕ
«Есть много вещей на свете, друг Горацио,
о которых мы ровно ничего не знаем».
Шекспир, «Гамлет»Шекспир, вложивший эти слова в уста датского принца Гамлета, безусловно прав и поныне: необъяснимые явления, о которых мы ничего не знаем, действительно существуют. Например, что такое страх, который мы испытываем, проходя ночью через кладбище, пустынный парк, или ночуя в необитаемом доме? Или: почему мы предчувствуем несчастие, которому подвергается близкий человек, отделенный от нас тысячеверстным расстоянием, океаном? Откуда приходят чудесные сны, в которых мы выступаем действующими лицами в обстановке, не существующей в действительности или никогда не виданной нами?
Мы не в состоянии ответить на эти и подобные вопросы, потому что затрагиваемые ими явления покрыты непроницаемой завесой тайны, и можем лишь сообщить факты, свидетельствующие о таинственности явлений, не поддающейся обыкновенному анализу.
Эти факты отчасти извлечены из разных бумаг, хранящихся в правительственных архивах, отчасти почерпнуты из рассказов лиц, переживших или имевших возможность наблюдать их, или слышавших о них по рассказам других.
Они довольно многочисленны, и мы приводим из них лишь те, которые наиболее заслуживают внимания.
В 1809 году, в Москве, в ненастный осенний вечер, в трактире на Камер-Коллежском вале собралась шайка громил.
Шайка эта, действовавшая по всей Московской губернии, — как потом выяснило следствие — совершила много убийств и грабежей; некоторые из ее членов были суждены, наказаны кнутом, заклеймены и сосланы в каторжные работы, но успели бежать из каторги, добрались до Москвы и, пользуясь гостеприимством воровских притопов, снова принялись за свое ужасное ремесло. Вообще — люди отчаянные, отпетые, не раз смотревшие в лицо смерти.
Но самыми отчаянными из них считались атаман Абрашка Кувалда и его правая рука — Сенька Губернатор. Абрашка, бывший деревенский кузнец, «работал» 15-ти фунтовой кувалдой и другого оружия не признавал, а Сенька, — большой мастер «общипывать приказных» — бежав из Сибири, ограбил в Перми губернатора, перевязав предварительно казаков и прислугу, за что оба разбойника и получили свои крылатые прозвища. И атаман, и помощник — оба состязались друг с другом в смелости и жестокости, и притом считались первыми силачами.
Разбойники кутили вовсю.
Вскоре между ними начались пьяные споры и бахвальство. Губернатор, упрекавший Кувалду, что он не пошел грабить церковь в селе Черкизове, громко назвал его трусом.
— Сам ты трус! — огрызнулся Кувалда.
— Кто? Я трус?! — закипел Губернатор. — Ах ты… мразь!
— А ежели не трус, — сходи на Калитниковское кладбище, — ехидно предложил Кувалда.
— И схожу! Что ж ты думал, — спугаюсь?
— Ну вот, и сходи… Сейчас иди. A-а, боишься!
Подзадоренный обидным недоверием к его испытанной смелости, Губернатор, в сопровождении всей шайки, немедленно отправился на кладбище, находившееся за городом, верстах в пяти от Москвы.
Было близко полуночи. Темь — хоть глаз выколи.
Разбойники подошли к кладбищенским воротам.
По занимаемой площади кладбище представляло фигуру трапеции, и по лицевой, наиболее короткой, линии было обнесено невысокой каменной оградой, а по параллельной задней и по обеим боковым сторонам обрыто глубокой канавой.
По уговору, Губернатор должен был перелезть через ограду, пройти кладбище «наскрозь» и выйти на его противоположную сторону, к канаве.
Разбойники разделились на две партии: пятеро с атаманом остались караулить ворота, а четверо пошли к канаве, предварительно условившись — когда Губернатор перебежит кладбище — обменяться сигналом.
Губернатор перемахнул через ограду и скрылся в непроницаемом мраке.
Разбойники насторожились; жуть заползала в душу, и весь хмель сразу вылетел из головы.
Вдруг тишину ночи прорезал страшный вопль.
— Беда стряслась с Сенькой, — тревожно молвил атаман. — Идем, братцы, выручать!
И подал сигнал второй партии: идти на кладбище.
Разбойники, двинувшиеся одновременно навстречу друг другу, осторожно подвигались по дорожке, по которой должен был пройти Губернатор, хорошо знакомый с топографией кладбища, встретились и молча остановились: Губернатор лежал на земле, «зарывшись лицом в песок», и не подавал признаков жизни.
Разбойники огляделись кругом, прислушались и только что подняли товарища, чтобы вынести его в поле, как рядом на могиле вспыхнул яркий свет и «обозначился человек в саване».
Бросив губернатора, разбойники с криками ужаса пустились бежать и, как они сами впоследствии показывали, «бежали без памяти до самого города».
На другой день, ранним утром, Губернатора поднял кладбищенский сторож.
— Чей ты человек? — спросил он. — Скажись?
Сторож несколько раз повторил вопрос. Несчастный что-то бессвязно лепетал, и сторож, так и не добившись ответа, отправил его на полицейскую съезжую. Со съезжей его препроводили в больницу. Встав на ноги после двухмесячной лежки в нервной горячке, Губернатор сам повинился во всех своих преступлениях и выдал соучастников.
Представ пред управой благочиния, куда его препроводили для первого допроса, он, между прочим, показал:
«…Я уже подходил к середке кладбища, как в двух шагах от меня на могиле загорелся свет, как в церкви. По первоначалу я подумал, что это идет сторож с фонарем, и приготовился ударить его кистенем, не вижу: идет на меня не сторож, а покойник, в саване, и свет от него кругом все больше и больше… И в том покойнике признал я купца Долгова, которого зарезал о прошлом годе, но не знал, что он похоронен на Калитниковском кладбище. И тут на меня напал смертный страх. Свалился я наземь и что со мной было, — не помню».
Сторож Калитниковского кладбища подтвердил, что он, действительно, нашел разбойника подле могилы купца Долгова.
О встрече с покойником показали и все остальные разбойники.
Об этом случае, повлекшем за собой арест и наказание всех членов кувалдинской шайки, — их судили и сослали в каторжные работы, — много говорили в Москве, а таинственную могилу купца Долгова посетили тысячи любопытных.
Дальнейшая судьба Губернатора, добровольно понесшего тяжкую кару, неизвестна.
Едва ли не самым интереснейшим — в смысле таинственности — является «дело о глумлении нечистой силы в доме купца Смородинова».
Дело это возникло в Вологде, в двадцатых годах прошлого столетия.
Купец Смородинов купил на краю города пустырь с руинами боярских хором, стоявших тут в XVI или XVII столетии. Об этих руинах по городу ходили нехорошие слухи; между прочим, говорили, что по ночам в них разгуливают привидения. Но Смородинов, не обращая внимания на слухи, решил построить здесь дом. Приступив к разборке руин, он открыл под ними каменный свод, по-видимому, прикрывавший обширный подвал, но входа в него, как ни бился, найти не мог. Пришлось пробить в своде отверстие и спустить в него двух каменщиков. При беглом осмотре, в подвале нашли больше десятка «костяков» (скелетов), прикованных цепями к стене за шею и «круг бедер». Смородинов испугался: как тут жить? Убрать? Но это легко сказать, а исполнить — по тогдашнему «крючкотворному» времени — было очень трудно: к Смородинову прицепились бы приказные, затаскали по судам и в лоск разорили бы; но и объявить о страшной находке тоже неудобно: огласка по городу пойдет, и если придется дом продавать, — никто не купит. Переговорил он с подрядчиком; но тот и слышать не хочет «никаких резонов»: мне, говорит, в остроге сидеть тоже не хочется… Делать нечего, пришлось накинуть подрядчику сверх условленной ряды еще сотню рублей, да артели поставил пять ведер водки, и все устроилось, как он желал: вытащили костяки, ночью отвезли их в лодке по реке и, без отпевания, опустили в воду.
Семья Смородиновых благополучно прожила в новом доме лето, осень и приготовилась зимовать.
Но уже в начале декабря произошло событие, нарушившее мирную жизнь.
Ночью Смородинов услышал глухой стук отворяемой двери в прихожей. Он приподнялся на постели, сел и насторожился. Не было сомнения: в дом кто-то вошел; конечно, вор. Одно только удивило его: собаки ни дворе, чуткие на чужого, не лаяли… Но вот он явственно слышит, что кто-то идет, направляясь прямо в спальню, и идет свободно, как гость, свой человек, уверенный, что ему здесь нечего стесняться, хотя бы и ночью… Слышно легкое постукиванье каблуков, бряцание оружия…
Дверь тихо распахнулась.
Смородинов взглянул и — обомлел.
Перед ним, в мягком свете лампады, горевшей пред иконами, стоял человек высокого роста, в кафтане с позументом, в меховой шапке с красным шлыком и в желтых сафьянных сапогах; сбоку прицеплена турецкая сабля, а за поясом торчали пистолеты. Из себя пожилой, важный. Черные усы с проседью, по-казацки, спускались книзу, к гладко выбритому подбородку; карие глаза смотрели из нахмуренных бровей твердо и упрямо.
Незнакомец погрозил ему и, бормоча какие-то непонятные слова, исчез, словно растаял в воздухе.
Смородинов потерял сознание, а когда очнулся, то захворал, и хворал долго; однако никому, даже жене, не сказал о появлении в доме привидения.
Прошел год.
Смородинов под вечер возвращался с ипподрома. Недалеко от его дома дорога, шедшая берегом реки, круто загибала и подходила к обрыву. Это место он всегда проезжал шагом и уже приготовился сдержать бег рысака, как вдруг появился ночной незнакомец, загородил коню дорогу и гикнул. Смородинов, бросив вожжи, закричал диким, «не своим голосом», рысак взвился на дыбы, захрапел и шарахнулся с обрыва, увлекая за собой санки и седоков.
По счастью, Смородинов и кучер, упав в мягкий и глубокий снег, отделались незначительными ушибами.
Замечательно, что кучер, по его словам, не видал привидения…
Смородинов с семьей в тот же вечер бежал к тестю и принял твердое решение продать несчастный дом.
Но это намерение ему не пришлось осуществить.
В полночь церковный сторож, отбивая часы, увидел людей, бежавших по снегу босыми, в одном белье, и взывавших о помощи.
Люди эти оказались служащими Смородинова, жившими в надворном при доме флигеле.
Из их показаний полицейским властям выяснилось, что во флигель вошел, не тронув запоры, неизвестный человек высокого роста и «всех поряду» пошвырял с постелей на пол, порвав рубахи и пощипав тело.
Флигель и дом Смородинова были осмотрены, но, как гласит протокол осмотра, «указанного злодея найдено не было, и куда он скрылся, — неизвестно».
Интересно показание стряпки Ерофеевой.
— Когда дом клали, так еще тогда вырыли человеческие костяки, — показала она. — И те костяки не отмолены. Оттого по ночам и бродят их души, да от них же и хозяева сбежали в тестев дом.
Власти принялись за Смородинова, разыскали и потянули к допросу подрядчика и рабочих.
В конце концов, «дело о глумлении нечистой силы» направили на заключение владыки с запросом: «уместен ли поступок купца Смородинова, допустившего погребение, без установленного церковного обряда, костей неизвестных мертвецов, найденных в подвале купленных означенным купцом каменных развалин, оставшихся от дома неизвестного владельца, жившего тут в давние времена, и допустимо ли погребение их в реке, а не в земле, как о том святой церковью установлено?»
Консистория, по резолюции владыки, усмотревшего в поступке Смородинова неумышленное кощунство, наложила на него эпитимию.
При таких обстоятельствах продать дом для Смородинова, конечно, не представлялось возможным. Но вот в Вологду прибыл ссыльный доктор Яблоков. Он женится, ему нужен дом. Смородинов предлагает ему свой.
— А сами почему не живете? — спрашивает доктор.
Смородинов вынужден был сказать правду.
Доктор, выслушав его рассказ, только посмеялся.
— Ерунда! — сказал он. — Ничего этого нет, и существует лишь в вашем воображении.
Ерунда, так ерунда; Смородинову только бы с домом развязаться…
Хлопнули по рукам, и дом остался за доктором.
Последнему пришлось сразу справлять и новоселье, и брачный пир.
Но то и другое началось и кончилось печально. Началось с того, что в буфетной, как вихрем, сорвало со стола скатерть, и вина, посуда, закуски, — все, что стояло на столе, превратилось в бесформенную массу осколков и жидкого месива.
Все были поражены, так как в буфетной, когда произошла катастрофа, не было ни души.
Доктор выбежал на двор, чтобы отправить людей за покупками в магазины, и встретил бежавшего к нему повара.
— Только я вышел в сени, — рассказывал повар, — а он как загремит, да по всей кухне. Я заглянул с порога и ужаснулся: сковороды летят, щетка летит, а плиту водой заливает…
— Кто ж там?
— Да никого нету… он, значит..
— Что за чепуха!
Доктор отворил дверь в кухню, оставив повара в сенях; но едва он переступил порог, как в него полетели посуда, веник. Доктор выскочил, как ошпаренный; повар пустился наутек.
Собрав людей, доктор снова вошел в кухню. Осмотрели все, даже заглянули в подполье и под печку: никого нет. Собрались уже уходить, как вдруг фонарь погас и впотьмах началась такая канонада, что доктор и его спутники опрометью выскочили в сени. А вслед им полетели ведра, кастрюли и другие предметы.
Одновременно и в доме начались такие же явления: огни потухли, посуду и мебель швыряло с места на место. Началась паника. Гости так перепугались, что выскакивали даже через окна и бежали без оглядки.
Весть, что в смородиновском доме нечистый разогнал докторскую свадьбу, с быстротой молнии полетела по городу и собрала перед домом огромную толпу любопытных. Прибыл полицмейстер и констатировал полный разгром и в доме, и во флигеле.
Заседавшая по этому поводу при губернском правлении комиссия пришла к заключению, что «вышеуказанные необыкновенные явления происходят от земного магнетизма».
Смородинов великодушно возвратил доктору задаток и пожертвовал дом в церковь «на помин души неизвестных людей, представившихся в узах и погребенных без отпевания».
Церковь приняла дом и сдала его под постой роты местного гарнизона. Но и солдатам не повезло. Сначала вещи «порхали», как куропатки, а потом каша ушла из котла. Как была в котле, так и вышла из него на пол — «чулком вылупилась».
Роту вывели и расквартировали по обывательским квартирам.
После этого дом сломали и место запахали под огороды.
Но самое удивительное явление представляет так называемая в народе «слушка».
«Слушка» широко распространена среди крестьян в губерниях Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской и в Сибири. По уверению крестьян, она воздействует на человека на каком угодно расстоянии. Девушка, если ее жених ушел на заработки и живет где-нибудь далеко, в городах; мать, сына которой взяли в солдаты, — все, кто разлучен с близкими, дорогими, пользуются «слушкой» — как своего рода беспроволочным телеграфом.
Делается это так.
Влезают на печь, открывают ночную дверку, дымовые вьюшки и говорят с отсутствующим лицом. И, Боже мой, сколько ласки, нежности вкладывается в простые, безыскуственные слова!
Вы, может быть, рассмеетесь и скажете, как тот доктор, о котором говорили, что это — «ерунда». А между тем, обычай этот сохранился от допетровской Руси. Например, плач Ярославны, жены князя Игоря, на стенах Путивля, призывающий стихии в защиту мужа, — разве это не та же «слушка»?
«Слушка» действует, когда, например, девушка хочет, чтобы ее милый не забыл о ней на чужбине. «Он, — говорит девушка, — когда я покричу, вспомнит обо мне, будет тосковать…»
И, действительно, вспоминают и тоскуют.
Расскажу характерный случай, со слов реалиста, работавшего в деревне, на полях запасных солдат, ушедших на войну.
Ермолай, у которого реалисты стали на ночлег, рассказал им, что оба его сына на войне; от одного он получает письма, а о другом — ни слуху, ни духу.
— Жив ли, убит ли… иль в плену, — Бог весть… Вот тоже девочка осталась после него, — задумчиво молвил он, погладив внучку по русой головке. — Что, Танюша, небось, жалко тятьку-то, а?
— Жалко, дедушка.
— А ты молись, дурочка.
— Я и то молюсь, дедушка. А знаешь, дедушка, я покличу?..
Мы, затаив дыхание, наблюдали за Танюшей. Девочка проворно взобралась на печь, открыла дверку вьюшки, склонила к отверстию беленькое личико и мы явственно услышали:
— Тятя, милый тятя! Это я. Таня. Пиши нам скорее, или лучше, приходи домой сам. Без тебя мы соскучились, тятя.
Девочка замолчала, как бы обдумывая, что еще надо сказать. Но через минуту мы снова услышали ее серебристый голосок.
— Таточку, мой родненький, любенький! Скорее приезжай до дому. У нас две овечки без тебя оягнились, а Краснуха телушечку нашла… Потом, таточку, к нам из городу приехало много-много студентов… Будут помогать нам сеяться, боронить… на покос останутся, жать будут… До свиданья, тятя. Будь здоров!
Таня спустилась с печки, подбежала к Ермолаю и повисла у него на шее.
— Милый дедушка! — возбужденно лепетала она. — Верь, тятя все услышал, что я говорила… и вот, посмотри, скоро придет домой.
Отец Тани, действительно, скоро вернулся и, к нашему удивлению, однажды сказал:
— А сколько раз мне чудилось, Таня, что ты зовешь меня. Слышу твой голос, да и на… так, бывало, и тянет домой…
Что это значит, друг Горацио?
А. Топорков ГЕКАТА
I
Елена Владимировна Оболенская хорошо помнила, как это началось. Она спала, и ей снился диковинный сон. Будто она идет по залам древнего сказочного дворца. Каменные плиты холодны и гулки. Серые стены. Тяжелые арки. Грубый варварский орнамент. По бесконечным переходам и лестницам она идет из одной залы в другую. Вдруг все изменилось. Сумрачный замок исчез. Она в белом зале. Льется обильный свет, неизвестно откуда. Зал очень большой, он кажется бесконечным. Просторно и светло. Она хочет с облегчением вздохнуть. Вдруг она видит: прямо на нее летит большая хищная птица, не то сова, не то ястреб. Полет ее ровен. Крылья не взмахивают. Зал совершенно пуст. Невыразимый страх пронизывает ее. Она хочет крикнуть и не может. Большая птица летит прямо на нее. Сейчас она опустит свои когти ей на грудь…
Вся в поту проснулась молодая женщина. Сквозь занавесы она видела свет холодной зеленой луны. Сон как будто еще продолжался. Страх наполнял все ее существо. Словно вот сейчас только что случилось что-то очень печальное. Елена Владимировна накинула легкое платье и, босая, пошла в спальню мужа.
В спальне никого не было. Ложе было не смято. Очевидно, муж ее Григорий Александрович Оболенский, еще не ложился спать. В беспокойстве Елена Владимировна пошла по комнатам. Нигде не было видно огня. Все было чрезвычайно тихо. На полу лежали зеленоватые полосы лунного света, проникающего чрез большие окна. Чувствуя неопределенный трепет, молодая женщина отворила дверь на террасу и вышла на волю. Ночная свежесть охватила ее. Зябли нежные ступни. Она прошла к павильону, где любил работать в одиночестве ее муж, иногда в течение целых ночей. Она остановилась на влажных от росы ступеньках, не решаясь войти. Оглянулась. Высоко в небе стояла полная луна. Ее свет проникал в пространство неба. На земле струились ее мглистые лучи, и с земли поднимались влажные испарения; словно курились кусты и травы. Было очень тихо. Только изредка вскипала темная листва парка под набежавшим ветерком. Ветви клонились и о чем-то шептали. Где-то далеко, далеко лаяли собаки. Эти ночные звуки еще более углубляли чрезвычайную тишину. Страх молодой женщины множился. Трепетная она стояла на ступеньках и слушала.
Вдруг она услышала топот лошади, где-то очень далеко. Потом звук подков стал как будто ближе. Близился неведомый всадник. Елена Владимировна замерла в смутном ожидании. Через некоторое время на двор усадьбы въехал ее муж. Она видела его четкий силуэт. Благородный конь был весь в мыле. С узды падала пена. Оболенский подъехал к конюшне. Резко окликнул спавшего конюха. И вот он шел к ней. Она видела его ясно в лунном свете. Он шел и жестикулировал, что-то говорил, словно спорил с кем-то невидимым. Елена Владимировна хотела броситься к нему, окликнуть и вдруг прежний ужас, как во сне, охватил ее. Словно ее муж стоял за неведомой магической чертой. Он прошел почти рядом, не видя ее, продолжая возбужденно жестикулировать и с кем-то говорить. Потом скрылся в сумраке парка. Молодая женщина слабо вскрикнула и убежала по холодной мокрой траве в дом, бросилась на оставленное ложе. Закуталась с головой в одеяло. Ее била частая дрожь.
«Что это?» — думала она.
Мысли ее смешивались. Она очнулась только под утро. При пробуждении она почувствовала тяжесть во всех членах. Голова слабо кружилась. Она попробовала приподняться, но упала бессильно назад на подушки. Она ощупала свой лоб, который был горяч.
— Я больна, — подумала она.
Она закрыла глаза и попыталась заснуть. Сон не возвращался. Но бодрствование было часто прерываемо минутами полного забвения. Поток сознания прерывался и дробился: она почти тотчас забывала, о чем думала в предыдущую минуту. Сознание времени было утрачено.
В комнату кто-то постучался. Неслышно отворилась дверь. Вошла горничная.
— Чтой-то вы, барыня, да никак больны? А я-то думала, до какого часу не встают.
Елена Владимировна поморщилась: ей был неприятен чужой голос.
— Открой занавес, — сказала она.
Горничная отдернула шторы. На дворе был знойный день. Хлынули яркие лучи солнца. Стало больно смотреть.
— Нет, задерни, — приказала молодая женщина и отвернулась к стене.
Она смутно сознавала, что горничная о чем-то ее спрашивает, наклоняется к ней. Оболенская лежала неподвижно и старалась не замечать. Она чувствовала, что она вся сгорает от внутреннего жара. Горничная ушла.
Стало лучше. Чудились светлые, голубые водные пространства, лодка с большими оранжевыми парусами. Чужая, незнакомая песня рыбаков вдали, словно зов. Она вздрогнула. Повернулась. В светлом сумраке стоял ее муж и звал ее тихим голосом.
— Елена, Елена…
Она сделала большое усилие воли. Собрала все свои силы. Зорко посмотрела на него.
— Неужели вчерашнее было только сном или бредом? — подумала она.
Григорий Оболенский был высокий стройный мужчина, со скрытной холодностью в обращении, крайне замкнутый. Его черные глаза почти всегда ровно смотрели на собеседника, только где-то очень далеко горел в них свет, который никогда не выступал наружу.
Елена Владимировна знала его скрытность и потому, насколько могла, пристально посмотрела ему в лицо. Он показался ей бледным. Несколько взволнованным голосом он спросил ее:
— Что с тобой? Ты больна?
— Да, кажется, лихорадка.
Ей хотелось сейчас же спросить: ездил ли он куда-нибудь ночью. Но ее кто-то удерживал, не позволял говорить. Ей казалось, что это он не позволяет спрашивать. Почти враждебно глядела она на мужа. Ей было очень тяжело.
— Оставь меня одну, — почти простонала она, — я не могу.
Муж наклонился и поцеловал ей руку, которую ей хотелось отдернуть, и вышел. Когда она почувствовала себя одной, ее воля словно оборвалась, как слишком туго натянутая струна. Перед глазами пошли красные круги. Она лишилась чувств. К вечеру приехал врач из земской больницы, за которым посылали коляску. Елене Владимировне он был неприятен: слишком демократичен и вульгарен. Она ни за что не хотела позволить осмотреть себя. Наконец, уступила уговорам мужа. Обнажение перед чужим мужчиной, притом еще внушающим омерзение, было отвратительно, но она подчинилась. Доктор нашел у нее лихорадку. Прописал порошки, понижающие жар, и слабительное. От последнего она отказалась наотрез.
Когда, наконец, ее оставили в покое, она почувствовала себя несколько лучше. Жар словно понизился. Мысли текли свободно. Все пережитое, недавно столь чудесное, казалось естественным. Она заболела еще вчера. Ночью ей приснился тяжелый сон. Она встала с ложа, почти неодетая. Босая она прошла по холодной росе. На воле бред ее продолжался. Все предметы казались необычайными, внушающими ужас. Что тут особенного, что Григорий Александрович поздно ночью катается верхом? Стоят такие чудные лунные ночи. Все так естественно. Но когда она сосредоточивала свою мысль на том, как ее муж прошел мимо нее, столь чужой ей, не видя ее, разговаривая с самим собой, когда она представляла его фигуру, облитую лунным светом, тысячу неуловимых подробностей этой кошмарной ночи, опять возникал страх, и она вновь чувствовала, что случилось что-то непоправимое и роковое.
«Глупости, — подумала она, — это просто бред». Она позвонила. Спросила себе чаю и попросила позвать мужа.
Григорий Александрович тотчас пришел. Присел к ней на постель. Так хорошо говорил. Был внимательный и нежный, каким он мог быть. Звук его голоса баюкал ее усталую душу. Темный взгляд словно гипнотизировал.
— Я устала, — тихо сказала она.
Оболенский наклонился к ней, поцеловал в лоб и вышел почти неслышно.
«Какой он милый и хороший», — подумала она — и почти тотчас заснула.
Глубокой ночью она проснулась, вся в поту. Должно быть, подействовало лекарство. Прикосновение мокрого белья было неприятно. Она переменила сорочку. Дрожала, когда воздух касался ее обнаженных плеч. Чувствовала себя очень слабой. Опять виднелся лунный свет сквозь занавесы. Опять было очень тихо. Она прислушалась и ей почудился где-то очень далеко топот лошади, которая несется бешеной скачкой по твердой, изнуренной зноем земле. Она упала на подушки и бессильно заплакала.
И так продолжалось каждый день. Утром она пробуждалась, изнеможенная, слабая, с разбитым телом и душой. Приходил Григорий Александрович справиться о здоровье. Его вежливое участие почему-то было неприятно. Она тупила глаза, отвечала общими фразами на его расспросы, брезгливо морщила губы. Хотела все время задать столь мучивший ее вопрос и не могла. Что-то препятствовало. Детская робость овладевала ею. Она досадовала. Отсылала прочь мужа, ссылаясь на слабость и желание отдохнуть. Целый день она проводила в постели, лежа вытянувшись на спине в состоянии, близком к забытью или к часто прерываемому сну. Мысли бессвязные и капризные возникали и исчезали прежде, чем она могла их сознать. По временам она хотела очнуться, распорядиться о чем-то очень важном и нужном, в следующее мгновение забывала, в сознании оставалось лишь скорбное чувство несправедливой обиды, нанесенной ей, столь слабой и больной.
Когда горничная приносила ей бульон или чай, она, полусидя на ложе, без аппетита принимала пищу, разглядывала свою горничную и свою комнату. Сознание реальной жизни возвращалось, она вспоминала вещи знакомого ей мира, словно из глубин мерцающих голубых вод, где плененная, она пребывала, она всплывала на поверхность и видела вновь солнце и небо и землю. Но это длилось так недолго: опять ее увлекал кто-то в глубину волшебного затона.
К вечеру настроение поднималось. Она вставала. Обходила комнату. Глядела в зеркало, которое отражало ее лицо, желтовато-белое, с нездоровыми синими кругами под глазами, с отяжелевшими веками. Голова слегка кружилась. Чтобы переменить место, она ложилась на кушетку и звала к себе мужа. И он приходил, нежный и любящий, так говорил вкрадчиво, гипнотизирующим голосом простые вещи. Ей хотелось плакать и жаловаться. Она внимала его голосу и звук его речей успокаивал ее.
А ночью снова внезапное пробуждение, вкрадчивые и тревожащие лучи луны в щелях между занавесами, и где- то бесконечно далеко топот быстрой лошади по иссушенной зноем земле. И опять прежний ужас.
Только на седьмой день ей стало лучше. Она проснулась утром и ощутила внезапно себя здоровой. Ей стало так хорошо, что она невольно засмеялась. В эту ночь она не просыпалась. Прежние страхи казались вздорными. Она сама оделась и вышла на террасу. Приятно было прикосновение к теплому дереву балюстрады. Приятно было смотреть на глубокую лазурь неба.
Григорий Александрович был прежний, ей знакомый, милый и любящий. Робость ее прошла. Все было по-прежнему, все хорошо и счастливо.
Желая себя проверить, она зорко посмотрела на него, и ей показалось, что он стал бледнее, что глаза глубже сидят в орбитах.
— Я тебя измучила, должно быть, моей болезнью, — сказала она, ласково улыбаясь.
— Да, я плохо спал эти ночи.
Она вздрогнула, шевельнула головой, словно желая прогнать надоедливую муху. Она чувствовала, как в жилах ее здоровой волной разливается молодая кровь. Болезнь прошла.
II
Три недели прошло с выздоровления Елены Владимировны. Нелепые страхи, мучившие ее больную, готовы были почти совсем исчезнуть. Ей казалось, Григорий Александрович близок к ней, как никогда. Никогда он не был так нежен, внимателен и даже откровенен. В темные ночи, когда оба они глядели на звезды, с какой-то покорностью и поклонением целовал ее руки, говорил слова любви с внезапной пылкостью.
— Только с тобой мне хорошо. Люби, люби меня.
Под влиянием нового прилива страсти, Елена Владимировна чувствовала себя особенно счастливой, сильной и свободной. Она готова была послать вызов судьбе. Не страшны были чары и видения ночей.
Так прошло три недели. Стоял жаркий июльский день. Елена Владимировна чувствовала себя хорошо. В ее душе звучали какие-то мелодии, что-то пело и звало. После обеда она села за рояль и стала играть своих любимых композиторов.
Так как она давно не играла, то пальцы ее несколько не слушались. Мелодия клавишей нередко расходилась с мелодией, которую пела ей ее душа. Было досадно и вместе с тем рождалось упрямое стремление преодолеть трудности.
Мало-помалу она забыла время и вся ушла в любимые напевы, звуки доставляли ей почти физиологическую радость. Слегка щемило под ложечкой и мурашки пробегали по спине. Хотелось еще и еще. Стихия музыки охватывала ее душу. Тысячу раз игранные, столь знакомые мелодии получали новую одушевленность и жизнь, дотоле неведомую. Отдельная нота вдруг пронизывала сознание острым внезапным наслаждением, словно впервые сознанным.
Чувства, знакомые артистам, мучительно сладкие и таинственные, охватили ее. Казалось, она переступала через некую запрещенную людям грань.
— Довольно, — приказывала она бессильно самой себе.
Но душа ее хотела музыки, упоения музыкой, ждала чужих заклинаний. И она снова отдавалась желанию забыться и не быть.
Листая нотную тетрадь, она дошла до траурных мотивов, полных предчувствий неожиданных бедствий, плачей о невозможном. Душа томилась томлением по необычайному. В сознание вошла острым лезвием скорбь.
Концами разгоряченных пальцев Елена Владимировна ощущала холод клавишей. Чуть слышно скрипнула педаль под ногой. Словно от сладкого обмана очнулась она. Внезапно прекратила игру. Внимала глухим, замирающим рокотам струн.
Комната была залита светом заката. На металлических украшениях дверей и стен, на золоте рам горели властно багровые отсветы.
Необычайная тревога возникла в душе. Защемило сердце. Молодая женщина приподнялась. Глаза ее, углубленные действием музыки, были темны. Где-то далеко в них мерцал и лучился свет: еще звучали в душе только что сыгранные мелодии.
Вдруг крышка рояля сорвалась из ее рук. Гулко и нестройно зазвучали струны. Елена Владимировна порывисто вздрогнула. Непонятный слепой ужас перед чем-то необычайным охватил ее.
Она быстро пришла в себя, прошлась по комнате, заложив руки по-мужски за спину, остановилась у раскрытого окна. Медлила. Потом быстро вышла.
Опять, как в ту кошмарную ночь, она искала своего мужа. Опять шла она из одной комнаты в другую в слепой тревоге. Но теперь это не было сном.
Из дома она прошла в сад. Деревья парка стояли неподвижные. Ни один лист не колыхался. Вершины были освещены золотым сиянием. Внизу влажные тени лежали на желтом песке дорожек. Высокие, черные стволы старых лип были как траурные колонны. Оболенская шла с бьющимся сердцем, задыхаясь, шла по аллеям знакомого парка, опустелого и словно враждебного ей. Она обошла его кругом, спустилась к реке. Вышла из главной аллеи. Перед ней разливался печальный свет зари, алые отсветы покрывали лепестки кустов, облака отражались глубоко в неподвижной реке. Над далекой рощей около берега она увидела низко большую луну, желтую, почти полную.
На скамейке, около самой воды, скрытый кустами, сидел Григорий Александрович. Она подошла совсем близко, стала за его спиной, почти касалась его. Он не замечал. Сгорбленный, вытянув вперед шею, он глядел в воду, где отражалась слегка колеблемая поверхностью воды луна.
— Gregoir, — сказала тихо молодая женщина.
— Гриша, — окликнула она его сильнее.
Словно очнувшись от тяжких и властных грез, Григорий Александрович повернул к ней свою голову. Глаза его были почти безумны. Он смотрел на нее, не видя.
— А… ты, — сказал он наконец, видимо, с большим трудом.
Лицо его было очень бледно. Концы губ слабо дрожали. Оболенская не видала никогда еще своего мужа таким слабым и бессильным. Она хотела ему крикнуть: «Опомнись, что с тобой?» Но вместо слов из ее уст вырвался слабый, бессвязный стон. Она закрыла голову руками, словно защищаясь от удара, отвернулась и быстро пошла прочь.
«Что это, что?» — думала она, — пытаясь очнуться от кошмара внезапно нахлынувших, разорванных чувств, предчувствий и круговоротов мысли. Напрасно она искала объяснений, перебирала прошлое и нигде не находила ответа. Она чувствовала только, что ей грозит что-то страшное и злое, что вот-вот ворвется в ее жизнь, скомкает, уничтожит благополучие ее и мужа.
Всегда ей был несколько непонятен ее муж; несмотря на близость и любовь, они были все еще далеки друг от друга, последних слов не было сказано между ними. Елена Владимировна прекрасно помнила то впечатление, которое он производил на нее во время их первых встреч. От всех ее знакомых Григорий Александрович отличался тем, что совершенно, казалось, не ценил и не интересовался, чем интересовались люди ее окружавшие, словно его внимание было направлено на какие-то отдаленные и скрытые цели. Казалось, он несколько тоскливо, но в общем терпеливо сносит тяготу дней, его высокая фигура лишь придавлена, но не согнута бременем жизни и ее страстями. Она хорошо помнила, что ей был тягостен его темный и ровный взгляд, которым он иногда глядел на нее, словно оценивая и взвешивая. Она думала, что он считает ее за дурочку.
И она полюбила его романтически и неотступно, с обожанием, почти институточным. Ей было очень досадно, что он это сразу заметил и принял, как должное. Между ними не было сказано и двух слов о любви, а все уже считали их за жениха и невесту.
Однажды, когда она гуляла вместе с Григорием Александровичем, он заставил ее сесть на скамью, сложить на коленях руки, сам стал на колени перед ней и целовал ей руки. Она покорно исполняла его волю. Нервный трепет пробежал по ней, когда он прикоснулся страстными губами к ее рукам, потом поднял голову, мерцающими темными глазами посмотрел на нее и тихо произнес:
— Спасите меня.
Она не поняла его слов, она только почувствовала, что он несчастен. Она никогда не пыталась догадываться и никогда его не расспрашивала.
На другой день он приехал к ним просить у родителей ее руки. Они были обручены.
Теперь она хорошо сознавала, что даже в наиболее интимные минуты ее муж был чужд ей. Но, может быть, благодаря этому она так его любила, любила и мучилась своей любовью.
Взволнованная и тревожная, Елена Владимировна прошла в павильон мужа и решилась там его ждать. Она сидела в кресле перед письменным столом, вновь и вновь вспоминала сцены своего бывшего романа, темные неопределенные слухи, ходившие когда-то про Григория Александровича, теперь почти забытые. Она рассматривала его книги и бумаги, желая узнать, чем он теперь занят. Взгляд ее скользнул по знакомым предметам: все прежнее, математика и статистика, государственное право и политическая экономия, мужские скучные занятия. Она оглядела и комнату, где муж ее был наедине с самим собой. Это была очень большая, светлая комната. Окна ее выходили в сад, мебели было мало. Каждая вещь стояла на своем месте, строго, важно и спокойно. «Такая и должна быть комната мужчины», — подумала она.
Тем не менее, у нее было чувство, что здесь, среди этих вещей, есть какой-нибудь след безумия, некое проявление его. Она обошла всю комнату, внимательно рассматривая вещи, которые должны были выдать тайну, которую таит душа их хозяина.
Взгляд ее упал на турецкий диван, над которым было развешено драгоценное оружие, старые ружья, сабли, рапиры; среди них в сторонке маленький дамский револьвер. Темные слухи, когда-то ходившие про Григория Александровича, смутно вспомнились ей.
Она сняла револьвер со стены, разомкнула его. Он был шестизарядный, одной пульки не хватало. Несомненно, это был тот самый револьвер, о котором ей как-то вскользь рассказывал Григорий Александрович. Теперь она вспомнила.
Это было незадолго до их замужества. В их уезде, недалеко от них случилось несчастье: самоубийство одной барышни, Ксении, из родовитой семьи. В роду были случаи безумия. Про ее дедушку рассказывали, что он содержал целый гарем дворовых девок, сек их голых на морозе, тешился истязаниями. Дворня убила его. Отец ее был не от мира сего. Не то меланхолик, не то святоша и мистик. Жил большей частью за границей. Скоро умер; Ксения, наследница его крупного состояния, жила одна с дальней родственницей в имении.
Это была эмансипированная барышня, гордая и замкнутая. Редко с кем водила знакомство. Часто ездила за границу.
Елена Владимировна раза два ее видала. Высокая девушка, миловидная, с немного угловатыми манерами, но обладавшая прирожденной грацией. Лицо бледное. Пристальный взгляд, очень скорбный, очень человечный. В то же время впечатление властной страстности. Что-то темное, скрытое и опасное было в ней. Говорили, что Григорий Александрович за ней очень ухаживал. Часто их видели вместе на прогулках верхом. Потом произошло это несчастье. Ксению нашли застрелившейся в лесу мужики, ездившие в город. В кустах стояла привязанная верховая лошадь. А рядом с трупом валялся маленький револьвер, который Григорий Александрович выпросил себе на память, и который висел теперь на стене среди прочего оружия.
Больше ничего не знала Елена Владимировна. Больше ничего не рассказал ей ее муж. Таковы были и слухи, ходившие тогда. Но теперь необычайная ревность и подозрения мучили ее: любил ли ее муж таинственную Ксению, что произошло перед роковым концом, почему произошло самоубийство, зачем этот жестокий сувенир?
Тут же, в павильоне, она написала письмо одному бывшему своему поклоннику и другу ее мужа. Она просила его немедля приехать. Сейчас же. Очень нужно.
Написав, она быстро встала, сама пошла на конюшню, вызвала кучера.
— Ты сейчас же отвезешь это письмо Орлову и вернешься назад с ответом.
Потом пошла к себе.
Долго сидела в одиночестве. Вечерний чай был допит, Григорий Александрович не пришел. Она ждала его.
— А может быть, все разъяснится. Я спрошу его. Будет опять хорошо.
Было уже <1/2> часов ночи, когда она спустилась с террасы. Было тихо и влажно. Над вершинами дерев стояла царственная луна, неотразимая в своем влиянии. Елена Владимировна вышла в светлую полосу; закинув голову, глядела на луну, и луна покрыла ее серебряным, мглистым своим покровом. Дивно ей стало. Все дневное отступало. Действительность исчезла. Страна призраков и духов открылась ей. Иным биением ощутила она пульсы жизни. В ее душе возникла великая решимость, желание борьбы и неведомых страстей.
Глухо застонала она, как стонут под влиянием темных кошмаров весенних ночей. Словно звериные звуки вышли из уст ее.
III
Николай Сергеевич Орлов приехал к завтраку. Встретились, как старые знакомые, просто и сердечно. После кофе, Елена Владимировна приказала запрячь шарабан и предложила Орлову с ней совершить маленькую прогулку. Правила она сама.
— Зачем вы меня звали? — спросил Николай Сергеевич, когда они выехали из деревни. И тот круг скрытых интересов и страстей, которым были связаны эти люди, внезапно обнаружился.
— Узнаете сейчас, — ответила ему быстро Елена Владимировна и шибко погнала лошадь по дороге.
Они приехали в лощину небольшой речки, которая вилась среди холмов. Кругом был лес. На одной из полян у большого серого камня оставила лошадь Елена Владимировна, и вышли из экипажа.
— Привяжите где-нибудь лошадь, — сказала она Орлову, не глядя на него.
И когда он сделал приказанное, они повернула к нему свое гордое лицо и сказала глухим голосом:
— Скажите мне, что произошло здесь три года тому назад? Вы должны.
Она была очень бледна. Николай Сергеевич потупился. Странная усмешка скривила его губы.
— Вы же сами знаете, — сказал он нехотя.
— Я знаю только, что здесь была найдена с огнестрельной раной в груди Ксения Тростницкая. Рядом с ней был найден револьвер и притом ее револьвер. Оседланный конь был привязан в кустах. Она была странная девушка. Поздно ночью любила ездить верхом по полям и лесу. Она никого не боялась. Дома у нее нашли записку с просьбой похоронить ее там, где ее найдут мертвой. Следовательно, самоубийство было обдумано заранее. Этот камень лежит на ее могиле. Вот все, что я знаю.
Елена Владимировна замолчала и опять посмотрела на Орлова своим приказывающим взглядом.
— Только это? — спросил он ее. Что-то дрогнуло в его лице.
— Я слышала еще, что Григорий Александрович ухаживал до нашей свадьбы за Ксенией. Он часто сопровождал ее на прогулках верхом. Я это слышала мельком. Я никогда не говорила об этом с Григорием Александровичем. Слушать же от других мне было неприятно.
— Зачем же вы меня расспрашиваете?
— Теперь я должна знать.
Орлов по-прежнему стоял, потупившись, медленно вращал большой перстень на мизинце. Елена Владимировна подошла к нему почти вплотную. Глаза ее горели.
— Вы скажете.
— Нет, — сказал он и в упор поглядел ей в глаза.
Оболенская отошла от него и после некоторого молчания сказала:
— Вы когда-то клялись мне в вечной любви, Николай Сергеевич. Вы мне сказали один раз, что я могу потребовать у вас всего, что я захочу, и вы исполните. Если вы любите меня, Николай Сергеевич, сейчас, если вы не хотите, чтобы я считала вас за лжеца, вы скажете.
— Я люблю вас до сих пор, — тихо произнес Орлов.
— Так говорите.
— Но это непорядочно, — голос его дрожал.
— Говорите, я вам приказываю.
— Хорошо, извольте, все, что я знаю. В ту ночь, когда была найдена мертвой Ксения Тростницкая, Григорий Александрович был у меня.
— У вас?
— Да, он пришел очень поздно, часов в 12, необычайное несколько время. Но он делал тоже вообще много странных вещей. К тому же он, наверное, знал, что я не сплю. И еще он знал, что он неприятен мне. Я хорошо помню этот вечер. Я шагал по моей террасе и смотрел на бледную полную луну на кротких, бледных небесах. Григорий Александрович появился как-то внезапно. Впрочем, может быть, я был рассеян. Руки его были очень горячие, а сам он очень бледен, бледнее луны, и говорил он странно в тот вечер и голос его дрожал. Я угощал его вином и он пил, но вино не пьянило его. Я глядел на него и не понимал, что с ним, зачем этот нервный смех и острые жуткие глаза. Под утро он попросил разрешения переночевать, говоря, что ему страшно идти одному лесом. Когда на другой день я проснулся, его уже не было. Постель была не смята. А потом я узнал, что Ксения убита.
— Убита?
— Конечно, убита. Я знал прекрасно, что они любят друг друга. Помните, я предупреждал вас, за кого вы выходите замуж, ведь вы были только ширмой или, простите меня, лишь средством избавления от слишком дурных страстей. Ведь вас он никогда не любил, а всегда любил вон ту, — и он постучал костяшками пальцев о камень. — Нелеп был этот роман и, должно быть, порядочно измытарила его Ксения.
— Но почему вы думаете, что это он убил ее, ведь вы сами говорите, что они друг друга любили?
— Вы знали эту девушку? Нет? Роман тут не мог кончиться бракосочетанием и произведением потомства. Эта девушка должна была или сама погибнуть, или погубить его. На последнее я, по правде сказать, и рассчитывал, потому и интересовался их отношениями.
— Но все это предположения. Где факты?
— Факты? Извольте. За три дня до убийства, Григорий Александрович был у меня, тоже очень взволнованный, крайне нервный. Между прочим, он вынул из кармана маленький дамский револьвер, тот самый, который был найден подле Ксении. Он спрашивал меня, красив ли он. Я догадался, что револьвер дала ему Ксения, чтобы он покончил с собой. Видимо, в их любви настал кризис. Григорий Александрович вертел револьвер в руках и говорил, что вот такая маленькая штука, а может причинить большую неприятность. Помню, я спросил его: тебе дала его Ксения? Он посмотрел на меня своим темным скрытным взглядом и, сказал: «Да, Ксения», потом усмехнулся. Я хорошо помню его усмешку. Оказалось, что он перехитрил ее, мертвой оказалась она, а не он.
— Вы, стало быть, имели прямую улику против Григория Александровича, почему вы не показали против него?
— Потому что знал, что вы любите его, — глухо ответил Орлов.
— Знаете, когда вы говорите, я чувствую почему-то правоту ваших слов; мне самой чудится, что здесь было совершено некое преступление. Но, конечно, не доводы ваши убеждают меня. Что, в конце концов, значит этот маленький револьвер, которым играл Григорий Александрович, и который потом через три дня был найден возле трупа; что значит, этот необычный визит к вам роковой ночью? Может быть, это только совпадения, может быть, между ними есть некая внутренняя связь. Не то важно. В ваших словах мне непонятно самое главное: что привело их к этому печальному концу, каков бы он ни был, какова была эта любовь, столь необычайная, по вашему мнению? Кто эта странная девушка? Я ее совершенно не знаю. Я видела ее раза два.
— Я сам едва ли буду в состоянии очертить вполне ясно страсти и чувства этих двух необычайных любовников, — сказал Орлов. — Я постараюсь, насколько смогу, это сделать. Нужно вам сказать, что я тогда вел двойственную игру и внимательно следил как за Григорием Александровичем, так и за Ксенией. Мне говорить это тяжело, но, может быть, лучше признаться вам во всем когда-нибудь. Я любил вас глубокой и безнадежной любовью, которая питается собственным отчаянием, становится изобретательной, хитрой и почти преступной. Моим соперником был ваш муж, который, как я видел, вас совершенно не любит, который вас совершенно недостоин, и для которого вы служили только ширмой. Потому что Григорий Александрович даже самому себе не хотел признаться в своей любви к Ксении и, конечно, больше всего боялся, чтобы кто-нибудь случайно не намекнул ему об его отношениях. В этом почему-то он был необыкновенно робок и застенчив. Я, конечно, ни разу не присутствовал при его объяснениях в любви, но воображаю, что это должно было быть прекомично. Но я видел, что он ее любит, что любовь увлекает и уносит его с собой, что он не властен бороться против своих чувств, что отступления ему нет.
Я это хорошо видел. Что-то роковое, темное, смутно предчувствуемое близилось, росло, как грозовая туча за горизонтом. Как птицы перед бурей, беспричинно, казалось, трепетали их души и ждали вихря, тьмы и молний, ждали и боялись. Я видел это. Тогда-то начались мои частые посещения Ксении. Как злоумышленник, я готовился к ним, ибо я был уверен, что когда-нибудь настанет кризис; необходим будет лишь слабый психический толчок, и слабый упадет, чтобы не встать больше никогда. Настанет мой час действовать. Я его ждал. Я верил, что слабым окажется ваш муж.
— Какая гадость! — воскликнула невольно Елена Владимировна.
— Я прекрасно понимаю, с точки зрения обычной морали я поступил нехорошо, скажем даже, преступно. Но преступление не должно оценивать только, как факт, как чистую внешность, если вы примете во внимание тогдашние мои чувства, мой бред, глухие страсти и отраву их, все, чем нам страшна любовь безнадежная, вы будете ко мне снисходительны. Когда человек любит — самое низкое и самое высокое просыпается в нем с равной силой, у ложа его сна борются его ангел-хранитель и его демон, сказал один философ. Кому достанется победа, никто не может сказать. Но оставим эти по существу неинтересные для вас детали. Как я уже вам сказал, я часто бывал у Ксении, и хотя был занят совершенно другим, невольно был втянут в круг влияния этой странной, но обаятельной девушки с душой, поистине, высокой и крылатой. Я часто приходил к ним, потому что они были всегда вдвоем. В то лето вокруг горели торфяные болота. В жарком воздухе пахло гарью. Солнце, красное, как поздняя луна, стояло на дымном безоблачном горизонте, лишь вечера несли прохладу. В лощинах поднимался туман, он вставал над рекой и над садом, потому что место было сырое. В тяжелом ночном воздухе смутно горели лампионы над столом в саду, где мы обыкновенно ужинали. Мы пили вино, перед Ксенией тоже стоял бокал и время от времени она склоняла свою голову, чтобы сделать глоток ароматной, холодной влаги. Лицо ее становилось напряженным, глаза как-то дивно мерцали. Пристально она глядела на все предметы, должно быть, томилась тяжкими предчувствиями. Так проходили часы. Поздно ночью мы расходились. Григорий Александрович меня всегда немного провожал: он был очень нервен и ему тяжело было оставаться наедине с самим собой.
Как странно гармонировала томящаяся и скорбная душа этой девушки с окружающей ее обстановкой. Вы знаете ее поместье. Старая великолепная усадьба, барский дом, один из лучших памятников архитектуры нашего прошлого. Меланхолические аллеи, луговины, беседки, — дали, открывающиеся внезапно на поворотах, русские печальные равнины, пустота полей, синеватая кайма нив на горизонте, медленная, почти неподвижная река, вечерние туманы, слишком неподвижные, густые и фантастические. Безлюдье и тишина кругом. Сколько раз я бродил по этому парку, движимый самыми противоположными чувствами, думая о вас, о моей любви. И вдруг появлялась передо мной таинственная, тихая Ксения. Темными глазами глядела она на меня и мне казалось, что перед ней открыта вся моя душа и ее черный умысел.
И потом этот дом, поистине колдовской и демонический. Парадные комнаты, зала, гостиная, кабинет дедушки, все сохранившееся издавна, полное отвратительных воспоминаний крепостного быта — уже полинявшее, состарившееся, почти умирающее. И эти комнаты и комнатушки наверху, в антресолях, где никто не жил, которые даже не топили, где, должно <быть>, в лунные зимние ночи блуждали тени замученных рабов. Каково там должна была чувствовать себя Ксения?
Здесь были взлелеяны мечты о самоубийстве. Здесь приобрела Ксения ту моральную взыскательность, которая заставила ее отвергнуть любовь Григория Александровича и предложить ему револьвер в качестве средства исцеления и подарка от милой. Остальное я предоставляю восполнить вашей фантазии.
— Ну, хотя это довольно и мало, но спасибо и на том, — сказала Елена Владимировна, — едем домой.
IV
На террасе, освещенной лампионами, был накрыт ранний деревенский ужин. Близилась ночь, влажная и тихая. Занавесы были раздернуты и над листвой деревьев было видно небо с резкими звездами. Елена Владимировна и Орлов поджидали Оболенского. Два раза прислуга ходила к нему в павильон. Наконец он пришел. Когда Елена Владимировна взглянула на него, она с трудом могла узнать в этом красивом, энергичном мужчине того, другого, которого она видела там, в парке, на скамейке, слабого, беспомощного, жалкого.
За ужином велся непринужденный разговор, направлял его Оболенский: не то, чтобы он сам много говорил, а как-то умел вовремя нападать на темы, давать реплики и завлекать собеседника.
Сама Елена Владимировна почти против воли много шутила и смеялась. Она хотела удержать себя и наблюдать, но кто-то рассеивал ее внимание, руководил волей.
Когда было подано вино и они чокнулись пенящимися бокалами, можно было подумать, что интимный ужин вполне удался, прежняя дружба восстановлена среди бывших друзей.
Оболенский выпил с жадностью свой бокал, словно он испытывал мучительную жажду, и вино подействовало на него. Елена Владимировна вдруг почувствовала, что ее муж все время притворялся. Она сразу вышла из-под его скрытого влияния. Разговор прекратился. Наступила неловкая пауза. Чувства становились напряженными. С неким изумлением глядела молодая женщина на своего мужа. Словно таким она его никогда не видала: так красив он был. Лицо замкнутое и важное. Она в одно и то же время любила и ненавидела это лицо.
Чувствуя, что она не выдержит, она встала из-за стола.
— Хотите, я вам сыграю что-нибудь? — сказала она Орлову.
«Не надо думать, не надо, потом…» — убеждала она себя, идя в залу, окна которой были открыты на террасу. Мужчины остались одни.
Орлов сидел на прежнем своем месте, пил вино и слушал долетавшую до него музыку. Оболенский ходил взад и вперед по террасе. Дойдя до угла, он резко останавливался, поворачивался и шел назад. Время от времени Орлов поднимал на него свои глаза и потом опять опускал их.
Оболенский подошел к нему.
— Ты рассказал ей… все? — сказал он тихо.
— Все.
Григорий Александрович поморщился.
— Это ничего, наконец, — произнес он, — может быть, даже лучше так. У меня духу не хватает. Ведь я по-прежнему люблю… Ксению. Все по-прежнему. Я почти галлюцинирую. Я езжу туда, к ней, на могилу, как на свидание. Луна светит. Пустыня кругом. Я чувствую ее совсем близко. Словно она выходит ко мне с того света. Даже страшно.
— Глупости, — сказал Орлов.
— Да, конечно. Но что-то неодолимое влечет меня туда. Я почти с ума схожу. Елена знает?
— Кажется.
Оболенский сел на стул, охватил руками колени и, раскачиваясь, словно от внутренней боли, проговорил сквозь зубы:
— Худо, очень худо. Я не хочу никого обманывать. Я люблю Елену и ту, другую, тоже люблю. Но это пройдет. Я клянусь тебе, это пройдет. Вот луна светит…
Он встал и по-прежнему зашагал из угла в угол. Орлов наблюдал за ним.
— Знаешь, — сказал, наконец, Оболенский, — уезжай. Прости, что я гоню тебя. Но я не могу. Тяжело.
— Хорошо, я уеду.
Он встал и бесшумно спустился со ступенек.
— Не провожай! Я найду кучера.
— Не сердись, — сказал ему вслед Оболенский, — может, все устроится.
Он поднялся на террасу и с облегчением почувствовал себя одним. В зале рядом играла его жена. Он слушал ее одним краем уха. Глядел в небо, в сумрак сада. Душой овладевали истома и тоска. Он чувствовал, что воля его утрачивается, мысли путаются.
— Ты один, где же Николай Сергеевич? — услышал он голос Елены Владимировны. Она кончила игру и вышла на террасу.
Григорий Александрович повернулся к ней.
— Он уехал, — сказал он нерешительно.
— Ты выгнал его, — воскликнула она запальчиво. — Вот это мило. Ты выгоняешь моих гостей. Как смел ты это сделать?
— Елена, послушай, — сказал он покорно.
— Что мне слушать? Я не желаю подвергаться оскорблениям. Это издевательство.
Губы ее дрожали. Он видел, что она еще что-то хотела сказать, что-то обидное и злое. Потом повернулась быстро, ушла.
Оболенский не удерживал ее; он остался стоять у балюстрады, слегка поморщился и опять стал глядеть в небо. Странные образы возникали и манили. Безвольно отдавался он чарам ночи. Когда прислуга пришла убирать со стола, он нервно вздрогнул и пошел к жене.
Елена Владимировна, уйдя от мужа, бросилась на кушетку и горько заплакала. Она чувствовала себя незаслуженно и грубо оскорбленной, может быть, в первый раз в жизни. Она старалась побороть себя, закусывала нижнюю губу, но спазматические рыдания против воли вырывались у нее из груди; наконец, мало-помалу успокоилась. Горящими глазами она смотрела в темноту, дергала и комкала в руках кружевной платок. Потом встала. Зажгла свечу и стала быстро раздеваться. Она чувствовала себя очень утомленной, о будущем она не думала. Оно куда-то исчезло.
Она сидела полураздетая на постели, когда в комнату вошел Григорий Александрович.
— Елена, — сказал он, — прости меня.
Он подошел к ней, хотел взять за руку. Она быстро отдернулась.
— Ступай прочь, — воскликнула молодая женщина. Ее била частая нервная дрожь. Она испытывала гнев и отвращение к своему мужу.
— Ступай прочь. Поезжай к своей мертвой любовнице. Я не держу тебя.
Резкие слова, почти выкрики, подействовали на Оболенского. Он отступил назад. Удивленно, почти пугливо по- лядел на свою жену, безмолвно повернулся и вышел.
V
— Я отомщу! Я этого так не оставлю. Я отомщу! — шептала угрожающе Елена Владимировна, кутаясь в одеяло и дрожа всем телом.
Она ясно сознавала, что муж изменяет ей, обманывает.
Вдруг образ соперницы, яркий и отчетливый, возник перед ее лихорадочно возбужденным сознанием. Она видела ее лицо, пристальный темный взгляд. Снова ощущала непонятную робость и неловкость, которую она испытывала при встречах с этой странной и властной девушкой. И теперь ей казалось, что она смотрит на нее с надменной улыбкой, слегка отворачиваясь.
Молодая женщина быстро вскочила с постели. Сунула обнаженные ступни в туфли, накинула платье и закутала голову платком. Она еще чего-то искала. Успокоилась, когда рука ее нащупала маленький револьвер, захваченный ею накануне.
Ревность и гнев поочередно владели ее душой. Она знала наверное, что прогнанный ею муж уехал на свиданье, что та ждет его у серого камня на лесной поляне.
Елена Владимировна вышла из комнаты, крадучись прошла через дом, спустилась с террасы. Через сад вышла в поле.
Было около полуночи. Луна светила, как в ту ночь. Кругом было тихо и пустынно. Слегка дымились росные кусты и травы. Сверкала впереди убегающая пустынная дорога.
Молодая женщина шла, почти не видя, не замечая окружающего, как лунатик, охваченная внезапно вскипевшими чувствами. Грозила кому-то.
— Я не буду вашей ширмой и спасать я тоже не буду вас, Григорий Александрович. Не на такую напали. Сумею за себя постоять и мстить я тоже умею.
Разжигаясь собственными словами, шла она быстро, почти бежала. Кровь ее стучала в висках и глухо разливалась в жилах. Она испытывала неведомые ей еще чувства решимости, силы и власти.
Словно это был колдовской час, в который все можно для того, кто знает слово. Предметы покорялись ее влиянию, границы действительности и фантастики сливались. Дикая радость выпущенного на волю лесного зверя захватила ее. Она остановилась, чтобы перевести дух.
Она стояла у трех сосен. Внизу лощина реки была вся повита туманом, которым охватывала и ближний лес, казавшийся незнакомым островом среди прозрачного, серебристого озера. Прямо перед ней вилась дорога.
Елена Владимировна стояла, прислонившись к дереву, и глядела вверх на небо, в котором одинокая стояла холодная луна. Воздушный простор был весь напоен ее лучами. Молодая женщина прислушалась: было очень тихо. Ни один звук не долетал до нее. Кругом, казалось, была мертвая пустыня.
И вот ей внезапно почудилось, что земля уходит из-под ее ног. Она судорожно прижалась к стволу дерева. Чувство движения не изменилось. Предметы словно теряли свою устойчивость, начинали двигаться, удалялись, близились, скользили. Словно мимо нее неслись некие смутные видения, которые исчезали прежде, чем она могла узнать их. Весь воздух был полон ими. Она слышала их шелестящий говор, подобный шепоту болотных трав под утренним ветерком. Их движение становилось быстрее. Видимо, она была захвачена в некий колдовской круговорот. Старые предания о «Дикой охоте» вспомнились ей. Страх охватил ее: кто-то сжимал горло. Она силилась очнуться и не могла.
Как сквозь сон она слышала знакомый топот лошади. Она видела, как прямо на нее быстро ехали из леса два всадника. Она тотчас узнала своего мужа и Ксению. Лошади дружно шли рядом, почти касались друг друга. Григорий Александрович страстно взирал на свою спутницу, которая правила в какой-то истоме своим черным конем. Уже было совсем близко, когда они задержали разгоряченных лошадей. Теперь они ехали шагом. Оболенский что-то говорил Ксении, которая молча его слушала. Когда они поравнялись с Еленой Александровной, Ксения перевела на нее свои темные прекрасные глаза, губы ее дрогнули от презрительной улыбки.
Гневная ярость вдруг вскипела в груди молодой женщины. Она властно протянула руку; в лунном свете сверкнул револьвер и тотчас недобрый звук выстрела огласил окрестность. Далекое эхо повторило его. Елена Владимировна тотчас очнулась от странного очарования, в котором пребывала. Она видела вздыбившуюся лошадь и на земле труп своего мужа. Пуля прошла ему через сердце.
Комментарии
Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.
Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.
В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 использованы работы С. П. Лодыгина.
Г. Ольшанский. Лесной спрут
Впервые: Аргус. 1913. № 7.
Г. Н. Ольшанский (наст. фам. Евневич, 1850–1917) — выпускник Михайловского артиллерийского училища, полковник артиллерии. Прослужил 32 года в армии (Киев, Керчь, Варшава и т. д.) и начал писать, выйдя в отставку в 1902 г. Автор сатирических и сатирико-фантастических произведений (сб. Фантастические рассказы, 1907). Отличался антисемитизмом и православно-монархической истовостью.
Истории о пожирающих людей растениях начали появляться в прессе начиная с 1874 г. (известная и хорошо выполненная мистификация Э. Спенсера, связанная с «мадагаскарским деревом-людоедом») и легли в основу немалого количества произведений как западной, так и русской фантастики.
В. Воинов. Тайна адвоката Кука
Впервые: Аргус. 1916. № 44, 30 октября (12 ноября).
В. В. Воинов (1882–1938) — поэт-сатирик, прозаик. Учился в Екатеринославском горном училище, работал на шахтах Донбасса, в 1906 г. вследствие аварии потерял кисть левой руки. Литературную карьеру начал в 1904 г. в газ. Приднепровский край, с 1909 г. в Петербурге, сотрудник жури. Сатирикон, Новый сатирикон. После революции сотрудничал в ленинградской прессе, в 1926-29. заведовал ред. жури. Пушка. Автор фельетонов, сатирических стих., литературных пародий, рассказов, романа Чертово колесо (1916).
В. Воинов. Ход больших чисел
Впервые: Огонек. 1916. № 44, 30 октября (12 ноября).
В. Ленский. Судьба
Впервые: Огонек. 1914. № 3,19 января (l февраля).
В. Ленский — литературное имя поэта и писателя В. Я. Абрамовича (1877–1932). Выпускник Харьковского университета с дипломом помощника провизора, до 1901 г. служил в аптеках юга России, где и дебютировал. С 1905 г. жил в Петербурге, издал модернистский альманах Проталина, выступал с многочисленными рассказами, опубликовал десяток романов, в том числу неоготический Черный став (1917). После революции выступал с рассказами, либретто, сказками в стихах. В 1930 г. был арестован по обвинению в причастности к «антисоветской нелегальной группе литераторов “Север”», приговорен к десяти годам лагерей. Умер в Соловецком лагере.
И. Потапенко. Китайское счастье
Впервые: Аргус. 1913. № 4.
И. Н. Потапенко (1856–1929) — писатель, драматург, плодовитейший и популярнейший беллетрист 1890-1900-х гг. Получил духовное образование, учился в Новороссийском и Петербургском университетах и Петербургской консерватории. Начал активно публиковаться в 1890-е гг. и вскоре печатался во множестве журналов, выпускал по тому собрания сочинений в год. Известен как приятель А. П. Чехова, прототип Тригорина в чеховской «Чайке» и любовник Л. С. Мизиновой, а также отец ее рано умершей дочери. Несмотря на падение читательского интереса, продолжал активно публиковаться и в предреволюционные, и в 1920-е гг.
И. Потапенко. Тайна профессора Редько
Впервые: Мир приключений.. 1915. № 4.
С. Городецкий. Геоскоп Каэна
Впервые: Аргус. 1913. № 1.
С. М. Городецкий (1884–1967) — поэт, прозаик, переводчик. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. В литературу вошел как видный участник жизни «Башни» Вяч. Иванова и автор символистских произведений, насыщенных духом славянского язычества. С осени 1916 г. на Кавказском фронте (представитель Союза городов, военный корреспондент, санитар в сыпнотифозном лагере). После революции заведовал худож. отделением РОСТА в Баку, работал в Политуправлении Каспийского флота. С 1921 г. жил в Москве, активно публиковался, работал в жури. Искусство трудящимся, литотделе газ. Известия, выступал как переводчик поэзии, либреттист, автор политических стихов, критик и литературовед. В отличие от лучшего и хорошо изученного предреволюционного периода поэтического творчества Городецкого, гораздо менее известна его проза, включающая романы и рассказы; среди последних есть и ряд фантастических.
С. Городецкий. Скала
Впервые: Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». Кн. 8 (СПб., 1909).
С. Городецкий 3974
Впервые: Огонек. 1910. № 23, 5 (18) июня.
С. Городецкий. Обещание
Впервые: Летучие альманахи. (Вып.) 5 (М. 1913).
С. Городецкий. Тайная правда
Впервые: Огонек, 1915, № 24,14 (27) июня.
С. Городецкий. Портрет умирающей
Впервые: Аргус. 1913. № 2.
С. Городецкий. Голубая вуаль
Впервые: Аргус. 1913. № 12.
С. Городецкий. Страшная усадьба
Впервые: Аргус. 1913. № 4.
Е. Нагродская. Материнская любовь
Впервые: Синий журнал. 1914. № 1.
Е. А. Нагродская (урожд. Головачева, 1866–1930) — писательница, поэтесса, автор детективных, любовных и мистико-фантастических романов, рассказов. До революции прославилась романом Гнев Диониса (1910), воспринятым как эротический. Интересовалась мистикой, спиритизмом, в эмиграции была активна в масонских ложах; наиболее значительное произведение эмигрантского периода — трилогия Река времен (1924-26).
В. Ярцев. Из склепа могильного
Впервые: Сибирский наблюдатель (Томск). 1905. Кн. 1–2, январь-февраль, с подзаг. «Святочный рассказ».
Н. Давыдов. Тарантас-призрак
Впервые: В помощь пленным русским воинам: Литературный сборник под ред Н. В. Давыдова и Н. Д. Телешова (М., 1916).
Н. В. Давыдов (1848–1920) — юрист, общественный деятель, председатель Московского окружного суда (1896–1908), приват- доцент, позднее профессор юридического факультета Московского университета. Был близким знакомым Л. Н. Толстого, после смерти его был избран в 1911 г. председателем Толстовского общества. Автор рассказов и очерков (частью под псевд. «Н. Василии»), воспоминаний.
Л. Л. Толстой. Необитаемая усадьба
Впервые: Огонек. 1914. № 23, 8 (21) июня.
Л. Л. Толстой (1869–1945) — один из сыновей Л. Н. Толстого, не слишком одаренный прозаик, драматург и скульптор (в 1900-х гг. учился у О. Родена). С 1918 г. жил в эмиграции, критиковал отца с «патриотических» православно-монархических позиций.
Г. Северцев-Полилов. Гриф
Публикуется по: Северцев-Полилов Г. Гриф: Рассказ. М.: Т- во Н. В. Васильева, (1918?).
Г. Т. Полилов (1839–1915) — беллетрист, драматург, переводчик, очеркист, мемуарист. Выступал под псевд. Северцев, Ю. Чаев. Неудачливый предприниматель и антрепренер, подвизался как оперный певец на сценах небольших театров Италии и Венесуэлы, пробовал себя и как танцор. С конца 1880-х гг. занялся литературным творчеством, широко публиковался в периодике (в т. ч. как газетный корреспондент), выпустил до 100 книг в различных жанрах. В некоторых произведениях Северцева-Полилова встречаются мистические и фантастические мотивы.
Данный рассказ публиковался под именем Г. Т. Северцева- Полилова — см., напр., авторский сб. Таинственное в серии «Библиотека таинственных явлений и случаев», вып. 1 (СПб., б. г.) — однако в указанном выше изд. Н. Васильева означен как «перевод с английского».
С. Гусев-Оренбургский. Тайна старого дома
Впервые: Аргус. 1914. № 17.
С. И. Гусев-Оренбургский (1867–1963) — писатель. Выходец из казачьей семьи, выпускник духовной семинарии, провел шесть лет в качестве сельского священника, затем сложил сан и посвятил себя литературе. До революции — популярный беллетрист народническо-модернистского толка. Был женат на поэтессе Г. Галиной (Эйнерлинг). В 1921 г. эмигрировал в Харбин, где опубликовал ставшую знаменитой Багровую книгу (1922) о погромах на Украине во время Гражданской войны; с 1923 г. жил в США.
Ф. Зарин-Несвицкий. Кошмар
Впервые: Аргус. 1914. № 14.
Ф. Зарин-Несвицкий (наст. фам. Зарин, 1870–1941?) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, младший брат писателя А. Зарина. После гимназии служил в армии, затем чиновник Министерства путей сообщения, с 1913 г. надворный советник. Проходил военную службу во время русско-японской и Первой мировой войн, в 1919–1920 гг. в Красной армии. В 1933 г. был арестован по обвинению в антисоветской деятельности, дело прекращено в 1934 г. за недоказанностью обвинения. Автор сб. стихотворений, исторических романов и повестей, очерков, пьес.
Ф. Зарин-Несвицкий. Тайна графа Девьера
Впервые: Огонек. 1909. № 16.
История многоженца графа М. П. Девьера (Девиера, Дивиера, ок. 1750–1796) и связанные с ним легенды привлекали многих писателей; см., напр. Донские гипшпанцы Е. Салиаса и Две жертвы Вс. Соловьева.
А. Дунин. Таинственное
Впервые: Лукоморье. 1916. № 16.
А. Топорков. Геката
Впервые: Альциона. Кн. первая (М., 1914).
Видимо, автор — философ, литературный критик, историк литературы А. К. Топорков (1882–1934, погиб в заключении), выступивший в означенном альманахе также со статьей Сомнения и надежды под одним из своих постоянных псевдонимов «Югурта».
Примечания
1
…боера — от нем. Bauer, фермер.
(обратно)2
…Тугов — Туги — члены индийской секты разбойников и убийц, чаще всего практиковавшие удушение; описывались в свое время как приверженцы богини Кали, однако религиозная подоплека убийств ставится под сомнение современными историками. К началу 1870-х гг. британские власти практически покончили с этим культом.
(обратно)3
…Holzverkauf — лесоторговля, продажа дров (нем.).
(обратно)4
…«Paris. Premiere qualité» — «Париж. Высшее качество» (фр.).
(обратно)5
…Trinkgeld — чаевые (нем.).
(обратно)6
Bitte, mein Herr… — Прошу вас, господин (нем.).
(обратно)7
…passe partout — паспарту (фр.).
(обратно)8
…empire… Благословенного — Имеется в виду стиль ампир, характерный для эпохи Александра I, прозванного «Благословенным».
(обратно)9
Прекрасна, как ангел небесный… — Цит. из баллады М. Ю. Лермонтова «Тамара».
(обратно)10
…Кочурина — так в тексте. Выше — «Кучуров».
(обратно)11
Он впоследствии был женат на своей двоюродной сестре Софии Херасковой, племяннице известного поэта. Ее мать была родной сестрой графа Девьера (Прим. авт.).
(обратно)12
…абшид — отставка, увольнение со службы, от нем. Abschied.
(обратно)



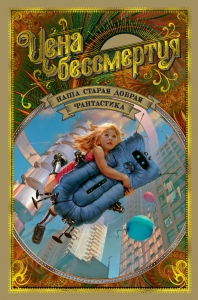
Комментарии к книге «Ход больших чисел», Григорий Николаевич Ольшанский
Всего 0 комментариев