ЭКСПЕДИЦИЯ В ИНОМИР Научно-фантастическая повесть
Часть первая МИР НЕ ПО АРИСТОТЕЛЮ
Глава первая ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В ДЗЕТА-ПРОСТРАНСТВО
1
Отчет послан в центр. Мы четверо можем лечиться и отдыхать в полную силу. Николай ворчит, что отдых мощностью в десять лошадиных сил ему невмоготу. Вчера он объявил врачу:
— Полный курс лечения в вашем санатории могут вынести только отменные здоровяки.
Что до меня, то на второй день в санатории я сказал друзьям:
— Считайте себя жертвами медицины и покоритесь!
Артур и Жак без энтузиазма смирились. Я веду себя безукоризненно: по самым строгим врачебным правилам: хожу, лежу, сплю, просыпаюсь, натираюсь, вытираюсь, охлаждаюсь…
В строжайшем режиме выздоровления имеется существенная недоработка, и я ею воспользовался: больным не запретишь думать. Под моей подушкой лежит мыслеграф, он записывает все, что мне взбредет на ум. А в уме моем оживают детали экспедиции в миры иных измерений, я все снова возвращаюсь к пережитому. Отчет составлял Артур, мы помогали ему и потом трое скрепили своими голосами, я первый «расписался» — так по-древнему именуется эта операция превращения пленки в официальный документ. Артур гениален, но педант. Могу лишь пожалеть экспертов Института Иномиров, когда они примутся расшифровывать его абстрактные рассуждения по любому мелкому конкретному поводу. Выслушать Артура способен и профан, но понять его могут лишь те, у кого лоб шире плеч. Это мое личное мнение. Я его никому не навязываю. Теоретические объяснения я часто пропускаю мимо ушей, они выше моего понимания. Но к деловым выводам не только прислушиваюсь, но и стараюсь превратить их в практические действия; в выводах он редко ошибается. Жак, его сокурсник и давний помощник, как-то рассказал, какой конфуз вышел на защите Артуром докторской диссертации. Профессор Нолайер, тот самый — знаменитость, автор теории ротоновых ливней, взрывающих вакуум, — махал на трибуне руками, как крыльями, и чуть не со слезами признавался:
— Впервые встречаюсь с таким парадоксом: все теоретические предпосылки диссертанта — полный вздор. Все его выкладки — галиматья пополам с ерундой, а окончательные результаты до невероятия верны, я каждый проверял своим методом и обнаружил, что все они неправдоподобно точны.
Вот таков Артур Хирота, теоретик нашей экспедиции. И я собираюсь заново, не торопясь, задерживая в воспоминании любое событие, то шире, то уже реального времени его существования — как мне пожелается, — повторить нашу экспедицию в иномиры. Нет, это высшее из удовольствий — зная наперед, что будет в следующую минуту, все снова ждать с опасением, с тревогой, с радостью эту уже не загадочную следующую минуту. Каждому суждена лишь одна жизнь. В воспоминании мы можем прожить нашу единственную жизнь многократно — преимущество, каким не следует пренебрегать.
Итак, я вспоминаю начало экспедиции в дзета—пространство. Наш «Орион» в те дни вернулся на Латону из ближнего рейса — обследовали подходы к «черной дыре» Н-115. Задание было простенькое: установить кривые безопасного пролета мимо этого грозного местечка, расставить на трассе автоматические планеты-маяки и определить, что же таится за разверстыми воротами в неведомое, куда уже были втянуты звездолеты «Дракон» и «Медея», — они лишь успели сообщить, что гибнут, внезапно захваченные неведомым исполинским полем. Границы допустимого пролета мы начертили быстро, активного вещества в трюмах «Ориона» в избытке хватало, чтобы скатать дюжину планеток—маяков в дополнение к крутившемуся там шатуну Немесиде, а что до мощности «черной дыры», то мнения наши разошлись: приборы показывали, что на этом месте сколлапсировала звезда средних размеров, а наш астрофизик Николай Дион доказывал, что в преисподнюю рухнуло целое звездное скопление в миллион или два светил, — некоторые наблюдения допускали и такое экстравагантное заключение.
Я честно зафиксировал в отчете расхождение оценок и приступил к тому, что на Латоне именуется плановым отдыхом. У меня не было сомнений, что через одну—две недели «Орион» срочно загрузят доверху активным веществом, разыщут меня, в каком бы уголке латонских рощ я ни прятался, и предпишут срочно мчаться куда-нибудь к Тельцу или Гончему Псу, чтобы и там вокруг новооткрытой дыры в космосе расставлять маяки и прокладывать трассы безопасности, — скоро четырнадцать лет, как я только этим и занимаюсь.
Но меня разыскали не через две недели, а на пятый день. И не строгий начальник базы, а непоседливый Николай. Он примчался на пляж, где я мирно жарился под двумя дневными солнцами, и еще издали заорал, чтобы я немедленно поднимался.
По-моему, в мире нет лучшего местечка для ничегонеделания, чем Латона: два белосияющих дневных солнца, три темно-красных ночных, полноводные реки, роскошные леса и такой ароматный воздух, что его хочется жевать или пить, а не равнодушно засасывать в легкие. Просто удивительно, что именно на такой райской планете разместили Главную Галактическую базу со всеми ее космическими заводами, станциями связи и прочим хозяйством: чтобы понежиться в стороне от гула машин, нужно теперь улетать на сотню километров.
Увидев Николая, я повернулся к нему спиной. Он так торопился, что песок, разбрасываемый его каблуками, жалобно визжал. Я закрыл глаза и притворился, что похрапываю. Николай воскликнул:
— Казимеж! Неужели тебя не интересует, для чего я примчался? Ты же знаешь, я не терплю валяться на грунте.
— До свидания! — пробормотал я. — Доклад переносим на завтра. Не застилай левого солнца.
— Слушай, Полинг! — возгласил он торжественно. — На Латону прилетели Артур Хирота и Жак Бангалур.
— Я это перенесу. Передай им привет. Скажи, что встретимся через пять лет на Земле. — И снова закрыл глаза.
— Не спи, Полинг! — Он потряс мое плечо.
Я вскочил и с упреком заметил, что в добрые старые времена подчиненные относились к своим начальникам гораздо почтительней. Он возразил, что на отдыхе я ему не начальник, а друг, а с другом можно и не церемониться.
— И вообще, ты больше не будешь надо мной начальствовать, — объявил он с воодушевлением. — Дело в том, что Земля разрешила экспедицию в дзета—мир. Именно для ее организации и появились на Латоне Артур и Жак. Проектируют в эту экспедицию и тебя: Артур просил разыскать и без промедления доставить тебя к нему. В жизни не видел более бесчувственного человека, чем ты, Казимеж! На твоем месте я бы плясал от восторга!
— На своем месте я продолжу заслуженный честной работой отдых под двумя солнцами!
Я снова блаженно растянулся на нежном песке. Больше всего на Латоне люблю ее речные пески — красноватозолотые, мелкозернистые, мягкие, теплые… Я назвал песок нежным, это не выспренняя похвала, а сухая характеристика материала. Меня не тянуло бросить пляж. Что бы там ни навоображал себе Николай, Артур Хирота отлично обойдется и без меня.
Хорошо помню, что был в ту минуту безмятежно спокоен. Экспедиция в дзета—миры ни с какой стороны не могли коснуться меня. В мире не существовало человека, столь же далекого от нее, как я. Я просто слишком невежествен для такого предприятия. Иной любознательный школьник тут мог дать мне десять очков форы. Конечно, я знал, что любое материальное образование, называемое миром, характеризуется определенным числом измерений; и что под измерением понимается такой признак, без какого ничто в мире не существует; и что только миры с числом измерений, кратным четырем, по теории устойчивы; и что первый такой мир, альфа-мир, четырехмерный, «нижележащий», пока не открыт и неясно даже, существует ли он во Вселенной; и что наш мир, именуемый гамма—миром, восьмимерный, каждый предмет в нем характеризуется восемью координатами, тремя пространственными — длиной, высотой, широтой, одной временной, одной массовой и тремя энергетическими константами — ротонным объемом, бета—линией, корда—точкой; и что следующий по устойчивости мир, «вышележащий», дзета, обладает уже двенадцатью координатами, но никто из гениев Института Иномиров не может толково объяснить, что это за координаты. Вот и все мои знания по этому предмету.
Могу лишь добавить, что, в отличие от специалистов по иномирам, не умеющих объяснить высшие координаты дзета—мира с девятой по двенадцатую, я не способен дать объяснения и нашим трем космическим — ротонным, корда— и бета—измерениям: знаю, что они существуют, притворяюсь, что что-то в них понимаю, и стараюсь, чтобы мое понимание не подвергли серьезной проверке. Человек со столь высоким уровнем невежества не мог интересовать виднейшего из теоретиков иномиров, каким со студенческой скамьи считался Артур Хирота. А меня соответственно не интересовали другие миры, с меня вполне хватало моего родного космоса, его я знаю, не хвалясь, досконально!
— Вставай — и полетели! — настаивал Николай.
Я хотел было послать его в преисподнюю двадцатичетырехмерного мира, есть, наверно, и такой, но только теоретики до него не добрались — можно вообразить, что за страх там преисподняя! Вдруг прозвучал сигнал вызова, и у кромки воды сфокусировался экран, а на экране возник улыбающийся Кнут Марек. Этот человек всегда улыбается, особенно когда говорит неприятности, — ехидней, но и беззлобней, а кстати, и умней существа, чем он, не знают на наших далеких планетах. Вероятно, поэтому он девятый год командует Главной Галактической базой, стаж прямо-таки мафусаилов: ни один из его предшественников не задерживался больше двух лет.
— Собери свои кости, старик, — сказал он сердечно, — и мчи ко мне. Хватит прохлаждаться!
Спустя час мы с Николаем входили к Мареку. Его кабинет — чудо космической техники: в нем люди сияют. Именно так — не освещаются со стороны, а порождают собственное свечение, и как утверждает Марек, соответствующее их характеру. Штуку эту изобрел астрофизик Павел Сидоров, погибший на «Медее» в черной пасти звездной «дыры» Н-115, марековский кабинет остался единственным свидетелем технической фантазии несчастного астрофизика. В сумрачном зале передвигались три клубка света — ободряюще-золотой Марек, голубовато-синий, холодноватый Хирота, растроганно-салатный Бангалур, а к ним теперь добавилась настырная, стремительная оранжевость Николая и какая-то чудовищная комбинация из хмурого темно-красного и оживленно-язвительного зеленого — таким изобразило меня настенное зеркало.
— Садитесь, и начинаем, — ослепительно засияв золотой улыбкой, предложил Марек. — Мы слушаем тебя, друг Артур.
— Ты, конечно, знаешь, друг Казимеж, какую задачу поставили перед экспедицией в дзета—пространство, поэтому говорить об этом не буду, — так обратился ко мне Хирота.
— Я, конечно, не знаю ничего о задачах экспедиции. Поэтому, друг Артур, прошу поговорить и об этом, — учтиво отпарировал я.
Мне показалось, что он рассердился. В глазах его погасла голубоватость, в них зажглось что-то негодующесинее. Но он сдержался. В выдержке он превосходит нас всех. Думаю, в ней одна из главных причин его успеха: теории его вызывали столько нападок, часто несправедливых и злых, что без слоновьей стойкости от одних язвительных шуток можно было рехнуться. Сам он утверждает, что, в отличие от нас, хорошо воспитан, и цитирует при этом какого-то древнего мудреца: «Воспитанность — это умение делать свои недостатки нечувствительными для окружающих». Возможно, и так. Мои недостатки окружающие чувствуют.
Артур начал объяснение с таких азов, что я скоро потерял интерес к его речи. Я еще терпеливо выслушал, как наши предки открыли, что пространственный вакуум — вместилище колоссальной энергии; что делалось много попыток овладеть этой энергией; что в результате бесчисленных неудавшихся попыток установили восьмимерность нашего мира, хотя раньше его считали четырехмерным; что восьмимерности мало для вычерпывания энергии вакуума, характеризующегося тридцатью шестью параметрами; и что в результате всех этих исследований доказано наличие устойчивых, параллельно возникших из вакуума материальных миров; и что нижний наш сосед, альфа-мир, неинтересен, а второй, повыше, двенадцатимерный дзета, наоборот, захватывает воображение, ибо нас связывают с ним шесть общих измерений, а это обеспечивает надежный проход в тот мир; и что дзета—мир связан с вакуумом не восемью нашими измерениями, а ровно двенадцатью — это в полтора раза больше; и что полуторная связь, взятая в шестой степени — так почему-то надо, — обеспечивает ровно в четырнадцать раз более легкую возможность выкачивания энергии вакуума…
В этом месте я зевнул, но Артур, уставясь синеватопылающими глазами в пол, не заметил, как я воспринимаю его лекцию. По-честному, меня раздражали все проекты утилизации энергии вакуума. Человечество уже триста лет твердит, что хорошо бы поставить ее себе на службу и что для этого нужно лишь найти проход в сопряженные иномиры. Такие общие истины преподносятся каждому юнцу еще в школе, но практического значения не имеют, ибо самое важное неведомо — где находятся эти самые проходы в иномиры и как ими воспользоваться. О себе могу сказать следующее: я, пожалуй, больше всех налетал в космосе, но нигде не повстречал отверстых ворот в миры иных измерений.
Чтобы больше не впадать в зевоту, я стал присматриваться к тому, кто как слушает. И меня вдруг заинтересовало одно забавное соответствие. На Земле давно забыли, что когда-то люди различались по национальностям. Уже к концу двадцать первого века человечество так перемешалось, что стало невозможно установить, какая у кого реально национальность. Но что существовали некие общие черты, называемые национальным характером, никто не оспаривал, просто и характеры перемешались, как и национальные языки, и национальные имена, и национальные обычаи. И вот я подумал, что все мы, сидевшие в фантастическом кабинете начальника Главной Галактической базы, являемся образцами смешения разных национальностей и смешение это отчетливо выражено и в наших именах и характерах.
Кнут Марек, отдаленный потомок скандинава и чеха, от своего северного предка взял высокий рост, светлые волосы, светлые глаза, упрямство и бесстрашие, а от серединно-европейского — насмешливость, почти язвительность, любовь к спорту — на Латоне он всех побивает в беге, — общительность и страсть к рукомеслам. Жак Бангалур, смесь итальянца с индусом, — огромный, лохматый, добрый, черноглазый, всегда погруженный в какие-то размышления и чувства, человек как бы не из мира сего. «Так всегда справедлив, что жутко!» — иронически характеризует Жака Марек. Николай Дион, полурусский—полуфранцуз, порывист, резок, стремителен, отчаянно инициативен, очень смел, очень придирчив и одновременно очень покладист, очень скептичен и очень поэтичен, и вообще ко всем его взаимно противоречивым качествам надо приставлять словечко «очень» — и мне кажется, тут тоже присутствуют рудименты характера предков.
Самый интересный из нас, конечно, Артур Хирота, удивительная комбинация из немца и японца — вежливый и непреклонный, глубокий мыслитель и энергичный практик, мастер заоблачных абстракций, художник и тонкий ценитель изящных вещей, то романтичный, то сентиментальный, то суровый до жестокости и самолюбивый до надменности, то настолько сдержанный, что мало кто догадывается о его честолюбии. Не знаю, что от кого он у предков взял, но что букет его свойств нетривиален, видно каждому.
И наконец я, Казимеж Полинг, что-то польско-английское или англо-польское, самый старый в нашей компании, все-таки тридцать девять лет, самый, естественно, именитый астронавигатор дальнего поиска, дважды заслуженный покоритель космоса, кавалер шести орденов, четырнадцати медалей, член трех академий, почетный член сорока трех или сорока четырех университетов, точно не помню — в общем, среди астронавигаторов фигура видная. А что до характера, то Николай, когда сердится, ругает меня примерно так: «Энергии и деловитости у тебя не отнять, но почему ты не отдался музыке, ты же любишь ее, вот бы играл на рояле или на скрипке, даже сольные концерты давал бы, и женщины смотрели бы на тебя еще влюбленней, чем сейчас, какая была бы тогда радость твоим нынешним подчиненным, которых ты бессовестно выматываешь!»
— …удалось доказать, что проход в дзета—пространство лежит в окрестностях «черной дыры» Н-115, — услышал я вдруг и мигом оторвался от посторонних размышлений.
— Прости, друг Артур, я прослушал — кому удалось доказать?
— Мне, — холодно ответил он. — И кажется, я достаточно подробно изложил, как пришел к такой мысли и какие были дискуссии в Академии. Но теперь есть решение Большого Совета и с дискуссиями покончено. Межмировая экспедиция в дзета—пространство утверждена, трансмировой корабль «Пегас» спроектирован, основные части его уже доставлены на Латону. Здесь произведут сборку и испытание. Вероятно, это будет главной из твоих ближайших задач, друг Казимеж.
Ответ прозвучал почти как отповедь. Я спросил:
— Почему записали меня в вашу экспедицию, не поинтересовавшись, хочу ли я этого?
— Ты был в дальнем рейсе, с тобой не могли связаться своевременно. Исходили из факта, что в мире нет астрокапитана, столь же знающего Немесиду, как ты. Именно эта маленькая планетка неподалеку от Н-115 будет стартовой площадкой в иномиры.
— Еще одно учитывалось, — лукаво добавил Марек и пропел — впрочем, фальшиво — две строчки популярной на Земле песенки «Астронавигаторы Вселенной»: — «Вот он, Полинг, Казимеж Полинг, дальше всех побывавший, больше всех посмотревший, горше всех испытавший».
— В экспедиции участвуют четыре человека: ты, я, Жак, четвертого ты подберешь по своему усмотрению, — продолжал Артур. — Мы, конечно, догадываемся, кого ты пригласишь, и заранее рады…
— Не сомневаюсь. Четвертый — Николай. У тебя, надеюсь, нет возражений, Николай?
Николай воскликнул «Да!» еще до того, как я закончил вопрос.
— У каждого члена экипажа будут свои обязанности, не так ли? Я хотел бы услышать о них, — продолжал я.
Холодный голос Артура стал почти ледяным, но не потерял своей неизменной учтивости;
— Начальник экспедиции и капитан «Пегаса» — ты, друг Казимеж. Я — теоретик, Жак — социолог, Николай — астроинженер. О твоем назначении имеется специальное решение Большого Совета.
В тот момент я бы голову дал на отсечение, что понимаю настроение Артура: он, нет сомнения, был оскорблен, что его, инициатора еще неслыханной экспедиции, назначили не руководителем, а только теоретиком ее. А насмешливый Марек не удержался от ехидства:
— Будешь протестовать, Казимеж? Ты ведь всегда протестуешь против почетных назначений, когда уверен, что протест отклонят.
— Нет, — сказал я. — Указы Большого Совета я не оспариваю. Но ты напрасно так радостно ухмыляешься. Кому-кому, а тебе придется пожалеть, что я начальствую экспедицией. Когда, я не понял, начнется сборка трансмирового корабля «Пегас»?
Марек сразу стал серьезным. Мгновенные переходы от шуток к делу он совершал артистически.
— Уже идет. С проектом корабля можешь ознакомиться в любую минуту. Работы на стапелях осмотришь после изучения проекта.
2
Мы с Мареком сидели в служебной конторе на Немесиде, когда в нашу крохотную комнатку ворвался Николай и радостно крикнул:
— Казимеж, как я тебе нравлюсь? Костюмы присланы с рейсовым звездолетом. Я попросил выдать один на пробу.
Он стоял перед нами в полном облачении разведчика иномиров. И я и Марек знали об этой одежде только по присланным заранее инструкциям и картинкам и теперь с интересом рассматривали ее, щупали, пробовали растянуть.
Гибкий скафандр, облегавший тело Николая, был так прозрачен в оптическом спектре, что казался невидимым. Зато его не пробивали ни пули, ни шальные метеориты, он был непроницаем для жестких лучей и инфракрасного излучения. Скафандр надевали на балерин — и балерины танцевали, не ощущая стесняющей их одежды. В нем спускались в недра, вулканов, погружались на дно морей — люди и в адском пекле и под колоссальным давлением работали, как на зеленой лужайке, — так утверждали проспекты фирмы, изготавливающей эти космические доспехи.
С правого бока Николая висел главный помощник косморазведчика, небольшой, с кулак, ротонный генератор, механизм столь исполинской мощности, что запросто мог бы превратить в облачко плазмы многоэтажный дом. Генератор создавал охранные поля — люди становились недоступны для всех форм излучений и неуязвимы для всех материальных частиц, кроме ротонов, основы более крупных структур материи: квантов пространства, гравитонов, нейтрино, фотонов, а также таких сложных образований, как ядерные частицы. Энергия для ротонного генератора поступала с трансмирового корабля. Пока канал связи действовал, людей оберегали механизмы «Пегаса», мы сохраняли автономию в любом иномире даже в условиях ядерного распада. Так, во всяком случае, обещал все тот же фирменный проспект.
Шею Николая лентой охватывал универсальный дешифратор, по виду простая полоса. По инструкции, этот дешифратор смотрел человеческими глазами, слушал человеческими ушами, улавливал человеческие эмоции и мысли. Все формы речи разумных существ — звуковая, цветовая, кинетическая, электромагнитная, радиоактивная, гравитационная, термическая, компрессионная и другие — быстро раскодировались прибором. Им с успехом пользовались при разговорах с земными пчелами, рыбами с планет Денеба и мыслящими папоротниками на Фомальгауте — человек и его собеседники превосходно понимали друг друга. На «Орионе», моем старом корабле, тоже имелись такие приборы, но нам ни разу не пришлось ими пользоваться: в районе «черной дыры» Н-115 никакой жизни, тем более разумной, мы не открыли.
На шлеме скафандра размещались очки-светофильтры. С их помощью можно было не только рассматривать отдаленные предметы, но и защищаться от любых не чрезмерно сильных излучений, а при нужде и ослеплять противника вспышкой тысячекратно усиленного взгляда. Как-то, еще на Латоне, Николай лихо ударил Жака глазами — Жак долго не мог прийти в себя. Больше Николай уже не шутил и только раз еще пустил в ход свою оптику. Он задумал прогуляться в скафандре по заказнику первобытной природы и повстречался там нос к носу с тигром. Тигры на Латоне крупней и свирепей земных. Зверь прыгнул на Николая, Николай злорадно скосился на него светофильтрами. Тигру удалось отчаянным усилием вывернуть свое тело в воздухе. Сломя голову он удрал от страшилища, опаляющего глазами.
— Красавец! — с восхищением сказал Марек. Это относилось к скафандру. Но Николай принял оценку на свой счет и прямо-таки засиял от тщеславия.
Марек предложил пойти к «Пегасу». Мы зашагали по каменистой Немесиде к стартовой площадке. Я хочу сказать несколько слов об этом клочке материи, куда мы перебрались с Латоны. Немесиду открыл я во время поисков места гибели звездолетов «Дракона» и «Медеи». Мы натолкнулись на нее случайно. Локаторы «Ориона» вначале показывали лишь облачко пыли или газа, наш штурман не сомневался, что мы промчимся сквозь это облачко, не почувствовав сопротивления, как уже не раз проносились сквозь другие туманные скопления. И только когда внезапно включились тормозные двигатели, а рейсовые автоматы круто изменили курс, мы поняли, что собирались на полном ходу врезаться в груду камней и металла размером с земную Луну.
Я назвал космический шатун Немесидой, именем древней богини возмездия, в предостережение астронавтам: кто здесь хоть на короткий срок потеряет навигационную бдительность, рискует катастрофой. Мы тогда думали, что «Дракон» и «Медея» разбились о Немесиду, их последняя депеша давала координаты именно этого района. Лишь обнаружив неподалеку «черную дыру», куда некогда ухнуло какое-то светило, если не целое звездное скопление, мы узнали истинные причины гибели. Но грозное название для космического шатуна осталось. Если бы я знал, что нам здесь предстоит стартовать в загадочный дзета—мир, я придумал бы название более обнадеживающее.
Хочу отдать должное Мареку. За короткий срок, пока на стапелях Латоны собирали «Пегас», он придал Немесиде вполне жилой вид — повесил километрах в десяти над стартовой площадкой рабочее солнце, плазменный шар, сгорающий в термоядерном жару, смонтировал космическую атмосферную установку — воздух вполне приличный, — окружил планету озоновой покрышкой, возвел живые домики и мастерские, оборудовал станцию связи, в общем, поработал. Работает он хорошо, хотя меня порой сердит его педантичная привычка каждую операцию прогонять по десятку раз, каждую деталь стократно ощупывать. Попробовал бы он так вести себя в рейсе, когда нужно принимать неожиданные решения, а времени на них если сотая доля секунды — хорошо! Впрочем, в институте он провалил экзамен на космоштурмана и долго потом с огорчением о том вспоминал, пока не утешился славой выдающегося космоадминистратора.
На каменной площадке, упираясь в нее острием, чуть покачивалась гигантская сигара «Пегаса». Корабль мог повиснуть и на любом отдалении от грунта, но Марек захотел инженерные испытания провести именно так. «Пегас» отбуксировали на Немесиду месяца четыре назад совершенно готовым, но наладчики все возились с ним. Неподалеку стояли Артур и Жак — они всюду ходят вместе. Жак пожал руку каждому, Артур лишь кивнул и отвернулся. Он изучал внешний вид «Пегаса», больше не обращая на нас внимания.
На трансмировом корабле шли испытания оптической защиты. «Пегас» то сверкал и светился, то стирался во что-то темное, был то зеленым, то синим, то сумрачно-фиолетовым, то обжигающе-оранжевым. Временами его оболочка накалялась до нестерпимости, только Николай с его светофильтрами мог переносить эту яркость, а мы дружно опускали головы. В какую-то минуту Марек объявил, что сейчас «Пегас» погрузится в невидимость. И точно, корабль вдруг исчез. Он был, и его не было. Сквозь него светили звезды, километрах в тридцати натягивал швартовы огромный «Нептун», звездолет старой конструкции: он был до этого мига прикрыт корпусом «Пегаса», теперь мы его отчетливо видели.
— Каково? — похвалился Марек с такой гордостью, словно он был главным конструктором «Пегаса», хотя молчаливый Артур с гораздо большим правом мог претендовать на это звание. — Вы видели только экранирование первой степени, а если полное? Будете ходить сквозь корабль, не подозревая, что тут что-то стоит!
— Ты уже испытал полное экранирование? — поинтересовался я.
— Неоднократно! Вы еще прохлаждались на Латоне, и Артур читал вам лекции по теории полета в иномиры, когда мы на Немесиде совершили первое полное опробование. Все механизмы, все параметры хода на должной высоте, можете не сомневаться.
— Так в чем же дело, Марек? — загремел я. — Объявляй немедленно стартовую готовность!
Он так махнул завитыми золотистыми лохмами, словно хотел смести нас с планеты. Он удивительно меняется, Кнут Марек, когда переходит от веселого хвастовства к деловым распоряжениям. Николай утверждает, что в нем в эти мгновения дикий викинг валит наземь мастера-весельчака. Я думаю, что и сами дикие викинги вот так же менялись, когда среди бесшабашного застолья раздавался сигнал тревоги, и они от пиршественных столов кидались к мечам.
— Полинг, прекрати! Стартовая готовность будет объявлена не раньше, чем все будет готово.
— Значит, дня через два—три? — с надеждой осведомился Николай.
— Через месяц! А будете приставать, накину еще недели две. Нетерпение не относится к числу навигационных добродетелей. Воспитывайте осторожность и благоразумие в наших родных восьмимерных краях, прежде чем провалитесь в двенадцатимерные миры!
И эти прописные истины он высокопарно вещал мне и Николаю, за пятнадцать лет наших космических странствий избороздившим все звездные окрестности Солнца без единой аварии, в то время как его собственный навигационный стаж исчерпывался двумя—тремя прилетами на Латону и Немесиду!
Правда, он при этом весело подмигнул мне.
3
Стартовые испытания мне запомнились как затянувшийся пышный спектакль. Двадцать миллиардов людей на планетах Солнечной системы и окружающих звезд смотрели сверхсветовые — на ротонах — передачи с Немесиды. В эти дни Марек чувствовал себя не председателем стартовой комиссии, а театральным режиссером и придумывал все новые эффекты. Он был весел, говорлив, безмятежно уверен в успехе. Я бы соврал, если бы сказал то же о себе. Даже Артур нервничал, а это кое-что значит.
Хорошо помню последний день испытаний. В трансмировом корабле заперлись два инженера и Николай. Артур, Жак и я сидели на наблюдательной площадке. Марек на помосте то размахивал руками, то кричал в стереофон. Он обернулся к нам и весело помахал рукой — пожалуй, единственный в тот день его жест, не являвшийся командой.
— Готовьтесь, друзья, начинаем!
В ту же секунду «Пегас» исчез. Мы видели эту картину уже добрый десяток раз и все не могли привыкнуть к тому, что корабля нет на том месте, где он стоял уже полгода. Сквозь его мощный корпус, в самом центре «Пегаса», поблескивала крохотная звездочка пятой величины, наше далекое Солнце, — родина человечества была в нескольких парсеках. Марек показал рукой на батареи аппаратов, похожих на древние орудия, — их жерла нацеливались на исчезнувший «Пегас». Два оператора, командовавшие аппаратами, проворно что-то крутили. Мы знали, что в это мгновение на корабль обрушиваются радиоволны, лучи обычной оптики, гамма—кванты, потоки микрочастиц, легко взрывающих атомные ядра, но на экранах даже контура корабля не возникло. Один из аппаратов был генератором волн пространства, его включили отдельно — даже эти волны, безошибочно фиксирующие любое излучение, любой вещественный объект, обтекали экранированное судно. «Пегас» словно выпал уже из пространства, для рассечения которого его создали. Перед нами простиралась пустынная каменная площадка. Лишь где-то вдалеке тускло поблескивал в лучах искусственного солнца обреченный на уничтожение звездолет «Нептун».
Марек повернулся к нам. В это мгновение нас троих показывали землянам, и он ничего не имел против того, чтобы зрители увидели и его ликующее лицо.
— Экранирование — полное. Сейчас мы это проверим. Выводим курдин. Не возражаешь, Полинг?
Вопрос был задан для зрелищного эффекта. Я не мог ни запретить, ни разрешить, испытанием командовал Марек. Мне надо было спокойно сказать «да», но я все же помедлил с ответом. Курдинные удары по «Пегасу» проводились и раньше и неизменно завершались удачей — мощный поток фотонов проносился сквозь экранированный корабль, как сквозь вакуум. Не было оснований думать, что сегодня пойдет по-иному. Но тогда рисковали лишь пустым кораблем. Сегодня же в трансмировом судне сидели люди.
К стартовой площадке подползло приземистое сооружение — десятиметровый курдин, самое грозное оружие, когда-либо создававшееся человечеством. В обзорной башне сидели три инженера у боевых пультов. Жак поежился, Артур что-то пробормотал, я затаил дыхание: когда один из троих нажмет на красную кнопку атаки, а два других — на зеленые кнопки выхода, многие тонны массы, мгновенно аннигилируясь в объятиях антивещества, вынесутся наружу в истребительном лучевом залпе.
Передний конец курдина сделал поворот, на нас зловеще блеснуло выходное отверстие. Потом оно повернулось на центр экранированного корабля. На оси курдина теперь находился также и звездолет «Нептун».
Чтобы разрядить напряжение, я сказал Артуру и Жаку:
— Между прочим, у меня на «Волопасе», когда я шел в созвездие Девы, была такая штука, только поменьше — пятидюймовый боевой курдин. В районе безымянного желтого карлика, вроде нашего Солнца, на нас чуть не налетел шальной астероид. Вы бы посмотрели, как он разнесся облаком газа и пыли, когда мы выпалили из пятидюймовки! А из этого страшилища, думаю, можно разнести планетку с Луну…
— Как ты расправился с тем астероидом, мы видели в стереопередачах, — сдержанно отозвался Артур.
«Пегас» внезапно возник из невидимости. В распахнувшемся люке показалось возмущенное лицо Николая.
— Чего вы тянете, друзья? Уже полчаса назад вы должны были попытаться разложить нас на атомы.
Марек махнул на него рукой: экранирование восстановилось. Минуты две заняла вторичная проверка его полноты. Затем Марек подал команду бомбардирам. Вынесшийся из курдина поток энергии остался невидимым — защитные механизмы станции надежно гасили боковое рассеивание. И на стартовой площадке ничего не произошло: световой столб, исторгнутый курдином, прошил словно бы абсолютную пустоту. Зато в отдалении ослепительно вспыхнул «Нептун».
Из невидимости снова возник невредимый «Пегас». В окне улыбались Николай и наладчики.
— Переходим к последнему этапу испытаний — термоядерной обработке, — объявил Марек.
На площадке появились старинные суперядерные орудия, доставленные на Немесиду из земных музеев. Каждый выстрел из такого страшилища мог испепелить миллионный город. Марек весело пообещал зрителям, что смертоубийственные чудища наших предков принесут трансмировому кораблю меньше вреда, чем детская хлопушка астрономической башне. Жак, обеспокоенный грозным видом аппаратов, сказал, что хорошо бы нам удалиться в укрытие. Артур успокоил его:
— Мы защищены от ядерных взрывов столь же надежно, как от курдинных ливней. А «Пегаса» для ядерных орудий просто не существует.
Термоядерный обстрел был, конечно, самой легкой из проверок — скорей фейерверк, чем испытание. Жака тревожила психологическая привычка, доставшаяся нам от предков, — страшиться термоядерных средств истребления, — а не реальная опасность самой операции. Внешне она, правда, получилась внушительней, чем курдинный залп. На месте, где скрывался невидимый «Пегас», взвился огненный столб, сверкающее пламя ринулось вверх, крутилось, кипело, из него поднялся черный гриб испепеленного вещества, из гриба посыпался раскаленный прах. Площадки, пощаженной промчавшейся над ней световой трубой, больше не существовало — гигантская яма дымилась на стартовой территории. Марек ликовал. Спектакль вышел на славу.
— Теперь я поднесу трансмировым навигаторам подарок, который пока держал в секрете, — недавно привезенные ротонные бинокли.
Марек передал нам по прибору странной формы — две полусферы, соединенные перемычкой. Мы надели их на шлемы. Полушария прикрыли почти всю лицевую сторону шлема. В самом фокусе взрыва, в пламени и прахе радиоактивного распада, висел «Пегас». В окне хохотал Николай.
Марек — для зрителей — подвел итог испытаниям:
— Как видите, все виды волн и все частицы, кроме ротонов, обтекают «Пегас». Искривление пространства вокруг корабля столь совершенное, что даже полная аннигиляция этой планетки не могла бы ему повредить. «Пегас» сохранит свою автономность и в мире иных измерений. Трансмировые пассажиры в своих силовых скафандрах тоже пользуются автономией, но в меньшей степени.
— Он, кажется, думает, что ротонов в иных мирах не существует, — иронически заметил Артур. — Конечно, это частицы, искусственно выделенные людьми, и в свободном состоянии их не встретишь, но суть-то в том, что именно они — единственный надежный канал, соединяющий космос с дзета—пространством.
Он улыбался — явление настолько редкое, что я мог бы перечислить все случаи, когда видел его улыбку. Он радовался успешному испытанию своего трансмирового детища. Я тоже радовался, но промолчал. Все относящееся к ротонам мне далеко не так ясно, как Артуру, а демонстрировать свое невежество я не любитель.
Марек подошел к нам.
— Полинг! — сказал он на этот раз, кажется, только мне одному, а не двадцати миллиардам стереозрителей. — Дорогой мой Казимеж, поздравляю! Земля вручает тебе воистину замечательное сооружение!
Санитарным механизмам понадобилось с полчаса, чтобы погасить пламя и засосать в свои недра термоядерный пепел. Только огромная яма на бывшей площадке напоминала об испытании. «Пегас» снова вынырнул в видимость и свободно парил над ямой. К выходному люку корабля подлетела авиетка. Вскоре к нам присоединился Николай. Жак с удовольствием втянул в себя воздух.
— Люблю твои духи, Николай. Возьми их в рейс побольше.
— Взял целый ящик — хватит и для нас, и для двенадцатимерных дзета—мирян.
Чтобы привести Николая в хорошее настроение, лучше всего похвалить его духи. Это единственное изобретение, авторство которого он не делит ни с кем. На Кремоне, страшноватой планетке в системе Ригеля, — там мы высаживались три раза — он нашел красно-зеленый минерал, на Земле неизвестный. Хозяйственной ценности минерал не приобрел, но, растворенный в спирту, испускал приятный резковатый запах. «Одушевляюще, я бы даже сказал, организующе пахнет!» — хвастался Николай, демонстрируя первую порцию своих духов. Он оказался прав в самом прозаическом смысле: духи повышали тонус, их потом так и называли: «Стимулирующая эссенция с Кремоны». Николай всюду теперь появляется в легком облачке своего «бодрящего аромата». А в день курдинных и термоядерных проверок он израсходовал столько «стимулирующей эссенции», что она ощущалась за километр.
— Сдаю полномочия! — торжественно сказал Марек. — С этой минуты командуешь ты, друг Казимеж Полинг.
— В таком случае через часок мы отбываем! — Я постарался, чтобы ответ прозвучал буднично.
Марек, мне казалось, исчерпал все запасы торжественности, отведенные для нашего путешествия.
О самом старте вспоминать не буду. Нам Недавно рассказывали, что он произошел мгновенно: ни инженеры Немесиды, ни двадцать миллиардов зрителей не заметили мига выпадения «Пегаса» из космоса. «Провалился, как привидение в преисподнюю!» — с восторгом прокомментировал Марек исчезновение «Пегаса». Что до меня, то не нахожу в этом ничего удивительного. Удивительно было бы, если бы совершалось как-нибудь по-другому.
Глава вторая ЗАГАДОЧНЫЙ КУПОЛ
1
Вокруг была темнота, и в темноте кто-то плакал. Меня раздражал этот нудный плач, он длился уже столетие, к тому же был так громок, что болело в ушах. Надо бы приподняться, сердито прикрикнуть. Нельзя же так распускать свои нервы, хотел я сказать, хватит истерик. Я, капитан трансмирового корабля «Пегас», запрещаю лить слезы на борту!
Но, понимая, что надо делать, я ничего не мог сделать. Не было сил пошевелить рукой, приподнять голову. Я мог только думать о крике, но не кричать. Я перестал быть чем-то единым, шевелились руки где-то в стороне, ног больше не было, а голова самостоятельно витала в пространстве. Прежде чем соберу себя самого в нечто цельное, нечего и думать о приказах. Я сделал величайшее усилие и приподнял веки. Веки были подобны стальным плитам, я ощущал их безмерную тяжесть, они снова упали, я их снова поднял. И внешний мир вдруг вошел в меня. Я полулежал в кресле, рядом в таких же креслах покоились в беспамятстве Артур и Жак, на полу скорчился Николай, он тихо стонал — этот жалобный стон и показался мне набатно громким рыданием.
Я пошевелил ногой, сделал движение рукой, приподнял голову. Все было на своих местах, все действовало — голова, руки, ноги. Я с трудом подобрался к Артуру и толкнул его. Он сразу пробудился — приподнялся, осмотрелся, деловито пробормотал «Ага!» и вытер лицо платком. Жак, придя в себя, зевал, вздыхал, обеими руками чесал мощные кудри. Трудней пробуждался Николай. Он, правда, перестал стонать, но только вытянулся, перевернулся с бока на живот и невнятно сообщил, что еще полминуты подремлет.
— Почему полминуты, а не полстолетия? — хладнокровно осведомился Артур. — Время в дзета—мирах течет с иной скоростью, чем в космосе.
Услышав о дзета—мирах, Николай вскочил на ноги и метнулся включить обзорный экран. Я еле успел остановить его. Он действует слишком импульсивно. Поступок у него обгоняет мысль. На «Орионе» его и близко не подпускали к рейсовым аппаратам, чтобы в неожиданном порыве он не спутал себя со штурманом или командиром звездолета. Я предложил всем занять свои рабочие места.
— Итак, мы живы, — констатировал я. — Но где мы?
— Чтобы это выяснить, нужно все же включить экран, — резонно заметил Артур.
Я положил руку на аппарат включения обзора. Рука подрагивала. Мы знали, что никакие внешние излучения нам не грозят, но в тот момент я не был уверен, что на нас не ринутся смертоносные лучи, чуть мы включим прозрачность.
На засветившемся экране открылся странный, но не столь уж невероятный мир. Картина необычная, но не фантастичная: туманно-голубоватая равнина, а на пределе видимости не то здание, не то холм — темная груда с размытыми очертаниями. Было светло, но не по-земному: то, что казалось почвой, светило ярче, чем то, что имело вид неба. Границы между верхом и низом не было — в пейзаже недоставало горизонта.
— Мир вроде вещественный, хотя и мутный, — с удивлением установил Жак. Он ожидал чего-то совсем диковинного.
Артур с сомнением смотрел на туманную равнину.
— Геометрические координаты, по теории, здесь не фундаментальны. И может отсутствовать пространственная перспектива — важнейшая черта космоса. Как думаешь, Казимеж, оправдывается это?
Артур, похоже, ждал от меня подробного анализа природы развернувшегося пейзажа. Но я напомнил, что теоретиком экспедиции является он и, стало быть, сам должен растолковать нам, что к чему.
Он не заставил просить себя вторично. Он констатировал, что выпадение из галактического пространства удалось. Окружающий нас дзета—мир физичен, но вряд ли предметен в нашем смысле. Здесь мы должны повстречаться со взаимодействием полей, а не с вещами четких геометрических форм. Возможно, и течение времени трансформировано. Непосредственно окунуться в переплетения таинственных сил этого мира небезопасно. Всем выходить наружу не следует, один должен остаться в корабле и держать с вышедшими ротонную связь, страхуя от катастрофы.
— Согласен. Будем готовиться к выходу. Кто остается?
— Только не я, Казимеж! — Николай даже вскочил с кресла для убедительности. — Хочу побегать в невещественном пространстве. Прошу позволить мне выйти наружу.
— Хорошо. Для первого раза остается Жак.
2
По хронометру прошло два часа с момента, когда мы стали шагать по туманной равнине, а темное возвышение не приблизилось. Николай вознегодовал. Уж не вечность ли добираться к тому чертову сооружению?
— Возможно, и вечность, — спокойно подтвердил Артур. Неизменность очертаний холма скорее нравилась ему, чем вызывала досаду. Если бы новый мир походил на космический, Артур был бы обескуражен. Раз здесь отсутствует перспектива, то возвышение может казаться почти что рядом, а на наш масштаб до него — миллионы километров.
Я обозревал окрестность через ротонные бинокли, оконтуривающие любые предметы, невидимые в оптике. В биноклях не открывалось ни четких линий, ни ясных форм. Невещественным, однако, окружающий мир не был. Мы шагали по почве, как люди по земле, а не как боги по облаку. На все стороны распахивался хоть и однообразно унылый, но все-таки реальный пейзаж — ровный грунт и подобие неба над ним. Правда, и грунт, и небо пропадали чуть подальше в голубоватом мареве, но именно «чуть подальше»: близкое и далекое располагалось одно за другим, это было физическое пространство, в нем можно было передвигаться.
Николай для проверки раза три подпрыгнул — ничего необычного не произошло. Он прихватил с собой универсальный астрофизический приборчик. Сверившись с ним, он объявил, что гравитация тут лишь в два раза слабее земной, прогуливаться можно.
Зато вверху не виднелось ни солнц, ни звезд, а свет оттуда шел. И такой же, даже более яркий свет источала почва. И чем крепче надавливали на грунт ногой, тем сильнее он светился. Холм, похожий на дом, смутно проступал как раз там, где тускло светящийся грунт переходил в тускло светящееся небо.
— Если этот мир лишен пространственной перспективы, то и прогулки здесь бесперспективны! — проговорил Николай и один захохотал своей остроте.
Я предложил отдохнуть. Мы с осторожностью разлеглись на грунте. Мутно светящееся вещество не прогибалось под нашими телами. Оно походило на пемзу. Николай, зевнув, равнодушно сказал:
— Я все-таки настаиваю на своем. Бесперспективное пешее блуждание меня не восхищает.
— Ты, пожалуй, прав: к холму надо добираться не ногами, а более эффективным способом, — согласился я.
Николай живо вскочил.
— Попробуем наши силовые поля!
Он проворно включил ротонный двигатель и мигом исчез. Артур холодно сказал:
— Я как раз хотел предложить воспользоваться двигателем. Но я бы советовал тебе, Полинг, внушить Николаю, что не он капитан экспедиции.
Я ответил, что непременно воспользуюсь дельным советом. Николая и вправду следовало приструнить. На «Орионе» мы называли разъяснение члену экипажа, что он может, а чего ему нельзя, «введением в должность». И в каждом рейсе Николаю «введений в должность» доставалось больше всех.
Артур уже хотел лететь, но я остановил его:
— Мы не знаем, где Николай. Если разлетимся кто куда…
Издалека донесся нетерпеливый голос Николая:
— Чего вы копаетесь? Нажмите на кнопку.
— Поехали! — сказал Артур, исчезая.
Я тоже включил двигатель и оказался рядом с Николаем. Артур полетел раньше меня, но прибыл позже. Это черта характера: Артур Хирота бесстрашен, решителен и одновременно осторожен — он включил самую малую скорость.
— Смотрите: настоящий дом и в нем настоящая дверь! — радостно воскликнул Николай.
Я «ввел» Николая в «должность» — он хладнокровно вынес наставление, — потом обернулся к тому, что он назвал домом с дверью.
Это был не дом, а холм, напоминавший геодезический купол. И темное отверстие внизу совсем не походило на дверь. Края отверстия колебались, оно то уменьшалось, то увеличивалось. И по-прежнему такими же размытыми казались очертания купола. Артуру он напомнил живое существо, а не мертвое сооружение: входное отверстие скорее рот, чем дверь. На далеких планетах космоса порой встречаются удивительные и опасные животные. Тем более надо быть осмотрительным в этом мире. Без предварительной разведки не стоит проникать внутрь.
— Не верь россказням о чудищах космоса, — возразил Николай. — Мы с Казимежем основательно потолкались среди звезд, но ничего сверхъестественного не обнаружили. И мы защищены! Если это существо, а не строение, его прохватит несварение желудка, когда оно заглотает нас. Я попробую влезть.
Пришлось прервать их спор:
— Первым пойду я. У меня, по крайней мере, одно важное преимущество перед Николаем — я осторожен.
Я неторопливо обошел весь купол, потом долго изучал отверстие — прощупал силовыми линиями, просветил жесткими фотонами. Края дыры все так же тихо колебались: не было заметно, чтоб мои действия что-либо изменили.
— Пока все в порядке. Теперь заберусь внутрь. — Я пролез в отверстие, осмотрелся и, пораженный, крикнул товарищам: — Вот так чертовщина! Идите же сюда!
3
— Сколько отверстий в куполе? — спросил я, когда они пролезли в обширное, тускло освещенное помещение.
— Одно, конечно, — уверенно сказал Николай. — Я обошел снаружи все сооружение — других входов нет.
— Ты плохо смотрел! — Я обвел рукой внутренность купола.
— Выходов шесть. И взгляните наверх.
Николай восторженно свистнул. Потолка внутри купола не было. Кольцеобразная самосветящаяся стена наверху неуловимо пропадала. Над помещением нависало то же тускло мерцающее небо, что и снаружи. А по периметру стены, симметрично расставленные, темнели шесть одинаковых отверстий — через одно из них мы только что пробирались.
— Готов поклясться, что вход был лишь один! — воскликнул Николай, когда обошел все кольцеобразное помещение.
— Вход один, — подтвердил Артур.
— Вход один, выходов шесть, — подвел я итоги. — Снаружи видна крыша, внутри нет потолка. Сооружение запутанное…
— Предлагаю обследовать каждый выход поочередно. Начнем, например, с этого. — Николай показал на одно из отверстий.
Я попросил Артура отметить отверстие. В его походной сумочке всегда имеется набор светящихся красок и кисти. Он нарисовал у выхода солнечно сияющее круглое лицо, а под ним девятилучевую звезду и сам залюбовался своим рисунком. Я попробовал стереть его, но краски прочно въелись в грунт. Успокоенный, я направился к этому выходу. Друзья следовали за мной.
Через минуту мы очутились в новом мире, мало напоминавшем тот, что оставили у входа в купол. Правда, и здесь самосветящееся тусклое небо неразличимо сливалось с самосветящейся почвой. Но почва отчетливо отделялась от чего-то многоцветного и яркого: скорей всего, то было море, но море света, а не жидкости. И мы вышли как раз на берег этого светового моря, столь ярко отличавшегося от тусклой суши (употребляю это словечко «суша» просто потому, что не могу подыскать более точного).
Некоторое время мы, не двигаясь, рассматривали развернувшийся перед нами пейзаж. На серую почву накатывались синие волны, на волнах вздымались оранжевые гребни, разгорались, накаливались до белизны и рушились, погасая в темно-вишневой тусклости. На ярком море бушевала цветовая буря. Фиолетовое в глубине, оно непрерывно рождало сияющие синие волны и обваливалось ими на бесстрастно однотонный берег. А вдали разбушевавшиеся краски тускнели, и блекло-оранжевое море сливалось с таким же блекло-оранжевым небом.
Признаюсь, я с большим недоверием наблюдал красочный прибой светоморя. В галактических странствиях приходилось испытывать приключения и пострашнее оптических эффектов. Но здесь тревожила мысль, что мы в совершенно особом мире, где любое явление не только удивительно, но и опасно. Этот световой бассейн действовал мне на нервы.
— Давайте опять осмотрим купол, — предложил Артур.
Мы осторожно обошли странное сооружение, но снова обнаружили лишь одно отверстие — то, через которое вышли. Николай уверял, что мы стали жертвой оптической иллюзии. В мире, лишенном перспективы, понятия «дальше» и «ближе» утрачивают свой естественный смысл. Всего час назад мы неутомимо шагали к куполу, не продвигаясь ни на шаг. Возможно, и сейчас мы безмятежно покоимся на месте, а наши движения — иллюзия.
— А море? — сказал Артур. — Мы удаляемся от него и приближаемся к нему. Достаточно сделать несколько шагов, чтобы убедиться в этом.
— Море тоже оптическая иллюзия!
— Артур и Николай, войдите в купол и проверьте, все ли шесть выходов на месте и сохранился ли наш рисунок, — попросил я.
Они ушли, а я вскоре увидел, что буря, менявшая цвета моря — «вздымавшая его сияние», написал потом об этом явлении Артур, — стала усиливаться. Из фиолетовой глубины выкатывались уже не синие, а голубоватые валы, на их гребнях вспыхивали желтые воротники. Море разъяренно зеленело, цвета нарождались и угасали все быстрей, становились все ярче. Линия цветового прибоя делалась изломанной — краски его хаотично обрушивались на берег, отлетали назад и гасли. И я поймал себя на тревожной мысли, что усиление бури вполне может сойти за ответ рассерженного существа на наше неожиданное появление. Настроив дешифратор на цветовую речь, я пытался уловить, нет ли осмысленной информации в перемене красок, но дешифратор не нашел разума в цветовом шквале.
Из купола вышли Николай и Артур.
— Выход один — тот, у которого ты стоишь, Казимеж, — сказал Артур.
Николай, услышав, что я не нашел осмысленной информации в вариациях красок, пустил свой дешифратор на автоматическую запись. «После разберемся!» — сказал он. Артур заметил, что пока мы обнаружили меньше интересных явлений, чем теоретически ожидалось. Почему? На это я имел ясный ответ: мы слишком уж побаиваемся нового мира, который надумали познавать. Ознакомление с любым неизвестным немыслимо без риска — к такому выводу приводят галактические странствия. Нет оснований полагать, что в дзета—мире все обстоит по-иному, чем в родном космосе.
— А наша автономия так велика, что превращается в прямую отстраненность. Мы открываем лишь крупные объекты, все прочее ускользает. Схема мира, а не реальный мир — вот с чем мы пока сталкиваемся.
— Тогда ослабим автономность. И пусть каждый сам регулирует отношения с этим миром, — спокойно сказал Артур.
Я отнюдь не был столь же спокойным, а Николай, естественно, энергично поддержал Артура. Впрочем, я колебался недолго. Последующие события показали, что опасность близкого соприкосновения с новым мирим была даже больше, чем я боялся, но другого выхода, как испытать это близкое соприкосновение, у нас не имелось.
Соединившись с «Пегасом», я успокоил тосковавшего в одиночестве Жака и сообщил, что мы уменьшаем поток энергии по ротонному каналу.
— Нас размывает! — воскликнул через минуту Николай. — Мы превращаемся в привидения!
Он в восторге замахал руками. Формы становились зыбкими, тела превращались в силуэты. Артур вдруг уменьшился наполовину, а Николай превратился в гиганта — Артур не доставал ему до пояса.
— Изумительно! — крикнул Николай. — Я попробую вырасти еще немного, чтобы вы свободно проходили у меня между ногами. — Он запрыгал, завертелся, но остался таким же.
— Перестань, мы исследователи, а не расшалившиеся детишки! — сказал я и сам уменьшился до размеров Артура.
— Как вы ведете себя, друзья! — с сердцем добавил Артур и еще больше уменьшился — он уже не доставал до колен Николая.
— Не придирайся, Артур! — огрызнулся Николай и стал быстро расти опять. — Что ни сделай — это нехорошо, то плохо!
Он стал таким огромным, что голова его покачивалась на уровне вершины купола, и таким бесформенным, что казался уже не человеком, а цистерной, поставленной на торец. К тому же он весь пульсировал, то распухал, то сжимался, руки, ноги, плечи и голова колебались, словно волосы на ветру.
— Что со мной? — сказал он с испугом. — У меня, кажется, здорово развевается тело? Нет, послушайте! — Он со страхом схватил себя за распухшие колени, лицо его жалко исказилось, нос, длинный и гибкий, выкручивался, как хобот, уши трепыхались. — Слушайте, ветра же нет, а меня треплет, как парус в бурю! Да помогите же, черт возьми!
Как только Николай выругался, он вдруг стал уменьшаться. Теперь он опадал так быстро, словно его перед тем надули воздухом и сейчас воздух вырывался наружу. Одновременно, только медленней, росли мы с Артуром. Вскоре мы стали прежними людьми — резких очертаний, ясных форм, почти одинакового роста.
Ошеломленные, мы молча смотрели друг на друга.
Николай опомнился первый.
— Все в порядке, — сказал он бодро. — В нынешнем нашем дзета—существовании постоянные размеры и формы тел не обязательны. Переменное тело и меняющийся облик — что может быть естественней? — Он заметил, что опять начинает распухать, и поспешно закончил: — Впрочем, не собираюсь этим злоупотреблять! — Начавшийся рост тела оборвался.
— Сдерживай свои душевные порывы! — посоветовал Артур. Голос его, однако, был нетверд. Он помолчал, боязливо оглянулся и продолжал: — Наши размеры здесь, похоже, зависят от эмоций. Поменьше эмоций, побольше разума — такова, видимо, гарантия устойчивого дзета—бытия. Давайте пока только присматриваться и не спешить вмешиваться в местные дела. — Последние наставления он произнес обычным тоном, словно читал лекцию о природе дзета—пространства.
— И в случае опасности усиливаем связь с «Пегасом», — добавил я.
Пока Артур изъяснялся, я успел взять себя в руки.
— Поворот ручки — и уносимся в автономный мирок. При встрече с непредвиденным вообще не снимать руки с регулятора.
Артур слишком спокойно — старался, видимо, не разрешать себе опасных в этом мире бурных эмоций — проговорил:
— Кажется, непредвиденное само ищет встречи с нами. Положите руки на регуляторы, друзья!
4
Непредвиденное возникло хрустальным шаром, катящимся по равнине. Потом, приблизившись, предстало сложной и красочной конструкцией. Оно по-прежнему напоминало шар, но не сплошной, а собранный из кривых трубок, внутри которых мерцало сияние — для каждой особого цвета. От сверкающего шара отходили гибкие отростки, их то втягивало внутрь, то выбрасывало наружу, и они тоже были освещены пульсирующим цветным жаром. Сияние было так сильно, что все кругом озарилось.
Вместе с тем шар был прозрачен — сквозь него виднелись однотонный берег и свирепо атаковавшие его яркие волны моря.
— Штука эта похожа на распатланную голову, — со смехом сказал Николай. — Казимеж, вспомни, встречались ли нам в скитаниях между звездами разгневанные головы без туловищ?
— Существо или вещество? — задумчиво проговорил Артур. — Возможно, существо, и даже разумное. Я бы отошел подальше, чтобы встреча наша произошла возле купола, а не на берегу.
— Настройте дешифраторы поаккуратней! — приказал я.
Мне не хотелось бежать от катящегося шара. В конце концов, мы прибыли в этот удивительный мир, чтобы знакомиться с его явлениями, а не панически удирать от них. Так мы всегда вели себя в космосе, и я не видел оснований отступать и здесь от традиций косморазведки. Я добавил, чтобы убедить Артура:
— Мы легко разговаривали в Плеядах с разумными папоротниками и рыбешками, только выбравшимися из дикости. Постараемся найти общий язык и с этой самосветящейся каракатицей.
Николай настроил дешифратор на световую речь, она казалась наиболее вероятной. Артур задал еще и гравитационную, и электромагнитную. Я добавил кинетическую — язык механических движений, хотя здесь, где отсутствовала перспектива и постоянные размеры, кинетический язык представлялся наименее вероятным. В общем, мы готовились к исследованию, а не к отпору — в точности так, как действовали раньше в космосе.
В центре шара вспыхивали и гасли острые искорки. На фоне беспорядочно меняющихся красок и яркости искорки казались выражением какой-то системы среди хаоса. Артур обратил на них внимание.
— Если оно разумное существо, то мыслит, скорей всего, искрами. Пламенем же, вероятно, выражает эмоции, а не понятия.
— И я так думаю, — отозвался Николай, с любопытством всматриваясь в остановившийся неподалеку шар. — А вот, кажется, и первая расшифровка: «Кто? Кто? Кто?». Вопрос естественный, если прибор не приписывает разумного смысла стихийным импульсам. Сейчас я попытаюсь ответить в том же коде.
Николай засверкал. Теперь и в нем вспыхивали и гасли искорки. «Мы из другого мира, — пытался сообщить он потускневшему собеседнику. — Не бойтесь, мы не сделаем зла».
— Я, конечно, не уверен, что цветовой акцент у меня похож на здешний, — весело разъяснил он нам. Он выглядел счастливым, так ему понравилось, что найден общий язык с первым встреченным дзета—жителем. (У меня и тогда уже появились сомнения, но высказал я их после). Николай говорил: — Возможно, я и путаю кое-какие цвета, но смысл излучений оно должно разобрать, если оно разумно и язык его уловлен правильно… Что это такое?
В шаре словно бы разразился взрыв. Шар извергал фейерверк пронзительно острых огоньков. Он надвигался, быстро уменьшаясь.
— Осторожно! — крикнул Николай, тоже уменьшаясь. — Кажется, оно собирается напасть.
Артур, отступая, уменьшался, как и Николай. Шар, продолжая сжиматься, грозно напирал. Артур потянул за руку Николая, и не подумавшего отходить. Николай сердито вырвал руку:
— Мы же не дали повода для агрессии!
— Замолчи! Ты увеличиваешься! — предупредил я.
Николая разносило. Он взвивался вверх и разбегался в стороны. Быстро пронесясь сквозь прежний облик поставленной торчмя цистерны, он превратился в холм, вознесшийся над куполом.
Размытый, тускло мерцающий, Николай зыбко закачался над шаром. Шар, охваченный диким пламенем, ринулся в центр сумбурной фигуры, в которую превратился Николай. Наперерез шару бросился Артур. Сияющие отростки шара хищно перехватили раздувшегося на бегу нашего теоретика. До меня донесся его призыв о помощи.
Я рванул рукоять ротонной защиты. Безобразно бесформенная фигура опадала, превращаясь в прежнего сухопарого Николая. Прежнюю форму обрел и Артур, корчившийся от боли у ног Николая. А шар, точно сдунутый ветром, отлетел к морю и так исступленно засветился, в нем так вдруг заметались вспышки и выплески света, словно он надрывно взывал к спасению.
Светоморе, бушевавшее у берегов, вдруг погасло, черная пелена заволокла поверхность. А затем разразилось вулканическое извержение света. Из недр вынесся оранжево-золотой столб, он выкручивался дугой над берегом, прямо в него летел, смятенно сверкая, шар.
— Заглотало! — с ужасом проговорил Николай. Световая дуга ярко вспыхнула, когда в нее угодил шар.
— Кажется, и нам готовят сюрприз! — поспешно предупредил вскочивший на ноги Артур.
Он схватил за плечо Николая и рванул его подальше от моря. Я помедлил немного, не спуская руки с регулятора ротонной защиты.
Светящийся столб втягивался обратно. Но море, словно разбуженное, пришло в движение. Если раньше на его поверхности ходили световые волны, сияющим прибоем бившие о берега, то теперь светоморе взрывалось изнутри, извергало смерчи сияния, они быстро перемещались вдоль берега и опадали, погасая. С каждым новым выплеском смерчи становились пламенней и многоцветней. А затем началось то, чего опасался Артур. Новые пылающие столбы уже не обрушивались обратно в море, но огромными шеями выгибались над берегом.
— Оно, по-видимому, собирается теперь закусить нами, — с интересом констатировал Артур.
Он успокоился быстрее меня и Николая. Его уже больше занимали дзета—диковинности, чем дзета—опасности.
— Не будем раздражать вражеского аппетита, — сказал я. — Отступаем к куполу. Я на всякий случай еще усилю защиту.
Мы отходили ко входу в купол, а жадно сияющие шеи тянулись, отталкивая одна другую. На концах их набухало пламя, пышущие жаром пасти готовились нас заглотать. Первым вскочил в отверстие Артур, за ним вбежал Николай. Когда проник внутрь я, темное отверстие жарко вспыхнуло — одна из хищных шей последним усилием пыталась ухватить ускользающую добычу. Вспышка тут же погасла: я повернул рукоять регулятора еще на деление.
— Интересный мирок! — сказал Николай, облегченно засмеявшись. — Вдоль такого моря спокойно не погуляешь! Голодный зверь, а не милый пейзаж — вот что оно такое!
Я осмотрелся. Те же шесть выходов симметрично темнели по периметру. Загадка превращения шести в единицу занимала меня отнюдь не меньше, чем вопрос, живое ли существо хищное светоморе.
— Возвратимся на «Пегас» и посовещаемся, — предложил я.
5
В салоне, сбросив защитные костюмы, мы осмотрели Артура. Он был основательно обожжен, несмотря на защитный скафандр. Так мы впервые узнали, что скафандры, казавшиеся в космосе столь совершенными, здесь действуют отнюдь не так безукоризненно и надежной защитой может быть только ротонное поле.
— Могло и хуже быть, — сказал я. — Надо быть осторожней, друзья. Это касается прежде всего тебя, Николай, но и все мы не должны забывать, что любое неведомое может быть опасно.
Помню свое состояние: я испытывал удовлетворение от того, что странные знакомства в новом мире окончились благополучно. Природу дзета—мира мы, естественно, досконально не постигли, но явных опасностей избежали. Это, я считал, уже немало. Артур выглядел недоумевающим. Не знаю, чего он ждал, я еще на Латоне смотрел его записку о трансмировом рейсе, там он высказывался весьма осторожно. Допускаю, впрочем, что не все свои ожидания он объявлял открыто. Он не похож на Николая, немедленно доводящего до всех свои мысли и чувства.
— Посмотрим, Казимеж, будет еще время, — неопределенно высказался он и пошел помогать Николаю.
Николай расшифровывал записи: передавал на корабельную МУМ — почему-то этот внушительный аппарат, специально разработанный для «Пегаса», командующий всеми нашими автоматами, называют стандартно: «Малая Универсальная Машина» — все, что зафиксировали переносные приборы. МУМ, конечно, справляется с задачами и потрудней, чем раскодирование световых вспышек, если только в них таится хоть молекула смысла. И Николай, неоспоримо, астроинженер незаурядный, а расшифровка загадочных сигналов всегда была предметом его особого увлечения. И все же я без доверия отнесся к тому, что он и Артур объявили итогом своей работы. По их вычислениям шар, ринувшийся на Николая, разумное существо, а не диковинное явление неодушевленной природы. И цветность вовсе не главная особенность его языка. Речь совершалась электромагнитными вспышками в широком диапазоне от гамма—лучей до инфракрасного излучения — искорки были лишь малой частицей речевой области. Само оно, привыкшее к обширному языковому спектру, должно было воспринять ответы людей как невнятное тусклое бормотанье. Вряд ли бурно пылающий незнакомец отчетливо разобрался в том, что ему высвечивал Николай, — возможно, здесь одна из причин его агрессивности.
В заключении МУМ передала человеческим голосом раскодированные выплески радиации: «Убирайтесь, не то возвеличу! Я — ничтожнейший, вы — величайшие! Не смей уменьшаться! Сконцентрируюсь в точку! Возвышайся! Доведу до величия! Уничтожусь! Уничтожусь!».
— Очевидно, в этот момент он и ринулся на меня, чтобы уничтожиться! — восторженно воскликнул Николай.
Теперь, когда ушли в прошлое и ужас от собственного распухания, и страх от свирепого нападения яркого незнакомца, происшествие представлялось ему скорее комическим, чем драматическим. Он убежденно продолжал:
— Уверен, что у дзета—жителей самоуничижение — любимая форма утверждения личности, а самоубийство — распространеннейший способ существования, во всяком случае — опаснейший прием при нападении на противника. Забавные существа, не правда ли? И я хотел бы поспорить с тобой, Артур. Ты предсказывал непостижимый мир, опровергающий наши пространственные представления, но пока что и купол, и яростный незнакомец, и даже свирепое светоморе — довольно предметные образования.
Артур возразил, что дзета—мир не отвергает пространственных представлений. Просто геометрические координаты здесь не фундаментальны, а силовые воздействия, напротив, фундаментальны. Он приведет такой пример. В нашем мире вещи имеют размеры и цвет. Но размеры стабильней цвета. Лист на дереве меняет свою окраску, оставаясь по форме листом, человек то краснеет, то бледнеет, от него веет то холодом, то жаром в зависимости от настроения. Здесь же пространственные координаты, став свойством, а не фундаментом вещей, сами легко варьируют. Разве настроение Николая, то есть его индивидуальное психическое поле, не влияло на его размеры и облик? А разве то же самое не происходило со всеми нами? Возможно, и в будущем придется встречаться с изменениями размеров, формы и даже веса в зависимости от душевного состояния. Он не удивится, если в некоторых ситуациях мы, оставаясь людьми, полностью потеряем внешний вид человека.
— Твоя лекция меня убедила, — сказал Николай. — Но почему молчит наш капитан? Казимеж, скажи свое мнение о расшифровке сигналов.
Я спросил, какую из двадцати девяти рекомендованных систем расшифровки световой речи применил Николай. Он ответил, что МУМ остановилась на тринадцатой, ибо тринадцатая не только самая простая система, но и самая общеупотребительная, она не раз демонстрировала свои достоинства на разных планетах в космосе. Я попросил проверить, как расшифровываются записи, если взять системы восьмую и двадцать первую. Николай уселся перед пультом МУМ. Восьмая система дала следующую комбинацию фраз; «Очень много света. Гасну. Гасну. Меньше света! Меньше света! Меньше света!».
А двадцать первая предложила совершенно иное:
«Сливаться! Сливаться! Не уходить! Приближаться! Сливаться!»
— Какую же расшифровку будем считать истинной? — спросил я насмешливо.
Николай, обескураженный, ответил без обычной убежденности в правоте каждой своей мысли:
— Я стою за тринадцатую, Казимеж. Согласись, в ней отчетливо виден разум…
Теперь я высказал все свои сомнения. У Артура не было опыта расшифровки разумных информации, но от Николая я мог требовать большего тщания.
— Вот это меня и настораживает! Ты заранее убедил себя, что мы встретились с разумным существом, и поэтому задал МУМ простейшую программу расшифровки осмысленных сигналов. А восьмая и двадцать первая переводят на человеческий язык простые физические следствия от простых физических причин. И, как видишь, они тоже правдоподобно описывают происшествие.
И я напомнил Николаю об одной нашей ошибке во время первого нашего совместного космического путешествия. В планетной системе Денеба мы повстречались с растениями, передвигающимися по грунту при помощи ветвей-присосок. Мы забрасывали их вопросами и, применяя тринадцатую систему, получали вполне осмысленные ответы. Беседы не шли дальше обсуждения условий растительного существования, способностей к философскому мышлению мы, к нашей чести, у новых знакомых не нашли, но что они не лишены определенных форм разума, уверились твердо. А на Земле установили, что мы непростительно для разведчиков заблуждались. Мы подвергали наших «собеседников» разным воздействиям — освещали, согревали, охлаждали, обдували, поливали, — каждое действие было сигналом, извлеченным из сборника «Контактные коды. Памятка астронавта», но то, что представлялось нам разумным ответом, было лишь физической реакцией на физическую причину. В Академии наш любимый профессор Антонио Дирборн-Курдаб-оглы лукаво посмеивался:
«Друзья мои, при таком методе расшифровки и стебель бамбука можно превратить в пламенного оратора!». И он в который раз напомнил то, что тысячекратно повторял на своих лекциях и что мы, казалось бы, должны были вызубрить наизусть: «И ветер поет, рычит, летит, и море улыбается, и пила визжит, но хоть такой перевод на человеческий язык физических явлений и рисует живых существ, ни ветру, ни морю, ни пиле жизни от этого не прибавится».
— Будем считать, что проблема остается открытой, — закончил я. — А чтобы не впадать в ошибку одушевления неодушевленного, условимся считать объекты живыми не только по их реакции на наши сигналы, но и по их поведению, независимому от нашего воздействия. Как, кстати, считают теоретики — возможна ли вообще жизнь в двенадцатимерном мире?
Артур, сосредоточенно слушавший наш спор с Николаем, неопределенно ответил, что жизнь, в принципе, категория многомерная, но вряд ли здесь она будет похожа на нашу. Он заранее допускает всякие неожиданности. Видимо, нотация, прочитанная Николаю, произвела впечатление и на Артура. Он уже явно побаивался широких выводов, к которым недавно был склонен вместе с Николаем. Сейчас его интересовало, как записать происшествие у светоморя. Живой ли храбрец напал на нас или то было забавное физическое явление — ему нужно дать название. Поскольку шар весь светился и, возможно, — если, конечно, прав Николай, — даже разговаривал радиацией, он предлагает именовать его Луцием или радиалом, — в том и другом названии присутствует категория излучения.
— А повстречается шарик побольше и пострашней, назовем его попросту Люцифером, — съязвил я.
Но до Артура шутка не дошла. Он нечувствителен к шуткам. И, учитывая при размышлении все стороны, вывод он объявляет с такой односторонней категоричностью, словно ничего другого и быть не может. В этом отношении он превосходит даже Николая: тот увлекается, но не отстаивает своих заблуждений. А у Артура даже признание «Совсем не понимаю, что это такое» звучит как: «Дважды два — четыре, неужели вы такие невежды, что не знаете?». Впрочем, вскоре мы твердо установили, что в дзета—мире дважды два отнюдь не четыре, — и категоричности у Артура поубавилось. Случай с сомнительной расшифровкой сигналов радиала тоже оказал свое действие.
Жак не принимал участия в разговоре. Он сидел на диване, поджав под себя ноги, — тысячи раз мы трое пытались проделать то же самое, ни один не выдерживал больше минуты, а Жак клянется, что это самая удобная поза, — и только переводил большие, выпуклые, темные, очень добрые глаза с одного на другого. Я попросил его высказаться. Он горестно вздохнул, запустил обе руки в волосы и яростно встормошил кудри. Жак очень смешон, когда пытается что-либо связно изложить. Он с усилием промямлил:
— Конечно, все мы понимаем… Но с другой точки зрения… Просто не знаю, как подойти…
— Постарайся подойти членораздельной речью.
Он с укором посмотрел на меня. Ему не нравится, что я всегда посмеиваюсь. Обо мне говорят, что ради красного словца не пожалею ни матери, ни отца. А его, Жака, томят грустные мысли и гнетут печальные предчувствия. Мало-помалу в его речи проклюнулась мысль.
— Нефундаментальность геометрических координат, инвариантность физических полей… Важно, не спорю. Но вот этот дурачок… Вдруг и вправду живой? Напал, вы оборонялись, он погибает… Значит, нападение и защита? Свары? Ссоры? А если и войны? И нам вмешиваться в их распри? На чужом пиру да похмелье? Пожалуйста, не смейся, Полинг! Вопрос такой трудности… Голова пухнет!
Вопрос не казался мне таким уж трудным.
— Мы разведчики, а не воины, Жак. Лишь жестокая необходимость может заставить нас вмешаться в местные распри. Не уверен, повторяю, что мы были объектами осмысленного нападения. Нужно еще доказать, что Люцифер или радиал — нечто живое, а не нормальное в этом мире физическое явление.
Жака мой ответ удовлетворил, Артур задумался. Я спросил у него:
— Ты, кажется, не согласен?
— Я думаю о другом, Казимеж.
— О чем же?
— Мне кажется, этот мир устроен не по Аристотелю.
— Не по Аристотелю? Как это надо понимать?
Он ответил почти надменно:
— Не знаю. Сам не понимаю.
Уверен, что признание в непонимании он считал в тот момент вполне достаточным объяснением загадки!
Глава третья В ЦАРСТВЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
1
Недоумения у нас, естественно, были. И поводов для удивления хватало. Но, оглядываясь сегодня назад, я понимаю, что у меня было и еще одно чувство: разочарование. Каждому еще на школьной скамье столько говорят, что основные физические свойства нашего мира определяются его восьмимерностью, а в мирах иных измерений физика неизбежно иная, что невольно ждешь от таких миров чего-то сногсшибательного, чего-то за гранью реально допустимого. Помню, как тому же нашему профессору Антонио Дирборн-Курдаб-оглы я на выпускном экзамене, где среди прочих мне выпал и вопрос о четырехмерном мире, прямо брякнул: «Это мир привидений!». И деловито разъяснил, что раз все тела имеют там геометрические размеры и движутся во времени, а масса и энергия свойства не фундаментальные, то они хоть и пространственны, но бестелесны, не могут воздействовать одно на другое, их нельзя увидеть, пощупать — в общем, нормальные призраки. И профессор одобрительно кивал головой, только добавил, что у меня одна, впрочем, простительная ошибка: он недавно провел обширный математический анализ знаменитых призраков древней литературы — тени отца Гамлета, тени пророка Самуила, вызванного из гроба какой-то волшебницей, Кентервильского привидения, некоей Пиковой дамы и еще с десятка других, менее знаменитых, — и точно установил, что все эти прославленные привидения имели высокий процент вещественности и могли существовать только в мире шести измерений. Таким образом, в четырехмерном мире нормальные привидения невозможны, этот мир сам гораздо призрачней любого призрака. «И я не уверен, что такой мир способен к реальному физическому существованию, хотя логически он непротиворечив и математически возможен, и во всех учебниках его реальность постулируется, так что со спокойной совестью ставлю вам пятерку по физике космоса и сопряженных миров». И профессор размашисто начертал свою фамилию в моем дипломе.
Выше я говорил, что испытывал удовлетворение, а сейчас твержу о разочаровании. Противоречия тут нет. Я был капитаном трансмирового корабля и не мог не радоваться, что мы избежали катастрофы при вторжении в дзета—пространство и что с первого выхода обнаружили много диковинного. Но одно — удовлетворение практика, другое — любопытство путешественника. Артур Хирота, штатный мыслитель нашей экспедиции, буркнул, что дзета—мир сконструирован не по Аристотелю, и, удовлетворенный своим непонятным открытием, спокойно заснул после ужина. На лице его утром не виднелось и следа бессонных дум. Как командир приветствую такое спокойствие, как восьмимерный зритель двенадцатимерных чудес — жду иного. Думаю, если бы мы, выйдя наружу, очутились в эпицентре адского пекла, в чем-то невероятном, невозможном, непредставимо ужасном, чудовищно опасном и только мощная защита генераторов «Пегаса» спасла бы нас от испепеления, расчленения, растворения, двенадцатимерного разлета, молекулярного распада, то сама опасность пребывания в новом мире, показывающая его непохожесть на наш, придавала бы особую ценность изучению его природы.
Впрочем, с друзьями я не поделился своими чувствами. Терпеть не могу укоров, а они, уверен, были бы немедленно высказаны. С меня хватит славы «испытателя бездн, покорителя пекла», как поется в песенке «Астронавигаторы Вселенной». Почему-то всем воображается, что я ощущаю наслаждение от стояния «бездны мрачной на краю». И когда я уверяю, что у меня кружится голова, если приближаюсь к любому провалу, темные просторы космоса внушают мне почти физическое недомогание, а приближаюсь я к провалам и почти всю жизнь провожу в дальнем космосе лишь потому, что такова моя прозаическая профессия — первому изведывать неизведанное, — все убеждены, что я становлюсь в позу. Правда часто неправдоподобна — это знают все, а когда я говорю о себе правду, посмеиваются: «Ох этот Казимеж, ради красного словца не пощадит ни мать, ни отца!». Могу представить себе, с каким ледяным высокомерием процедил бы сквозь зубы Артур: «Пожалуйста, без выискивания ужасов, дорогой Полинг!» — скажи я ему, чего ожидал от первого выхода в дзета—мир.
Итак, подводя итоги первому дню, я высказал удовлетворение: и много нового обнаружено, и серьезных опасностей не повстречалось, и ротонная связь с «Пегасом» в двенадцатимерном мире столь же надежна, как и в нашем восьмимерном. Из последнего факта я сделал практический вывод:
— Автоматы сами обеспечивали связь, Жак ни к одному не прикасался. Он вполне мог бы быть с нами. Завтра пойдем вчетвером.
2
На перелете к куполу Николай высказал опасение, что купола больше не будет. В диковинном сооружении заключена необузданная оптическая иллюзия. Что нам однажды примерещилось, вторично не повторится.
Но купол стоял такой же невысокий, с размытыми очертаниями, с единственным входом. А внутри по-прежнему была не крыша, а тусклое небо, и полусвет-полутьма, и шесть выходов наружу. И около одного красовался мастерский рисунок Артура — золотомордая круглая голова и ярко пылающая девятиконечная звезда.
Николай направился к отверстию, через которое мы уже выбирались наружу. Я опять «ввел его в должность».
— Не уверен, что возвращение к светоморю — лучший вариант обследования дзета—мира. Испытаем следующий выход. Первым иду я, нас страхует Жак.
Жак, в отличие от порывистого Николая, не стремился всюду быть первым.
Артур около второго выхода нарисовал новую картину. На этот раз это был красный бык с голубой луной на голове вместо рогов. Рисунок был так красив, что мы минут пять любовались им, прежде чем шагнули в отмеченное красным быком отверстие.
Страна, открывшаяся за вторым выходом из купола, казалась составленной из телесных предметов в реальном пространстве. И если на Земле и на соседних планетах подобного пейзажа нельзя было найти, то похожие попадались в других районах космоса. Николай сказал, что где-то уже видел такие картины.
Мы находились на дне горной чаши — купол возвышался в центре сжатой горами котловины. И по мере отдаления горы вздымались выше: холмики вблизи купола, крупные пики подальше, а на пределе видимости — каменные гиганты, закрывавшие главами небо. Их было так много, они такой многовершинной цепью сковывали горизонт, забирались столь высоко, что поражало, как в исполинском их нагромождении нашелся ровный участок — дно чаши с маленьким куполом в центре.
Небо здесь тоже походило на земное — высокое, голубое, нежно сияющее дневное небо, только без светила. И почва мало отличалась от земной — камни, пыль, мягкий грунт между камнями. А поодаль виднелись растения — не то сады, не то леса, — тоже напоминавшие те, что попадались на планетах космоса (стволы, кроны, распростертые ветви), правда, ярко-оранжевые и синие, а не зеленые. И атмосфера была схожей с земной, анализаторы указали в ней кислород, азот, и углекислоту, и еще какие-то газы — мы, естественно, не осмелились ею дышать, но ощущали сквозь гибкие скафандры приятное дуновение воздуха.
— Вижу город! — воскликнул Николай.
— Вижу древний земной замок! — откликнулся Жак, смотревший левее.
Сооружение, на которое указывал Жак, и вправду наводило на мысль о замке, вздымавшем угрюмые башни над кронами густого парка. А что Николай назвал городом, было очень далеко. В неясной массе строений, приткнувшихся к исполинской горе, угадывались контуры огромных зданий. Если это и был город, то возведенный из титанических домов.
— Джомолунгма — карлик рядом с любой из здешних горушек, — заметил Артур, опуская бинокль. — А к тому городку — шагать и шагать. Предлагаю начать исследования с замка.
Жак первый заметил, что размеры замка по мере приближения уменьшаются. Сооружение, поднимавшееся над парком, вскоре уже не казалось огромным и грозным, скорей, это была вилла, а не замок.
Артур, оглянувшись, увидел, что купол, наоборот, вырос. Теперь это было не прежнее скромное возвышение, а крупный холм.
— Забавно! — Я поглядывал то вперед, то назад. — Дальнее увеличивается, ближнее уменьшается, такие диковины мне еще не встречались. Будем, однако, идти к замку, чтобы вначале разобраться в нем. Давайте-ка включим двигатели!
Медленные изменения, поразившие Жака, так убыстрились, что стали рельефно видимы. Замок на глазах опадал. Когда мы повисли над ним, внизу была лишь хаотическая груда камней. И громоздились они не в вековом парке, а среди кустарника — красные и синие растения, не то рослые травы, не то карликовые деревья, остервенело, как когтями, впивались корнями в почву.
— Посмотрите назад! — закричал Николай.
Исполинские горы, закрывавшие позади добрую треть неба, пропали, как съеденные. Вместо них — и тоже на треть неба — возвышался купол, колоссальный, куда больше исчезнувших гор. Вершина его вздымалась так высоко, что ее уже почти не было видно. И опять мы были в центре чаши, а по краям вставали зубцы и пики — купол стал одной из таких вершин.
— Мир чудес! — восторгался Николай. — Пусть кто теперь поспорит, что мы не в царстве оптических иллюзий!
— Я буду спорить. — Артур один спокойно принял преображение пейзажа, словно иного и не ожидал. — Ни чудес, ни волшебства, ни оптического обмана нет. Явления этого мира куда запутанней.
— Ты хочешь сказать, что тебе они ясны?
— Я сказал, запутанней… Но в данном случае ясно: здесь пространственная перспектива не сходящаяся, как у нас, а расходящаяся.
Жак согласился сразу, он без сопротивления приемлет все, что скажет Артур Мы с Николаем усомнились. Расходящаяся перспектива противоречила нашим геометрическим представлениям еще больше, чем то отсутствие перспективы, с каким мы встретились, когда впервые вышли из «Пегаса». Конечно, нам открылось удивительное явление, немыслимое в нашем космосе, но объяснения Артура показались мне слишком парадоксальными.
Артур возразил, что расходящаяся перспектива не такая уж диковинная штука. В живописи детей и древних народов фигуры на заднем плане чаще крупней, чем на переднем. Хотя и дети, и древние видели и видят окружающий мир не хуже нас.
В самом деле, у нас перспектива сходящаяся, такова уж геометрическая природа космоса. Именно благодаря уменьшению предметов на расстоянии и создается объемный обзор — мы видим дальние здания, горы, планеты, звезды, могли бы увидеть и отдаленнейшие галактики, будь достаточно зорки. А здесь пространство иного рода.
Разве никого не удивило, что на небе нет светил? Расходящаяся перспектива объясняет их отсутствие: каждая звезда сама по себе огромна, а на отдалении еще увеличивается — как же ее увидеть на крохотном небесном участке? И разве не свидетельствует об иной форме видения то, что мы, постоянно передвигаясь, постоянно остаемся в центре котловины, а меняются лишь горы на окраине? В дзета—мире нет проникновения взглядом в дали, здесь глазу открыто лишь непосредственное окружение. Все остальное заставлено, как щитом, расплывшимися предметами, стоящими поодаль.
— И ни в какой мы не в горной стране, а на самой ординарной равнине, — убежденно закончил Артур. — А страшные вершины всего лишь некрупные каменья. По мере сближения они будут опадать до реальных размеров.
— Если ты прав, то здесь тесновато, — со вздохом сказал Николай. — Видеть только соседей, а все остальное — в неухватываемом «вовне»… Даже жутко!
Жак показал на груду камней, почудившихся издали замком.
— Сходящаяся или расходящаяся перспектива, но, по-моему, сооружение это — искусственное. И если те небоскребы и уменьшаются при приближении, то зданиями они останутся. Уверен, что нам предстоит встреча с разумными существами.
3
Это, конечно, было обиталище живых существ.
— Надо ожидать неожиданного, — объявил Николай, когда мы подлетели к диковинному нагромождению зданий.
Собственно, к зданиям эти сооружения отнести можно было лишь издали. Вблизи город напоминал лабораторию, заставленную огромными непрозрачными ретортами, склянками, бутылями, колбами и трубами. Но это были дома: в колбах и ретортах виднелись двери и люки, к люкам подводили какие-то лесенки странной конструкции — они не спускались к почве, но поднимались вверх, увенчиваясь на высоте площадками.
— Думаю, народ здесь не ходящий, а летающий, — высказался Николай. — И по-моему, они не так живут, как перерабатываются в своих домах: городок смахивает на наши старинные химические заводы.
Город был пуст.
Мы проходили под трубопроводами, обходили узловатые, кривые, как корни, колонны и реторты, взлетали вверх, но нигде не обнаружили и силуэта живого существа. Причудливые здания сверкали собственным внутренним сиянием — сумрачный свет заливал город. И с каждым шагом облик его менялся — приближающееся уменьшалось, отдаляющееся распухало, все вокруг словно непрерывно двигалось, то нарастало, то пропадало, то скособочивалось.
Мы теперь понимали, что происходит это от непривычки к расширяющейся перспективе. И земные города непрерывно меняют вид при ходьбе, но там мы привыкли, что предметы уменьшаются при отдалении: изменение их облика принимается как естественное. Местные жители тоже, вероятно, не замечают, как меняется их город при движении.
Жак догадался, почему, город кажется вымершим.
— От нас попрятались. Мы никого не видим, но, возможно, нас ощущают. Может быть, радиация слишком сильна? Вряд ли наш инфракрасный поток приятен тем, кто не переносит теплоты.
Я приказал выбраться из города на равнину и здесь разрешил заэкранировать инфракрасные лучи, излучаемые нашими телами: среди нагромождения строений могли возникнуть неожиданности, на открытом месте было все же спокойней.
Николай радостно сообщил:
— Что-то вижу впереди, и кажется, живое!
Несколько гигантских зеленых пятен обрисовались вдали, закрыв собою вершины горной чаши. Быстро уменьшаясь, они понеслись к нам.
Через минуту над нами реяли четыре, несомненно, живых существа.
4
Незнакомцы то увеличивались, то уменьшались, у них то вспухали, то опадали, то вовсе исчезали отдельные члены. Они непрерывно меняли свой облик: цилиндр, опиравшийся на десяток тонких ножек, вдруг становился шаром, свободно парившим над почвой. Даже в редкие моменты, когда незнакомцы прекращали свои превращения, было заметно, что тела их без устали пульсируют.
И достаточно было на секунду отвести глаза, чтоб уже не определить, на кого только что смотрел, — так неузнаваемо менялся каждый. Они походили на призраков — сквозь полупрозрачные тела проступали здания и трубы города.
Николай протянул руку к одному, рука прошла сквозь зеленовато светящееся тело, будто и не было ничего, кроме пучка света. Он потом говорил, что летающие незнакомцы показались ему совершенно невещественными.
— Начинаем дешифровку, — сказал Николай, справившись с первым изумлением.
Николай, наш штатный астрофизик, ведет все основные измерения. Кроме универсального дешифратора — полоски на шее, я ее упоминал, — он таскает с собой и переносное, с чемодан, устройство — целый дешифровальный завод. Он поставил его на грунт и вместе с Артуром запустил на все диапазоны и системы. Артур сам напросился ему в помощники и еще на Латоне усердно изучал астрофизическую аппаратуру Жак признался мне перед стартом, что его всегда больше прельщает роль экспедиционного зеваки. Я с охотой согласился, что без настоящего зеваки в экипаже нет полноты. Сейчас Жак являл собой не фигуральный, а натуральный образ зеваки — от удивления так широко распахивал рот, что мог бы заглотать любое местное существо, если бы оно подлетело ближе. Я не сумел удержаться от смеха. Он, к счастью, не понял, чем вызвано мое веселье. Николай с Артуром вскоре оторвались от дешифраторов.
— Полинг, я окончательно теряюсь, — сказал Николай. — В этих маловещественных существах разума столько же, сколько в мыльных пузырях. И стабильности не больше. Мы задали дешифратору программу вольного поиска по цвету, яркости, даже по изменению формы тела. Ответ вариалов на сигналы не выходит из границ абсурда.
— Вариалов?
— Так их назвал Артур. Неплохо, правда? Я начал поиск с цвета и света, а он предположил, что они передают информацию вариацией формы и размеров тела.
— Но если нет осмысленности в их поведении, то они вообще не живые существа, — сказал я. — А уж это просто установить. Неживой природе характерна причинная связь, так ведь нас с тобой учили. Проверьте, насколько точно каждой причине соответствует следствие, — и всего хлопот!
Они снова занялись своим делом, а я попросил Жака проверить вместе со мной одно наблюдение. К зеленым вариалам добавилось несколько оранжевых. Все они так же хаотично меняли форму и размеры, но мне показалось, что каждый сохраняет свой цвет. Яркость тоже не была постоянной: кто вспыхивал, кто погасал. Но я за полтора десятка лет космических блужданий привык оценивать цвет светил независимо от их яркости и без приборов точно определял коэффициент цвета, колор-индекс любой звезды. Мы не раз устраивали с Николаем соревнования: он устанавливал колор-индекс по фотографиям светил, а я по зрительному ощущению. Фотоаппарат был точней, но не настолько, чтобы мне пришлось хоть раз краснеть за свое зрение.
Вокруг меня увивался один вариал — то налетал, то отскакивал, сжимался, разбрасывался, становился то шаром, то конусом, выпускал десятки извивающихся отростков, опять вбирал их в себя, вспыхивал, погасал, снова разгорался, снова тускнел. Я видел его среди других именно потому, что он постоянно носился вокруг меня, а около Николая, Жака и Артура оказывался лишь случайно. И я готов был держать пари, что этот надоеда — монохромат, то есть он излучает лишь одну волну, отнюдь не размазывая ее даже по своей зеленой области спектра.
— Фиксируй на своем дешифраторе волну каждого незнакомца, которого я тебе покажу, — сказал я Жаку. — Но не называй ее, пока я сам не назову. Погляди на этого забияку. По-моему, он излучает в пятистах пятидесяти миллимикронах.
— Пятьсот пятьдесят и две десятых, — откликнулся Жак.
— А вон тот попрыгунчик — пятьсот пятьдесят два миллимикрона.
— С тремя десятыми, — подтвердил Жак.
Мы перебрали всех зеленых незнакомцев. Я ошибался лишь на десятые доли в плюсовую сторону — такова постоянная индивидуальная погрешность моего зрения, я знал о ней и раньше. После зеленых мы перешли к оранжевым и красным. Так стало ясно, что одна твердая характеристика найдена: каждому вариалу присуща индивидуальная волна излучения. С этого момента они перестали быть сумбурной толпой, мы могли находить безошибочно каждого, кого хотели.
Жак посоветовал назвать вариалов по буквам, характеризующим цвет. Зеленым он присвоил индекс «И», а моему «поклоннику» обозначение «Иа», как первому, с кого начинаем счет.
Вариалов все прибывало. Вокруг нас носилось множество меняющих облик существ. Среди них были и умилительно-зеленые И, и весело-желтые О, и хмуро-фиолетовые Е, и пронзительно-синие V, и солидно-красные Я, и лениво-оранжевые Ю. В движениях новых знакомых, в трансформациях их тел было столько доброжелательности и приязни, что мы все больше чувствовали себя в компании друзей.
— Надо посовещаться, Казимеж, — хмуро сказал Артур.
Я впервые — и, убежден, в последний раз — увидел Артура растерянным. Зрелище это такое редкое, что стоит полюбоваться. Оставалось еще несколько часов до той минуты, когда Хирота совершит свое первое великое открытие, пронзительно высветившее тьму загадок. Но в тот момент он стоял передо мной столь недоумевающий и унылый, что мне захотелось утешить его чем-либо бодрым, вроде: «Не вешать носа! Не переживай! Голову выше!». И только с усилием я удержал себя от пошловатых сентенций. Я сказал Артуру и Николаю:
— Показывайте и рассказывайте, друзья!
Мы стояли компактной группой, над нами метались разноцветные вариалы, а неподалеку громоздились странные сооружения, похожие на гигантскую химическую посуду и заводские химические установки, и все это складывалось в удивительный город, населенный удивительными существами. На некоторое время мы потеряли интерес и к вариалам, реально кружившимся вокруг, и к городу, физически напиравшему на нас. Нас отвлекло «исследование философских сущностей» — так потом назвал это занятие Жак.
— Дело в том, — начал Николай, — что вариалы не могут быть ничем иным, кроме живых существ. И живыми они тоже не являются. Ни в одну из категорий физических объектов они не вписываются.
— Но они все-таки существуют? — на всякий случай уточнил я. — Их беспорядочное метание напоминает мне броуновское движение молекул. Но не будешь же ты утверждать, что они привидения или плод, как ты говорил, необузданной оптической иллюзии?
Физической реальности вариалов Николай не отрицал. Но это было единственное, что он согласился за ними признать. Все остальное — загадка. Ответы вариалов на сигналы неадекватны, следствие не соответствует причине, противодействие не равно действию: в мире неодушевленных материальных предметов это немыслимо. Ни второй, ни третий законы механики Ньютона не действуют. Николай поочередно освещал незнакомцев вспышкой зеленого света — один уклонялся, другой бросался навстречу, третий сжимался, другие расширялись, погасали, разгорались и так далее. Ответы были явны, но неодинаковы. И при повторной вспышке каждый отвечал по-иному, чем в предыдущий раз, а в сумме все ответы составляли хаос. То же повторилось и при использовании слабых электрических разрядов, слабых магнитных полей, тепловых сигналов и прочего. Одинаковые причины вызывают неодинаковые ответы, неодинаковые причины, порождают одинаковые реакции.
— Это, конечно, можно рассматривать как доказательство, что вариалов к неодушевленным предметам не отнести, — сказал я. — Тут я с тобой и Артуром согласен. Бессмысленно вести себя способны только живые существа, в мертвой природе бессмысленность невозможна. Но ты говоришь, что и к живым их не причислить, ибо реакции их лишены целесообразности, типичной черты нормальных организмов, как ты выразился. Я продолжу твою мысль. Что, если они живые, но ненормальные? Неадекватность чужда неодушевленной и нормальной одушевленной природе, но типичное свойство безумия.
Николай хотел что-то сказать, однако его прервал Артур:
— Полинг, ты даже не подозреваешь, насколько прав!
— Как знать, может, и подозреваю! — холодно ответил я. Меня, хорошо помню, начал раздражать апломб Артура. Мне казалось, что обычные истины можно высказывать и не так выспренне. Я тогда не представлял, какая гигантская работа мысли скрыто совершается в Артуре. Не так много времени оставалось до момента, когда я вынужден был признать, что и не догадывался, какие выводы можно сделать из моего случайного замечания, что действия вариалов напоминают поведение безумных.
— Примем, что вариалы — существа, а не физические явления, — продолжал я, — и что язык у них основан на изменении формы и размеров тел. У нас есть передатчик кинетической речи? Пусти его на широкий поиск с переводом действий на язык одушевленных оценок типа «колесо жалобно скулит», «волна угрожающе рычит». В безумии есть своя система. Посмотрим, имеется ли она в поведении милых дзета—незнакомцев.
Николай выдвинул из большого дешифратора яркий шар на тонкой ножке — стандартный передатчик кинетической речи, на Земле он помогает разговаривать с пчелами, на дальних планетах им тоже с успехом пользуются. Шар засиял, увеличивался, уменьшался, проворно качался на ножке-стебельке. Вначале я не заметил, чтобы его появление произвело смятение в стане дзета—жителей, они вели себя вокруг него так же, как и вокруг нас, — приближались, отскакивали, всячески вертелись, всячески меняли свой вид. Потом понял, что передатчик их все же интересует больше, чем мы: разноцветное облако вокруг него стало гуще. И непроизвольные вариации форм тела тоже приобрели какую-то упорядоченность, мы с Жаком не могли точно указать, в чем она, но чувствовали ее. Жак уже был уверен, что дешифратор нашел ее, однако Николай раздраженно махнул рукой:
— Белиберда, Жак! Ни в одном уголке космоса не встречал такой чудовищной расшифровки! Полинг, посмотри, что за чушь выдают нам эти создания.
Передатчик задавал вариалам вопрос: «Кто вы такие?» — так мы условились между собой толковать его сигналы. И как установили впоследствии, когда усвоили их язык, они примерно так же истолковали его. А ответы в стандартных человеческих фразах составляли набор беспорядочных шумов, а не адекватных реакций, хотя каждый сам по себе и содержал какой-то смысл. Даже теперь можно впасть в отчаяние, обозревая густой букет нелепостей, объявленный дешифратором: «Танцевать! Хорошо, когда холодно. Откуда вы? Падать вверх, падать вверх. Очень ярко, очень ярко. Танцуем вверх. Вы — непохожие. Синяя ванна. Чрево, чрево. Танцуем. Вы из купола? Падать вверх. Уходим. Приходим. Вы из купола, да. Быстро вверх. Ух, ух, танцуем. Падаем, падаем. Из какого выхода. Купол, выход».
И среди этого кое-как расшифрованного вздора показались зачатки абстрактных понятий, перед которыми спасовал и наш всемогущий дешифратор и смысл которых стал ясен лишь впоследствии, когда уже не было причин удивляться.
«Часть больше целого. Один да один — один. Один минус один — один. Когда светло — темно. Синяя ванна — жизнь. В чрево, в синюю ванну».
Я припомнил только незначительную часть ответов и невольно расположил их в какой-то осмысленной последовательности, а тогда и мне и Николаю бросался в глаза вздор, а не смысл. И если бы не наблюдательность Жака, недаром выбравшего себе функцию зеваки, и не проницательность Артура, возможно, контакт с вариалами так бы и не состоялся. Жак тронул меня за руку, когда я обозревал ленту расшифровки.
— Казимеж, нас куда-то зовут. Возможно, это хаотическое движение, но его можно растолковать и как приглашение.
Я оторвался от дешифратора. Вариалы все гуще метались вокруг нас. Теперь можно было оценить зоркость Николая, сравнившего их с мыльными пузырями. Они отличались от мыльных пузырей, правда, тем, что пузыри гораздо стабильней по форме и величине, зато вариалы не лопались в своих чудовищных трансформациях. И при известном воображении можно было счесть за приглашение прогуляться то, что разноцветное их облако стало вытягиваться в сторону города. Ни один не улетал, но беспорядочная еще недавно стая все определенней приобретала форму струи, текущей от нас внутрь.
— Я согласен с Жаком, — сказал Артур. — У меня появились мысли, подтверждающие его наблюдения, но я их выскажу потом.
Он объявил это так, словно уже делился какими-то невероятными открытиями, и нам оставалось лишь поражаться их глубине. Гораздо больше, чем невысказанные мысли Артура, меня убедило поведение Иа. До какого-то момента он беспорядочно вертелся вокруг меня, я был только центром его метаний, но сами они определенного направления в какую-либо сторону не имели. А теперь он отлетал от меня чаще всего к городу. Можно было истолковать его отлеты и прилеты и как приглашение идти за ним.
— Попробуем, — сказал я и пошел в сторону города.
Теперь мы снова продвигались под зданиями на колоннах, под трубопроводами, под лестницами, шедшими вверх, а не вниз. Уже не было сомнений, что здания представляют собой жилые помещения: то один, то другой из облака вариалов влетал внутрь и больше не появлялся. Из других зданий вылетали все новые жильцы. Они выпрыгивали, взбирались вверх на лестничную площадку, проворно шевеля ножками-лучиками, и оттуда кидались в общее облако. А те, что удалялись, взлетали на такую же площадку, там выпускали ножки и, цепляясь ими, опускались в дом. Я обратил внимание Николая, что вариалы ведут себя так, словно подъем для них труда не составляет, а на спуск надо затратить усилие. Он добавил, что при спуске каждый вариал уменьшается, это он определил, наблюдая моего спутника Иа: тот, стремясь ко мне, превращается чуть не в пулю, а отлетая, распускается, как павлиний хвост.
— Возможно, здесь действует отталкивание, а не тяготение, Казимеж. Надо проконсультироваться у Артура, не противоречит ли такое явление природе двенадцатимерного мира. Что, если сами мы не ощущаем этого благодаря защитному экранированию? Разреши снять его полностью.
Полностью снять экранирование я не решился — и так уже сильно ослабили его. Мы продолжали двигаться в чужом мире, на три четверти оставаясь в своем: наблюдению это не мешало. На каком-то участке пути здания исчезли, вокруг простирались только стены, уходившие в темную высоту, в одной стене виднелось отверстие. Вариалы метались вокруг отверстия, то один, то другой исчезал в нем, то один, то другой вылетал наружу, но исчезавших становилось больше, чем оставшихся. Стало ясно: и нам предстоит лезть в дыру. Я пожалел, что не могу произвольно уменьшить свой объем, — отверстие было слишком узко для моего тела. Но дыра вдруг раздалась, как резиновая, за ней показалась широкая траншея, озаренная внутренним светом. Я с удивлением пощупал стенку и края отверстия. Это был твердый материал, отнюдь не резина, но и Жак, замыкавший движение, самый крупный из нас, проник в траншею без труда — так сильно она расширилась, едва он нажал на нее своими метровыми плечами. Теперь мы шагали по обширному коридору с гладкими самосветящимися стенами. Трансформирующиеся вариалы уносились вперед и возвращались. Лишь мой Иа чаще всего обнаруживался возле нас да появился еще один спутник, он льнул к Николаю. Жак назвал его Иу, он излучал в волне пятьсот пятьдесят три миллимикрона.
Николай пошутил, что мы путешествуем внутри организма, а не строения — уж больно дорога похожа на пищевод. Не собираются ли нас переварить? Он не удивится, если нас впихнут в гигантскую пещеру желудка. Он не возражал бы свернуть куда-нибудь в вену и поплавать в кровяной реке — это все же спокойней. Жак предпочитал рейс по нервам: там Можно уловить электрические разряды, а они много дадут для познания вариалов. Так мы пошучивали, продвигаясь все дальше. Я хочу особенно отметить это наше веселое настроение: мы безошибочно чувствовали, что попали к дружественным существам, хотя еще не были уверены ни в их разумности, ни даже в том, что всем этим разноцветным вариалам присуща жизнь в нашем космическом, биологическом смысле.
Вскоре мы попали в обширный зал, залитый фиолетовым сиянием с потолка. Ликующе раздуваясь, вариалы устремились к сиянию. Даже верные Иа и Иу унеслись под потолок, где беспорядочно толклись другие вариалы. Николай с Артуром установили свой громоздкий дешифратор на грунте, я ограничился моим универсальным, хотя он пока не давал никакой расшифровки. В отчете Артура много написано о том, что земные конструкторы приборов далеко не представляли себе всей сложности двенадцатимерного мира, — новых исследователей дзета—пространства понадобится экипировать основательней.
Судя по поведению вариалов, путешествие было завершено, нас привели на «конечную станцию» — так называли мы этот зал в отчете. Я скомандовал привал, мы с Жаком уселись на пол, Николай с Артуром заканчивали измерения. Они подтвердили, что вариалы не притягиваются, а отталкиваются от почвы и сила отталкивания пропорциональна величине и форме тел — вероятно, все трансформации и объясняются стремлением менять силу отталкивания. Эта удивительная сила, в нашем мире встречающаяся лишь среди одноименных электрических зарядов, в дзета—мире быстро, чуть не в седьмой степени, ослабевает с высотой и становится равной силам стяжения — они тоже действуют, но гораздо слабее. Имеется полоса, где стяжение уравновешивает отталкивание, там появляется невесомость. В полосе невесомости расположены входные площадки лесенок. Вариалам нужно усилие, чтобы опуститься ниже и подняться выше этой полосы, в ней же они резвятся вволю — это стихия беспечального существования. Электрических зарядов у вариалов мы не обнаружили. Николай считал, что отталкивание не связано с электромагнитными полями, а стяжение — не гравитационной природы. Я спросил Артура, увязывается ли это с рассчитанной им заранее природой двенадцатимерного мира, он ответил, что кое-что подтверждается, а кое-что нет, и дальше не захотел развивать эту тему.
Для проверки Николай взлетел под потолок и немного пошатался там. Возвратившись, Николай доложил, что под потолком невесомость полная и что там вариалы почти не варьируются.
— Друг Полинг, — торжественно сказал Артур, — хочу сделать важное сообщение. Попрошу полного экранирования.
— Боишься, что кто-нибудь из вариалов заденет тебя? — удивился Николай. — Но ведь это милые создания!
— Боюсь, что они нарушат течение моей мысли или отвлекут вас от проникновения в ее суть, — невозмутимо ответил Артур.
— Лучше бы всего возвратиться на корабль, но можно поговорить и тут, если отстраниться от созданий, которых ты называешь милыми, и их города, который мне не представляется столь милым.
Полное экранирование, как показала проверка на Немесиде, означало полное отстранение от всех воздействий окружающего мира. Правда, оно было испытано лишь в нашем восьмимерном мире, но по теории Артура и расчетам конструкторов «Пегаса» неполадок и в дзета—пространстве быть не могло. Для осторожности я включил генераторы «Пегаса» на постепенное выпадение из окружающего. Сперва замутились самосветящиеся стены и притушился сияющий потолок, потом стали расплываться вариалы, а через минуту уже ничего вокруг не было. Мы сидели как бы в коконе своего индивидуального мирка — ни дзета—мира не существовало для нас, ни нас для него. Мне жаль, что я не древний писатель романов, отменно живописавших ужасы — страшные схватки со зверями, войны между народами, продвижение по опасной служебной лестнице, катастрофы в природе, семейные измены. Если бы у меня хоть на грош было литературного умения, как бы нарисовал я картину нашего совещания в абсолютной пустоте! Художники прошлого рисовали богов и святых величаво восседающими на облаках. А мы были в ничто — пустота внизу, с боков, сверху! Николай в восторге воскликнул, что и не подозревал, как это прекрасно — быть среди совершеннейшего ничего!
Проверив прочность экранирования, я обратился к Артуру:
— Мы слушаем тебя, друг Хирота.
— Я хочу сказать, что мы находимся в мире, где не действуют ни наша логика, ни наша математика. Логика здесь не аристотелева, а математика не евклидова.
В этом и состояло великое открытие Артура Хироты.
5
Наверно, даже Жак, всегда соглашающийся с Артуром, на этот раз не смог бы объявить, что все мгновенно понял и все сразу принимает. Мы заранее знали, что отправляемся в необыкновенный мир, и предвидели массу «ожиданного неожиданного» — и отсутствие привычных телесных форм, и действие еще неизвестных физических законов, и невиданные пейзажи. Первое знакомство с дзета—миром — и странным куполом, и радиалами, и светоморем, и расширяющейся перспективой, и трансформирующимися вариалами — подтвердило, что новостей немало. Но я уже вспоминал, что втайне новый мир меня разочаровал: его удивительности были менее удивительны, чем мне заранее воображалось, и я побаивался и желал чего-то более впечатляющего и опасного — в общем, того, что мы называем «необыкновенными приключениями». В сообщении Артура не было ничего ужасного, он повторил более подробно то, что уже высказывал. Но оно показалось мне гораздо удивительней, чем любое опасное путешествие. Я уточнил:
— Ты, стало быть, снова называешь неаристотелевым тот вздор, что нам несет дешифратор? Надо ли тебя понимать так, что все, где нет смысла, является лишь иной формой логики? Но ведь логика есть всегда система осмысленных, а не бессмысленных операций.
— Речь не о бессмысленности вообще, а о тайном смысле внешне бессмысленных действий. Ты сказал, что вариалы напоминают тебе безумных. Это очень глубокая мысль, Казимеж, я уже говорил. Но ты не продумал ее до конца. А я думал только об этом. И когда понял, к чему она ведет, страшно обрадовался.
— Обрадовался? Тебя радует абсурд?
— Раньше условимся, что называть абсурдом.
— Абсурд — все. что противоречит логике. Неужели надо заранее договариваться о таких определениях?
— Лучше договориться. Так вот, абсурд мира вариалов таков лишь для нас, но для их мышления этот мир естествен.
— Ты сказал, что знакомство с вариалами тебя радует?
— Да, именно так, И ты, конечно, понимаешь почему?
— Конечно, не понимаю — так точней.
Артур поглядел, словно удивлялся моей тупости. Я хладнокровно снес его невежливый взгляд. Он заговорил, как бы читая элементарную лекцию несмышленышам:
— Но это же просто, Казимеж! Чего, собственно, мы ожидали? Потрясающих новых приключений в старом стиле, давно ставших шаблоном для космопроходцев, — жуткие галактические уголки, мрачные и сияющие планеты, неистовые и потухшие звезды, встречи с чудовищами животного мира, с питекантропами разума, низшими и высшими цивилизациями, мыслящими, в общем, так же, как мы, но либо пока с наслаждением поедающими друг друга, либо достигшими могущества и благости богов. Человек до сих пор всюду встречался со своим миром, с самим собой, но только с собой на разных стадиях своего общественного развития, и мы привыкли везде искать что-то похожее на нас — бывших или будущих.
— А встретили непохожее?
— Да! Встретили миры, где иная физика и иная геометрия, где разумным существам свойственны иные формы разума. Неизвестные нам нормы мышления — разве это не интереснее новых гор и морей, новых зверей, новых схваток с врагами, новых побед над инопланетными чудовищами? Нет в этом мире абсурда! Логика вариалов по-своему стройна, только не наша. И математика, уверен, здесь стройная, только иная, ибо основана на иной логике. Вероятно, один да один здесь опять один, но что особенного? Вот если бы один да один равнялись сапогам всмятку, а дважды два составляло дубину, тогда правомочно говорить об отсутствии логики в нелепой математике.
— Я не понимаю выражения «неаристотелев мир». Может быть, разъяснишь в двух словах, что ты имеешь в виду?
— В двух словах разъяснить не могу.
— Объясни в ста словах, если не можешь в двух.
Объяснение Артура превратилось в настоящую лекцию. Но честно признаюсь: мы все слушали ее с интересом. Артур мыслил широко, мы это знали о нем раньше, теперь убеждались практически. Он начал с того, что людям свойственно стремление распространять на весь мир законы, выведенные из непосредственного своего окружения. Таково уж свойство человека — абсолютизировать частности. Иногда это приводит к успеху. Но и многие ошибки науки проистекали отсюда же. Человек видел, что Солнце и звезды вращаются вокруг Земли, — и вывел из этого птолемееву систему мироздания. Он построил евклидову геометрию земных площадей — и немедленно обобщил ее на всю Вселенную. Он создал ньютонову механику маленьких скоростей и абсолютизировал ее. И, разработав свою местную логику и математику, то есть наиболее общие качественные и количественные взаимоотношения вещей его мира, он тут же провозгласил их единственно истинными.
А научное познание мира с громом опрокидывало подобные высокомерные экстраполяции. Мироздание оказалось не птолемеево, пространство и механика лишь в частном случае евклидовы и ньютоновы, а что до иных миров, то вот он, такой мир, мы благополучно путешествуем в нем. Настал черед поставить границы и мнимому всевластию галактической логики, которую, по творцу логики Аристотелю, можно было бы назвать аристотелевой. Дзета—мир не аристотелев. Здесь логика статическая, а не наша динамическая. Привычные нам логические правила осуществляются здесь лишь в целом, согласно закону больших чисел, вовсе не с нашей единичной точностью.
Я в этих рассуждениях пока не нашел точного ответа на свои вопросы. К тому же галактические скитания приучили меня поначалу недоверчиво воспринимать даже вполне правдоподобные объяснения: мир фактов всегда много обширней нашего знания мира фактов. Я сказал:
— Ты истратил затребованные сто слов, но описал лишь то, что мы уже знали. Повторяю: название «неаристотелев мир» ничего мне не объясняет. Почему этот мир не аристотелев, а галактический — аристотелев, вот что объясни!
— На это мне потребуется двести слов, — хладнокровно сказал Артур.
И опять он возвратился к космосу. В чем главная особенность нашей родной Вселенной? В том, что там мир предметный. Вещественность — его существо. И логика и математика являются описанием наиболее общих свойств предметов. У человека логика вещная, такова ее природа. Все науки, созданные человеком, несут отпечаток предметности человеческого мышления. Внешность придается даже понятиям, лишенным телесной формы, например слову и речи, а также и более того — разуму. В древних языках это видно ясно. От слова «вещь» в русском производится и «вещий», то есть мудрый, и «вещать», то есть говорить. «Речь» в том же русском совпадает с річ в украинском, а річ по-украински — «предмет». Разве мы не говорим: «он держал речь», «он взял слово», «слово у него веское», будто речь и слова — предметы. В немецком Welt, или «мир», очень близко Wort — «слову». Еще ближе сопоставление в английском: word — «слово» и world — «мир». А греческий «логос», приводивший своей многозначностью многих в отчаяние, — это и «мир», и «слово», и «разум», и «начало всех начал», и бог еще знает что. Разве не обычно наше словоупотребление: «я скажу тебе одну вещь», «с ним случилась странная вещь», «такие удивительные вещи происходят кругом»? Даже невещественным отношениям человек придает вещную форму! И как язык выражает вещную структуру нашего мира одним уж тем, что главная его часть — имя существительное, то есть предмет, так и логика и математика раскрывают общие связи между вещами. В математике главное понятие — количество, величина — прямо заимствовано из царства окаменевших в своих формах и границах предметов.
А если бы логика и математика взяли за основу не вещь, а процесс, сознательно игнорируя предметность, то получились бы новые и диковинные науки. Когда ток складывается с током, получается не два тока, а один; вполне возможно построить математику токов, где единица да единица опять дадут единицу. Логика силовых полей тоже не будет совпадать с логикой предметной. Диалектика, то есть логика развивающихся объектов, принципиально отличается от элементарной логики неизменных вещей, или — иначе — формальной логики. А здесь, в дзета—мире, мы встретились с объектами, для которых облик вещей не существен. Это царство материальных полей и сил, свободно меняющих свое предметное выражение. Это не значит, что они не вещны, но предметность здесь лишена наших закоснелых форм, она текуча. Естественно, что наша логика здесь оправдывается не в единичных случаях, а лишь в общем, свидетельствуя тем самым, что если вещный облик местных объектов переменен, то все же без облика предмета и они существовать не могут.
— Антилогика и минус-математика, — сказал Николай, захохотав.
Его так захватывало все необычайное, что оно от одной невероятности казалось ему истинным. Это не раз приводило к осложнениям в наших космических рейсах: астрофизику все же надо побаиваться фантастики. Для него дзета—мир, теряя загадочность, не лишался завлекательности. Я колебался. Многое становилось более ясным, но далеко не все загадки разъяснялись.
И чтоб окончательно рассеять мои сомнения, Артур предложил взять спектр видимых цветов и попытаться построить на них логику и математику. Мы с охотой сыграли в эту игру. И вправду, скоро убедились, что логика, основанная на цветах, запутанней, чем у вариалов. Белый цвет был белым цветом, но одновременно и красным, желтым, синим, соединенными совместно: А было Б и не-Б одновременно. А когда два ярких цвета складывались, они, случалось, гасили один другой: части тут были больше целого.
— Хорошо, — сказал я. — Пусть статическая, а не динамическая логика. Делаю практический вывод. Мы до сих пор пытались найти адекватные ответы на единичные сигналы, но правильные ответы путались со вздором. Ну, ладно, не вздор, а флуктуации, отвлечения, случайности. Надо, значит, на каждый сигнал набирать статистику реакции и искать равнодействующую, она и будет истинным ответом. Одно скажу: если теория Артура верна, то какой же это мир транжира! Вместо одной реакции на один сигнал сотни разных — и высчитывай потом, что правильно!
Артур считал, что и категория трат в дзета—мире иная, чем у нас. В галактической закоснелости всякий выход за примитивное динамическое соответствие — недопустимая растрата средств. Но в двенадцатимерности шире спектр возможностей. Дзета—жители богаче набором логических понятий. Они не транжирят их, просто щедрей используют свои богатства.
Он объявил это с такой настойчивостью, что я не захотел больше спорить. Да я и не мог бы выставить новые основательные аргументы против его теории.
6
Кто интересуется, может узнать в отчете, отосланном на Землю, как точно подтвердилось открытие Артура Хироты и каким трудным был процесс его подтверждения. Нет нужды вспоминать те первые дни в городе вариалов, они однообразны: мы блуждали по трубопроводам, каналам, венам, нервам, жилам — и сейчас не знаю, какое наименование правильней, — вокруг носились разноцветные дзета—жители, ко мне льнул мой Иа, Николая сопровождал Иу, дешифраторы вырабатывали код взаимной информации, общение становилось все осмысленней. К сожалению, передатчик кинетической речи был лишь один, без него доносить вариалам свои мысли мы не могли. Зато сами мы постепенно и без передатчика научились распознавать смысл в трансформациях тел. Первым освоил это искусство Жак. Он так точно растолковывал поступки вариалов, словно они извещали его о своих желаниях по особому каналу. Некоторое время он даже нес службу второго передатчика — и очень гордился этим. И хоть вскоре все мы научились понимать основные вариации дзета—жителей, его проникновение в их души все же было более полным, чем у остальных.
Знание о городе и его жителях накапливалось быстро. Вариалы считали свой город живым существом и побаивались его раздражать. В гневе, утверждали они, он опасен: бывало, что гибли нарушители его спокойствия. Сноситься с ним непосредственно невозможно, но есть два правителя, тоже вариалы, правда, очень далекая вариация, они — выразители его мыслей и настроения. Один командует левыми свойствами города, почему и называется Левым, а другой — соответственно — Правым. Левое и правое — самые общие особенности местного бытия, это не так геометрические, как психологические понятия. О появлении людей оба правителя знают. С ними надо встретиться, они лишь ждут, чтобы мы немного освоились. Зал, куда нас привели в первый день, — чрево города, столовая, где вариалы подкрепляются единственной своей пищей — интенсивным облучением, каждый в своей длине волны.
В этом местечке разноцветные вариалы находят полный спектр: от инфракрасных лучей — их любят все — до дальнего ультрафиолета, но пронзительность ультрафиолета способны выносить лишь синие У и фиолетовые Е, а их среди вариалов немного.
Особо отмечу один любопытный факт. Николай, проверяя статичность дзета—логики, задавал вариалам школьный вопрос: «Если все люди смертны, а Кай человек, то…», заменяя, естественно, людей вариалами, а Кая каким-нибудь Уа, Им, Ой и так далее. Ответы составили обширную таблицу:
«Если все вариалы смертны, а Ию вариал, то Ию нужно танцевать… подкрепиться радиацией… он смертен… он должен облучиться, он умрет… он летит вверх…»
И все в том же духе! Николая и этот неутешительный. результат порадовал: в каждой серии среди полной бессмысленности непременно встречался и правильный ответ.
— Конечно, это иголка в стоге сена. Но и иголку можно извлечь, если воспользоваться магнитом. А наш магнит, — он показал на большой дешифратор, оснащенный программой Артура, — достаточно мощен.
Настал момент, когда больше нельзя было откладывать представление правителям. Вариалы быстро уяснили, чего мы хотим. Николай, увлекаясь, доказывал, что недотепы скорей мы, а не они: дзета—жители легко разбираются в желаниях людей, а мы мучительно бьемся, пока расшифруем их простенький ответ.
Сопровождаемые облаком восторженно трансформирующихся спутников, мы поднялись на какую-то лестничную площадку, затем сошли в люк. У люка было два входа — правый и левый; все выходы и входы в городе двусторонние, и это не простой знак передвижения, а символ разных способов жизни. Вариалы, ликующе кружась у входа, бурно пульсировали и меняли яркость. Из тысячи посторонних трансформаций дешифраторы вывели, что дальше мы должны идти одни и что внутри повстречаемся с Правым и Левым.
Иа и Иу носились так порывисто, словно боялись проститься. Иа потратил четырнадцать длинных фраз, чтобы до меня дошла одна короткая: «Возвращайся!».
Я помахал Иа рукой и толкнул плечом правую дверь.
7
Правый состоял из двух частей: обыкновенного ящика на треноге и полупрозрачного бруска на ящике. В помещении было так темно, что без приборов можно было разглядеть лишь двойное туловище Правого, освещенное им самим, и ящик и брусок тускло мерцали.
Мы четверо уже с минуту неподвижно стояли перед повелителем города, ожидая контакта. Правый бесстрастно возвышался над нами — связи не было, хотя рядом с ним мы поставили дешифратор.
— Правый напоминает громоздкую электронно-вычислительную машину наших предков, — прошептал Артур.
— Скорее, шарманку, — шепнул Николай. — Впрочем, это одно и то же. Я не историк, но мне помнится, шарманку изобрели в качестве музыкальной приставки к электронно-счетным машинам. Ее ведь сконструировали позднее компьютеров. Разве не так?
Ящик вдруг ярко засветился. Одновременно стал пульсировать брусок.
— Я ждал вас! — Дешифратор использовал для передачи грохочущий человеческий голос — очевидно, такой голос соответствовал природе Правого. — Ваши силуэты, вынырнув из проклятого купола, быстро уменьшались. Почему вы спешили?
Сумбура отвлечений у Правого не было. Он рассуждал, как человек, ясно и недвусмысленно. Николай радостно шепнул мне, что с этим шарманкоподобным существом удастся потолковать по-хорошему.
— Мы исследователи, нас интересуют обычаи стран, куда мы попадаем, — ответил я не то на вопрос, не то на упрек Правого. — И наша торопливость от любознательности, а не от враждебности. Но почему вы назвали купол проклятым? Что это за сооружение? Отчего в нем один вход и шесть выходов? И как получается, что каждый выход — мы познакомились лишь с двумя — выводит в разные миры? И почему вас обеспокоило наше быстрое приближение?
Брусок пульсировал с такой энергией, что мы еле успевали вникнуть в быстрые ответы. Громовой голос Правого болезненно отдавался в мозгу. Купол, сказал он, соорудили в древности могущественные курак eq o (и;ґ), населявшие тогда эту страну, а помогали им лукар eq o (и;ґ) из страны света, дудар eq o (и;ґ) из страны тяготения, ладар eq o (и;ґ) из страны электричества и прочие тропак eq o (и;ґ) из соседних накладывающихся стран.
Не сомневаюсь, что по возвращении на Землю у нас будут выпытывать, как появились такие странные названия — кураки, лукари, дудари, ладарй и тропаки, — ведь Правый не владел человеческим языком и, стало быть, все эти слова — наша выдумка. Уже на Латоне Кнут Марек не упустил случая ехидно поинтересоваться, почему для наименований дзета—народов мы не подобрали названий, звучащих не так пародийно. «У вас получилось не слишком остроумно и совсем не изобретательно!» — сказал он. Николай вознегодовал, Жак огорчился, Артур остался спокоен, а я смеялся. Названия придумали не мы, их выдала всемудрая МУМ, а отчего именно эти названия показались ей ближе всех других отвечающими тому, что говорил Правый, остается ее тайной. Сомневаюсь, чтобы даже конструкторы мыслящих машин могли объяснить эту маленькую загадку. Еще в Академии нам растолковывали на лекциях, что в последних поколениях логических машин у каждой появилось что-то вроде индивидуального характера, не особая своя психология, конечно, а нечто названное психологистикой, и нам, астронавигаторам, придется считаться с тем, что каждая МУМ имеет свой норов. Профессор даже серьезно предлагал ввести МУМ в состав экипажа кораблей в качестве полноправного члена, а не части навигационного инвентаря, как теперь. Идею его отвергли, а с капризами логических машин мы встречались в полетах неоднократно — правда, к нарушениям курса они не приводили ни разу. Так что отнесем названия дзета—народов к особенностям расшифровки — и покончим с этим.
Правый продолжал объяснять, для чего соорудили купол. Сделано это было, сказал он, чтобы прекратить взаимосовмещение разных стран, ибо так все перепутывалось, что кураков можно было повстречать с ладарями, а дудари сталкивались с лукарями, а что, он спрашивает пришельцев, отвратительней, чем такие противоестественные встречи? После же сооружения купола страны физически разъединились, соприкасаются лишь в центре купола, откуда и сделан проход из одной в другую. А если на вход приходится шесть выходов, то ведь вход в другую страну есть также и выход из нее, так что на один выход получается тоже шесть входов. Естественно, не так ли?
— Чудовищная естественность! — озадаченно шепнул мне Жак.
— Я бы назвал его рассуждение софистическим. Между прочим, лукари из страны света, видимо, радиалы. Но все-таки почему купол — проклятый?
Правый сообщил дальше, что после обособления жизнь в разных странах пошла непохожими путями. В докупольном предбытии все они, непрерывно сталкиваясь, как-то терпели одни других, ныне же, обособленные, стали взаимно непереносимы. Особость иных возмутительна! Вариалы, потомки и изделия великих кураков, поддерживают существование благородным облучением, а презренные ладари живут воздухом.
— Воздухом? — переспросил Николай.
— Воздухом! — с отвращением повторил Правый. — Понимаю ваше негодование, путешественники! Эти недостойные, питающиеся воздухом, а не светом, и пищу переваривают одними мерзкими легкими, а не всем своим существом!.. Но подумайте о страшных ропухах из страны Тоди, те поддерживают существование… Нет, не буду приводить вас в неистовство описанием низменного желудка — так они называют электрический орган, при помощи которого… Поговорим лучше о чем-нибудь высоком. К тому же ропухи с ладарями воюют против нас.
— Воюют? — Жак переглянулся со мной. — У вас развертываются сражения, льется кровь?.. Вы захватываете один другого в плен?
— Льется свет. Мы погибаем, истекая сиянием. Мы никого не захватываем, мы лишь отбиваемся от ладарей. Нет более мирного народа, чем мы. А они захватывают в плен наши мысли и доставляют их Тоду. Ропухи — тупые члены организма Тода… А ладари — его воины. В последнем сражении мы потеряли идею гордости… Такая потеря!
— Несомненно! Потерять такую важную идею!.. — сказал я, порядком ошарашенный. Мои спутники выглядели не лучше меня.
— И как же вы теперь существуете без нее?
— Имелся дубликат. Мы восстановили прекраснейшую из идей. Я рад, что вы сочувствуете нам! И надеюсь, если ладари снова нападут, встанете на защиту. Все зло из купола, оттуда идут нападения. И еще страшные стихийные бедствия, световые ураганы лукарей… Ужас, говорю вам, ужас!
Я поинтересовался, как понимать, что вариалы — изделия кураков? И почему их город — живой? Ведь главная черта живого — обмен веществ, самовоспроизводимость…
— Именно! Ты правильно оценил жизнедеятельность! Город — кормилец и охранитель! Отец с правой стороны и мать — с левой.
Из нового объяснения Правого мы узнали, что древние кураки воздвигли несколько городов, а потом придумали вариалов. В те времена вариалы изготавливались на конвейере, как и ропухи, у тех этот способ творения сохранился и доныне. Куракам, изобретательным, но ленивым, надоело возиться с вариалами. Сперва их ремонт, а потом и создание они поручили самим вариалам, а обслуживание городов возложили на города.
— Автоматизация! — с уважением проговорил Николай. — У нас вариалов назвали бы роботами, а город — самовоспроизводящейся системой.
Правый согласился, что слово «робот», которого он, впрочем, не знает, хорошо описывает первосозданных вариалов. Кураки впоследствии погибли в войне с Тодом. Вместе с ними едва не погибли все вариалы, ибо программы самовоспроизводства были несовершенны, шла трагическая борьба с возникавшими уродцами. Много времени прошло, пока вариалы достигли нынешнего совершенства.
Одновременно совершенствовались и города — пускали корни в почву и, отпочковавшись на новом месте, порождали такие же города. Поселение, куда попали люди, поздней генерации, самое совершенное — Столица Страны Форм. Здесь тончайшие способы воспроизводства вариалов. В других городах четырехполые формы, а у них — семиполые. Семь полов, то есть семь цветов, естественно, дают больше возможностей совершенствования, чем примитивные четырехполые.
— У людей всего два пола — ничего, обходимся! — прервал правителя Николай.
— Ваш мир поражает меня, — прогудел Правый. Он чутко уловил в восклицании Николая несогласие с достоинствами вариалов. — Лучшие дети ведь получаются от родителей спектрально разных характеристик. Например, очень удачно сочетание фиолетового Е, красных Я с синими У, пронизанных желтыми О и оранжевыми Ю. Подбор основных и дополнительных родителей совершается по математическим формулам.
Николай опять не удержался от критического замечания:
— А почему вы не поручите этого самим вариалам? У людей воспроизводство составляет интимную потребность двух разнополых особей — мужчины и женщины. А особое влечение друг к другу, называемое любовью…
В голосе Правого зазвучало негодование. Хоть он и имел облик простого ящика, ему не были чужды бурные эмоции.
— Путешественник! Сколь же безнравственен ваш мир, если в нем распространено такое противоестественное влечение, как любовь. Ведь это может привести к тому, что для одной особи, скажем женщины, какой-нибудь единичный мужчина окажется дороже всех мужчин! А мужчина возмутительно выделит одну женщину и ей одной будет оказывать такое внимание, такую… Нет, это чудовищно!
— Наоборот, мы радуемся любви! Я даже скажу…
Я с досадой толкнул Николая:
— Перестань! Ты выводишь отца города из себя! И возможно, это равносильно тому, что сам город сотрясается всеми зданиями. Не забывай, что мы явились знакомиться с местными обычаями, а не насаждать всюду свои.
Правый долго не успокаивался — так расстроил его Николай. Он не захотел больше рассказывать об обычаях своего мира, пока не узнает природу мира людей. Я информировал его о свойствах космоса. Мои осторожные ответы подействовали на Правого еще сильней, чем простодушные объяснения Николая.
— Мне открылись истоки безнравственности вашего общества, — сказал Правый сурово. — Они в ужасающем физическом несовершенстве вашего мрачного галактического мира.
Запальчивость Правого возрастала. Как! Неужели все в мире людей обречено на вечное постоянство форм и размеров, тяготения и цвета? Это же физически неосуществимо! Лукари меняют свою форму и размер в зависимости от настроения, а разговаривают вспышками электричества — что ж, способ существования иной, чем у вариалов, но тоже естественный. Вариалы беседуют телесными трансформациями, чувства передают изменением яркости, передвигаются, становясь то тяжелыми, то легкими, — что может быть проще? А дудари, ладари, ропухи! Разве у них, в зависимости от потребностей, не меняется цвет, тяжесть, теплота, яркость, электрические потенциалы? Все живое по воле меняет свои тела — такова жизнь в их гибком мире! А мир людей — консервативное царство окаменелостей! Не только звезды и планеты, но и камни, горы, дома, машины вечно остаются, какими появились однажды! И всякое изменение их объема и формы — разрушение, а не способ существования! Какой чудовищно косный, чудовищно тесный, колючий мир!
— Я приведу как пример непереносимости вашего мира для здорового восприятия лишь такую отвратительную черту, как сходящаяся геометрическая перспектива, — с увлечением грохотал Правый. — Это же значит, что у вас видимы все существующие объекты, они лишь уменьшаются с отдалением, а не пропадают. Где бы вы ни находились, перед вами одна и та же картина звезд и планет, — до чего же надоедлив облик вашего мира! Великое многообразие вещей не раскрывается по мере приближения, а всегда на глазах. Как это вытерпеть? Сколько же многообразнее наша Вселенная! Вокруг только окружение, а что подальше — за границами видимости. Любой шаг порождает иные картины, мы непрерывно открываем новое в своем мире, а не тупо вращаемся среди неизменных вещей — разве это не в тысячу раз прекрасней? Мне кажется, ваш мир — царство иллюзий, — закончил Правый. — Вы сами говорите, что ему присущи движения и звуки, свет, силовые поля… Но на эту изменчивую внутреннюю сущность натянута маска внешней закоснелости. Никакой вариал не согласился бы жить в вашем унылом мире!
— Дело вкуса, а о вкусах у нас не спорят, — примирительно ответил Жак.
8
За порогом резиденции Правого нас повстречали сопровождавшие вариалы — торжественный кортеж сверкал всеми цветами радуги. На меня так резво бросался Иа, что даже хаоса в его движении на этот раз особенно не замечалось. Он радовался моему возвращению, словно я избежал опасности. Дружок Николая Иу вел себя гораздо сдержанней. Николай сказал мне:
— Я раньше думал, что влечение Иа к тебе той же природы, что земная любовь. Но Правый мудро разъяснил, что у них семиполость, а каждый вариал наделен однополостью, то есть светится только в одном цвете, а не полной радугой. Чем же объяснить привязанность Иа к тебе, капитан «Пегаса» Казимеж Полинг?
— Именно этим — семиполостью, — хладнокровно отпарировал я. — Во мне все цвета спектра, кроме зеленого. Зеленым юнцом я перестал быть еще в первом путешествии в космосе, а всего путешествий было шесть — четыре совершил с тобой. Совпадение — не правда ли? — если каждому путешествию присвоить особый цвет? Иа просто чувствует мою многоцветность. — Я обратился к Артуру: — Беседа с Правым была занятна, но в ней есть странность. Говорили я и Николай, несколько реплик подал Жак, а ты выдержанно молчал. Почему, Артур Хирота? Хотел бы услышать ответ не в статической логике, а по земному шаблону, когда каждый ответ адекватен вопросу.
Он засмеялся. Я уже упоминал, что это с ним бывало не часто. Но после открытия дзета—логики — так мы потом стали называть ее — и сам он переменился, и стало иным наше отношение к нему, во всяком случае, мое. Он меньше сторонился разговоров, не хмурился, не выглядел высокомерным, а я теперь понимал, что раньше он казался надменным и неприветливым от непрерывного углубления в трудные проблемы, а не от дурного характера.
— С Левым разговаривать буду я, — заверил он. — И даже попрошу права первым задавать вопросы. Правый так хорошо разъяснил формы жизни в их мире, что принципиально нового уже не ждать. Хочу уточнить уже известное, а не вторгаться в неведомое.
Это тоже была важная особенность характера Артура, и она тоже не сразу стала мне ясна. Все новое, конечно, интересовало его, но он охотно предоставлял нам — мне особенно — роль перводознавателя. Зато размышлять о том, что увидели, находить суть в уже открытых явлениях он брал на себя — и делал это лучше нас. Он был больше мыслителем, чем разведчиком. Чем глубже я узнавал его, тем меньше задевало меня то, что вначале казалось неприятным.
Внешне Левый мало отличался от Правого — такой же угрюмый мощный голос, такая же эмоциональность, важный тон внезапно прерывался сварливым, негодующим, такой же ящик и пульсирующий на нем брусок. Различие было, в ходе беседы мы это поняли, но внутреннее, а не внешнее. Беседу вел в основном Артур, мы лишь подавали реплики. После взаимного обмена мнениями Артур сказал:
— Попрошу вас сосредоточить внимание. Я строю рассуждение: все вариалы смертны…
— Вариалы бессмертны, — величаво ответствовал Левый. — Каждый, рождая потомство, сам нарождается вновь. Единственное исключение — световые ураганы из обиталища лукарей или нападение ладарей. Но и тогда вариалы гибнут, а не умирают — уловили разницу?
— Хорошо, не вариалы, а люди! Все люди смертны. Некто Кай — человек. Какой вы сделаете отсюда вывод?
— А что за человек этот Кай? Одному надо отдохнуть, другому повеселиться. Вот какие выводы я делаю из того, что люди смертны, а Кай — человек.
— Но ведь это бессмыслица! — не выдержал Жак.
Артур укоризненно покосился на него.
— Вывод один: Кай тоже смертен.
— И такой вывод возможен. Но он не единственный. — Левый, как и его собрат, рассуждал без логических шумов, без отвлечений, но от этого его логика не становилась похожей на нашу.
Артур воспринимал объяснения Левого хладнокровно, и мы с Николаем уже не видели в Левом только опытного софиста, ошеломляющего парадоксами.
— Мне кажется, у вас отсутствует понятие о причине и следствии. Вы делаете выводы, не содержащиеся в посылках.
— У людей примитивное понимание причины и следствия. Вы логически бедны! — важно объявил Левый. — Вывод следует из посылок — кроме этого, вы ничего не видите. А у нас посылка может определяться собственным выводом — что здесь странного? Если у вас, как говорите, мать рождает ребенка, то ведь и ребенок рождает мать, ибо лишь с его появлением она становится матерью. Следовательно, они друг друга рождают! У вас линейная, а не объемная логика, логика частностей, а не целого.
И Левый указал, что в их мире противоположности создаются сразу и ни одна не может считаться следствием другой — например, низ и верх, правое и левое, толстое и тонкое, прошлое и настоящее, дети и родители, два конца палки, две стороны листа. Причина лишь повод, а не основание, что-то вроде выстрела, обрушивающего лавину переплетенных противоположностей.
— И у нас распад на две противоположности — естественная черта развития, — вставил Артур в быструю речь Левого.
Левый разъяснил, что в дзета—мире противоположностей всегда больше двух. У него, среднего Левого, пять сопряженных противостояний — нижний Левый, верхний Левый, средний, нижний и верхний Правые, а всего их шесть, и достаточно уничтожить одного, как погибают все. В их городе из шести право-левых обитают лишь два, остальные в других городах, но это не мешает им быть единством.
Артур, снова вторгнувшись в словоизлияние среднего Левого отца города, учтиво поинтересовался, распространяется ли такое многообразие противоположностей на рядовых вариалов или составляет привилегию правителей. Левый подтвердил, что противостояния — всеобщий закон. Гибель одного вариала, например зеленого И, вызывает гибель сопряженных с ним О, Е, Я, Ю, У…
Жак прервал Левого:
— Не понимаю сопряжения объектов! У людей простой закон: А всегда А. И другой закон: если А есть В, то оно не может быть одновременно — не-В. Если это стена, то стена, а не озеро и не туча. А если каменная, то не может быть также некаменной.
— Не нравится мне ваш мир, люди! У него косная логика. Он однотонный, однолинейный!
И Левый запальчиво объявил, что если А есть А, то оно непременно — не-А. Стена — высокая относительно камешка и низкая относительно горы. И она стена для мелкой твари, нечто непреступаемое, но черточка, а не стена для порхающих вариалов. Левое для того, что полевей, в свою очередь правое, значит, оно и правое и левое. Разумеется, если брать большое количество случаев, то в итоге оно может быть больше левым, чем правым, или больше правым, чем левым. Что может быть проще? Неужели людям не ясно совершенство логики вариалов?
— Ваша логика совпадает с нашей только в области больших чисел, — ответил Артур. — В частных случаях у вас не действует закон достаточного основания.
— Я все больше поражаюсь бедности вашего мышления, люди! — прогрохотал Левый. — Неужели ваш мир так скуден, что каждое действие в нем обосновано? А где же случайность, непредвиденность, невероятность, невозможность, все те милые неожиданности, которые приятно разнообразят существование? У нас для всего действует закон многосторонней необоснованности и только в целом, только в сумме все определено причинами. Я мог бы к этому добавить, что имеются правая и левая, передняя и задняя, нижние и верхние необоснованности и точно такие же верхние и нижние, задние и передние невозможности, но вряд ли вы поймете это. Четность осуществлений и отрицаний — вот главная черта нашего мира.
— У нас четность соблюдается не всегда, — заметил Артур.
— Страшный мир! Мир, где правое может существовать независимо от левого! Мир, где низ и верх, предмет и его зеркальное изображение взаимно незаменяемы! Мир, где действие всегда равно противодействию, а следствие определяется частной причиной, а не всем целым! Жалею вас, люди! Ни один вариал и секунды не просуществовал бы в вашем худшем из миров!
Артур собирался поблагодарить Левого за содержательный разговор, но Николай захотел узнать о математике в дзета—мире.
— Не спорь, только слушай, — предупредил я. — Боюсь, в области математики придется узнать особенно много правых и левых несуразностей, нижних и верхних чудовищностей!
Николай молчаливо слушал, хотя это было нелегко. Мы с Жаком тоже еле сдерживались, один Артур выглядел спокойным: что мы слышали теперь, он недавно нам предсказывал. Один плюс один равнялось двум лишь в общем и целом, а в единичных случаях, если складывались правая и левая, нижняя и верхняя, передняя и задняя единицы, сумма составляла или снова один, или один с привеском, или привесок без единицы… Дважды два равнялось четырем лишь случайно. Зато если из двух вычиталось два, то часть единицы оставалась. В дзета—мире не существовало нуля и никакие вычитания не могли привести к полному уничтожению вычитаемого. Категорический запрет нуля являлся главной особенностью дзета—математики. Что где-то, как-то уже существовало — никогда, никоим образом, ни при каких условиях не может перестать существовать — ее основная аксиома.
— Ox! — сказал Николай. Он обалдело поглядел на Артура.
— Дальше будет удивительней, — без улыбки предсказал Артур.
После арифметических откровений мы без содрогания выслушали, что в дзета—мире существуют, собственно, две математики: элементарная, для повседневности, и высшая, для тонких структур. В высшей математике всякое сложение приводило к уменьшению, а всякое деление — к умножению. Левый проиллюстрировал это примерами. Деление вариалов на две части равнозначно появлению двух вариалов, и каждый новый вариал больше исходного, ибо часть больше целого. Распадаясь, тела увеличиваются, сливаясь, уменьшаются. Целое не объединяет, а пожирает свои части: А плюс А всегда меньше А, хотя насколько оно меньше, зависит от случая, и задачей высшей математики является выяснение этих конкретностей.
— Вот видите, математика нашего мира проста и понятна, как, впрочем, и наша логика, — с торжеством закончил Левый.
— Сожалею, что не могу того же сказать о вашей логике и вашей математике.
На этом мы простились со вторым отцом города. Я чувствовал себя переполненным до тошноты. От услышанных парадоксов кружилась голова. Поджидавшие нас дзета—спутники устроили на лестничной площадке бешеную пляску. С добрую сотню разноцветных шаров, то ярко вспыхивающих, то погасающих до мерцания, носились вокруг, это тоже не способствовало успокоению. Николай, наоборот, пришел в хорошее настроение. Он объявил, что после право-левых откровений в полусумраке правительственной резиденции душа отдыхает на вакханалии цветов и света. Я сказал:
— Друзья, меня тянет на простор. Это алхимическое заведение, именуемое живым городом, действует мне на нервы. Хоть диковинного дзета—простора, но простора!
И мы стали выбираться наружу. Вскоре мы опять были на дне исполинской чаши, ограненной гигантской горной цепью. И опять горы съеживались и опадали, когда мы летели к ним, и становились вблизи крохотными холмиками или камнями. И опять над нами было равномерно золотое, пустое небо, оно единственное не менялось при нашем движении. И опять нас сопровождали дзета—спутники и то, отдаляясь, росли и тускнели, то, приближаясь, уменьшались, вспыхивали, накалялись до огненной яркости. Меня охватывали новые ощущения, еще день назад я не поверил бы, что они возможны…
— Артур, — сказал я. — Дорогой наш теоретик, мудрый Артур Хирота, а не кажется ли тебе, что оба праволевых правителя в одном все-таки правы? Этот непрерывно меняющийся пейзаж, эта постоянная непостоянность!.. Любой прыжок — и иной мир! Нет, тут что-то есть! Просто надо привыкнуть, чтобы понять красоту дзета—мира!
— Скоро ты объявишь, что до смерти устал от консерватизма родных галактических пейзажей и собираешься остаток жизни провести в дзета—мире, — иронически предсказал Артур. — И проделаешь, это не деловой прозой, приличествующей косморазведчику, а теперь еще и разведчику иномиров, а в поэтическом исполнении. Я читал твое увлекательное описание установки планет-маяков вокруг черного космопаука Н-115. И Немесида представилась мне земным раем, когда ты заговорил о ней белыми стихами.
— Серыми, Артур. В университете я писал стихи и в простодушии думал, что они белые. Но мне доказали, что ни одна строфа не вышла из серости. А ты меня удивляешь, Артур Хирота. Тебе понравился мой отчет о «черной дыре» Н-115?
— Он меня поразил, — серьезно ответил Артур. — Читая его, я пришел к мысли, что проходы в иномиры надо искать у коллапсирующих звезд, потому что звездные катастрофы могут происходить только в областях, где космос ослаблен и где, стало быть, есть лазы в высшие и низшие измерения. Идея о неоднородной прочности вакуума в галактических просторах была мне подсказана твоим отчетом, Казимеж. Именно поэтому я и настоял в Большом Совете, чтобы начальником первой трансмировой экспедиции назначили тебя. Ты не всегда понимаешь огромное значение своих находок, но обладаешь врожденным даром такие находки совершать.
— Благодарю. А мне почему-то казалось, что тебе неприятно, что в начальники экспедиции предложили не тебя, а меня. Занесу открытие этой ошибки в каталог других моих удивительных находок.
Мы вели этот разговор на пригорочке — полчаса назад он казался гигантской вершиной, закрывавшей треть небосвода. В стороне Николай играл с вариалами, они, отдаляясь, росли, становились гигантами и, бегом возвращаясь, стремительно опадали. Мне все больше нравилось это зрелище. Дзета—мир заслуживал того, чтобы им любовались. Жак не вмешивался в разговор и не показывал интереса к пейзажу. Он о чем-то хмуро размышлял. Уставший от игр Николай, плюхнувшись рядом, поинтересовался, что его огорчает. Жак громко вздохнул.
— Не огорчает, нет. Но эта беседа у Правого… Получается все-таки, что и у дзета—народов войны.
— Подумаешь, войны! Сражения из-за идей! Ведь так объяснил нам Правый? Научные дискуссии — вот их войны. В этом антилогическом и минус-математическом мире мы, очевидно, встретимся и с псевдовойной.
Жак качал огромной лохматой головой.
— А если война настоящая, Николай? И если нас втянут в нее? Одно нападение уже было — вспомни радиала и светоморе. Разве взаимоотношения радиала и светоморя ограничились научной дискуссией?
Я снова напомнил о правилах путешествия в дзета—мире:
— Здесь наша позиция — нейтралитет. А если войны и вправду имеют характер научных дискуссий — что ж, с интересом послушаем, но постараемся никому не навязывать своих мнений.
Глава четвертая СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ В ДЗЕТА-МИРЕ
1
В день, когда в дзета—мире разразилась катастрофа, мы долго блуждали по нервам и жилам города, а потом отдыхали в помещении рядом со светостоловой. Это было нечто вроде колбы с суживающейся вверху горловиной. Вариалы забирались сюда без охоты, но это как раз привлекло нас, можно было побыть в одиночестве, не включая глубокого экранирования.
Я лежал, заложив руки за голову, и смотрел на отверстие колбы, ставшей нашей спальней. Стенки колбы озаряло внутреннее сияние, слабый свет струился в их глубине, он был то фиолетовым, то синим, то голубоватым — сумрачные, нерадостные краски, лишь изредка на них накладывались оранжевые отблески, словно бы золото далеких ликующих зарниц, но и они лишь подчеркивали, а не смягчали общую безрадостность сумрака. И я думал, что если бы вариалы сами не порождали свечения, если бы не несли в своих полувещественных телах собственного источника радостных красок, то существование их стало бы мрачным, как бытие пещерных жителей в темных подземельях.
И еще я думал о том, как дальше вести себя среди дружелюбного, так не похожего на нас народа, чтобы и понять природу их бытия, и неловким вмешательством или чрезмерной любезностью не причинить вреда.
Одна странность особенно занимала мою мысль. Мы четверо не раз прогуливались вне города. Уже не только мне одному нравились непрерывно меняющиеся пейзажи. Артур с Жаком тоже ими любовались. И нас постоянно сопровождали вариалы — но только сопровождали. Ни один самостоятельно не выбирался из города. Они не были прикованы к своему мрачному месту обитания физическими полями или, строгими запретами, но без нас его не покидали. Они, похоже, побаивались открытого пространства и ощущали в нас защитников от чего-то, что могло там грозить.
Николаю показалось шуткой мое предупреждение, что гнев или смятение Правого может вызвать гибель городских зданий. Но чем дольше мы пребывали в городе, тем меньше он нравился мне. Это была, конечно, привычка осторожного косморазведчика, опасающегося всего неизвестного. И я ничего не мог с собой поделать: мы отдыхали в городе, не предостерегаясь глубоким экранированием, я мог бы включить его, чтобы избавиться от тревоги, но мне не хотелось отстраняться от тайных сил города, мне хотелось быть вне его.
Артур мирно спал, Николай то закрывал глаза, то снова раскрывал их. Увидев, что я не сплю, он сладко зевнул и сказал:
— Капитана трансмировой экспедиции что-то беспокоит. Чего тебе не хватает для спокойного отдыха, миропроходец Казимеж Полинг?
— Мне не хватает запаха твоих духов, Николай Дион. Твоей бодрящей, стимулирующей, организующей кремонской эссенции.
— Я оставил духи на «Пегасе», но если ты разрешишь полностью снять экранизацию… Не хмурься, шучу, шучу!
Жак, лежавший у стены, поднял голову и пожаловался:
— Мне тоже не хватает запахов! В дзета—мире отсутствуют ароматы. И город не пахнет, и растения на равнине…
Николай не откликнулся. Он уже крепко спал. Он всегда засыпает мгновенно, проваливается в сон, как в пропасть, а не спускается в него как бы по лестнице, — я с Жаком именно так, постепенно, погружаюсь в сон.
Жаку и мне не хотелось спать. Я сказал:
— Поболтаем? Тебе нравится у вариалов? Совсем не то, что у светоморя с его бешеным шаром, правда?
Жак задумчиво ответил:
— Бытие вариалов напоминает картины на стереоэкране.
— Разве тебе кажется, что вариалы — стереоизображения, а не реальные существа?
— У них нет тела. О каждого из нас можно удариться, о них удариться нельзя. Сквозь них можно проскочить.
— Сквозь воду ты тоже проскакиваешь. И сквозь воздух.
— Вода и воздух не имеют формы. Вариалы обладают формой и цветом тела, а плотности нет… И еще раз повторяю — ничто здесь не имеет запаха.
— У тебя дьявольски вещное восприятие, Жак! Ты понял, что говорил Артур о вещной логике Аристотеля? Твоя логика еще предметней! Ты словно толкаешься среди вещей, а не озираешь их. И мир, лишенный ароматов и плотности, теряет для тебя две трети реальности. Однако, дорогой, много существует такого, чего нельзя ни понюхать, ни потрогать, ни посмотреть, — и все это тем не менее реально! Любое силовое поле, например, материально, но невещественно, как говорит наш проницательный друг Артур.
Добрый Жак никогда не обижался, он только вздыхал и смешно ерошил рукой темные кудри. Но сейчас он пребывал в каком-то особом настроении. Он казался взбудораженным и раздраженным. Он почти огрызнулся:
— Не знаю, что ты находишь плохого в вещном восприятии, Казимеж. Между прочим, невещественные энергетические процессы я воспринимаю не хуже любого из вас. Я вот интуитивно чувствую, что сегодня в дзета—мире как-то неладно… Надеюсь, ты не отрицаешь интуиции?
— Нет, конечно. И согласен, что интуиция — особая форма познания: восприятие невещественных взаимодействий в вещественном мире. Непосредственное ощущение зарядов и полей… А наши пять чувств — осязание, обоняние, вкус, слух, зрение — приспособлены лишь для познания предметов, а не полей. Здесь же, в царстве силовых взаимодействий, вещественность второстепенна, если Артур не заблуждается, а он так всегда безошибочен… Здесь органы чувств дают лишь поверхностное… Но что означает твое интуитивное беспокойство, Жак?
Жак погрузил пятерню в шевелюру и хмуро сказал:
— Не знаю. Каждая волосинка вздыбливается и колется. Боюсь, что готовится очень плохое…
Мне захотелось подразнить Жака. Нам обоим не спалось, а споры без иронии пресны. Я засмеялся:
— Видишь ли, старина, в галактическом пространстве я немедленно забил бы тревогу, там твое ощущение плохого равносильно предчувствию реальной беды. Но здесь следствия вовсе не следуют за причиной, да и посылка определяется выводами из нее, и вообще — ребенок рождает мать… Если здесь телегу поставят впереди лошади, я не удивлюсь, ибо в круговороте взаимодействий все вытекает из целого, а не из частностей, а кто впереди, лошадь или телега, согласись, это частности… Ты, кажется, сердишься?
Жак воскликнул с обидой:
— Посмотри на приборы, Полинг!
Я переключил дешифратор и, пораженный, свистнул. В дзета—пространстве пульсировали все силовые поля, менялась гравитация, электрические потенциалы, знаки зарядов… Мне показалось, что стенки огромной колбы валятся. Но колба высилась пока неподвижная. Зато явственно то погасало, то разгоралось свечение стен. Что-то и вправду надвигалось нехорошее.
— Всех будить!
Я затряс Николая, Жак вскочил и стал толкать Артура. Я увеличил защитную экранизацию и приказал:
— Всем выходить наружу! Автономия обеспечивает нам отстраненность от местных беспорядков, но надо посмотреть, что происходит. Держаться вместе, подстраховывать один другого!
2
Мы бежали по трубопроводам и ретортам, транспортерным галереям и реакторам, уже не одними приборами, но и чувствами предугадывая беду. Вариалы, яркие, разноцветные, мирно покоились у потолков, их было множество, дружественных, не то просто отдыхающих, не то на время выключенных из жизни. И они не подозревали об опасности — это было очевидно.
Николай, первым выскочив наружу, показал на купол:
— Извержение! Световая буря!
Та же горная долина, окаймленная зубцами преображенных перспективой вершин, простиралась вокруг, тот же бледно-золотой свет лился с неба — в дзета—мире не было чередования дня и ночи.
И только над вершиной купола клубилось сияние.
Оно именно клубилось, а не светилось. Над куполом сгущались удивительные облака — не пар, не дым, даже не пламя и не отблеск бушующего пожара, а сам свет, принявший телесный облик облака.
Из купола били гейзеры радиации, они уплотнялись, складывались в сверкающие образования, крутились и сталкивались, все более разгораясь. А купол походил на вулкан, выбрасывающий не пламя, не раскаленные газы, не камни и пепел, а одну радиацию, странную радиацию, лучи, не пробивающие пронзительно пространство, а накапливающиеся в клубки, — в них не было ничего, кроме запутавшегося в себе самом света.
— Кривой свет, неподвижный свет! — воскликнул я. — Фотоны, которые не несутся! Нет, воистину удивительный мир! Николай, тебе, как астрофизику, придется поломать голову над природой этого красочного явления!
Артур рассудительно заметил, что фотоны все-таки несутся, раз мы видим издалека светящиеся облака. Но конечно, в иномирах и фотоны должны вести себя иначе, чем в космосе. Возможно, перед нами не излучающие источники, а уже излученный свет, скомбинировавшийся в нечто предметное.
— Перестань! — сказал я. — Зачем анатомировать красоту! Полюбуйся лучше, как в этих красочных световых тучах разыгрывается великолепная световая гроза.
Один облачный фронт напирал на другой, из купола вырывались все новые сияющие клубки. Вдруг началось возмущение всех физических параметров. Особенно менялась гравитация — она падала до нуля, становилась отрицательной, снова быстро росла. Если бы мы не были экранированы, нас то тащило бы вверх, то швыряло бы на грунт. Гигантская молния — и ее исказила расширяющаяся перспектива — пронеслась между облаками. Молния была черна — река полного поглощения среди нестерпимого блеска.
— Интерференция! — в восторге закричал Николай. — Интерференционная молния! Вот чего мы еще не видели!
За первой молнией взорвались другие, такие же черные. И, словно подстегнутые, световые тучи пришли в движение. Теперь они летели к городу вариалов. Зловещее сияние озарило спящий город, на угрюмых ретортах, трубопроводах и реакторах заиграли зайчики.
— Может, поднять тревогу? — с волнением сказал Жак. — Пугает меня это световое буйство!
— Подождем! — Я не отрывал взгляда от летящих туч. Мне почему-то вообразилось, что дальше красочного спектакля не пойдет. — Да и как будить вариалов? Не трясти же их руками!
Облака, исторгнутые из купола, повисли над городом. Бледное небо превратилось в пылающее горнило. Одна черная молния за другой глушила яркость туч. А затем хлынул ливень, в существование его мы и поверить бы раньше не могли — ливень света: переплетение вспышек и красок, низринувшийся с высоты пламень, неистовые световые потоки. Буря напоминала земные дожди: так же рушились капли и летели брызги, так же от туч к почве словно протянулись прутики, но все то был свет, а не вода.
И там, куда падали прутья и капли света, вспыхивало пламя — багровое, оранжевое, сжигающе-зеленсе. Город охватило пожаром: не огонь, перемешанный с дымом, пожирал сооружения, а тот же свет.
И здания начинали сами светиться, сперва тускло, потом все ярче, и распадались, превращаясь в световые клубки и облачка. Облачка взмывали вверх, и из них тоже обрушивались световые потоки уже на другие, еще не взорвавшиеся светом строения. Свет был кругом, один свет, низвергающийся, взрывающийся, убийственный свет!
Город растворялся в свете, как соль в воде.
И тут мы увидели гибнущих вариалов.
Одно из здании превратилось во вспышку, за ним световым облачком вознеслось другое, и в пожирающей радиации заметались разноцветные шарики. Вариалы отчаянно трансформировались, судорожно меняли яркость. И, уже не искаженный обычной сумятицей нелогичности, до нас донесся вопль: «Помогите! Помогите!».
Николай вскрикнул — катившийся к нему нежно-голубой Ы вдруг раскалился, оранжево забушевал и взвился клубочком распадающегося сияния. За ним погибли еще два вариала, пытавшиеся найти спасение около нас, — красный Я и фиолетовый Е.
— Экранируй город, Полинг! — сказал побледневший Жак. — Немедленно экранируй город!
Я рванул ручку ротонного регулятора.
Силовой щит, созданный притоком энергии «Пегаса», мгновенно отсек город от светового урагана, разрушение зданий прекратилось. Зато быстро рос расход мощности корабля — светобуря бушевала с прежней яростью. Я встревожился. Генераторы межмирового корабля подвергались слишком трудному испытанию.
— Нужно средство поактивнее экрана, — сказал Артур. Он со страхом всматривался в бушевание света над городом. — Казимеж, это те самые убийственные ураганы, о которых разглагольствовал Правый! Неужели так и не найдем способа борьбы с ними?
Я повернулся к Николаю. В обычное время подвижный, даже суетливый, при опасности Николай обретает ледяное спокойствие. В трудные часы прежних наших галактических странствий он ни разу не подводил. В его дипломе астроинженера вписана единственная среди нас оценка: «Незаменим при решении загадок физики космоса». Я с надеждой ждал его слова. Он с минуту хмуро рассматривал бушующие облака, потом сказал:
— Если те молнии — интерференционные, то почему бы и нам не погасить облака интерференциями? Ударить по ним их же радиацией, но только сдвинутой по фазе.
— Вручаю тебе канал к «Пегасу», — сказал я.
Черные молнии, искусственно вызванные Николаем, пронизали грозные световые толщи. Разряды, внесенные извне, породили внутренние несоответствия в облачной массе. Облако с облаком сталкивались и интерферировали, уже не черные молнии, а полосы и круги черноты взрывались в горниле неба. Темнота тушила сияние.
Оставшиеся световые облака теперь уносились к куполу, втягивались в негр. Недавний вулкан, изрыгавший свет, превратился в огромную пасть, поглощавшую сияние. Над долинкой, сдавленной призрачными горами, снова засветилось блеклое небо.
— Отстояли город от светопада, — с удовлетворением установил Николай, переводя энергию из «Пегаса» на обычную мощность.
3
Доброй четверти города не существовало, не было здания без повреждений — оплывшие стены, скрюченные перекрытия, тысячи дыр от световых копий… Артур потрогал металлическую балку, торчащую из полуразрушенного помещения, — балка, свитая кольцами, напоминала удава. Жак с горечью заметил, что похожие разрушения можно видеть лишь на стереокартинах древних войн. И очевидно, Потери не меньше тех, что людям причиняли войны, — вариалов почти не видно.
Николай попросил разрешения посмотреть, что творится в городе, и исчез в его недрах.
Артуру с Жаком захотелось посоветоваться с правителями. Я опасался повторных словопрений и решил подождать снаружи возвращения друзей. Присев у покореженной стены, я вначале наблюдал за успокоившимся куполом. Ничто не предвещало, что опять готовится светобуря. Вскоре меня отвлекло новое явление. Металлическая балка, торчавшая из остова здания, неторопливо раскручивалась. Она уже походила не на свернутую спираль удава, а на толстую веревку, брошенную наземь в причудливых извивах. А еще через минуту стали сглаживаться извивы, балка, как живая, поднялась, выпрямилась и замерла — теперь она снова была мертвой металлической балкой. Я потрогал ее, сжал пальцами — металл как металл, холодный, безжизненно твердый.
А за балкой ожила оплавленная, раздробленная стена. Стекловидная поверхность вздулась, задвигалась, из ее пор выдавливалась строительная масса, растекаясь по излому и затвердевая. На затвердевшую массу выдавливалась новая, еще жидкая. Стена наползала на балку слой за слоем, выравнивалась, это уже снова была стена, а не руина спаленного здания.
У других зданий совершался тот же процесс: самовыпрямлялись балки и швеллера, восстанавливалась арматура, на нее наползала строительная масса — появлялись новые стены, перекрытия и трубопроводы. Входы в жилища восстанавливались с такой же автоматичностью. В нарастающей стене появились края металлического листа, лист удлинился, на нем отпочковалась ручка, на ручку наползала выросшая с другой стороны защелка — люк с дверцей был готов.
Артур с Жаком застали меня за изучением самовыращивания лесенок, поднимавшихся от входов вверх. Они полюбовались самомонтажом перил на лестничной площадке.
— Командуют восстановлением города Правый и Левый, каждый своей стороной, — сообщил Артур. — А им помогают сопряженные Правые и Левые других городов.
— Какая инженерная точность! Восстановление идет, очевидно, по формулам, — сказал Жак с уважением.
— Скорее, по генетическому коду, — возразил Артур. — Самоисправление смахивает на регенерацию. Недаром же вариалы считают свой город живым.
Из недр города выбежал веселый Николай. Он, оказывается, был в левой родильне. В родильню его позвали сами вариалы, срочно отправленные в воспроизводство в связи с потерями от ураганов. Светопад произвел такую встряску в логике, что шумы начисто забивали правильную информацию — дешифратор три раза ошибся, пока не обнаружил верную тропку в зове вариалов. Родильня такое же помещение, как и все остальные, только ниже других. Здесь шесть разноцветных отцов обручаются с одной матерью. Обряд обручения сводится к тому, что от отца отделяют какую-нибудь часть тела и прививают ее матери. Мать — обычно самый старый вариал. Быть матерью — функция возраста. Что до шести отцов, то верхний, нижний и средний левые скомбинированы с сопряженными правыми.
— Отцы, естественно, моложе матерей, — с увлечением рассказывал Николай. — Каждый вариал непременно должен быть и отцом и матерью — сперва, по достижении зрелости, отцом, а потом, после накопления опыта и заслуг, и матерью. Справедливо, не так ли? Но послушайте, что дальше! Волшебный сон!
После бракосочетания с шестью отцами старая мать молодеет. Все стадии предыдущего развития совершаются в обратном порядке: из дряхлой она становится зрелой, из зрелой — юной, из юной — подростком, затем ребенком. В стадии младенца, крохотная, почти неподвижная — Николай повидал и таких, вполне созревших матерей, для них отведено отдельное помещение, — мать распадается на двух маленьких вариалов — каждый, конечно, крупнее ее самой, ибо части здесь, как уже выяснено, больше целого. Молодые вариалы начинают самостоятельный цикл развития, сперва — прямой: от младенчества в детство, юность, зрелость, старость, а потом в обратный — в новое воспроизводство.
— Просто и естественно, не правда ли? По-честному, я не знаю лучшего способа практически осуществить бессмертие!
Что до меня и Жака, то мы слушали рассказ Николая с интересом. Артур же, присев на только что самовосстановившуюся трубу — по ней, мы уже знали это, ничего не текло, она была пустая, — что-то сосредоточенно чертил в блокноте. Николай с упреком сказал:
— Артур, ты теоретик дзета—мира, неужели тебя не интересуют его законы?
— Интересуют, и даже очень, — невозмутимо отпарировал Артур. Он вдруг радостно засмеялся и объявил: — Знаете, что я высчитывал? Мой блокнот, конечно не МУМ, но компьютер, смонтированный в его переплете, еще ни разу не подводил в расчетах. Так вот, светобуря, которую Казимеж сгоряча назвал великолепной, воистину великолепна. Она не так разрушительница, как созидательница. Она влила огромный запас энергии в город вариалов. Уверен, что все жизненные процессы у наших добрых хозяев теперь значительно убыстрятся.
— Но откуда берется эта энергия? — Николай, мигом забыв о жизненном цикле вариалов, присел рядом с Артуром, взял блокнот, рассматривал вычисления. Физика дзета—мира захватывала его, как раньше физика космоса, а там, в наших прежних экспедициях, он поражал неутомимостью непрерывно возобновляемых экспериментов и расчетов. — Где ее источник — вот вопрос вопросов!
Артур и до экспедиции в дзета—мир утверждал, что энергия в двенадцатимерном мире поступает из вакуума значительно проще и обильней, чем в нашем восьмимерном. Возможно, страна лукарей, страна света, как назвал ее Правый, и есть родник такой энергии, а загадочный купол — вулкан, выбрасывающий ее излишки во все соседние страны, что, как мы видели, приносит не только благо, но и некоторые разрушения.
Я сказал торжественно:
— Артур Хирота, считаю, что установление роли купола твое второе великое открытие!
Меня временами бесит, до чего честолюбивый Артур старается скрыть эту черту характера. Он покраснел и отмахнулся:
— Ерунда, Казимеж! Никакое не открытие. Пока лишь гипотеза. — И добавил, не удержавшись: — Надеюсь все же, что открытие состоится.
Нетерпеливый Николай потребовал, чтобы мы немедленно помчались к куполу и воочию установили, какие в нем произошли изменения от бурного светоизвержения. Он, правда, сказал, что не ожидает очень больших внешних перемен, они не соответствовали бы физической природе дзета—мира, но какие-то изменения должны быть, и убедиться в этом нужно. Я согласился, и мы запустили ротонные двигатели.
В куполе никаких видимых перемен не было. На безрадостной равнине, окаймленной вздымающимися на отдалении горами, возвышался все тот же невысокий холм нечетких очертаний, с единственным входным отверстием, напоминавшим рот, а не лаз. И так же зыбко колебались края входа, то уменьшая, то увеличивая отверстую дыру. И мы опять два раза обошли купол и не нашли никаких других входов, а внутри было шесть выходов на такой высоте, что они должны были выводить на равнину, хотя, мы это уже хорошо знали, каждый вел не на равнину, а в свою особую страну. И на стене около нашего выхода красовался великолепный красный бык с голубой луной на рогах, а у следующего выхода сияла золотолицая голова с девятиконечной звездой — и мы опять залюбовались прекрасными рисунками, а Артур смущенно улыбался нашему восхищению и, кажется, признанию своего дара живописца радовался больше, чем славе глубокого теоретика.
— Начинаем, друзья, — сказал Николай, устанавливая свой чемодан-дешифратор. — Можете оставить свои индивидуальные приборы в покое, теперь вы все ассистируете мне.
Мы с Николаем совершили в родной Галактике четыре далеких космических рейса, я хорошо знал его в работе. Но Артура и Жака тщательность, с какой он обследовал купол, поразила. Они еще не успели привыкнуть к тому, что этот неровный, импульсивный, довольно легкомысленный в обыденном бытии человек мгновенно преображается, когда приступает к исследованию загадочного физического явления. От него не скроется ничто, представляющее хоть малый интерес, а явлений и вещей, представляющих интерес, он находит ровно на порядок больше, чем их нашел бы я, поручи мне кто его дело. Артур потом признался мне, что считал обследование купола полностью законченным, когда Николай радостно объявил: «Начало есть, теперь приступаем к серьезному испытанию».
А мне уже здесь, на Латоне, было отрадно слышать отзывы местных физиков, что предварительное ознакомление с доставленными нами материалами — полное исследование будет совершено на Земле — показывает, что в двенадцатимерном мире существуют совершенно неизвестные нам формы энергии и совершенно новые способы передачи ее, — даже Хирота в своих теоретических исследованиях дзета—пространства не угадывал их. «Вы открыли нам глаза на то, как совершается вывод энергии вакуума в физические миры! — с энтузиазмом говорил на совещании у Марека глава местных астрофизиков. — Ваш загадочный купол — это вулкан, извергающий в дзета—пространство безмерную энергию вакуума — и без таких периодических выбросов двенадцатимерный мир попросту не мог бы существовать».
В общем, гипотеза Артура Хироты получила полное подтверждение. И сколько я понимаю, основная загадка теперь не в физической природе купола, а в том, как возник, кем был создан этот такой непритязательный на вид и такой мощный насос для выкачки скрытых энергетических богатств. Пока никаких определенных точек зрения на эту новую проблему не существует. Меня это не тревожит. Мы свое дело сделали. Пусть следующие экспедиции в дзета—миры продолжат начатую нами работу.
В тот момент, должен признаться, и Николай не подозревал, какие важные новые факты фиксируются на пленках его дешифратора. По окончании обследований он казался скорей озадаченным, чем обрадованным.
— Новый чудовищный парадокс! — объявил он. — Что из купола исторгается гигантский поток энергии, мы видели сами. Купол вулканировал гамма—квантами, тепловым излучением, весь был охвачен огнем, от него неслись такие гравитационные волны, что мы то впадали в невесомость, то отталкивались от грунта, вместо того чтобы падать на него, то становились десятикратно утяжеленными — и спасала нас лишь ротонная защита. Столь дикий выброс энергии должен был основательно порасшатать эти диковинные стены даже в дзета—мире, а в нашем просто обратил бы их в пепел. А на них не осталось никаких следов даже на молекулярном уровне. Страна света, то есть страна лукарей, похоже, не является источником энергоизвержений. Внутри купола не было никаких энергетических бурь, бури бушевали вокруг него, а не в нем. Как это понять?
Артур хладнокровно сказал:
— Это надо понимать так, что ты совершил новое открытие, Николай. Очевидно, энергия вакуума извергается из купола в еще неизвестной нам форме, а уже снаружи, в самом дзета—пространстве, трансформируется в привычные нам формы света, огня, гравитационных ударов, а может, еще какие-либо сугубо местные, двенадцатимерные. Именно это доказывают твои измерения.
Николай, вместо того чтобы самодовольно согласиться, сердито отмахнулся:
— Если я совершил открытие, то оно заключается в том, что я открыл собственное непонимание. То же, о чем ты разглагольствуешь, не физика, а фантастика.
Только возвратившись на Латону, мы узнали, что если в словах Артура и присутствовала фантастика, то пророческая. Кнут Марек в первой же сверхсветовой ротонограмме на Землю известил Академию, что наконец-то обнаружены реальные формы выведения энергии вакуума в физические миры и главным автором этого великолепного открытия является астроинженер Николай Дион с тремя помощниками — в помощники угодили, естественно, Артур, Жак и я. Правда, Марек педантично отметил, что первую мысль о куполе как вулкане энергии вакуума высказал Артур Хирота. Но эта изумительная идея Хироты, так сразу захватившая меня, поражала астрофизиков на Латоне куда слабей, чем измерения Николая. Что до меня, то я не утруждаю свои мозговые извилины новыми формами энергии. Пусть о них спорят астрофизики. Я косморазведчик и не собираюсь менять профессию. Мое дело — открывать неизвестные объекты Вселенной и наносить их на галактические карты. Глубоко изучать законы существования этих новооткрытых мест предоставляю космофизикам и космосоциологам. Для иномиров я не делаю исключения — они ведь тоже реальные объекты нашей реальной Вселенной. И уверен, когда-нибудь на многомировой карте Вселенной покажут их все и около одного из них, двенадцатимерного дзета—мира, будет начертана краткая надпись: «Открыт экспедицией астронавигатора дальнего поиска Казимежа Полинга». На большее я не претендую, на меньшем не помирюсь.
Но я отвлекся. Николай закончил свои измерения, и мы выбрались из купола. Никому не захотелось сразу возвращаться к вариалам — сами они довольно милые создания, но город их все же безрадостно мрачноват.
Николай присел на пригорочек, мы примостились рядом. Я уже упомянул, что дзета—равнина стала нам нравиться. Я и сейчас, безмятежно отдыхая в санатории на Латоне, с удовольствием вспоминаю ее смиренно-золотое небо, ее громоздящиеся по окоему исполинские горы, такие живые, такие непрерывно меняющиеся при движении к ним. Артуру, знатоку живописи и художнику, пейзаж напоминал картины старинных арабских и византийских мастеров с их расходящейся перспективой, а мне все казалось, что я попал в детскую сказку, и сам стал сказочным героем, и все вокруг волшебно-сказочное — прекрасное и невероятное. Нет, скажу прямо: в утверждении Правого, что дзета—мир многокрасочней и многообразней нашего, какая-то правда есть. Сужу по себе. Вначале я поражался непостоянству пейзажа, потом привыкал к нему, потом начал все больше любоваться им — и любование постепенно превращалось в восхищение.
Итак, мы сидели на пригорочке. Николай и Артур, энергичней всех помогавший ему, просто отдыхали. Жак о чем-то размышлял, это было видно по его лицу. Он некрасив, наш Жак, — широкие щеки, нос бананом, толстые губы, слишком мягкий подбородок, но это холодное описание внешних черт почти не дает представления о том, как он реально выглядит: лицо его удивительно меняется от каждой новой мысли, он ворочает мысли с усилием, как валуны, они не вспыхивают в его голове, а тяжело переваливаются в ней, и каждая порождает особое выражение лица.
— Поделись, Жак, — посоветовал я. — Мне кажется, тебя придавливает какая-то могучая идея.
— Нет, так, — ответил он, сопровождая маловразумительное «так» обычным своим шумным вздохом. — Ничего особенного, Казимеж.
— А неособенное? Не скрывай от друзей своих сомнений.
— Правильно, сомнений, — признался он. — Никак не могу понять: мыслящий ли все-таки народ вариалы? Кто они, если переводить их быт в человеческие понятия? Беспечальные животные вроде евангельских птиц, что не сеют, не жнут, а благополучно существуют? Ведь никаких трудовых операций мы у них не обнаружили. А если это мыслящие существа, то в чем их мысли выражаются?
Так начался спор, кое в чем, как мы убедились впоследствии, прояснивший загадочную природу вариалов. Николай, конечно, первый начал дискуссию — объявил, что Жак ненаблюдателен: разве Правый и Левый не мыслят? Мыслят, и вполне логично, не хуже людей, а ведь они вариалы, иной, правда, формы, чем полутелесные порхающие создания, но представители того же народа. А что до беспечального существования, то в дзета—мирах такой естественный приток энергии, что здесь не обязательно добывать хлеб свой в поте лица своего, тем более что и хлеб этот — самая обыкновенная радиация.
Артур не согласился ни с Жаком, ни с Николаем. Он не может объявить вариалов немыслящими только потому, что они мыслят в статистической, а не динамической логике. Он снова повторил: они мыслят, только по-иному, чем мы, вот и все. Он уже доказал, что их логика не аристотелева, математика не евклидова, но и логика, и математика — основа всякого правильного мышления — реально имеются, значит, мыслительные процессы идут у каждого вариала, не только у Правого и Левого руководителей.
Я не вмешивался в спор, пока все трое не перестали перебрасываться репликами. Хорошо помню, что мне явилась озорная идея чем-нибудь до несуразности фантастичным ошеломить друзей. Долго придумывать такую идею не пришлось. Я высказал ее совершенно серьезным тоном:
— Мне кажется, я могу решить загадку, друзья. Отдельные вариалы кажутся немыслящими существами, потому что у них отсутствует процесс мышления, — так ты сказал, Жак. Я утверждаю, что у них отсутствует процесс мышления, потому что все они сами материализованные мысли. Согласитесь, что высказанная мысль и процесс мышления штуки все-таки разные.
Николай дотронулся до моего лба.
— Нет, температура нормальная, — сказал он с облегчением.
— Некоторые виды безумия происходят без повышения температуры, — поддержал шутку Артур.
— Сейчас я вам докажу, что в моем безумии больше логики, чем во всех ваших рассуждениях, вместе взятых, — сказал я. — И при этом буду основываться на теории двенадцатимерного мира, развитой Артуром еще на Земле, именно на том, что дзета—мир — царство полей, а не предметов.
И я напомнил друзьям, как Правый жаловался, что ладари похитили у них идею гордости. Как можно похитить идею, если она предварительно не материализована? Попробуй кто похитить идеи, возникающие у нас! Неосуществимо, не правда ли? Но это значит, что не только физические поля, но и все идеи и мысли в царстве вариалов гораздо материализованной наших, в полном соответствии с концепцией Артура — ни на шаг не отступаю от нее.
— Сделаем маленький мысленный эксперимент, — предложил я.
— Каждая мысль наша — какой-то энергетический процесс, проносящийся в мозгу, — разве не так? Процесс возникает и гаснет — мысль появляется и пропадает. Но раз мы попали в мир, где энергетические процессы не протекают, а, так сказать, пребывают, то есть, возникнув, сохраняются в виде каких-то полей, клубков энергии и чего-то в этом роде, то не будем ли мы блуждать в таком мире в материальном облаке рожденных нами и отторженных от нас собственных наших мыслей? И облако это будет сгущаться, накапливаться, распространяться, по мере того как мы будем продолжать мыслить. Так вот, не является ли та родильня вариалов, какую осматривал Николай, некоторым аналогом процесса мышления? Можете ли вы отрицать, что в моей концепции есть твердая логика — и отнюдь не статистической природы?
Артур, пожал плечами:
— Ты недавно доказывал, что в любом безумии есть своя система, и это помогло нам тогда разобраться в статистическом языке вариалов. Надеюсь, на большее, чем на безумие, на этот раз сам ты не претендуешь, Полинг? А если ты соглашаешься на мою теорию, то, стало быть, из любой здравой идеи можно сделать безумные выводы.
Жак с недоверием спросил:
— Неужели ты и вправду веришь, Казимеж, в свою чудовищную концепцию?
— Нет, — сказал я со смехом. — Не верю, Жак. Но забавная идея, не правда ли? Хотел вас повеселить, и это, мне кажется, удалось.
Ни сам я, ни друзья в ту минуту и не подозревали, что высказанная мной для шутки идея вовсе не столь уж фантастична и что в ней нет ничего забавного — наоборот, главная трагедия вариалов как раз состояла в том, что в идее этой было куда больше истины, чем безумия. И узнали мы это не дольше, чем спустя несколько дней по нашему старому земному счету.
Часть вторая ТОТАЛЬНЫЙ ВАМПИР
Глава первая НАПАДЕНИЕ ЛАДАРЕЙ
1
В ночь перед нападением ладарей мы спали крепко, как в родном космосе. «Сон — вещь инвариантная даже в невещественных мирах», — шутил Николай.
В то утро я пробудился первый и, молча всматриваясь в горлышко колбы — она стала для нас постоянным местом отдыха, — старался сообразить, почему мы превратились в химические вещества и какие с нами готовятся реакции. Некоторое время я боролся с реальностью, как с бредом. И лишь когда в горлышко сосуда вторглись, с усилием карабкаясь вниз, четверо знакомых И, я наконец понял, где мы.
— Подъем, сони! — закричал я, расталкивая приятелей. — Прибыли телохранители.
Четверо дружественно менявших форму И и вправду походили на телохранителей — каждый кружился вокруг одного, остальным же почти не уделял внимания. На моего спутника Иа с некоторых пор почти не действовали статистические вариации движения, он сопровождал меня всюду, почти не отлетая. Его держало возле меня как бы какое-то поле. Николай говорил, что как-нибудь сосчитает мощность этого поля любви ко мне вариала Иа, он убежден, что дзета—любовь можно выразить физическими единицами. Иу, опекавший Николая, в то утро так ликовал, словно Николай восстал от смерти, а не проснулся.
— Иу влюбился в меня, как Иа в тебя, — растроганно сказал Николай. — А что? Раз у них семь полов, так хоть на одну седьмую мы разнополы? Мне тоже кажется, что я немного в него влюблен. С Иу мне приятней, чем с любым другим шариком. Конечно, Иу не такой прилипала, как твой Иа, но с меня хватит.
Николай добавил, что и путаницы в объяснениях с Иу меньше, чем с другими, — он понимает своего друга всего с третьей или четвертой трансформации. И вообще, плевать им на закон больших чисел! У них с Иу логика больше не статистическая.
— Любовь — чувство индивидуальное, то есть динамическое, — загорался собственным объяснением Николай. — Смешно любить по закону больших чисел, средневзвешенной страстью среднеарифметических субъектов. И мой Иу — реальное субтильное существо, которое влюбилось в реального мужчину. Первенства Казимежа и его Иа я не отрицаю, зато посмотрите, как мало трогает нашего капитана страсть его спутника. А меня волнует! Соответственно я — первый реальный мужчина, увлекшийся по уши полупривидением!
Артур напомнил Николаю, с каким отвращением услышал Правый о том, что у людей бытует любовь. Любовь и вправду чувство динамическое, его не перенести в статистические миры.
— По-твоему, и чувства делятся на аристотелевы и неаристотелевы? — съязвил Николай.
— В какой-то степени да!
Иногда мне казалось, что пытливое стремление Артура проникнуть в сущность любых явлений есть единственная сильная страсть, на которую он способен, а то, что называл чувствами Николай, ему совершенно неведомо.
Спор происходил на ходу. По распорядку нашего дзета—существования мы каждое утро выбирались наружу и с часок проводили на равнине вместе с неизменными зелеными И. По дороге к ним присоединялись и другие вариалы. Самосветящаяся свита в зале сияния подкреплялась порцией питательного излучения. Мы тоже завтракали, украдкой выдавливая еду из тюбиков. Правый с содроганием говорил о ладарях, питающихся воздухом, мы не хотели отпугивать вариалов видом пищи, еще более грубой, чем воздух.
Очень ясное и очень пустое небо больше не напоминало о недавнем стихийном бедствии. И сами вариалы, веселые и быстрые, позабыли, похоже, о гибели собратьев.
Николай закувыркался, хватая руками ловко ускользавшего Иу, Жак присоединился к забаве, в нее вмешались еще два вариала. Только мой Иа не покидал меня. Артур издали следил за грациозными прыжками и реяньем зеленых, легко меняющих форму созданий.
Я присел на камешек.
Я не принял участия в игре не из-за нелюбви к беготне, а потому, что время пребывания в стране вариалов подходило к концу и надо было заблаговременно поразмыслить над докладом Земле об этих забавных и милых существах.
Рассеянно озирая окрестности, я продолжал размышлять о том, какое у вариалов общественное устройство. Их пища, концентрированная световая радиация, автоматически доставляется городом, а им остается бездумно веселиться, раз уж они выбрались из небытия в подобие разумного существования. В космических странствиях попадаются мыслящие существа и подиковинней вариалов. Но в тех обществах, как ни странны их представители, всегда что-то серьезное. Жизнь — штука нешуточная — такое я вывел заключение из галактических наблюдений. Здесь же все представлялось словно придуманным в насмешку. «Общество вариалов сконструировано иронически», — с недоумением думал я.
Через некоторое время я увидел, как над куполом взмыл силуэт, похожий на человеческий. Рядом появилась другая фигура, за ней третья, четвертая. Силуэты разрослись вполнеба, потом стали уменьшаться — незнакомцы быстро приближались к городу.
Ни один из резвившихся вариалов не заметил пришельцев. Скорее ощущением, чем разумом, я понял, что присутствую при набеге врагов, а не при мирном явлении друзей. Я предостерегающе закричал.
Вариалы восприняли событие по-разному: кое-кто кинулся наутек, другие безмятежно продолжали танцы, большинство же лихорадочно заметалось. Перед нами тревожно засверкали шары, то безвольно взлетавшие вверх, то отчаянно приникавшие к почве. Дешифраторы уловили в трансформациях лишь смятенные вопли, бессмысленную болтовню. Но мало-помалу все больше ошалелых полупризраков поворачивали к городу и скрывались в его бастионах.
Николай подбежал ко мне.
— Это нападение ладарей. Правый просил…
Я укоризненно посмотрел на него.
— Мало ли что просят Правые и Левые! Одно — помогать при стихийном бедствии вроде светобури, совсем другое — участвовать в чужих войнах. Я, между прочим, редко нарушаю врученные мне инструкции и прошу это помнить!
Передовая шеренга пришельцев обрушилась на хаотическую кучку вариалов.
Ладари были крупнее вариалов и даже людей. К отчету приложены фотографии, можно проверить, точны ли наши впечатления. Меня больше всего поразил гибкий цилиндр — главная часть тела. Он опирался на четыре рычажка, ладари при беге быстро-быстро перебирали ими. А на цилиндре возвышались два конуса — один острием вниз, другой острием вверх. Конусы так лихорадочно пульсировали, то увеличиваясь, то уменьшаясь, что издали казались факелами на ветру. Еще у ладарей были руки — с десяток подвижных, проворных рук, напоминающих, впрочем, больше хвосты — вместо пальцев они кончались лохматыми кистями.
— Полинг! — отчаянно закричал Николай. — Посмотри, что они делают!
— Не вмешиваться! — повторил я.
Два ладаря атаковали голубого Яи. Вырвавшиеся из конусов пронзительные лучи скрестились на теле вариала. Яи превратился в клубок пламени, не успев даже вскриком слабенькой трансформации позвать на помощь. Неподалеку синхронно взорвался второй вариал, хотя на него не нападали. «Сопричастные особи», — сообразил я.
В сутолоке сражения мы потеряли опекавших нас И. Николаю почудилось, что Иу в начале нападения скрылся в городе. Появление Иу, спасавшегося от группки ладарей, было для нас неожиданно.
Иу бросился к Николаю, судорожно борясь с уносившей наверх силой отталкивания. И бег на этот раз не состоял из сотен нелепых бросков. Иу мчался так целеустремленно, словно позабыл, что он в дзета—мире. Он моляще трансформировался на бегу, мы и без дешифратора разобрали призывы: «Спасите! Спасите!».
Николай рванулся к Иу. Зеленое полупрозрачное облачко обволокло человека, теперь они были единым телом — человеческая фигура и призрачно мерцающий вариал.
Набежавшие ладари впились в Иу десятками хвостатых рук, мгновенно оторвали, мгновенно скатали во что-то круглое и кинулись наутек с добычей.
Николай молча глядел, как гигантски увеличиваются уносящиеся похитители. О преследовании нельзя было и думать — ладари с трофеем исчезли в куполе.
Вокруг реяла реденькая толпа не успевших скрыться вариалов. Битва закончилась сразу, как похитили Иу.
У Николая дергалось лицо, вздрагивали пальцы.
— Казимеж, ты опытен, ты мудр, — сказал он охрипшим внезапно голосом. — Ты командир, я обязан выполнять твои приказы… Так вот, чтобы ты знал: я отныне — воюющая сторона!
Долгую минуту я всматривался в Николая. Ни Жак, ни Артур не вмешивались. Но и по огорченному, почти скорбному лицу Жака, и по пылающему гневом лицу обычно спокойного Артура было ясно, что оба на стороне Николая. Я хмуро усмехнулся.
— Бунт на корабле — так это называлось в прошлом…
— Пока еще не бунт! — с вызовом отозвался Николай.
Я старался говорить спокойно и иронично:
— Что ж, не дожидаясь открытого восстания и подчиняясь воле коллектива… Вы этого от меня ждете?
— Не надо, Полинг! — с болью воскликнул Жак. — Чудовищно то, чему мы были зрителями! Чудовищно, что мы были только зрителями!
— Да, чудовищно! И мне, как и вам, горько, что мы были только зрителями. И если мы еще не воюющая сторона, то, во всяком случае, и не безразличная…
Жак выговорил с обегчением:
— Значит, пойдем на выручку бедного Иу!
— Посоветуемся с Правым. Этот славный парень, так похожий на шарманку, кажется, специально заведует общественными конфликтами.
2
Правый еле пульсировал. Дешифратор преобразовал трансформации бруска в глухой скорбный голос. Над обществом вариалов, тяжко пострадавшим от светового бедствия, ныне нависла угроза распада. Он, Правый, сражался самоотверженно, его беззаветно поддерживали сопричастные Левые — Прямой, Обратный, Верхний и Нижний. Им удалось взорвать Яи, самопроизвольно распался сопричастный вариал. Этим грустным поступком удалось предотвратить еще горшую беду — их пленение. Но исчезновение Иу — катастрофа, результатов ее не преодолеть объединенными усилиями всех Правых и Левых. Вариалы на краю гибели.
Я переглянулся с друзьями. Мы ничего не понимали. После светобури Правый держался гораздо спокойней.
— Может быть, вы разъясните, как пленение одного сочлена способно так повредить?.. Или он хранитель секретной информации, которая теперь в руках… простите, в силовых полях врагов?
— Ах, — простонал Правый. — Проклятые ладари похитили… Я содрогаюсь всеми своими полями, когда помыслю о такой утрате! Мы потеряли идею дружбы.
— Как? Или мы неправильно поняли? Вы сказали?..
— Да, именно, — горестно ответил Правый. — Мерзкому Тоду не хватает животворящих мыслей. В древности войны возникали из-за воздуха. Ропухи с ладарями питаются воздухом, сам Тод без этого отвратительного зелья… Ладари злодейски конденсировали наш воздух на губчатых поверхностях и удирали с добычей. К сожалению, многообразие наших реакций, лишь суммарно, а не единично отвечающих на раздражения… Вы меня понимаете, люди?
— Вполне. Ваша статистическая логика заставляет вас действовать хаотичней, чем действуют хищные ладари, — так?
— Логика у нас такая же, как у них. Злая воля Тода, направляющая ладарей, в бою дает им преимущества перед свободными вариалами.
И вот тут мы узнали, что идея, высказанная мной для забавы, вовсе не фантастична. Я, сам в это не веря, натолкнулся, по существу, на весьма трагическую черту дзета—мира. В каждом вариале материализована, по крайней мере, одна из важных общественных категорий, И Тод, чтобы не мыслить самостоятельно, похищает вариалов, обогащая себя недостающими идеями. Это можно было терпеть, пока у вариалов существовали материальные дубли идей. Но идея дружбы сохранилась в единственном экземпляре — естественно, двойном, то есть сопричастном бедному Иу. И сегодня основная половина экземпляра дружбы исчезла, а сопричастный еле пульсирует, и его с трудом удерживают от самоуничтожения, что было бы просто бедствием. Когда еще удастся восстановить категорию дружбы в ином материальном воплощении! И страшно подумать, что может совершиться за это время! К тому же дружба ропухам ни к чему, у них субординация. Похищение Иу не принесет им пользы.
— Артур, ты что-нибудь понял? — спросил Николай, когда мы покинули Правого. — Набеги для кражи мыслей… Да это мистика! Лично я печалюсь не о пропаже идей, а о похищении доброго и нежного друга! Теперь, когда я знаю, что он воплощал в себе идею дружбы, он стал мне еще дороже, чем когда я думал, что в нем загорелась любовь. А что до Иа и его отношения к Казимежу, то там самая несомненная любовь.
Артур возразил, что никакой мистики нет: Николай просто переносит понятия космоса в этот тоже материальный, но значительно менее предметный мир. Здесь основная материальная единица бытия — взаимодействие физических полей — свободно меняет пространственнотелесный облик. И моральные категории, связанные с взаимодействием полей, легко обретают телесную форму. Наоборот, наш мир, где моральные понятия и социальные категории облекаются в форму невещественных отношений, показался бы здешнему жителю чудовищной мистикой. Он был бы потрясен нематериальностью нашего мира. Он просто не мог бы понять, что это за штука — невещественное, не выраженное в образе предмета взаимоотношение людей в обществе и между двумя индивидами.
— Мне думается, вариалы лишены индивидуального мозга в нашем понимании, — сказал далее Артур. — Именно на это недавно указывал Полинг, и я теперь с Казимежем полностью согласен. Лишь полное их сообщество представляет мыслящую единицу, отдельный же вариал — или крохотный участок коллективного мозга, или материализованная частная мысль, как считает наш капитан. Даже Правые и Левые — не больше чем контрольные центры мыслительного аппарата. И тогда понятен неаристотелев тип логики у отдельных вариалов и близкие к нашим формы мышления у Правого и Левого. Лишь собранные в коллектив, вариалы мыслят по-нашему. А что пропажа того или иного вариала приводит к исчезновению определенных понятий, то ведь и гибель отдельных участков человеческого мозга вызывает повреждение не всего сознания, но лишь некоторых способностей — памяти, равновесия, ощущения тепла, гнева, голода и тому подобного.
Это было не совсем то, что утверждал я, но спорить я не стал. Для меня самого было неожиданно, что фантастические мои идеи в какой-то степени подтверждаются. И я готов был согласиться, что Артур глубже моего оценивает загадку общества вариалов.
Жак с сомнением сказал Артуру:
— Если ты прав, то должен существовать и некий верховный разум, тот мозг, элементами и мыслями которого являются сами вариалы. И этот мозг, несомненно, мыслит в категориях нашей логики, а не статистически. Но кто он? Где он? Почему мы не слыхали о нем?
— Все общество вариалов является своим коллективным мозгом, — ответил Артур. — К сожалению, мы пока не нашли способа общаться непосредственно со всем обществом, а имеем дело лишь с отдельными его членами, с материализованными мыслями и идеями, поддерживающими одна другую. Но когда-нибудь решим и эту задачу.
Николай стал злиться.
— Элементы целого — клеточки, нечто несамостоятельное. А эти ребята, вариалы, — законченные существа, хотя по-твоему лишь элементы какого-то огромного существа, а по Казимежу — материализованные мысли. А для меня каждый вариал — личность! Каждый со своим характером — разве не так? И они мне приятны, я хочу дружить с ними, с каждым в отдельности дружить! И хочу освободить попавшего в беду товарища. Полинг, почему ты молчишь? Объяви свое решение!
Я сказал:
— Наше пребывание в стране вариалов заканчивается. Следующий объект изучения — страна ропухов. Там мы объединим исследовательскую работу с борьбой за освобождение нашего друга, кто бы он ни был — необходимая часть общества или порожденная им и материализовавшаяся в образе доброго существа идея дружбы.
Глава вторая ВТОРЖЕНИЕ В СТРАНУ РОПУХОВ
1
Провожать нас высыпали, вероятно, все жители города — так их было много. Но по мере приближения к куполу то один, то другой отставал.
— Статистически бегут назад, хотя динамически продвигаются вперед, — объявил Николай.
Равнина уже не казалась загадочной. Расширяющаяся перспектива становилась для нас такой же естественной, как и сходящаяся. Лишь одно смущало: вверху простиралось одно и то же, не меняющее ни яркости, ни цвета небо — животворящее светило этой страны, если оно было, разрасталось на отдалении так, что виден был лишь крохотный кусочек его поверхности, сильно ослабленный от расширения на все небо.
— Прощаться с эскортом! — скомандовал я у купола.
Эскорт теперь был совсем невелик — девять вариалов, среди них Иа, Ие, Ии. Двое, Яу и Су, остановились в отдалении, еще четверо потихоньку увеличивались, отступая, но трое И, не покидая нас, взволнованно трансформировались, падали чуть не на голову, обреченно взмывали вверх, вспыхивали, почти погасали — всеми способами отговаривали от рискованного поступка: они не верили ни в спасение собрата, ни в наше возвращение из грозной страны ропухов.
Я вошел в купол последним. Во входном отверстии показался и мой Иа. Он один осмелился проникнуть внутрь страшного сооружения. Я пытался успокоить его, но статистическая логика на этот раз не срабатывала. Дешифратор на все уговоры доносил только истошные трансформации: «Дальше — нельзя! Дальше — нельзя!»
— Очевидно, все они гибнут, едва попадают к этому загадочному Тоду, — невесело проговорил Жак.
Потеряв терпение, я отмахнулся от Иа. Но он вклинился между Артуром и Жаком и, судорожно пытаясь удержаться внизу, трансформировал одну и ту же фразу: «Погибну с вами! Погибну с вами!» Даже обычные шумы несуразностей не забивали горестных воплей.
Жак с нежностью глядел на льнувший к нему, уменьшившийся до размеров человеческой головы зеленый комочек. Артур отвернулся. У меня сжало горло. Николай взволнованно сказал:
— Я понимаю, Казимеж, нельзя… Но ведь это не просто дружба, это гораздо больше… Прошу тебя! Заэкранируем Иа, это же можно. Не ты — ты должен быть свободным. Могу я, может Жак.
Я колебался.
— А если лишим вариалов какой-нибудь важной общественной категории?
— Сколько я уяснил себе, в Иа материализована категория жертвенности, но, кажется, она не единична у вариалов, так что потери не будет, — ответил Артур.
В отличие от Николая, он упорно отрицал возможность любви у вариалов — так на него подействовали откровения Правого.
Жак с мольбой глядел на меня.
— Введи его в свое поле, Жак, — сдался я.
Защитное поле хорошо держало вариала. Но, в отличие от нас, он пропадал из оптического пространства даже при слабом увеличении ротонного потенциала: люди отчетливо видели друг друга, когда он уже был невидим. Зато шумы логики почти стерлись: в человеческом поле у вариала резко уменьшилась неаристотелевость мышления. Впрочем, очевидным это стало лишь впоследствии.
Я выглянул на покинутую равнину. Осиротевшие Ии с Ие метались неподалеку, статистически оплакивая исчезнувшего товарища. Потом, словно испугавшись, что им тоже грозит участь попасть в ротонное поле, унеслись назад.
2
Мы знали, что проход в страну ропухов лежит рядом с выходом к вариалам. И около этого третьего отверстия Артур нарисовал извивающегося золотого дракона, распахнувшего огромную зубастую пасть. Мне этот рисунок показался лучшим из всех живописных творений Артура.
Как и в стране вариалов, перспектива у ропухов была расходящаяся. Но та, оставленная страна казалась пустыней сравнительно с той, куда мы попали, выйдя из купола.
Мы очутились на улице города, до того похожего на земной, что Николай не удержался от восторженного возгласа. Кругом вздымались дома, многоэтажные, ярко освещенные, каждый следующий выше того, что был ближе, а дальние такие громадные, что крыши зданий смыкались над головой.
Даже в стереотеатре, где спектакли разыгрывались впереди и позади зрителя, под ним, рядом с ним и на высоте, нам не приходилось видеть такого удивительного зрелища, как эти раскинувшиеся по бокам и над нами дома. И ни одно из закрывавших все небо зданий не выглядело кривым, они не переламывались, не изгибались, не заполняли собой высоту, как тучи или летающие предметы. Здания стройно вздымались ввысь, они были далеко и одновременно вверху. И от этого небо в городе казалось не сферическим, а конусообразным — все дальние дома смыкались в зените крышами, как шесты дикарского чума.
А на улицах проносились ропухи — гигантские вдали, метра на два вблизи.
По отдаленным силуэтам они представлялись крылатыми драконами вроде того, которого нарисовал Артур на входе в их страну.
— Пророческий рисунок, — с уважением сказал о нем Жак.
Но, присмотревшись, мы убедились, что лишь во время полета, когда туловище свободно извивалось в воздухе, ропух мог сойти за летающего змея. Опустившийся, он скорее напоминал человека, чем дракона, но странного человека, двухголового, с короткими руками, мощными ногами и поднятым хвостом, увенчанным небольшой короной. Такие же короны, но побольше — пять гибких прутьев с шариками на концах — украшали обе головы ропуха. Над шариками пылали огни Эльма. А на спине, животе и по бокам от голов к хвосту тянулись четыре зубчатых гребня, и на каждом зубце мерцали те же электрические огни.
Когда одно из чудищ, увешанное гирляндами искрящихся огней, промчалось мимо, вариал, обреченно сжавшийся в комочек в экранном поле Жака, едва не погас — так ослабело его свечение.
— Ропухи вещественны, — сверившись с показаниями анализаторов, установил Николай. — И вещественны в нашем смысле — твердых форм, четких пропорций. А летают, по-видимому, при помощи электростатических полей. Кстати, здесь имеется атмосфера. Помните, Правый говорил, что подданные Тода питаются воздухом.
— Пока они не открыли нас, — констатировал я. Больше всего я опасался немедленного нападения ропухов, внезапные сражения с неизученными врагами я недолюбливаю. — Итак, немного пофланируем по их городу невидимками.
Мы чуть не сталкивались с пролетающими ропухами. Ничто не показывало, что наэлектризованные летуны догадываются о присутствии невидимок.
В диковинных домах были стены и окна, освещенные изнутри, но отсутствовал даже намек на двери и ворота. При ходьбе облик города менялся — приближающиеся здания опадали, отдаляющиеся вздымались, а над головой перемещались квадраты освещенных окон.
Нетерпеливый Николай вскоре пожаловался, что наш метод знакомства с дзета—странами — ходить и присматриваться, ото всех таясь, — малоэффективен. Мы явились сюда для вызволения попавшего в беду друга, а не для прогулок по бульварам чужих столиц. Без прямого общения с местными жителями этого не добиться.
Я проверил связь с «Пегасом». Энергетические резервы межмирового лайнера могли быть вызваны в любой миг на помощь. Меня тоже не прельщала перспектива пассивного разглядывания чужого города. Но и рисковать не хотелось.
— Я обнаружусь один, а вы пока оставайтесь за экранами. Очередность выявления такая: за мной Артур, потом Николай, страхует нас Жак. Вариалом лучше не рисковать. В случае нападения на меня я снова ныряю в невидимость.
Теперь я был не только виден, но и доступен влиянию местных физических полей. Однако ропухи, усеянные электрическими огнями, вначале проносились мимо, не оборачиваясь. Потом один замер в воздухе, опустился передо мной и уставил на меня обе головы — переднюю и заднюю. Кроме двух коротких мощных рук, ропух обладал еще десятком руконожек, гибких и крепких, — в полете они развевались, как волосы, а на почве он поддерживал ими туловище вертикально. Головы ропуха мало напоминали человечьи — безносые лица, большой, с подергивающимися губами рот, один тусклый глаз надо ртом.
Интерес, вызванный у ропуха моим появлением, проявлялся сперва лишь в том, что разряды, срывавшиеся с зубцов четырех гребней, и огни Эльма, плясавшие на шарах двух корон, уже не вспыхивали и погасали, как при полете, а исторгались непрерывным электрическим гейзером. А затем в глазах обеих голов появился свет — крохотная недобрая точка, забрезжившая в глубине зрачка.
Дружественно протянув руку, я сделал шаг к ропуху.
— Не ослабляй слишком экран, Казимеж! — Жака обеспокоили раздраженные электрические разряды и зловеще засветившиеся глаза. Вариал, пугливо прижимавшийся к Жаку, спазматически твердил об опасности. — Он, кажется, готовит нападение.
— Пусть нападает! — Я сделал еще шаг вперед. — Ему не поздоровится, если он кинется на меня.
Но ропух не кинулся, а выстрелил глазами. Из обеих голов вылетело два световых пучка. Кинжальные пучки свободно промчались сквозь меня.
— Да у него лазерные гляделки! — удивленно пробормотал Николай. — Дай-ка ему силовую оплеуху, Полинг!
Вместо ответного удара я снова дружественно протянул руку. Около первого ропуха опустилось еще два. Эти тоже пытались испепелить меня глазами, и им тоже не удавалось. Ропухи больше не ударяли глазами, лишь недоуменно таращили их. И сейчас глаза их походили на человеческие, только глупые.
— Их способ речи — колебания электрических потенциалов, — сказал Николай, уловивший дешифровку. — И какой интервал напряжений — от единиц до миллионов вольт!
— У них опасная речь, — с тревогой сказал Жак. — Полинг, поберегись! Эти молодцы могут сразить тебя даже дружеским приветствием. Их ласка не менее грозна, чем их ярость.
Я все старался завести контакт с ропухами: по привычке прибегал к улыбке и дружелюбным жестам, потом возбудил вокруг себя переменные потенциалы. Ропухи сразу оживились, когда запульсировало вызванное мной силовое электрическое поле. Один, скосив набок заднюю голову, пытался ощупать меня руконожками — связка молний вырвалась из них. На какую-то долю секунды я весь был обвит синеватой огненной бахромой. Дешифраторы высчитали, что разность потенциалов в разряде достигла полумиллиона вольт, но разошлись в толковании поступка: мой дешифратор утверждал, что ропух воскликнул: «Добро пожаловать!», а дешифратор Николая информировал, что ропух проискрил: «Проваливайте!». Типичная картина дешифровки: я еще в космических странствиях установил для себя, что ни на один прибор такого рода нельзя твердо положиться, надо узнавать природу общения из того, как она реально совершается.
Ко мне потянулись и другие руконожки. Я сверкал и дымился, весь утыканный щетиной фиолетового пламени, — и сейчас с удовольствием рассматриваю стереографию, запечатлевшую меня в таком состоянии: Мне в тот момент казалось, что попытка погрузить незнакомца в электрическое пламя является местной формой приязни и доброжелательства.
Я легонько тронул своим разрядом ближайшего ропуха. Он был мгновенно сражен. Он оседал, беспомощно уменьшался, валился наземь, как водородный шар, напоровшись на гвоздь. Все в нем сморщивалось, тело превращалось в бесформенный мешок, упругие руконожки обвисали веревками, две головы становились тряпичными масками.
Через минуту на почве лежало нечто бесформенное и плоское — комочек кожи, распяленный на четырех погасших гребнях, беспорядочно завалившиеся острия корон… Ропух был будто высосан одним духом.
Еще удивительней было поведение его товарищей. Они не отшатнулись и не кинулись на помощь, а по-прежнему густо посверкивали и пощелкивали электричеством.
— Это сделал не я, — пробормотал я, оправившись от изумления.
— Это сделал ты, но ты, конечно, не хотел такого результата, — спокойно возразил Артур. — И сейчас я думаю…
— Что за чертовщина, надо их задержать! — раздраженно крикнул Николай, вырываясь в оптическое пространство. — Они удирают, словно ничего не произошло!
Оба ропуха не удирали, а неторопливо отлетали. Выявившийся из невидимости Николай в два прыжка нагнал их, хотел схватить за плечо ближайшего, но промахнулся и ухватил лишь за развевающуюся руконожку. И в тот же миг тяжкое содрогание свело почву. Один из небоскребов, закрывавших небо, стал разваливаться на куски. На нас посыпались искрящие осколки.
— Экран! — скомандовал я, защищаясь ротонным барьером.
Николай еле успел скрыться в невидимости. Потрясенные, мы молча следили за разразившейся катастрофой. Нам уже представлялось, что город уничтожен, так мощны были повторные толчки, так плотно вздымавшееся пламя.
Но когда утихли истребительные силы, вокруг снова виднелся город — выраставшие в отдалении, смыкающиеся над головами здания. Но то был изменившийся город — многие дома лежали в развалинах.
— Это сделал ты, Николай, — хмуро сказал Артур. — И в отличие от нашего капитана, у тебя нет оправдания.
Николай боялся смотреть на нас. Жак заметил, что катастрофа в городе перепугала Иа не так, как гибель ропуха. Вариал, внятно пульсируя, умолял отойти от оболочки ропуха, по-прежнему валявшейся неподалеку. «Тод ухватит! Тод ухватит!» — смятенно твердил Иа.
— Ладари, кажется, не только воины, но и дворники Тода. — Артур показал на суету у одного из разрушенных зданий.
Там копошилось с десяток таких же конусоголовых, какие недавно утащили Иу. Ладари проворно убирали остатки разрушений, двое потащили оболочку ропуха. Нас, скрытых экранирующими полями, они не обнаружили.
3
— Что дальше? — такой вопрос я поставил перед товарищами. Я не скрывал, что озадачен и огорчен, ибо ощущал на себе неведомую вину за гибель мирного ропуха. — В этой стране следствия несоразмерны причинам. Слово приветствия вызывает гибель, похлопывание по руке обрушивает дома. Если недавно мы бились над загадками статистической логики, то сейчас, похоже, попали в мир, где логика полностью отсутствует. — Я посмотрел на усмехнувшегося Артура. — Кажется, ты не согласен?
Артур сдержанно возразил, что такое наивное рассуждение странно слышать от рассудительного капитана экспедиции, к тому же наделенного способностью к вспышкам фантазии, — он намекал на мою идею, что вариалы — материализованные мысли. Логика у ропухов по первым признакам ближе к аристотелевой, чем у вариалов, так как здешний мир предметней мира вариалов. А если следствия мало соответствуют причинам, то дикарю, нажавшему кнопку и вызвавшему атомный взрыв, тоже вообразится, что огромное следствие — взрыв — не соответствует крохотной причине, легкому нажатию пальца. Мы в этом мире пока подобны дикарям. Надо терпеливо докапываться до смысла всякого явления и — прежде всего, важнее всего — разгадать природу таинственного Тода.
— Как ни возмущается Николай, лучший способ — и дальше бродить невидимками, — без энтузиазма постановил я. Мне все больше была не по душе роль невидимых соглядатаев: одно дело с осторожностью проникнуть в новое место, другое — обречь себя на роль лукавых призраков.
Мы опять зашагали по городу, осматривая дома. Вскоре мы открыли, что приняли за окна осветительные приборы — такую же стену, но только светящуюся. В воздухе извивались ропухи, ладарей больше не было видно. Ропухи выскакивали из темных труб, уходивших в недра здания, и, просверкав гирляндами огней и фейерверками искр, скрывались в других трубах.
— Будем следовать за ними, — сказал я.
Я проскользнул в отверстие одной трубы: пришлось повозиться, пока я прокарабкался в залитый светом зал. Жак измучился еще больше: он был крупнее и к тому же опекал снова впавшего от страха в полную апатию Иа.
Посредине зала передвигалась лента, заполненная тельцами ропухов без рук и ног. Вдоль ленты суетились ропухи. Одни взрезывали в безжизненных тушках отверстия, а другие вытаскивали из ящиков отдельные руконожки и поспешно заделывали их в тельце: рабочие у конвейера были сборщиками детей, своеобразными папашами и мамашами, а этот производственный цех — новым вариантом родильни. Правый говорил именно о таком, на конвейере, производстве ропухов.
В зале мощные электростатические поля создавали грозовую атмосферу. Вокруг корон ропухов метались огни Эльма, сухо пощелкивали короткие искры, непрерывно срывающиеся с остриев на гребнях.
Временами с карнизов и потолка низвергались молнии — на секунды становилось легче. Но быстро нарастали новые поля, и, пока их не разряжала очередная молния, духота сгущалась. То один, то другой ропух взлетал вверх и делал по залу круг, выбрасывая из себя накопленное электричество. Когда острые зелено-красные огни смягчались до фиолетового свечения, ропух опускался на старое место у конвейера.
Один вдруг отделился от других и стал быстро сморщиваться из тела в мешок. Не прошло и минуты, как на полу валялась лишь оболочка — две маски вместо голов, обмякшие руки и ноги, ниточки высосанных руконожек, кожаная наволочка бывшего туловища, распяленная на погасших жестких гребнях, две погасшие короны…
И снова ропухи отнеслись к гибели товарища как к заурядному происшествию. Соседи лишь немного отодвинулись. А вскоре набежали ладари, убрали мертвую оболочку — и хлопотня у конвейера продолжалась с прежней интенсивностью, и так же мерно трещали разряды, так же сотрясали грохотом периодически проносящиеся молнии.
Отойдя в сторонку, мы обменялись мнениями.
— Ясно, что мы встретились с организованным, а не хаотическим обществом, — сказал Жак. — Правый недаром говорил о субординации как основном принципе ропухов.
Николай высказал мысль, что силы, командующие действиями ропухов, — электростатической природы. Каждый — своеобразная лейденская банка, его лазерные удары порождаются собственными полями. Но энергия для них, по-видимому, притекает извне. Где-то есть исполинский генератор электрических полей, властвующий надо всем в этом мире.
— По-моему, этот генератор — Тод, — сказал Артур. — Он также и тот вампир, что безжалостно расправляется со своими согражданами. Уверен, что гибель двух ропухов на наших глазах вызвана им. Казимеж может перестать винить себя в гибели первого из них.
Я перевел гипотезы Николая и Артура в программу практических действий:
— Что ж, проникнуть к Тоду просто. Нужно только двигаться вдоль его силовых линий в сторону повышающихся потенциалов.
4
Мы пробирались по туннелям, по залам, то темным, то залитым сиянием, то лишь временами озаряемым электрическими разрядами. И с каждым метром извилистого пути приборы показывали увеличение электрического потенциала — мы приближались к точке гигантского сгущения зарядов. Жак попросил передышки, даже рвавшийся вперед Николай согласился отдохнуть. Еще раз сверившись с приборами, я поделился появившимся у меня беспокойством:
— Наш ротонный барьер — не волшебная оболочка, а конечное физическое поле. Если его пробьет, нам мгновенно придет конец. Стоит ли дальше рисковать?
— До пробоя ротонного барьера еще далеко, — возразил Николай. Он, как и я, непрерывно сверял движение с нарастанием электрического потенциала. — И дело не в одном Иу. Отступать, не узнав, кто же Тод, оснований пока не вижу.
Я всегда с недоверием относился к сильным электростатическим полям. После того как экипаж звездолета «Протей» во главе со знаменитым Арчибальдом Смагой внезапно погиб в электрической западне планеты М‑12 звезды Спики, астронавигаторы недолюбливают объекты, интенсивно излучающие электричество. А поле, погубившее «Протей», в десятки раз уступало тому, в каком мы двигались сейчас. И потенциал его продолжал нарастать!
— Ладно, пойдем дальше. Но мне начинает казаться, что Тод — вовсе и не существо, а чудовищное ядро, некий мешок, напичканный электрическими зарядами.
Но Тод был не ядро и не мешок, а, скорее, конструкция. В обширном зале возвышался помост, а над ним неподвижно висел исполинский ропух — такой же двухголовый, жадноротый, с огромными лазерными глазелками, с мощными гребнями и коронами, толстыми ногами и хвостом, утыканным антеннами. Приборы показывали высокую гравитацию и стремительно нараставшую электрическую напряженность — в теле Тода, лишь в два-три десятка раз превосходившем обыкновенного ропуха, концентрировались поистине чудовищные массы и заряды. Николай прошептал, что Тод напоминает галактического белого карлика по сгущению больших масс в небольшом объеме, — мы с ним часто встречали эти опасные звездные шарики в космосе. Я предупредил всех:
— Близко не подходить. Обойдем по окружности.
Через несколько шагов перед нами открылось страшное зрелище.
Пространство между стеною и помостом заполняли тела вариалов — подвешенные на силовых линиях, тихо покачивающиеся, давно погибшие, сморщенные и еще полуживые, мелко пульсирующие…
В этом жутком паноптикуме пленников мы увидели тускло-зеленого Иу. Вариал, медленно перемещаясь то вправо, то влево, обессилено трепетал, даже без дешифратора была понятна мольба: «Пощадите!». И нам, на миг забывшим, что мы здесь скрыты для всех глаз и полей, показалось, что именно к нам обращает свою пульсацию попавший в беду друг.
— Только смотреть! — повторил я, остановив рванувшихся к Иу Николая и Жака. — Ужасно не нравятся мне лазерные бельма чудища!
Обе головы Тода неторопливо поворачивались, задняя шея скручивалась винтом. Глаза исполина уставились на место, где кучкой стояли мы. В глубине зрачков пылали такие же яркие точки, как у всех ропухов, только пронзительней и крупней, скорее, горошины, а не точки. И они внезапно стали расти, блеск делался острей, уже не горошины, а костры зловещего пламени забушевали в глазах. Тод, пригибая туловище к помосту, весь выгибался в нашу сторону.
— Не может же он увидеть нас! — с испугом проговорил Николай. — Вот бестия!.. И как растет напряженность поля!
Два световых копья вырвались из глаз Тода. Пространство, где стояли мы четверо с вариалом, пробили молнии. Ослепленные даже сквозь светофильтры, оглушенные грохотом, мы в смятении отпрянули. Жак едва не упустил из своего поля отчаянно забившегося вариала, апатия у того сразу сменилась ужасом. Я крикнул:
— Он готовит новый удар! Всем отступать! Прикрываю отход! Если Тод и вправду являлся мешком с зарядами, то он свободно усиливал и уменьшал их величину: заряды словно зрели и наливались мощью в его теле, чудовищные силовые канаты вязали и скручивали пространство. Он, и не видя нас, безошибочно ощущал, что неподалеку появилось что-то чужое. Мы поспешно отходили к туннелю, а головы Тода грозно выкручивались нам вслед.
Жак уже стал ногой на порог, когда из глаз исполина снова вынеслись молнии. И снова ротонный барьер отбросил их. Один за другим мы исчезли в туннеле, а кругом бесновалось пространство. Факелы пламени, дико закручивающиеся поля забушевали вокруг.
— Наконец-то! — облегченно проговорил Жак, когда мы выскочили на улицу. — Я уж начинал думать, что наш дружеский визит к этому страшилищу добром не кончится.
Николай пожаловался на усталость. Совсем плохо чувствовал себя вариал. Артур предложил возвратиться на «Пегас», Жак и Николай запротестовали. Мы уселись на первой попавшейся площади. Дальше продолжать осмотр не имело смысла, везде город был с перекрывающимися в зените зданиями. Похоже, вся страна Тода состояла из одного города.
Мы подкрепились сами и помогли вариалу восстановить свои силы. Ручной фонарик стал хорошим источником питания для Иа. Даже кратковременное облучение, особенно когда фонарик настраивали на синюю и фиолетовую волны, быстро снимало усталость и повышало жизнедеятельность вариала.
Физически Иа воспрял, но терзавший его страх не проходил. Иа прижимался к Жаку и лихорадочно менял яркость и форму, умоляя скорей убраться отсюда. Жак осторожно приласкал Иа, как испуганного ребенка, и только это прикосновение руки человека немного смягчило нервную дрожь вариала. Я тоже подошел к Иа и, не касаясь его, утешил улыбкой и словами. У меня не было уверенности, что, дотронувшись, не поврежу чего-либо в этом полупрозрачном создании.
Я лег на спину, заложив руки за голову, справа от меня лежал в такой же позе Артур, слева сидел Николай. Мы молчали, прогулка по насыщенным электричеством помещениям утомила всех, а несколько минут в палате властителя довели усталость до изнеможения.
Каждый осознавал и без моих напоминаний, что если вылазка в страну радиалов была интересна, хоть и небезопасна, а знакомство с вариалами порождало иногда удивление, в целом же было приятно, то в зловещем городе ропухов любой шаг грозил бедой, и, откуда грянет неведомая беда, сообразить заранее трудно. Несмиряемый ужас вариала никого не заражал ответным паническим страхом, но предостережением об опасности доходил до всех.
Я угрюмо наблюдал странный город. Даже в горячечном бреду, даже в кромешных видениях больного не могла примерещиться жуткая картина ночного города ропухов. И, понимая, что чудовищность пейзажа проистекает от расходящейся перспективы и кошмарность его иллюзорна, а не реальна, я все не мог отделаться от ощущения, что город валится на нас всем своим исполинским нагромождением зданий.
В городе не было неба — ни мутно-золотого неба радиалов, ни смиренно-прозрачного, однотонного, всегда светящегося, без чередования дня и ночи неба вариалов. Дома, одни черные дома с квадратными светильниками псевдоокон: вокруг и в зените. И они напирали по кольцу на маленькую площадь, где мы разместились: те, что поближе — низенькие: выраставшие над ними — более дальние: а те, что были всех дальше, такие неизмеримо огромные, что они вздымались в зенит и там сливались, оттесняя и сминая друг друга, и ничего уже вверху не было, кроме нависающих черных стен, прорезанных уродливо искаженными пятнами псевдоокон.
И все-таки что-то почти зачаровывающее было в мрачном пейзаже города ропухов. Помню, что не мог оторвать глаз от сливающихся высоко над головой исполинских зданий. В той же песенке «Астронавигаторы Вселенной» — я уже вспоминал ее — мне приписывают изречение: «Чем страшней, тем красивей!». Никогда ничего похожего я не говорил. И никогда не стремился наслаждаться ужасами. Все это вздор. Но одно верно: я никогда не был и бесстрастным наблюдателем. «Холодный обсерватор» — нет, это не по мне, таким ироничным термином мы обозначаем людей, лишенных души настоящего астронавигатора. И глухие уголки космоса, где довелось побывать, не только были объектами равнодушного изучения, но и возбуждали сильные чувства — интереса и скуки, восхищения и гнева, радости и отвращения, преклонения и негодования… Разный, очень разный наш родной космос, одинакового отношения все его уголки порождать не могут. И я не видел основания по-иному относиться к новым мирам, первыми испытателями которых мы стали. Человеку свойственно не только действовать, но и созерцать. Корова наслаждается пейзажем, лишь поедая его, человек любуется им, пишет о нем стихи. Так вот, подводя итог длинному отвлечению, признаюсь: облик города ропухов был грозен, чудовищно мрачен, но что-то прекрасное было в его мрачности — я не мог не любоваться им!
Мне хотелось поделиться с друзьями своим настроением. Николая городские пейзажи не интересовали. Жак лежал с закрытыми глазами, около него сжался в комочек мой Иа. Мне стало совестно, что мало внимания оказываю созданию, так привязавшемуся ко мне, и поручил заботу о нем Жаку. Я усмехнулся. Жак заботился о вариале и ради вариала — он из тех, кто вкладывает душу в помощь Артуру, — но еще больше, чтобы освободить меня. Устав космопроходцев: «Капитан должен быть максимально свободен в своих поступках» — для Жака непререкаемая заповедь. Я обратился к Артуру.
Артур, как и я, лежал на спине, смотрел на город, смыкавшийся вверху крышами зданий, и о чем-то, как и я, размышлял. Я уже упоминал, что поначалу молчаливость Артура казалась мне отстраненностью, а сосредоточенность — надменностью. Лишь постепенно я стал понимать, что в Артуре постоянно совершается огромная мыслительная работа — и все постороннее отвлекает от нее. Но сейчас надо было срочно распутать трудные загадки.
— Артур, ты, конечно, думаешь о ропухах? Давай думать вместе.
— Видишь ли, Казимеж… Да, о ропухах. И о себе. Даже больше о себе. Одно связано с другим.
— Разъясни эту связь. Я ведь мало знаю о тебе. Только то, что надо знать о любом члене экипажа.
— Основное, стало быть, знаешь.
Он все-таки стал рассказывать. Главное о нем я и вправду знал. Он был выпущен из университета физиком, собственно, астрофизиком — так значилось в его дипломе. И диплом свидетельствовал не только о том, что Артур усвоил пропасть специальных знаний и должен в дальнейшей жизни опираться на них, — еще больше диплом говорил об его увлечениях. Николай часто острил: «Физические поля — не поле деятельности Артура, а почва, на которой произрастает его душа». Николай мог бы сказать и сильней: физические поля и частицы были для Артура не профессией, а страстью. Он признался, что даже в снах в пору учения в образе живых существ появлялись физические законы и затевали головоломные переплясы, мучившие наяву физические загадки: сны были незаурядно учены! В Артуре видели педанта, а он был одержим.
Посматривая на него с уважением, с ним общались с опаской. Иметь дело с выдающимися людьми всегда трудно. Николай так объяснял мне свои взаимоотношения с Артуром: «Он, конечно, гениален, но мы с Жаком научились это терпеть. Ты потом тоже сумеешь сносить его гениальность. Нелегко, но что поделать?».
Никого не поразило, что наиболее полную теорию пространств иных измерений дал именно Артур. От него ожидали крупных научных свершений — он осуществлял, чего ждали. И никто, в том числе и сам Артур, не сомневался, что уже в первом рейсе он детально изучит физику иномиров, так по расчету не похожую на физику космоса.
Физика и впрямь оказалась иной. Артур сосредоточенно анализировал ее, шагая с нами по разным странам, открывшимся из загадочного купола. Но, хоть и иная, физика была проста. Ее легко было описать простыми понятиями, изобразить несложными математическими структурами. Логика дзета—мира была куда запутанней — и с той же всеодержимостью внутреннего увлечения. Артур, оставив логику дзета—пространства, предался анализу мышления вариалов. Он не увидел в том отступления ни от душевных стремлений, ни от официальных заданий. Физика переплелась с логикой, нельзя разобраться в одном, не постигнув другого. Он и не подумал удивляться смене своих влечений.
А сейчас, с томлением всматриваясь в искарикатуренный городской пейзаж, Артур удивился себе. Физика страны ропухов была необыкновенна, но проста, с ней надо было лишь один раз встретиться, чтобы сразу понять. И логика местных жителей тоже не захватила, она была элементарней той, что определяла жизнь вариалов, — нечто среднее между логикой людей и трансформирующихся обитателей живого города. И единственным, чего он теперь не понимал, была социальная жизнь ропухов. Как появилось такое общество? Почему оно появилось?
Ни в школе, ни в Академии Артура не интересовали курсы древней истории, описывавшей, как трудно нарождалось на Земле общественное единство. И когда знаменитые астронавты рассказывали готовящимся в космическое странствие юнцам о дальних звездах, он выспрашивал о температурах, тяготении, кривизне пространства, потенциалах и ускорениях, физическом облике встреченных живых существ, но сразу остывал, когда речь заходила о формах их общежития. Социальными законами занимался Жак, это была его сфера. «Скучные у тебя, Жак, интересы», — иногда снисходительно объявлял другу Артур. И было странно теперь самому, что в стране ропухов, отдыхая от опасного знакомства с диктатором, он вдруг понял, что по-настоящему здесь интересно лишь то самое, от чего он всегда открещивался: не математика, не физика бытия, нечто совсем иное — как живут эти электрические существа, почему они так живут? До сих пор ревниво оберегая свою самостоятельность, он старался один добраться до решения всех загадок — эта не поддавалась, эту нельзя было одолеть в одиночку.
— Я бы поделился с тобой своими мыслями о ропухах, — сказал Артур, — только в двух словах не могу, а ты не любишь длинных речей.
— Я уже притерпелся к твоим длинным речам, — успокоил я его.
Он опять начал с факта, установленного наиболее твердо: в дзета—мире любая взаимозависимость принимает иную внешнюю форму, чем в предметном мире, хотя и там и здесь физические законы аналогичны. Допустим, что некогда у ропухов появился диктатор, подчинивший своей воле сограждан. На Земле духовная власть такого диктатора ограничилась бы растлением психики подданных, а физически уничтожали бы непокорных материальные средства его власти — тюрьмы, концлагеря, газовые камеры… Но в мире текучих внешних форм и мощных внутренних связей диктатор мог непосредственно, грубо энергетически ухватить души и тела. Поведение подданных попадало в такое всеобъемлющее подчинение владыке, что постепенно все их действия, до мельчайших житейских отправлений, становились следствием его решений. Так в дзета—мире подданные диктатора становятся физическими членами его тела, навечно прикованы к нему энергетическими цепями. Они же являются и его пищей, кровожадный диктатор существует, лишь пожирая их. И ропухи, погибшие на наших глазах, были, очевидно, его жертвами — диктатор мгновенно превращал их внутренности в заряды и пополнял ими свое могущественное тотальное поле. Что же до ладарей, то они, вероятно, в пищу диктатору непригодны и потому приспособлены для функции воинов и надсмотрщиков.
Рассуждения Артура о природе общества ропухов привлекли внимание Николая и Жака. Николай придвинулся, Жак, словно проснувшись, приподнялся и сел. Некоторое время мы все молчали. Если Артур не заблуждался, борьба за освобождение плененного вариала становилась чрезмерно опасной. Я сказал:
— Не могу утверждать, что ты меня полностью убедил, но в качестве рабочей я твою гипотезу принимаю. Какой из нее вывод?
— Мой вывод: скорее убираться! Излучение Тода так дьявольски велико, что наши защитные оболочки едва не пробило. И он ощутил наше присутствие. К следующей встрече он приготовится лучше. Мне не улыбается превратиться в сочлена его общества.
— Мы можем и не приближаться к нему, — возразил Жак. — Разве нельзя обойтись без прямого общения с Тодом?
— Это невозможно, Жак! Вспомни, как погиб ропух, когда Казимеж приветствовал его, и как обрушилось здание, когда Николай похлопал рукой второго ропуха. Нам тогда эти ответные действия показались лишенными логики. Но логика здесь была: сам Тод реагировал на наше воздействие на его члены и реагировал по-своему, а не как ропухи, будь они самостоятельны. Нет, друзья, с кем бы мы здесь ни общались, мы всегда будем иметь дело с Тодом, а это слишком опасно. Мы не вправе рисковать судьбой первой трансмировой экспедиции.
— Иначе говоря, Артур, ты отказываешься спасти Иу? — сказал Николай.
— Нет, я отказываюсь губить экспедицию.
— Ты с другим настроением вступал в эту страну.
— Я не знал, какими опасностями грозит эта страна.
Я не спешил объявлять свое решение. Колебавшийся Жак спросил вариала, верит ли он в спасение Иу. Вариал ответил, что до сих пор никто попавший в эту страну обратно не возвращался. Жак грустно поглядел на мрачного Николая.
— Мы, конечно, мало увидели в этой стране, — говорил Артур. — Мы не узнали, как добывают пищу, как возводят здания, как живут. Мы не исследовали досконально местных физических законов. Но уже знаем, что такая страна существует, имеем представление об ее общественном строе. Я не верю, что удастся вызволить Иу.
Николай взорвался. Он способен понять осторожность, осмотрительность, трезвый расчет, холодное предвидение, но не трусость и не черствость. Ему горько выговаривать такие слова, но они одни точны. Да, диктатор грозен, да, он абсолютно владычествует над своими подданными.
Но не над людьми! Генераторы «Пегаса» не только надежнейшая защита, но и могущественное средство нападения. Хватить диктатора ротонным молотом по башке, смять в гармошку его тотальные поля, освободить вариала — вот о чем нужно рассуждать, а не о бегстве! Пришло время заговорить мне:
— План твой отчаянно смел, Николай. Именно отчаянно! Но еще нет причин впадать в отчаяние. Ввязываться в опасную авантюру без твердой гарантии успеха не считаю возможным. Я сожалею о печальной участи Иу. Ни один из генераторов «Пегаса» не будет брошен против Тода. Завтра мы возвращаемся.
У Николая задрожал от гнева голос:
— Казимеж Полинг! Был бы ты капитаном на древних парусниках, бунты у тебя бы не вспыхивали… Мятежники еще до мятежа летели бы за борт! Ладно, поспим перед возвращением.
Он демонстративно отвернулся от нас. Я снова улегся на почву, Артур с Жаком потолковали немного и уснули. За ними уснул и я.
5
Я проснулся как от удара, вскочил и огляделся. Рядом мирно спали товарищи, мне со сна показалось, что все они тут. Но ротонное поле бешено пульсировало, его рвали могучие силы, оно сопротивлялось, будто живое существо. Мне почудился громовой гул далеких генераторов «Пегаса». «Тод обнаружил нас», — подумал я смятенно и вдруг увидел, что Николая нет. Еще недавно он лежал справа от меня, сейчас это место было пусто.
Я потряс Артура. Защитное поле уже не пульсировало, а, налившись мощью, окаменело. От волнения безгласный, я с физической реальностью ощутил, как два поля, свое и чужое, сплелись, словно два борца в смертельном объятии.
Артур мигом понял, что произошло.
— Какое безумие! — крикнул он и вскочил.
Он толкнул мирно спящего Жака, я с лихорадочной поспешностью проверил надежность связи с генераторами «Пегаса». Теперь я уже не сомневался, что грохот, потрясший меня изнутри, доносится из корабля. Машины трансмирового лайнера работали на таком энергетическом уровне, что дальнейшее форсирование вызвало бы разрыв дзета—пространства.
— Николай тайком пошел на выручку Иу и попался сам! — быстро сказал я. — Жак, защищай вариала. Все за мной!
Я несся по улице, не церемонясь с препятствиями. Даже услышав за спиной грохот обрушившегося здания, я не остановился. Направление было одно — в сторону возрастающих потенциалов, по линиям напряженности поля диктатора.
Но если днем поле это, жестко схваченное потенциальными обручами, было сравнительно спокойно и путь был хоть извилист, но однозначен, то сейчас излучения Тода рвала буря. Потенциалы то рушились вниз, то бешено нарастали, направления силовых линий резко менялись, энергетический ураган свирепо швырял нас.
— Скорей! — кричал я, взлетая и падая на гребнях силовых возмущений. — Николай борется! Скорей!
Позже, обсуждая полет в резиденцию Тода, и Артур, и Жак, и я вспоминали только одно: непостижимо меняющийся городской пейзаж. Город ошалело бежал вместе с нами, дальние здания рушились, приближаясь, бешено уносились назад, вздымались там, громоздились вполнеба. Стремительная смена пейзажа создавала иллюзию катастрофы: все происходило так, будто впереди беззвучный взрыв низвергал колоссальные строения, а позади такое же беззвучное вулканическое извержение бросало их вверх. Крича: «Николай жив, скорей, скорей!», я вторгся в последний туннель.
В угрюмом туннеле мы еще ясней почувствовали, какая титаническая борьба кипела внутри. Мы летели вперед, а на нас пачками разряжались непрерывно возникавшие, мгновенно сгущающиеся заряды: мы мчались словно бы в огненной трубе из тысяч прутьев и копий. Артур и Жак потом говорили, что виделось, будто острия разрядов исторгаются впереди из меня самого и что это наши тела, яростно наэлектризованные, выплеском молний устремляются на врага.
Я ворвался в тронный зал. Вслед за мною, столкнувшись плечами, вынеслись из туннеля Артур и Жак.
И не разумом, а интуицией мы сразу поняли, что успели к той последней минуте, когда еще можно предотвратить ужасный конец. Мы увидели Николая — подвешенного на невидимых цепях, отчаянно рвущего путы…
А напротив, все над тем же не то фундаментом, не то троном, исполинский ропух жестко и уверенно преодолевал сопротивление человека. Тод вывернулся туловищем на Николая, туда же смотрели обе головы, туда же были простерты два десятка хищных руконожек, в ту же сторону нацелены копья корон — гигант натягивал силовые линии генерируемого поля, как вожжи.
И в то первое мгновение, когда, охватывая окружающее единым взглядом, мы пытались единой мыслью оценить обстановку, мы безошибочно уловили главное: исполин не торопился. Движения его были спокойны. Он лишь погашал отчаянное сопротивление обреченной жертвы, а не боролся за собственное существование. То, что по дороге сюда мы восприняли как жестокую борьбу, где обеим сторонам достается, было в действительности лишь метанием попавшей в западню жертвы.
— Помогите! — прокричал Николай. Он выворачивал вбок лицо, словно ему затыкали рот.
— На него! — скомандовал я и ринулся на Тода.
Исполин повернул голову на новых пришельцев. Сумрачные вспышки озарили зал, выброшенные из глаз ропуха молнии пробили пространство, где за ротонной оболочкой, как за щитом, наступали мы. Одновременно с каждого острия корон сорвались свои разряды — огненные копья из глаз летели в чехле стрел с корон.
И видимо, тут же поняв, что электрическим разрядом новых врагов не сразить, ропух сконцентрировал свою мощь в противодействующем поле. Мы яростно рвались вперед, нас с такой же яростью отбрасывало. Мы были подобны дико налетевшему на море ветру — тонкий слой прибрежной воды удалось сразу смыть на глубину, но чем сильнее были потом порывы ветра, тем выше вздымались противоборствующие валы.
Артуру и Жаку не удалось даже стать вровень со мной. Артур прошептал, обессиленный:
— Полинг, у этого дьявола защитное поле усиливается вблизи не в квадрате, а, наверно, в десятой степени.
Я изменил план борьбы:
— Если так, то оно и ослабевает в десятой степени. Будем вырывать Николая из тенет.
Три новых поля мощно слились с ослабевшим полем Николая. И сразу в той же степени усилилось противоборствующее поле двухголового исполина. Николай уже не подтягивался к трону, но и вырвать его из силовых тисков не удавалось. Он неподвижно висел в воздухе неподалеку от умирающего Иу, на выручку к которому тайком пробирался. Но Иу еще слабо трепетал, а Николай, тесно обвитый, неподвижно распластался на высоте. Он потерял сознание — глаза закрылись, рот сомкнулся.
Я крикнул товарищам:
— Двухголовый мерзавец генерирует энергию пропорционально нашим усилиям: чем больше мы напрягаемся, тем он сильней отражает нас.
Артур поглядел на реявшего над фундаментом Тода.
— Ты нашел верное объяснение, Полинг. Наши усилия напрасны.
— В древности говорили: бабушка гадала, да надвое сказала. Ну-ка поднатужимся!
Но через минуту и я признал, что старания силой вырвать Николая из плена не дают результата.
— И мы должны будем увидеть, как этот хищник насухо высосет Николая! Как я, нет, как я, идиот, мог проглядеть, так позорно все проглядеть! Я ведь догадывался, что Николай задумал что-то неладное.
— Послушай Артура, Полинг. — Жак дотронулся до меня рукой. — Артуру явилась важная мысль. Надо посовещаться.
Не оборачиваясь, я кинул Жаку:
— А пока будем совещаться, Николая сожрут. Для совещаний поищем время поспокойней. Выше потенциал! Раз! Еще раз!
Новое усилие тоже не принесло успеха.
— Все же послушай меня, — попросил Артур. — Мы крепко держим Николая, так просто его не утащить. Можешь не оборачиваться, только слушай.
Все во мне протестовало против хладнокровного взвешивания «за» и «против», когда рядом погибал товарищ. Врага надо было с маху бить кулаком — так нас всех учил опыт. Но кулак был сегодня неэффективен, это я понимал не хуже Артура.
Исполин все так же невозмутимо реял над троном, обе одноглазых головы все так же зловеще посверкивали точками в глубине зрачков, с остриев передней и хвостовой корон срывались все те же багрово-фиолетовые электрические змеи. Не было признаков, что чудовище выдыхается.
— Видит он нас? — через плечо спросил я Артура.
— Во всяком случае, ощущает. Сомневаюсь, чтобы глаза ропухов являлись оптическими анализаторами. Скорее, это боевые орудия, а чувствилище — какой-то внутренний орган. Так поговорим?
— Я слушаю.
Я все не мог оторвать взгляда от безгласного, бесчувственного Николая, недвижно висевшего в воздухе всего в двух десятках шагов и более недосягаемого, чем если бы он был сейчас отсюда в триллионах километров.
Артур начал новую лекцию. К счастью, она была недлинной — и практические выводы из нее последовали немедленно.
6
— Если верно, что сопротивление Тода растет пропорционально атакующей энергии, — рассуждал Артур, — то почему каждый раз устанавливается равновесие противоборствующих полей? Это ведь удары столкнувшихся ураганов, бури, рвущие одна другую, вовсе не равновесия покоя. Я даю на это такой ответ, — сказал Артур. — Злодейское общество ропухов по-своему, по-злодейски, организовано совершенно. В нем осуществлен принцип максимальной экономии средств. Диктатор обычно тратит лишь ту энергию, которая нужна, чтобы поддержать функционирование общества. Все, что сверх этого предела, генерируется лишь в качестве ответной реакции. Диктатор, защищаясь, развивает такое же противодействующее усилие, как и то, что разрушает его. Откуда он черпает энергию? Все из того же источника — высасывает подданных. В обычное время он не уничтожает их больше определенной нормы — вероятно, столько же, сколько нарождается. Но в минуты опасности чем сильней атака, тем свирепей он пожирает их. Генераторы «Пегаса» идут на максимальном уровне — и он свободно отражает их натиск. Если бы было возможно в десятки раз увеличить поток энергии, ничего бы не изменилось, лишь в десятки раз больше число ропухов устлало бы высосанными оболочками улицы города.
— Подумай, что говоришь! — Не могу и передать, как меня возмутило спокойствие, «деловое» объяснение. — Ты заранее объявляешь напрасными попытки спасти Николая. Или я неверно понял?
— Ты понял верно. Никакой концентрацией наших физических сил мы не спасем Николая.
Резко повернувшись, я долгую минуту впивался глазами в Артура. Он холодно выдержал мой негодующий взгляд. Я обернулся к Николаю. Николай висел все в той же позе.
— Не буду спорить! Не время для научных дискуссий. Соглашаюсь с твоей теорией. Я уже привык соглашаться со всем, что ты изрекаешь. Но вдумайся, Артур, вдумайся! Ты ведь что говоришь? Надо прекратить борьбу. Наши энергетические ресурсы не безграничны, мы не боги, в конце концов, а люди. И мы обязаны информировать человечество о том, что найден реальный выход в иные миры. При этом колумбы трансмировых открытий потеряли одного члена экипажа — без жертв великие открытия не бывают, не мы первые, не мы последние… Вот твоя мысль! И она меня ужасает.
В спор вмешался Жак. Как и я, он не отрывал глаз от исполина и говорил, не поворачиваясь к нам. Нет, он согласен, о наших открытиях нужно информировать человечество. Но он не покинет Николая. Пусть товарищи возвращаются без него. Пусть ему оставят один из генераторов «Пегаса», он в одиночку поборется за Николая. Он постарается продержаться, пока Полинг и Хирота возвратятся во главе второй экспедиции, лучше оснащенной, чем наша. А если его силы иссякнут раньше… Две жертвы или одна — не такая уж разница, раз неизбежны жертвы.
— Я не считаю, что все возможности борьбы исчерпаны, я лишь против грубой силовой борьбы, — сказал Артур. — Предлагаю метод более эффективный. Надо бороться против Тода так же, как наши предки боролись на Земле против подлости и низости.
Он пояснил свою мысль. На Земле в старину велась не только вооруженная борьба, но и идеологическая. Против низменных идей национального и расового чванства, умаления личности были направлены великие идеи, ставшие могучей материальной силой, — человеколюбие, уважение наций и рас, равноправие, братство, свобода… Победили высокие, а не подлые идеи. И сейчас мерзкие принципы угнетения, всеобщей подчиненности верховному вампиру, цементирующие общество ропухов, нужно взорвать высокими человеческими идеями.
Я вспылил:
— Агитировать, что ли, эту энергетическую станцию на троне? Ждет он твоей агитации, как же! До чего ты порой пренебрегаешь реальностью!
— Ты забыл, что в этом своеобразном мире иная, чем у нас, реальность, что здесь идет своеобразная война за идеи. Разве не об этом говорил Правый? Я хочу действенно ввязаться в эту войну. Только она вызволит Николая! На Земле идейную борьбу осуществить даже труднее, чем в дзета—мирах. Парадоксально, но факт, — продолжал Артур. — В нашем предметном мире идеи кажутся чем-то невещественным. Смешно, например, говорить — идея человеческого достоинства имеет столько-то метров в высоту, а масса ее измеряется в центнерах. Но в дзета—мирах любая мысль дана непосредственно силовыми полями. Когда Тод захватывает вариала, носителя нужной ему идеи, он присоединяет к своему силовому полю новое поле — материальный эквивалент той идеи. Почему до сих пор не погиб несчастный Иу? Очевидно, персонифицированная в нем идея дружбы не нужна Тоду. В пищу Тоду Иу не годен, а от силовых полей, выражающих дружбу, диктатора мутит. Я раскрываю барьер и выявляюсь, — закончил Артур. — Диктатор начинает немедленно высасывать мои мысли и мое вещество. От гибели вещественной меня защищаете вы через ротонный канал, а мысли мои он получит такие, от которых его взорвет. Это будут именно те идеи, которые победили в великой борьбе прошлого, — идеи свободы и равноправия, уважения ко всему живому и разумному, независимо от нации, расы и внешнего облика.
— Он не примет твоих взрывных идей. Не забывай, что Иу он и не подумал высасывать.
— Он примет их! До сих пор он сам выбирал, что из добычи перевести в свои поля. Я заранее переведу все губительные для него идеи в код его физических полей и побеседую с ним на его языке. Моя агитация будет вполне материальна. Я сыграю роль гигантского шприца, введенного в организм диктатора, и будем впрыскивать лишь нужные нам лекарства!
Я молча посмотрел на Жака.
— Опасный план, — сказал он нерешительно.
— Отличный план! — воскликнул я в восторге. — Артур, быстренько переводи великие идеи на энергетический язык ропухов, а я позабочусь, чтобы они достигли наивысшего накала. Все генераторы «Пегаса» будут работать на тебя!
7
Тод действовал с быстротой машины. Все совершилось почти мгновенно — выявление Артура в дзета—пространстве, хищный удар исполина. Приборы зафиксировали резкий всплеск напряженности поля. Ухваченного гигантской разницей потенциалов Артура швырнуло к подножию трона. Тормозное поле «Пегаса» уравновесило силовые клещи Тода, Артур закачался на высоте. Теперь было два подвешенных на силовой сетке человека — неподвижный, бесчувственный Николай по одну сторону трона и хладнокровный, приготовившийся к жестокой борьбе Артур по другую.
— Все в порядке! — ровным голосом сказал Артур. — Убавь противодействие, Казимеж. Мне надо подобраться ближе.
Вскоре Артур находился в такой опасной близости от помоста, что если бы исполин подвинулся на половину туловища, он сумел бы уцепиться руконожками за человека. Но ничто не показывало, что ропух готовится к прыжку. Диктатор невозмутимо реял над троном, лишь гибкие руконожки словно натягивали невидимые силовые линии. Одна голова была повернута к Николаю, другая к Артуру. Меня с Жаком, стоявших вместе с Иа неподалеку от входа, Тод на этот раз не уловил.
Дешифраторы показывали, что на основное притягивающее поле ропуха накладывалось множество обертонных, специального назначения — анализирующие, разведочные. Исполин методично искал зацепок в организме Артура. Он намеревался подчинить себе Артура, а не высасывать очередную жертву. Но все поисковые поля Тода наталкивались на глухие барьеры: контакта с этим неожиданно появившимся существом не было. В действиях Тода проступило раздражение: ощупывающие поля стали интенсивней, в зрачках загорелся острый огонек, предвещавший разрядно-лазерный выпад.
— Пора поговорить с ним на его языке, — невозмутимо, будто спокойно рассуждая в спокойном месте, а не готовясь к отчаянной борьбе, сказал Артур. — Для начала вспрыснем порцию понятий равноправия и братства.
Зловещие огни в зрачках ропуха погасли. Старательно нащупываемый контакт с Артуром наконец удался. Приборы зафиксировали новый всплеск напряженности. Вздымая потенциалы своих полей, Тод уже собирался вторгнуться внутрь жертвы через раскрывшийся вход.
Но это был выход, а не вход. Машины «Пегаса» работали на надежном энергетическом уровне. Не хищные поля Тода ворвались по внезапно осуществленному контакту в организм Артура, а мощная река энергии ринулась в самого Тода по подставленному им желобу. Перевод человеческих понятий на энергетический язык ропухов был осуществлен дешифраторами так совершенно, что человеческое поле слилось с полем Тода плотно, как две руки в крепком рукопожатии. Энергия «Пегаса» рушилась, не встречая сопротивления, как вода в пропасть.
И в эти первые секунды сражения диктатор, захваченный врасплох, окаменевший, лишь ошеломленно глотал накачиваемую губительную пищу. А потом его свела судорога. Тупая величественность истукана сменилась диким метанием. Гигантский ропух упал на помост, отчаянно подпрыгивая на руконожках. Еще не пришедший в себя от неожиданного удара, растерянный, возмущенный, он исступленно пытался отделаться от наполнившей его боли.
А затем началось то, к чему готовился Артур, набрасывая план сражения. Тод сообразил, наконец, где источник зла. Разъяренный, он кинулся в контратаку. Он уже не подпрыгивал и не метался, жалко увиливая от боли. Он повалился животом на трон, стремительно сгущая в себе заряд. Уже не стрелы, а копья летели с ощерившихся остриями корон, четыре гребня на туловище пылали сотнями прожекторов. Потенциал генерируемого Тодом поля взметнулся так высоко, что и без приборов почувствовалось, как жестко напряглись силовые линии.
— Он готовит страшный удар, Артур! — предостерег я. — Я прикрою тебя защитой.
— Не надо! — уверенно отозвался Артур. — Усиливай энергию братства и равноправия. Это лучшая защита!
— Сколько же в этот миг он жрет своих подданных! — горестно прошептал Жак.
Я не послушался Артура, а нанесенный Тодом удар был погашен ротонным щитом. Какое-то мгновение мы с Жаком все же опасались, что Артур если и не погиб, то ранен. Смерч бушующего огня взметнулся на месте, где покачивался на силовой подвеске Артур, он пропал в крутящемся багровом столбе. А в пламенный факел, поглотивший человека, непрерывно, пучками, били молнии с потолка и стен.
— Все в порядке! — радостно закричал Жак, когда Артур, невредимый, вновь обрисовался на высоте. — Защита сработала.
— Ты поспешил! — сердито крикнул мне Артур. — Поток нашей энергии прерван!
Тоду удалось мощным разрядом разъединить захваченный людьми контакт с его полей. И сейчас он, содрогаясь всем энергетическим нутром, пытался выплюнуть введенные в него чуждые поля. Но с той же силой, с какой он старался избавиться от них, мы вгоняли обратно все, что он исторгал. А затем ротонный барьер обволок вампира, как пластырь, и всякая утечка энергии прекратилась.
— Мы мало ввели в него наших понятий, — сказал Артур, опускаясь на пол. Внешнее поле ропуха ослабло, он боролся не столько уже с врагами, что напали извне, сколько с врагом, взрывавшим его изнутри. — Я не убежден, что мы уже победили.
В зал ворвался отряд ладарей. Цилиндрические фигурки на тонких ножках проворно забегали по залу. Два конуса, заменявшие головы, тревожно меняли окраску — десятки как бы раздуваемых ветром факелов метались вокруг властелина и атаковавших его людей. Меня с Жаком, остававшихся за экраном невидимости, ладари обнаружить не сумели, но на Артура кинулись всей толпой. Защитное поле Артура разметало их, как метла пушинки. Тогда ладари набросились на Николая. Жак двумя ударами поля отогнал их оттуда. Ладари переметнулись к единственному доступному месту у трона и топтались там, озаряя властителя жалобными вспышками света.
А Тода трясла лихорадка, периодически налетавшая жестокая конвульсия сводила его всего. Отчаянно наращивая заряды и разряжая их в последующем выплеске, он все старался исторгнуть посторонние поля. И снова пытался перекрыть силу силой. Напряженность поля быстро нарастала, Тод вздымал огромный потенциал — уже не вспышка, а лавина энергии должна была прорвать сдавившие его заслоны.
Артур хладнокровно оценил усилия врага.
— Кое-что он, возможно, и выплеснет из введенной ему взрывчатки. Но структура его общества уже основательно поколеблена. Вспрыснем ему теперь солидную порцию протеста против тирании. Добрая человеческая идея борьбы угнетенных против угнетателей — вот что его прикончит.
На несколько минут тронный зал диктатора снова превратился в огненную печь. Исторгнутые из стен и потолка, из самого Тода молнии перебивали одна другую, сливались в реки пламени. Но когда взрыв отгрохотал, мы находились на прежних местах, а диктатор, опустошенный, еле подрагивал. По всему залу были разбросаны испепеленные, раздробленные телохранители, а оставшиеся в живых ладари ошалело бродили, слепо отыскивая выход из этого ада.
— Пора, Казимеж! — крикнул Артур.
Я перевел генераторы «Пегаса» на новый код. В зал вторгся второй отряд ладарей, вызванных Тодом на помощь, и их, как и первых, без усилий разметали наши защитные поля.
Обессиленный исполин не ощутил вначале, как по новым каналам ринулась в его недра человеческая энергия. А когда попытался бороться, было поздно. Он свалился с трона, судорожно катался по полу, бился туловищем и руконожками. Несколько верных ладарей метнулись ему на помощь, на них набросились другие. Схватка запылала среди стражи диктатора. Возбужденно пересвечиваясь конусами, ладари шли стеной на стену. Некоторые в остервенении вцеплялись в руконожки диктатора, но тут же гибли, раздавленные его судорогами.
Во всеобщей сумятице вдруг ослабели силовые тенета, державшие Николая. Николай рухнул на пол, неподалеку свалился Иу. Жак кинулся к Николаю и обхватил его руками. Я запоздало крикнул, чтобы Жак не выявлялся из невидимости, но нужды таиться уже не было — агонизирующий Тод перестал быть опасен. Упавший на пол Иу мигом ожил, чуть освободился из силовых кандалов.
Жак встревожено прокричал Артуру:
— Прекрати атаку!
Артур ожесточенно наращивал усилия.
— Сейчас я его добью!
Жак с Николаем на руках подбежал ко мне.
— Останови его!
— Артур, довольно! — приказал я. — Мы победили, хватит. Артур, захваченный азартом битвы, и не обернулся. Я перекрыл каналы энергии. Междоусобная битва ладарей продолжалась с прежним ожесточением, но Тод перестал конвульсировать. Он лежал у трона беспомощный, а приборы показывали, что в нем медленно растут заряды.
— Зачем вы меня остановили? — возмущенно крикнул Артур. — Он возвращается к жизни! Полинг! Дай еще энергии.
— Нельзя, Артур. Ты тогда уничтожишь всех ропухов! Материальные условия для освобождения этого народа еще не созрели. А теперь бежим — и поскорей!
Я перехватил у Жака бесчувственного Николая и первым юркнул в туннель. За мной торопился Жак с двумя вариалами под силовым экраном, как под плащом. Артур, замыкавший отряд, остановился у входа и оглянулся.
Он потом рассказывал, что очнувшийся вампир силился взобраться на покинутый трон, но срывался и падал к подножию. А прекратившие сражение ладари растерянно толкались вокруг набиравшего мощь властелина и, тревожно высвечивая конусами, допытывались один у другого, что произошло.
8
Только снаружи мы уразумели, какое потрясение совершилось в государстве ропухов. Город выглядел словно после месяцев истребительной осады. Здания несли следы повреждений, многие были разрушены — дымящиеся завалы преграждали дороги. На улицах, на перекрестках, на площадях валялись трупы — оболочки высосанных ропухов, останки задавленных развалинами. И всюду погасли светильники, похожие на окна, лишь черные стены, перемежаемые руинами, вздымались издалека. Было, однако, светло — сумрачное сияние самой атмосферы озаряло полуразрушенное царство ропухов.
В начале наше бегство происходило в электрически нейтральной среде, но чем дальше удалялись мы от тронного зала, тем душней делалась атмосфера, напряженность на время погасших полей возрастала — Тод возвращался в нормальное состояние.
А неподалеку от купола между зданиями уже рвались искорки мелких разрядов, и впереди вдруг рухнул бежавший ропух, тут же высосанный.
— Наконец-то! — с облегчением сказал Жак, вбежав в купол.
Я положил Николая на почву и снял экранирование. Николай лежал бледный, почти бездыханный. После массажа и облучения он открыл глаза. Сперва он смотрел на нас, не узнавая, потом увидел ликовавших вариалов и попытался приподняться.
— Освобожден! — прошептал он с удивлением. — Иу жив!
— Лежи, лежи! — сказал Жак. — Все живы. А пока лежи.
Артур подошел к Жаку.
— Спасибо, Жак. Я бы потом себе не простил…
Жак улыбнулся смущенному Артуру:
— Я так и думал, что ты был просто в запале битвы!
Оставив Николая на попечении носившихся над ним вариалов, я отвел Артура и Жака в сторону.
— О чем вы толкуете? Вот теперь время посоветоваться.
— О том, как освободить ропухов от их нынешнего рабства, — ответил Жак.
— Нам четверым эта задача не под силу, — сказал Артур. — Просто сразить тирана невозможно. Я думаю, людям придется поработать над проектом энергетической станции, которая возьмет на себя организаторскую функцию Тода без его вампиризма. А потом, постепенно, мы восстановим индивидуальную самостоятельность ропухов. В общем, будем докладывать Земле. И думаю, для этого надо на время отложить дальнейшее исследование дзета—стран.
Мы возвратились к Николаю. Услышав, что надо собираться в обратный путь, Николай с усилием поднялся. Он радостно сказал:
— Немного кружится голова. Но ходить уже могу.
Я сообщил вариалам, что пришло время расставаться. Взять их с собой мы не можем. Когда-нибудь не только люди будут посещать страну вариалов, но и пригласят их в гости к себе. Но это не скоро.
Я объявил минуту прощания. Николай постарался растянуть минуту на час. Оба вариала горестно метались между нами, приникая то к одному, то к другому, ярко вспыхивали и погасали, то словно взрывались, то сгущались в комочки. Опечаленный Жак посетовал, что не может по-человечески обнять и прижать к сердцу новых друзей. С лица Артура не сходила ласковая улыбка. Всегда сосредоточенный, теоретик с такой грустной нежностью глядел на полупризрачные создания, реявшие вокруг него, что даже Николай не смог бы сейчас упрекнуть Артура в сухости.
Я побаивался было, что Иа, не захотевший расставаться с нами, когда мы двинулись в страшную для него страну ропухов, теперь тем более не пожелает покинуть нас. Но он безропотно согласился идти к своим.
— Жак, если Иа персонифицирует любовь, то она не моногамна, тебя он любит с такой же силой, — пошутил я. — Вытри глаза, ты слишком сильно горюешь.
Смирный Жак ответил неожиданно резко:
— Тебе бы тоже не мешало вытереть глаза, Полинг. И напрасно ты пытаешься скрыть свое волнение насмешкой. — Он помолчал и добавил: — Что Иа — любовь, для меня сомнений нет. Но еще, кажется, в нем персонифицируется идея охранения и жертвенности.
Возражать я не мог. Я и сегодня не знаю, какая идея материализована в прекрасном зеленом Иа, излучавшем в чистой волне пятисот пятидесяти миллимикронов. Оставим решение этой загадки будущим испытателям трансмиров. Ясно одно: этот чудесный, непрерывно трансформирующийся комочек сияния светил глубоким, нежным светом, проникшим нам в душу навсегда. Я бы еще многое мог сказать, но не люблю сентиментальностей. — Пора, друзья! — сказал я. — Пора, пора! Первым вылетел из купола Иа, за ним умчался Иу. Николай со слезами на глазах махал им вслед рукой. Я обошел купол по внутреннему периметру. Возле трех обследованных выходов красовались знаки нашего посещения: солнцеподобная голова, красный бык, золотой дракон. Три отверстия были темны и таинственны.
9
До «Пегаса» Николай добрался легко, а на корабле ослабел. Мы уложили его в салоне. Я с Артуром стал готовить «Пегас» к возвращению. Около Николая сидел Жак.
Николай с наслаждением осматривался, с наслаждением втягивал в себя воздух. От него опять пахло его любимым кремонским «Эликсиром бодрости».
— Знаешь, забронированные в наши ротонные скафандры, мы обменивались только мыслями, и я потерял ощущение, что мы люди, а не вооруженные до зубов призраки, как и все те, с кем встречались, — весело сказал он Жаку. — Запах моих духов напоминает мне обо мне самом…
— Ты отдыхай, — заботливо проговорил Жак. — Ты лежи и отдыхай.
Но Николай скоро соскочил с постели и объявил, что уже не нуждается в сиделке. Он хотел присоединиться ко мне и Артуру: подготовка корабля в обратный путь требовала многих операций.
— Обойдемся без тебя и Жака, — сказал я. — Могу вам дать специальное задание — подумать, как станем отчитываться перед Землей о первом рейсе в иномиры. Материалы для общего доклада будем подготавливать все.
— На меня с Николаем, как на астрофизиков, ты, очевидно, специально возложишь анализ физической природы дзета—пространства, — сказал Артур. — Не возражаю также и против раздела о логике и математике, это могу сделать и один.
Николай грустно усмехнулся:
— Не знаю, чем смогу помочь Артуру. В космосе я немного разбираюсь, но физику и геометрию дзета—мира Артур понимает гораздо лучше меня.
— Артур — не сердись, Артур! — понимает физику дзета—мира лучше нас всех, но, боюсь, изложит ее так же сухо и учено, как писал свой предварительный доклад о двенадцатимерном мире. А ты можешь добавить красочных подробностей о встречах с радиалами и вариалами, о своей дружбе с Иу, о своей схватке с Тодом — и, поверь, это будет всем интересно. Мы с Жаком займемся описанием общего хода экспедиции и анализом социальной природы обществ, с которыми подружились и с которыми боролись.
Жак покачал кудлатой головой.
— Бери себе эти разделы, Казимеж. Ты сумеешь их выполнить лучше, чем я.
— Ты не хочешь участвовать в общем докладе, Жак?
— Хочу, но предпочел бы развить другую тему. Мне приятней будет анализ того, что Артур называет инвариантами миров.
— Первый инвариант всех миров — тот, что они материальны, как и наш, — заметил Артур. — Правда, они лишены нашего стабильного предметного облика, но в них действуют те же физические законы, а все их силовые поля существуют объективно и независимо от нашего сознания, а это и есть определение материальности. Но я думал, что выяснение физических инвариантов относится к проблематике нашего с Николаем раздела…
Жак, засмеявшись, успокоил друга. Он не собирается вторгаться в его разработки. Существует еще один великий инвариант, Артур о нем просто забыл, — человеческая мораль. Законы справедливости остаются теми же, в какие удивительные миры ни попадает человек в своих странствиях по Вселенной. Предметный облик меняется, образ жизни меняется. Но на этику не распространяется закон обратных квадратов, командующий физическими полями. Если мы обнаруживаем в каком-то новом мире чудовищную несправедливость, она не ослабляется в четыре раза, когда мы отдаляемся на двойное расстояние от места, где ее обнаружили. Угнетение слабого сильным, увиденное на далекой планете, не пропадает, когда планету экранируют другие тела. Социальная несправедливость, социальное зло не превращается в добро, когда мы от них отдаляемся. И стремления помочь товарищу, освободить угнетенного, вызволить бедствующего, просветить темного — нет, они не тускнеют никогда, они инвариантны в нашей душе, где бы мы ни оказались. Наша душа радуется, если находит среди незнакомых существ дружбу и взаимоуважение, и переполняется гневом, если встречается с рабством, с издевательством одного над другим. И этот нравственный инвариант, никогда и нигде не покидающий человека, залог того, что вслед за первой экспедицией в иномиры последуют другие — лучше подготовленные, мощнее оснащенные. Мы и на Земле будем мечтать возвратиться к вариалам с защитой от ладарей, к ропухам с освобождением их от рабства. Вот об этом и хочется ему поговорить в докладе.
— Согласен, бери этот раздел, — решил я. — А потом все написанное передаем Артуру. Он составит наш общий доклад.
10
— Подожди, Казимеж! — попросил Николай, всматриваясь в стереоэкран. — Минуты две на осмотр, потом выявление.
На стереоэкране виднелась картина, до того похожая на ту, что была при старте, что она казалась невероятной. В стороне валялись обломки испепеленного звездолета «Нептун», курдин угрюмо щерил дуло, на площадке слонялись люди, подбиравшие разлетевшиеся камни и ящики. В стеклянной рубке перед стереоэкраном стоял Кнут Марек, наш милый Кнут Марек, наш язвительно-лукавый шутник, наш добрый друг и руководитель Кнут Марек! Мы услышали его торжествующий голос:
— Таким образом, дорогие земляне и обитатели соседних планет, я закончу свое сообщение о старте в иномиры одной фразой: вылет «Пегаса» в иные пространства, который вы только что видели, блестяще удался. Следующая задача — ждать возвращения наших колумбов, а если оно, затянется, попытаться наладить с ними связь по ротонному каналу.
Николай в упоении хлопнул себя ладонями по коленям.
— Великолепно! Артур, у тебя ошеломленный вид! Признавайся, ты ведь не ожидал, что мы возвратимся точно в минуту отлета?
— Да, это еще одна проблема, которую надо исследовать, — задумчиво сказал Артур. — На длительное путешествие в иномиры мы совсем не затратили галактического времени. Иначе говоря, пребывание в иномирах иновременно! Понятия не имел, что так будет!
— Снимаю невидимость. Приготовиться к раскрытию в родном пространстве! — скомандовал я.
ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ Научно-фантастическая повесть
Глава первая ВЕЛИКИЙ АРН НА ПОКОЕ
Что Арнольд Гамов, выйдя на пенсию, уединился в домике на заповедной Куршской косе юго-восточной Балтики, мне было известно. И что он не откликается на телефонные звонки, не отвечает на письма и телеграммы, не принимает приглашения на торжественные встречи и деловые совещания, тоже не составляло секрета. Я все же решился проникнуть к нему. Я надеялся, что самый знаменитый звездопроходец нашего времени заинтересуется моделью сверхмощного галактического крейсера, разработанного в нашем конструкторском бюро. Экспертная комиссия Большого Совета отвергла этот вариант космического корабля, компьютер Института Звездонавигации из ста восьмидесяти тысяч слов, хранившихся в его памяти, выбрал только два для оценки конструкции: «Неразумно смело». После такого убийственного заключения нам оставалось лишь поднять руки. Мои сотрудники, не пожелав сдаваться, задумали привлечь к экспертизе Гамова.
Но он не ответил на письмо. Институтские астронавигаторы ехидничали: легче-де спроектировать новый корабль на «отлично», чем добиться от старого поисковика хотя бы малого знака внимания. Тогда я взял расчеты и чертежи и вылетел к Гамову. Я знал, что у него живет садовник Таллиани и что тот лишь по профессии садовник, а по призванию — цербер: свирепо спроваживает любого сразу после фразы «Здравствуйте, я хотел бы…», а кто немедленно не убирается, тому предстоит любоваться распахнутыми пастями трех чудовищных догов, ждущих лишь сигнала, чтобы прыгнуть. Признаться, я не очень верил таким россказням. В прошлом, говорят, бывали и злые сторожа, и цепные собаки, и замки на дверях, и прочие жуткие вещи, о которых ныне давно забыли. Правда, от Арнольда Гамова, когда он ходил в дальний поиск, всегда ждали необычайного. «Чудаковатые находки вполне в духе великого Арна», — выразился о его открытиях друг Гамова Крон Квама. Не удивительно, что и на Земле он, постаревший, но сохранивший прежнюю чудаковатость, не слишком считался с обычаями.
Это вступление должно объяснить, почему я три раза звонил у ворот, не решаясь перешагнуть порога. Никто не откликался. Не показывался и садовник Том Таллиани, которым меня пугали, не появлялись готовые разорвать исполинские псы. Я прошел по дорожке, обсаженной сиренью и розами, к домику. Кончался май, сирень пьяно цвела, распускались розы. В липах, обступивших дом, заливались соловьи. Домик был одноэтажный, три окна на дорогу, столько же на море, с верандой на юг. Постучав в дверь, я убедился, что она не заперта, и вошел. В доме было пять комнат, четыре небольшие, одна побольше, со стереоэкраном и стеклянными шкафами — что-то вроде музея минералогии и чучел неземных животных. Никого в комнатах не было. Я вышел на веранду. От нее шла дорожка на берег. Я направился к морю.
Садик метрах в двадцати от домика упирался в береговую дюну. Песчаная, невысокая, засаженная — для крепости — колючими кустиками, дюна служила естественной защитой от моря: даже в бурю волне не одолеть такой преграды. Балтика, светлая, в белой пене катящихся на берег волн, открылась наотмашь. Шел шторм с юго-запада, странный, мало напоминающий обычные бури, когда ветер гонит валы, клонит деревья, свистит травой и ветками, вздымает песок. Волны взметались немалые, метра на два, а ветра не было. Зрелище безветренной бури захватило меня, я не вдруг заметил старичка, согнувшегося на склоне дюны. Он был похож на замшелый пенек, седой, лохматый, в сером, плотно облегающем комбинезоне. Он не обернулся, только тихо сказал — и я сразу узнал глуховатый, протяжный голос, столько раз слышанный со стереоэкрана:
— Садитесь, и помолчим, хорошо?
Пристроившись рядом, я искоса поглядел на него.
Голос за те двадцать лет, что «великий Арн» отошел от дел, изменился мало, хотя и в нем появилась старческая хрипотца, но лица и фигуры я бы не узнал, встреться мы ненароком.
Седина, и раньше густая в темных волосах, теперь стала сплошной и желто-золотистой, щеки запали, на руках вздулись синие жилы, гладкую кожу взбугрили узлы. Только нос, внушительный, как труба, — «на троих создавался, одному достался», — остался прежним, даже казался крупней на сжавшемся лице. Я описываю так подробно внешний вид Гамова, потому что мне выпало грустное счастье одним из последних видеть его — и он уже мало походил на свой канонизированный портрет.
— Смотрите! — прошептал он, будто боясь громким звуком что-то спугнуть. — Смотрите, ведь как красиво!
Он показал на море, и я повернулся к морю. Солнце шло слева, от суши на воду, весеннее, низкое, и близился вечер, а волны, накатываясь, как бы вырастали у береговой кромки, и летящая над ними пена еще прибавляла высоты. И я увидел воистину удивительную картину. Балтика, всегда зеленовато-стальная, летом больше зеленая, зимой больше стальная. Она и сейчас была такой, когда взгляд охватывал большое пространство, но волны, вздымавшиеся передо мной, светились полупрозрачно-красным, как крымские сердолики. Эта сумрачная краснота шла изнутри, прорывалась сквозь поверхностную зеленоватость глубинным жаром. А пена, летевшая над гребнем, чуть впереди него, была не белой, а розовой, волны, косо мчавшиеся на песок, шли от солнца, разбивались не всей стеной, но от южного своего конца к северному, и пена той части волны, что взметывалась на берег, вдруг прощально ярко вспыхивала. И по всему гребню, по всей его розовой пене бежал от одного конца к другому огонь и погасал в отдалении, а на берег надвигалась новая волна с розовым воротником, и по ней опять бежал от одного края волны к другому густой огонек.
— Из такой розовой пены родилась Афродита, — сказал я.
— Вот такую же розовую пену мы наблюдали на Кремоне, — тихо отозвался он. — Там погиб астробиолог Петр Кренстон. И, спасая его, отдали жизнь еще двое. Вы слыхали об этом?
— Кто же не знает о вашей высадке на Кремоне!
Он упер локти в колени, охватил лицо ладонями, не отрывал глаз от полупрозрачных, как бы раскаленных изнутри волн с розовыми венцами пены, и я тоже вглядывался в них, и слушал грохот воды, и вдыхал пахнущий морем воздух, и меня заполняло ощущение сродни сладкому дурману: пена, раскатываясь на песке, превращалась в летящую взвесь, я пил ее и хмелел и, поглощая розовый туман, сам как бы становился полупрозрачным и красноватым, во мне тлел внутренний жар, мне хотелось посмотреть на себя со стороны и убедиться, что как солнце светит сквозь вздымающуюся стену волны, так и сквозь мое тело, окрашенное в красное, просвечивают предметы, что позади.
— Собственно, кто вы такой и зачем явились? — услышал я вдруг.
Гамов теперь смотрел не на море, а на меня — недоверчивый, строгий взгляд отстранял меня от волн, выталкивал из дурмана.
Я вяло пробормотал:
— Не мешайте, здесь так красиво!
Он расхохотался, потом сказал:
— Я рад, что до вас дошла магия вечерних, безветренных волн. Афродита, между прочим, родилась в утренней, а не в вечерней розовой пене. Если бы вы явились на утренней зорьке во время наката с востока, а не с запада, как сейчас, то праздник рождения богини дошел бы до вас во всем величии. Итак, кто вы такой и что вам нужно?
Я довольно путано объяснил, чего мои сотрудники и я желаем. Он покачал головой. Нет, наша просьба неосуществима. Он позабыл о космосе. Он слишком мало жил на Земле, на зеленой, на прекрасной, на матерински доброй Земле. Пусть не мешают ему последние годы жизни дышать лишь ею, думать лишь о ней, прикасаться к ее траве, ее воде, ее снегу, ее влажной почве…
Он говорил все это, закрыв глаза, нараспев, он декламировал. Не утерпев, я прервал его:
— Чепуха, Арн! Вы смотрите на божественное зрелище вечерней земной зари, а вспоминаете трагедию на Кремоне. Вы не отстранитесь от космоса, и космос от вас неотстраним.
Он приподнялся. Он был невысок. На меня глядели с худого лица не по-стариковски голубые живые глаза, желто-белые волосы, упавшие вдоль щек, подчеркивали яркость глаз. Он был похож на святого, грозящего грешникам с древней иконы. Лишь несоответствие лика великомученика и гибкой худощавой фигуры выдавало характер — святости было не ждать у лихого астроразведчика Арнольда Гамова.
— Вы говорите о космосе, юноша, — сказал он хмуро. — А что знаете о нем? Два—три галактических рейса, стажировка на ближних планетах, командировка куда-нибудь в дальний уголок, так? Космос — ваша профессия, верно? А душа где?
— Я был на Кремоне, где мало что напоминает, какой вы ее впервые увидели. Но трагедия Кремоны может повториться в других местах. Моя профессия — делать такие происшествия невозможными. Разве этому нельзя отдать душу?
— Вы строитель галактических кораблей? «Орион» — ваше детище?
— «Орион» спроектирован у нас, я главный конструктор.
— Хороший корабль, — сказал он задумчиво. — В мое время таких не было. Сколько бы жизней мы сохранили, если бы шли не на «Икаре», а на «Орионе».
— «Орион» — плохой корабль. Лучше «Икара», но хуже того, какой мы сейчас предлагаем. Вам достаточно познакомиться с расчетами, чтобы в этом убедиться.
Его глаза стали рассеянными. Он смотрел внутрь себя, оглядывался на прошлое. Потом он вздохнул и возвратился в настоящее. Улыбка преобразила его лицо, оно, помолодев, перестало быть ликом. Он откинул за уши желто-белые волосы и протянул руку:
— Здравствуйте, Василий Грант. Я много слышал о вас. В мое время немало было дерзких конструкторов, но, кажется, вы всех отчаянней. Говорят, что, если вас не удовлетворяют законы природы, вы исправляете их, правда? — Он не дал ответить и продолжал: — Но вы совершаете тривиальную ошибку — хотите техническими новшествами предотвратить все опасности. Кое-что это дает, не спорю. А если главная опасность — страсть души? Сколько киловатт развивает гнев? Печаль и скорбь — какова их мощь? И какое тормозное усилие в унынии? И какой дополнительный импульс в честолюбии?
— Не понимаю, Арн.
— Поймете. Пойдемте.
Он заскользил с дюны. Я шел за ним. У садика я обернулся к морю. Солнце садилось, и волны и пена были уже не розовыми, а кроваво-красными. Гамов отворил калитку сада и нажал кнопку на воротах. У соловьев настал час вечернего азарта, они техкали отовсюду. На дорожке вдруг возникли три гигантских черных пса — широко разверстые пасти злобно нацелились на меня. Я замешкался. Гамов рассмеялся:
— Ужасов дальнего космоса не страшитесь, трех безобидных существ испугались!
Доги остановились, Гамов шел прямо на них. Все собаки радуются, увидев хозяина. Эти и не помыслили вилять хвостом и строить умильные морды. Я шел за Гамовым, сознавая, что сближение со страшилищами не сулит добра. Но Гамов прошел сквозь них. Он сделал знак не отставать, и я пересек туловище среднего дога, не ощутив сопротивления. Пройдя несколько шагов, я обернулся. Псы двигались позади, и морды их так же свирепо скалились.
— Неплохо сработано, — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Оптическая иллюзия?
— Стереообраз. Каждый дог может совершать сто тридцать два движения, включая лай, ворчание и ласку. Их придумал Гюнтер Менотти на «Икаре». Здесь его создания отпугивают непрошеных посетителей. Уходя к морю, я забыл включить аппарат, а то бы вы так легко до меня не добрались.
— Ваш сторож Том Таллиани — тоже стереообраз?
— Он-то живой. Но на эту ночь уехал в Клайпеду. Входите, конструктор Василий Грант.
В комнату, куда он ввел меня, я уже заглядывал. Тогда она показалась похожей на музей минералов и чучел. Но это был скорее кабинет, а не музей, она вся была полна книг, ящичков с пленками и фотографий старинного образца — изображения менялись, когда менялся угол зрения, — а всего больше звездных карт, плоскостных и стереоскопических.
В углу стояли два кресла, массивные, прочные. Я сел в одно, Гамов в другое. Между шкафами висел веерок фотографий, две женщины и семь мужчин — знаменитый экипаж «Икара», в таком составе он стартовал в дальний поиск с Галактической базы на Латоне.
— Да, — сказал Гамов. — Молодые, красивые, энергичные… Не все вернулись, но если бы мы и знали свою судьбу, ни один не отказался бы от похода. Ибо что смерть? Неизбежность! Три столетия биологи обещают одарить нас бессмертием, но дальше долголетия не пошло. Нет, мы не страшились смерти как таковой, мы боялись преждевременной смерти, ибо она означала, что наша цель не будет достигнута. Трое узнали именно раннюю смерть…
— Техническая подготовка вашей экспедиции…
Он вспылил. Каждому, изучавшему экспедицию на «Икаре», известно, что ее руководитель иногда впадал в такой гнев, что от него шарахались. Гамов впился в меня побелевшими глазами. Гнев его, впрочем, угас столь же быстро, как и зажегся. Он сказал с какой-то грустной иронией:
— Опять техническая подготовка!.. Она была прекрасной.
— Я читал ваши отчеты, заключения следственных комиссий, научные монографии о вашем рейсе.
Он пренебрежительно махнул рукой:
— Поздравляю. Мне не удалось одолеть все, что написали о нас. Не сомневаюсь, нашли бездну умного. Ну и что? «Икар» был лучше подготовлен к дальнему рейсу, чем мы, его экипаж. Не уверен, что это понимают даже умные конструкторы.
Гамов своими туманными намеками на свойства характера, будто бы мешавшие удаче рейса, начал меня раздражать. Я был бы плохим конструктором, если бы согласился, что техническая оснащенность — что-то второстепенное. И рейс «Икара», несмотря на понесенные жертвы, был на редкость успешным, результаты его крупно обогатили науку о космосе — сетования на неудачи звучали неискренне.
Никого теперь не удивляет, что в полете среди членов экипажа появляются разногласия. Наука о совместимости характеров пока достижениями не блещет: разводятся порой и влюбленные.
Я не постеснялся именно так ответить Гамову.
— Не понимаете, юноша, — сказал он с досадой. — Совместимость у нас была идеальной. Мы любили друг друга! Но как бы это сказать?.. Могли смотреть на одно явление и видеть его по-разному.
— Боюсь, ваши объяснения не доходят до меня.
Он опять впал в отрешенность, как бы одеревенел, глаза стали тусклыми — смотрели и не видели. Не сомневаюсь, что в эти минуты перед ним возникали тысячи воспоминаний.
Вернувшись в реальность, он засмеялся.
— Не могу сказать, чтобы вы были деликатны. Я никого не принимаю, никуда не выезжаю, ни с кем не беседую, а вы моими категорическими «нет» пренебрегли. Даже страшные доги вас не испугали. Впрочем, я забыл их включить, это моя оплошность. Знаете, а вы хорошо сделали, что не посчитались с моими странностями. Одиночество все же томительно. Не надейтесь, что я увлекусь вашими чертежами. Но поговорить о рейсе «Икара» могу, возможно, вы что-нибудь и для себя извлечете полезное. Идет?
Я, естественно, согласился.
С той беседы прошло больше года. Недавно человечество узнало о смерти прославленного звездопроходца. На торжественную церемонию внесения праха Арнольда Гамова в Пантеон прибыли астронавигаторы и поселенцы с дальних планет, их было больше, чем землян. Наше конструкторское бюро, спроектировавшее семьдесят лет назад галактический крейсер «Икар», получило три пригласительных билета. Первый предложили мне. Я не пошел. Я хотел оставить в памяти образ человека, пожилого, усталого, телесно уже почти немощного, но сохранившего такую живую душу, смотревшего такими живыми глазами, хотел слышать его глуховатый голос, так непрестанно менявшийся — то насмешливый, то категоричный, то гневный, то грустный, звучавший порой такой печалью… Наши предки говорили: «В человеке ищи душу живу». Мне кажется, я нашел в той долгой ночной беседе «душу живу» великого странника Галактики, я боялся ослабить память о ней церемонией внесения его мертвого тела в уготованное навечно жилище. В Столице были развешаны траурные флаги, звучала скорбная музыка, а я улетел за город, и сидел в саду, и думал о живом, а не мертвом Гамове, о маленьком, умном, добром, вспыльчивом старичке, — и как бы въяве блуждал с ним по главам его долгого галактического путешествия…
Был вечер, и была ночь, и подошло утро, а он все говорил, а я все слушал…
Глава вторая ПОГОНЯ НА МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
— Для своего времени «Икар» был первоклассным галактическим кораблем, — так начал Арнольд Гамов. — Могучие аннигиляторы пространства безотказно обеспечивали сверхсветовые скорости. Я особо подчеркиваю это обстоятельство, ему мало придает значения новое поколение астронавигаторов, считающих движение вне эйнштейнового пространства не чудом человеческого гения, а обыденной операцией. Но мы, экипаж «Икара», понимали, что сотворено чудо, и благоговели перед величием людей, сумевших преодолевать пространство, уничтожая его вокруг себя. Вы легко сделаете отсюда вывод, что «Икар» для нас отнюдь не был некой космической гостиницей. Мы видели в нем воплощение технического волшебства, врученное нам, особо отмеченным, как высочайший дар. Восхищение кораблем нас прочно объединяло.
Но не только это. Мы на редкость подходили друг к другу. Два года нас испытывали на дружбу в тяжелейших условиях Плутона, потом среди вулканов Гефесты и на жутких равнинах Цереры, двух планетах в системе Альтаира. На дружбу, юноша, не на совместимость! Одной совместимости мало для дальнего поиска, нужна любовь. Так вот, любовь была! Мы составили редкостный коллектив — девять влюбленных друг в друга молодых астронавигаторов. Бывают влюбленные пары, это естественно и тривиально. Влюбленная девятка — нечто исключительное, согласитесь. Мы были таким исключением и гордились этим. Если один долго отсутствовал, остальные восемь тосковали. А если отсутствовали двое, семь нервничали, теряли аппетит. Я добавлю еще деталь, хоть, возможно, вы о ней знаете. Гюнтер Менотти, первый астроинженер, и Петр Кренстон, биолог, были влюблены в Анну Мейснер, нашего астрофизика. На Земле, нет сомнения, Анна вышла бы замуж за Петра и отвергла Гюнтера. Но в экспедиции на «Икаре» она пожертвовала любовью ради высшей цели — именно так она объявила мне — и никогда не оказывала Кренстону предпочтения перед другими, а оба они, Гюнтер и Петр, ни разу не показали, что она для них значит больше, чем остальные… Слово «показали» — нехорошее, оно наводит на мысль о неискренности, оно ассоциируется с известной бранью предков: «показуха». Неискренности не было, была гармония! И как живое существо, теряя какую-либо свою часть, превращается в инвалида, так и наш коллектив, утратив одного из девяти, становился покалеченным. В этом всецелостном единстве была наша сила. Но и наша слабость!
О первых четырех годах наших галактических блужданий вам говорить нечего, они описаны, рассказаны, проанализированы. То, что называли огромным успехом «Икара», захватывает и этот период. В эти первые четыре года не встретилось ни одной загадки, не распутанной нами. А чего еще желать поисковику?
На пятый год, после четырехмесячного полета в пустом космосе, анализаторы уловили под углом градусов в тридцать к курсу два быстро несущихся тела. Их быстрота сразу привлекла внимание: естественные тела не мчатся со скоростью почти пятьсот километров в секунду. Фома Михайловский, штурман и мой заместитель, считал, что мы повстречались с космическими кораблями. Разумных цивилизаций, вы это знаете не хуже меня, обнаружено немало, но технически развитых пока нет. Я приказал выброситься из сверхсветового в эйнштейново пространство и догонять незнакомцев. Автоматы забили тревогу: от первого корабля — если это был корабль — уловлено очень слабое излучение, из тех, что убийственны для любой организованной материи, ибо разрывают внутримолекулярные связи. Вряд ли оно могло нам серьезно грозить — у «Икара» мощные защитные поля, — но причина для беспокойства была.
Скоро сомнений не оставалось: мы повстречались с механизмами, а не с космическими шатунами, те, кстати, в этом регионе Галактики редки. Вы, надеюсь, знаете стереоизображения этих кораблей и поэтому можете понять, как мы удивились, увидев, что они напоминают мифические «летающие тарелки», так будоражившие воображение наших предков, — правда, не сферические, а эллипсовидные. Алексей Кастор назвал их блюдоподобными чечевицами.
Корабли шли один за другим на расстоянии примерно в семьдесят—восемьдесят тысяч километров, отдаление по масштабам космоса ничтожное. На наши позывные, посланные всеми видами излучений, они не отозвались. И не было заметно, чтобы работали двигатели: искусственные сооружения летели, как мертвые тела. По нашим понятиям это означало, что на кораблях аварийное состояние. Я приказал затормозить силовыми полями «Икара» передовой корабль, а когда приблизится второй, остановить и его.
Мы шли наперерез их курсу. Первый корабль послушно замер в объятиях наших силовых тисков, другой быстро приближался. Фома готовился затормозить и его, когда вдруг носовая часть «блюдоподобной чечевицы» ярко озарилась, погасла, вновь озарилась и вновь погасла. Так повторилось три раза, последняя вспышка была самой яркой, но и самой непродолжительной. Фома с криком «Он расстреливает передового!» включил тормозное поле такой мощности, что не только сам второй корабль, потеряв ход, закачался в силовых сетях, но и любое выпущенное им излучение мгновенно погашалось.
Если бы Михайловский сумел это сделать хоть секундой раньше, передовой корабль был бы спасен. Но теперь нам оставалось лишь наблюдать — а после нас и вам, когда на Землю доставили снимки, — как его после первого залпа охватило пламенем и как второй залп разнес его на пылающие осколки, а третий неминуемо превратил бы все осколки в плазму, если бы Фома не предотвратил такой финал.
— Какое зверство! — воскликнула Анна Мейснер, она первая пришла в себя. Несправедливость всегда больно задевала ее, а тут событие не вызвало сомнений. — Бандитизм!
Ее поддержал Иван Комнин, в возбуждении не церемонившийся в выражениях, а не возбужденным мы его почти не знали: его волновало и то, что он видел, и то, что, не видя, воображал. В Академии о нем говорили: «Иван нервничает только в двух случаях: когда дождь идет и когда дождя нет!». Он запальчиво закричал:
— Арн, это же флибустьеры Галактики, это же пираты космоса! Проучи их силовой оплеухой! Пусть потрясутся в своей бронированной чечевице!
— Спокойней, друзья! — приказал я.
Признаюсь, я растерялся. Вообще мне не свойственна быстрота воображения, еще экзаменационный компьютер характеризовал меня как тугодума. Когда необходима стремительность решений, я блеска не показываю. К счастью, в таинственном космосе такие экстремальные случаи гораздо реже, чем на нашей ласковой упорядоченной Земле. Заступая на дежурство, я включаю автоматы на любые аварийные возможности: с надежными помощниками мне спокойней. Но тогда мы и мысли не допускали, что один корабль гонится за другим, чтобы его уничтожить, — да и вели они себя, как мертвые тела, — и не дали автоматам особых программ. Я продолжал:
— Мы пока не знаем причины события. Один корабль пытался уничтожить другой, ему — с нашей помощью — это удалось. Но почему это сделано? Что это за корабли? Кто в них обретается? Не будем спешить с выводами.
На Земле потом в этом обращении к экипажу увидели мудрость руководителя экспедиции. Можете мне поверить: не было мудрости, была растерянность, было желание отстраниться от немедленных действий. А что именно такое поведение оказалось единственно разумным, объясняется объективной сутью событий. Анна, наш астрофизик, заметила, что опасное излучение шло от уничтоженного корабля, а не от преследователя и, возможно, это играет роль в катастрофе. Я попросил Михайловского не дать остаткам взорванного корабля разлететься в космосе, и он артистически сжал в компактную кучку все обломки и пыль. Остальные наши действия определялись ситуацией: на втором корабле находились разумные существа, надо было вступить с ними в контакт.
Как и прежде, корабль не отвечал на наши сигналы. Его недавние активные действия свидетельствовали, что он обитаем. Но он снова вел себя как тело, лишенное жизни: не делал попыток вырваться из силовых тенет, пассивно покоился в наших полях. Мы облетели вокруг, рассматривали его сверху, снизу, с боков: он вспыхивал металлическим блеском в сиянии наших прожекторов — и это была единственная реакция на все попытки добиться связи.
— Затаились! — сердито сказал Иван. — Арн, будь осторожен. Как бы они не пальнули в нас.
Поведение странного корабля мне тоже не нравилось. Но и непрерывно кружить не имело смысла. Мы выслали автоматический космический катерок, сконцентрировав на нем охранные поля. Он пролетел под самым носом «блюдца», вернулся и спикировал на него, словно собираясь ударить. Отпора не последовало. Только что мы видели грозное орудие разрушения, с огромной стремительностью пущенное в ход. А сейчас вокруг нахально носился эдакий космический комар — и это покорно сносили. Иван перешел от гнева к восторгу: его настроения менялись быстро:
— Ну и нервы у флибустьеров космоса! Ведь вряд ли они догадываются, что все их залпы для нас не опасней детской хлопушки!
Он преувеличивал мощь нашей защиты, сильной, но не абсолютной. Все просили о высадке на чужой корабль, я колебался. Внезапное превращение мертвой коробки в чудовищную боевую машину заставляло ожидать любой новой неожиданности. На меня стали наседать. Я огрызнулся:
— Всем, кто не на вахте, спать! У меня нет желания завязывать контакт с космического сражения!
Спать, естественно, никто не пошел, но терпения я добился. Час бежал за часом: Мы перестали кружить вокруг «блюдоподобной чечевицы», но не выпускали ее из своих полей. Восемнадцать глаз настороженно и недоверчиво наблюдали за чужим кораблем, он был недвижим, темен, бесстрастно покоился неподалеку. Временами Алексей озарял его вспышками прожекторов, поисковые лучи продолжали оконтуривать «чечевицу», сигналы всех тридцати восьми типов галактической азбуки периодически несли просьбу о связи — контакта не было. Я приказал разведочной группе готовиться к высадке на чужой корабль.
По судовому расписанию разведочная группа состоит из трех человек: командир астроинженер Гюнтер Менотти, члены — биолог Петр Кренстон и социолог Мишель Хаяси. Мне предоставлено право дополнять группу любым членом экипажа. Я добавил в группу себя. Из трех наших разведочных катеров мы выбрали планетолет «Гермес»: он был тихоходным, но самым оснащенным.
Вы и без меня хорошо знаете, как мы вертелись вокруг чужого корабля, отыскивая входное отверстие, и как, не найдя ничего, загерметизировали площадку на корпусе, где анализаторы показали внутренние пустоты, и как, проделав лаз, проникли внутрь, и как сразу же наткнулись на скелеты трех странных, но, несомненно, когда-то живых и разумных существ. Мертвецы показались нам громадными осьминогами, они и истлевшие — одна костяная броня и растрескавшиеся кости ног — походили на отлично выделанные чучела, а не на холмики праха, хотя при неосторожном прикосновении превращались в прах.
Кренстон ползал около трех скелетов с ручным биологическим анализатором. Этот хитроумный компьютер совершает три тысячи анализов в секунду и по результативности превосходит иную научную академию старых времен. Гюнтер и я осторожно ходили по помещению, фиксируя на пленку стены, потолок, пол. Довольно просторный зал заполняла масса предметов, назначение их надо было еще устанавливать. Все они были правильной геометрической формы, чаще шары, цилиндров и призм — поменьше, а кубов совсем немного. Каждый казался монолитом — как бы слиток из материала, похожего на металл, но не металлической природы. Кстати, и весь корабль был изготовлен из того же вещества. Нашего разнообразия материалов — цветных, черных, редких металлов, дерева, пластмасс, бумаги — здесь и в помине не было.
— Думаю, все эти предметы — аппараты управления кораблем, — сказал Гюнтер. — Странно, что каждый лежит отдельно, не видно соединительных коммуникаций.
Петр поднялся с пола. Ему редко изменяет хладнокровие, но на этот раз он утратил контроль над своими нервами. Он чуть не кричал:
— Невероятно! Ничего не понимаю! Знаете, когда умерли восьминогие астронавты? Полтора миллиона лет назад!
Погибшие полтора миллиона лет назад пилоты на корабле, который на наших глазах вел осмысленные боевые действия! Было от чего потерять хладнокровие! Мы засыпали Петра вопросами, но узнали лишь, что и материал, из которого изготовлен сам корабль, и все предметы в нем — того же почтенного возраста. Корабль построен еще до того, Как на Земле появилось человечество.
— Значит, на корабле нет ничего живого? — недоверчиво спросил Хаяси.
— Именно! Ничего живого! Все перемерло еще в незапамятные времена, и сам корабль уже свыше миллиона лет — мертвое тело и несется вперед лишь по инерции. Говорю вам, невероятно! И тем не менее реальный факт, если анализаторы не врут!
Дальнейшие наблюдения показали, что приборы наши точны, но в тот момент мы Петру не поверили. Наши разговоры передавались на «Икар» и там вызвали такую же реакцию. Все были под магией нападения одного корабля на другой: можно ли допустить, чтобы сражения вели мертвецы! Хаяси, как всегда, на каждом этапе разведки отделял факты от гипотез. Он тут же, в первом помещении чужого корабля, высказал свое мнение о событиях. К твердым фактам он относил, что оба космических тела — искусственные сооружения, что один уничтожил второе, что нами найдены скелеты неведомых, но когда-то живых существ, что здесь наши походные гравитаторы не нужны, ибо невесомости нет, а, наоборот, наличествует прибавка в весе примерно в полтора раза… Таких и похожих фактов накопилось уже немало, а все ли обитатели корабля — мертвецы, надо проверить. Не будем забегать вперед, советовал он.
— Еще один факт: мы в монолитном кубе, откуда нет прохода в другие помещения, — добавил я. — Но должны же они существовать! И надеюсь, Мишель, это не фантастическая гипотеза!
Проходы обнаружил Гюнтер. Он подошел к одному участку стены, ничем по виду не отличавшемуся от других, и в стене вдруг появилось отверстие. Мы впервые тогда увидели самодвижущийся, саморастягивающийся самоутолщающийся материал и вытаращили глаза на самопроизвольно образующиеся проходы. Дыра в стене была как раз такой, чтобы мы гуськом могли проникнуть внутрь. Проходы создавались по габаритам идущего: если бы в экипаже «Икара» имелся слон и ему открылся бы достаточный лаз, правда, стене пришлось бы сильно утолщаться по краям такой дыры.
Второе помещение было обширней: просторный туннель длиной метров на пятьдесят, шириной метров десять и высотой пять. Наши фонари осветили с правой стороны исполинский некрополь — ряд полок, одна над другой, отгороженных прозрачными стенками от прохода, на каждой полке покоился восьмирукий скелет, а на второй стене — стереоскопические пейзажи удивительной красоты и яркости.
Мы медленно двигались вдоль многоэтажных склепов, освещая ряд за рядом, этаж за этажом. Впоследствии, установив в тоннеле светильники, мы могли свободно обозревать с одной стороны все гигантское покоище мертвецов, а с другой — любоваться всеми картинами музея, но в тот первый день и мертвецы, и картины, выхваченные снопиком света, как бы возникали из небытия: эффект был куда сильней! Скелеты лежали в определенном порядке: внизу экземпляры крупней, повыше — поменьше. Различие в размерах выражало различие возраста: одни умирали зрелыми, возможно, и состарясь, других смерть настигала в стадии созревания, кое-кто переводился на жительство в некрополь, не выбравшись из младенчества. Но когда бы ни умирали обитатели космического корабля, останки их переселялись сюда, в последнее их общежитие, ставшее вечным хранилищем.
И еще стало ясно при первом осмотре: в некрополе сохранялись не скелеты однажды посаженного экипажа, а много их генераций. Потом мы установили, что для корабля требовалась команда в двадцать взрослых особей, владевших профессиями навигаторов. Корабль, стартовавший откуда-то из центральных районов Галактики, вела небольшая группа специалистов звездоплавания. Скелетов же было больше тысячи. Медленно передвигаясь от одного пятиэтажного саркофага к другому, я мысленно видел их — восьмируких, молодых, энергичных, полных жажды выполнить какое-то важное задание, ради него пустившихся в дальний полет. Шли годы, десятилетия, пошло на тысячелетие, одна тысяча лет напластывалась на другую — анализатор определил десять тысяч земных лет для полного жизненного цикла одной особи, — народилось на корабле новое поколение, его обучили звездоплаванию, оно переняло эстафету родителей, те переселились сюда, вон там, в дальнем углу некрополя, начинали они скелетную историю загадочного полета.
А полет продолжается, старится вторая генерация, вырастает третья, самая многочисленная, почти в сто особей, они стремятся вперед, но, не достигнув цели, тоже занимают свои места в саркофагах. Тысячелетие идет за тысячелетием, одна генерация по-прежнему сменяет другую, постепенно количество новых астронавтов уменьшается, их становится снова два десятка, как раз то число, что требуется для надежного обслуживания корабля, а полет не прерывается, цель не достигнута, надо спешить. Но вот их уже меньше двадцати. Эти крайние справа полки — свидетели катастрофического падения рождаемости. Недалеко уже и до последних трех, умерших на своем посту, среди непонятных нам аппаратов, и уже не было живых товарищей, чтобы перенести их тела в некрополь. А полет все продолжается, ибо неведомая цель не достигнута, ибо таинственное задание не выполнено, — продолжается еще полтора миллиона земных лет, все продолжается, все продолжается… Куда они стремились? В чем цель их бесконечного полета?
После осмотра некрополя мы повернули к музею. Сегодня все восхищаются творениями на стенах мертвого корабля и каждый школьник может сдать экзамен по технике стереооттисков. Но вообразить себе наше удивление, когда мы открыли, что ярчайшие краски картин к тому, что у нас называют красками, никакого отношения не имеют, что весь цветовой спектр создан лишь разной глубиной оттиска на непонятном материале стен, а разная глубина оттиска исчисляется миллимикронами — на ощупь картины идеально гладки, а меняя освещение, мы заставляем их вспыхивать разными цветами. Впрочем, удивление перед техникой рисунка пришло позднее, в те минуты нас больше интересовало содержание картин. Все эти сценки быта и работы на странной планете, источенной пещерами — жильем и заводами восьмируких. астронавтов, — видимо, были нанесены на стены, чтобы путешественники помнили далекую родину: появление многих генераций, родившихся на корабле и назначенных там умереть, несомненно, заранее планировалось. С некоторых картин на нас глядели живые, те, кто миллионы лет уже покоился в саркофагах, они были странны и привлекательны, над восемью гибкими сочленениями — ноги и руки одновременно — вздымалась крутая, лобастая голова, в ней светились два удивительных глаза — два огня, два приемника света, два факела, мощные, пронзительно-умные, безысходно-печальные…
— Нет, эти глаза не только для зрения! — вырвалось у Хаяси. — Они разговаривали глазами!
— Не удивлюсь, если глаза у них — и орудие нападения, а не только зрения и беседы, — заметил Гюнтер. — К тому же — электрической природы. Как по-твоему, Арн?
Я пожал плечами. Разве можно определять по рисунку, правда искусному, какова физиология существ, о которых мы еще день назад и не подозревали? Одна из картин показала, что такая возможность есть: изображение тесной каморки, вроде той, где лежали три истлевших трупа. В ней стояли уже знакомые нам монолитные ящики, а перед ними распластались два восьмируких существа; глаза их, обращенные на ящики, буквально пылали. Вдалеке виднелся передовой корабль. Картина менялась, когда мы проходили мимо, создавалась иллюзия, что передовой корабль сошел с центра, а второй меняет курс, чтобы постоянно держать его в центре.
— Прицеливаются, — оценил картину Гюнтер. — Когда происходило такое событие, Петр?
— Вероятно, два миллиона лет назад, — сказал Кренстон.
В это время Фома передал, чтобы я возвращался на «Икар». Он послал на Латону по сверхсветовому ротонному каналу сообщение о двух неизвестных галактических кораблях, база вызывала меня. Пришлось на время прервать осмотр.
На Латоне начальство било нетерпение, оно требовало подробных сводок. Попутно меня хлестнули строгим «втыком» за непростительное упущение: я, видите ли, спокойно лицезрел, как уничтожают уникальнейшее, неповторимое, необычайное и прочее создание каких-то неизвестных, уникальных, необычайных и прочее разумных цивилизаций, — понимаю ли я, что так вести себя нехорошо? Я так огрызнулся, что ротонный канал в ошеломлении отключился. Обо мне тогда говорили, что подчиненным у меня хорошо, а для начальства я тяжкий крест на плечах. Но ведь космический разведчик ведет свободный поиск, а не заносит рейсовые километры в распланированный график! Мой старый друг, всегда улыбающийся Кнут Марек, начальник Главной Галактической базы, коварно попросил повторить ответ в выражениях, более приемлемых для переадресовки Земле. Воображаю, как он злорадно ухмылялся при этом, ведь все его указания, предписания и просьбы полным текстом ротанируются на Землю, в отличие от наших докладов, которые он бессовестно редактирует. Конечно, там узнают, что я сам смягчил свой отчет. Но я ничего не имел против того, чтобы и Земля по мелочам не вмешивалась в мое дело, и хладнокровно добавил, что раньше чем через неделю о подробных сводках речь не пойдет.
Картина происшествия прояснилась достаточно для предварительного отчета, но тысячи тонких вопросов ждут ответа — так начал я спустя неделю свое сообщение базе. Описав встречу с двумя кораблями, я попросил товарищей продолжать.
Первой говорила Елена Витковская. Оба они, Елена и Петр, астробиологи, знатоки форм галактической жизни. Она как аналитик дотошней Кренстона — немаловажное преимущество при изучении загадочных явлений жизнетворчества, зато он шире в оценках и лучше экспериментирует — тоже доброе качество для поисковика. Но если надо докладывать совместные результаты их работ, он тушуется, она же расцветает. Елена отличный оратор, а начальство — не только на Латоне, но и на далекой Земле — ее прямо-таки обожает, это древнее выражение точно описывает настроение, с каким принимаются ее доклады. Причина достаточно прозаическая: всех, и меня в свое время тоже, поражало, что такая очень хрупкая, очень красивая, очень женственная особа так по-мужски жестко развивает неопровергаемые аргументы. То, что именуется мужской логикой, ей свойственно больше всех нас, вместе взятых. Еще в студенческие годы я узнал в курсе древней истории, что некогда компанию осужденных вели на эшафот и единственная в той компании женщина, с презрением поглядев на своих партнеров, громко сказала: «Палач, начни с меня, я одна мужчина среди этих баб». Уверен, что в аналогичной ситуации наша Елена Прекрасная звучно, четко, ясно попросила бы гильотинировать ее первой, ибо остальные недостойны такой чести. Нет, я не ругаю Елену, я ею восхищаюсь.
Она информировала Латону, что восьмирукие астронавты — существа живые (были, конечно), углеродно-кремниевой природы, практически безбелковые, жизненные реакции у них почти нацело исчерпываются созданием в организме биологического электричества — каждая особь могла бы функционировать в качестве аккумулятора и генератора. В физиологическом цикле отсутствует пищеварение, кровообращение, дыхание и тому подобное — вероятно, этим и объясняется долголетие, почти в сто раз превосходящее наше. Уникален их мозг — при весе взрослой особи в 150–170 килограммов мозг весит 15–16 килограммов, то есть 10 процентов всей массы тела; практически астронавты — только мозг, заключенный в жесткую оболочку, питающийся электричеством и передвигающийся при помощи восьми руконог. Совершенство мозга порождает высокую интеллектуальность, чему доказательство технический уровень корабля и найденные в нем предметы искусства. Что же до излучений погибшего корабля, то они генерировались находившимся на нем и почти начисто распыленным грузом. Характер груза по сохранившемуся пеплу надо исследовать в стационарных условиях большой лаборатории, но нет сомнений, что он очень опасен для углеродно-кремниевых организмов и, безусловно, губителен для белковых, то есть для человека, земных животных и растений.
«Отлично, Витковская, прекрасный анализ!» — прислала база ротонограмму. Можно было заранее не сомневаться, что даже скептик и ироник Кнут Марек не поскупится на похвалы.
Наши астроинженеры Гюнтер Менотти и Алексей Кастор докладывали вторыми. В конструкции обоих кораблей существенно нового они не нашли ни в принципе, ни в оформлении. Лет двести назад одно земное конструкторское бюро разработало примерно такой же корабль, но в серию его не взяли: тихоходен, в обычном пространстве не выше одной десятой скорости света при длительном разгоне, а о выходе в сверхсветовую область тогда и не мечтали, хотя уже была установлена возможность аннигилирования пространства с превращением его в «пепел сгоревшей пустоты». Монолитные ящики оказались аппаратами — командными и исполнительными. Движение шло за счет тяги на жестких фотонах: каждый корабль — генератор гамма— и рентгеноизлучений. Электричество, создаваемое организмами самих астронавтов, служило им для управления аппаратами фотонной тяги. В этом месте голос Гюнтера сделался торжественным: он подходил к главному своему открытию. Астронавты вели управление не руками, хотя их у каждого хватало, а глазами: не так приемники света, как излучатели накопленной в теле энергии, глаза передавали команды аппаратам. За два столетия знакомства людей с иными звездными народами человечество еще не встречалось со столь удивительным органом, как эти глаза. Биологам и физикам предстоит специально исследовать, как возможна такая оптико-электрическая структура. Нашу пассивную систему, именуемую зрением, пора бы уже улучшить — и хорошо бы воспользоваться для этого новыми открытиями «Икара».
— Что до гибели первого корабля, то она тривиальна, — закончил Гюнтер. — Залп произведен автоматами из гамма—лазера средней мощности. Аналогичные орудия в арсенале человечества куда могучей. Учиться уничтожению материальных тел у восьмируких астронавтов бесполезно. Команда на выстрел срабатывала, когда передовой корабль попадал в зону досягаемости, что в данном случае равно отдалению в сотню километров. Короче, и прицельность и эффективность удара невелики, хоть цель достигнута — правда, после двух миллионов лет бесперспективной погони и нашей непредвиденной помощи.
Хаяси, завершая доклад, сжато и точно излагал то, что считал твердо установленным. Если Елена Витковская непробиваемо логична, то у Хаяси пренебрежение к логическим построениям. Его божество — факт. Его манера разговора: «Наблюдалось еще такое явление…». Как-то во время трудного ночного дежурства на Латоне, измученный, я воскликнул: «Да наступит ли когда-нибудь день?». Он совершенно серьезно отозвался: «Было бы рискованно отрицать такую возможность!» — и удивился, что я захохотал, — сам он не увидел в своем ответе ничего смешного. Сколько раз я добивался от него: «А что из этого факта следует, Мишель?». Он холодно прищуривал немного раскосые глаза: «Из этого факта следует, что такой факт существует». Вместе с тем у него дьявольская интуиция. Он наблюдает внешность, а видит сущность. В анализе загадок он опережает саму Елену. Если бы не эта способность, он был бы средненьким социологом, а гениальный Крон Квама объявил его своим лучшим учеником — такая рекомендация кое-чего стоит! Я вписал его вторым после себя, когда укомплектовывал экипаж «Икара», и никогда не раскаивался.
Он информировал Латону, что один корабль преследовал другой, чтобы уничтожить. На первый корабль в свое время погрузили вещества, опасные для любой формы жизни, — возможно, чтобы отвезти подальше и там ликвидировать. Допустимо, что автоматика взрыва не сработала и корабль, лишенный пилотов, умчался в глубины космоса. За ним снарядили погоню. Понимая, что в течение одного поколения нагнать беглеца, вероятно, не удастся, запланировали преследование в течение ряда поколений. Тридцать девять генераций астронавтов, то есть около 400 000 земных лет — они все живут Мафусаилов век, — тянулся этот космический марафон. Последние три астронавта, умирая, настроили автоматы на огонь, когда беглец попадет в зону досягаемости. Остальное время — полтора миллиона лет — полет продолжался по инерции с одинаковой скоростью. А когда передовой корабль затормозил, автоматы сработали. Вот и все, что можно более или менее достоверно доложить о происшествии.
— Мне кажется, ты нового не сказал, Мишель, по сравнению с тем, что мы знаем, — заметил Иван, когда передача закончилась.
— Я докладывал не тебе, а Кнуту Мареку, а он не знает того, что знаешь ты, — спокойно возразил Хаяси.
В эту ночь дежурил Иван Комнин. Я пришел к нему в рубку. Я часто посещал Ивана на дежурстве. Мне нравились его рассказы. По штату он судовой медик, но знает все, что необходимо каждому астроразведчику, и еще многое сверх того. В часы отдыха он играет на скрипке, декламирует стихи — и всегда находит слушателей. Я сел на диван. Он не повернулся ко мне.
— Ты чем-то расстроен, Иван? Расскажи, не утаивая.
В отличие от невозмутимого Хаяси, на лице Ивана отпечатывается любая смена настроений. В больших темных, с поволокой, с почти синими белками глазах светилась печаль — чувство, недопустимое для астроразведчика на вахте.
— Не расстроен, нет. Но как бы сказать, Арн? Я восхищаюсь и грущу. Эти восьмирукие астронавты!.. Какая судьба!
Я попросил объяснений.
— Понимаешь, думаю: смог бы поступить, как они? Родиться на корабле и знать, что на корабле умрешь, и дети твои умрут, и праправнуки… Ибо впереди мчится опасный груз, не для тебя опасный, не для твоих соплеменников на отдаляющейся родине, а для кого-то, кого ты не знаешь, кого, возможно, и вообще-то нет. И ты свою жизнь и жизнь своих потомков отдаешь, чтобы уберечь этих неведомых тебе существ от гипотетической опасности. «Жизнь свою за други своя», — говорили в старину.
— Судьба как судьба. Сложились бы у нас такие обстоятельства, и мы действовали бы похоже. Не вижу причин для грусти, Иван.
— Не знаю, Арн. Ты, возможно, действовал бы, как они, ты такой. Но о себе не скажу…
— Зато я скажу о тебе: выполнил бы свой долг, какие бы сомнения ни одолевали. И добавлю: оставь эти мысли для отдыха, сейчас они неуместны. И грусть по случаю их горестного конца, и восхищение их благородством — чувства не служебные, поверь мне.
Иван сердито отвернулся к пульту. Я засмеялся. Мне часто казались забавными смены его настроений. И меньше всего я собирался им угождать. Меня в тот момент интересовали загадки, связанные с конструкцией незнакомых кораблей, особенностями жизни восьмируких космонавтов, системы их боевых орудий и навигационных аппаратов — в общем, механика, физика и биология, а не философия. Наше задание на галактический поиск состояло из двух десятков пунктов, и все они требовали освещения природы дальних уголков космоса, а не решения моральных проблем. Лишь спустя изрядное время я начал понимать, что такой пробел в задании происходит оттого, что у каждого всегда предполагается естественный интерес к тому, что можно назвать моралью у инозвездных цивилизаций. Между прочим, как раз наши странствования в Галактике привели к тому, что проблемы, называвшиеся философскими, стали вписываться в навигационное задание, — и я сам торжественно внес в кодекс астронавигатора некоторое их число. Может быть, вас позабавит, что именно Иван Комнин сказал мне потом с удивлением: «Арн, в древности философия считалась служанкой богословия, а ты ныне превращаешь ее в технический раздел астронавигации». Я на это хладнокровно ответствовал: «Наоборот, техническую астронавигацию довожу до высоты общегалактической философии!»
Но повторяю, до такого понимания оставалось совершить много рейсов, а в те дни все душевные переживания, выходившие за рамки вписанных в рейсовый паспорт, казались мне психологическим излишеством, чуть ли не нарушением служебной дисциплины. Я бы соврал, если бы сказал, что размышления Ивана сколько-нибудь поколебали эту мою позицию. Но я совершил бы и просчет, отрицая, что разговор с Иваном одновременно вызвал во мне какие-то смутные сомнения, усилившиеся вскоре настолько, что я попытался рассеять их строгими предписаниями новых рейсовых назначений.
Дело в том, что Иван нашел слушателей гораздо благодарней меня. Анна Мейснер сочувствовала Ивану, даже когда остальные от него отмахивались. И она, по мере того как убийственный груз первого корабля становился все доказательней, все чаще с восторгом говорила о благородстве преследователей. В салоне горячо толковали о высоком навигационном задании, воодушевлявшем миллионы лет назад погибших астронавтов. У меня создалось впечатление, что разговоры такие как бы специально предназначались для меня, — достаточно мне было появиться в салоне, чтобы они разгорелись. Однажды я потерял терпение и поинтересовался, чего, собственно, Иван и Анна от меня добиваются. Иван промолчал. Анна воскликнула:
— Арн, неужели тебя не тянет познакомиться с благородными восьмирукими?
— Я познакомился с их трупами, Анна, и не вижу возможности продолжить дальше наше знакомство.
Хаяси высоко поднял брови над слегка раскосыми глазами. Он, естественно, не мог упустить случая поиронизировать.
— Не ожидал, чтобы капитан сверхмогущественного галактического крейсера «Икар» видел так мало возможностей в предписанном нам свободном поиске.
Я повернулся к молчаливому Михайловскому — в дискуссиях он почти всегда предпочитает отделываться сочувствием и улыбками, обращенными поочередно ко всем спорящим.
— Фома! Не сомневаюсь, ты уже проделал нужные вычисления. Сообщи, откуда и с какого отдаления стартовали оба корабля.
Михайловский объявил, что, принимая продолжительность полета в два миллиона лет, а скорость и направление считая неизменными, он рассчитал, что корабли стартовали с отдаления в три тысячи световых лет по оси от созвездия Стрельца на нас.
— Сейчас я покажу вам, какие вижу огромные возможности в свободном поиске и как эти блестящие возможности безжалостно пресекаются нашим начальством, — сказал я сердито. — Иван, ты сам передашь мою ротонограмму Мареку.
В ротонограмме я извещал Латону, что нас очень заинтересовала цивилизация восьмируких астронавтов и мы просим «добро» на поиски звездных гнездовий этой цивилизации. Как я и предполагал, Марек откликнулся категорическим отказом. Он не ограничился простым запретом, а потребовал, чтобы мы срочно демонтировали что можно с оставшегося корабля, если нельзя его целиком переместить в наш трюм, собрали остатки уничтоженного и возвращались на Латону. Это было больше того, что я ожидал. Видимо, что-то на базе случилось. Марек любил наваливать трудные задания, бесцеремонно — с улыбкой и шуточками — подстегивать нас, но, когда поиск шел, не запрещал уже начатого дела: обследование сохранившегося корабля он не прервал бы без важных причин.
Глава третья ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПАСНИК ПЛАНЕТЫ ХАРЕНА-2
Остатки взорванного корабля легко уместились в трюме, а с целым пришлось повозиться. Марек советовал демонтировать самое важное, а остов корабля бросить в космосе. Но нам представлялось важным все, все члены экипажа понимали уникальность нашей космической находки. Гюнтер с Алексеем предложили разрезать мертвый корабль на три части. И если вы теперь, юноша, можете любоваться в Музее Космоса на Земле целехоньким внушительным сооружением со всеми его аппаратами и некрополем почти сорока генераций восьмируких звездоплавателей, то надо благодарить наших астроинженеров, сумевших расчленить огромное сооружение, практически ничего в нем не повредив.
Мы запустили рейсовые аннигиляторы пространства, когда ни одной несобранной чужой пылинки вокруг «Икара» уже не было. И Фома Михайловский перекрыл опоздание с отходом на Латону рекордом сверхсветового бега.
На Латоне Марек встретил меня так, словно мое появление снимало с его плеч невидимый тяжкий груз.
— Признавайся, Кнут Марек, ты ведь готовишь нам что-то внеплановое и довольно пакостное? — сказал я. — Сужу по твоей улыбке. Сегодня она прямо-таки обворожительна. Это меня тревожит.
— Ты угадал, Арн, — сказал Марек, и ослепительная его улыбка, столь известная по миллиардам изображений, погасла.
— У нас происшествие. Но прежде, пожалуйста, разъясни, ты не устал? Четыре года странствий… В отпуск не хочется? Зеленая земная травка, пляжи, приемы…
— Танцы, увлечения, интрижки… Перестань кривляться, Кнут Марек! Еще одно слово в этом роде, и я от восторга начну плясать на твоем столе. И не ручаюсь, что расставленные на нем роскошные безделушки уцелеют.
Он вздохнул — кажется, непритворно — и на всякий случай положил обе руки на стол: я приучил его к тому, что далеко не все мои угрозы высказываются в шутку. На огромном его столе и вправду лежало много редкостей с разведанных планет, в том числе и наши, из прежних рейсов «Икара», дары.
Поначалу рассказ Марека меня не заинтриговал. На Харене-2, населенной муравьеподобными полуразумными существами, разорвали в клочья двух землян, не только не дававших повода для зверской расправы, но, скорей, заслуживавших благодарности, инженеры Комиссии Межзвездной Помощи, они вели строительство ирригационных объектов, крайне нужных харенам. Причины трагического события непонятны. Не согласился бы я пробежать на Харену и оказать помощь бригаде растерявшихся землян? Я посоветовал Мареку послать опытного детектива: расследование убийств не входит в служебные обязанности косморазведчиков. Если «Икар» на Латону вызвали ради этого, то можно было бы не расходовать активное вещество, которое он, Марек, выдает крайне скупо.
— Ты прав, — уныло подтвердил Марек. — Нет, не об активном веществе, у нас его запасы пополнились. Но, пожалуйста, не сердись, пока я не кончу. Расследование убийства произведено. И очень опытными людьми. Но ничего не дало! Харены твердят, что убитые — «государственные опасники» — придумали же такой дикий термин! — но в чем опасность, объяснить не смогли. Боюсь, мы столкнулись с каким-то новым явлением, а кому же изучать новые явления, как не разведчикам космоса?
Я заколебался:
— Посовещаемся с экипажем, Марек.
Он удивился, и кажется, искренне, а не для вида.
— До сих пор я думал, что твои сотрудники покорно соглашаются со всем, что ты пожелаешь.
— Просто я никогда не желаю того, что им не по душе. Они покорно подчиняются лишь тому, чего сами хотят, — не без язвительности разъяснил я.
Вообще-то я понимал, что у Марека есть резон просить нас. Странная это планета — Харена-2: открыта задолго до того, как построили «Икар», но доныне космические лоции рекомендуют без особой нужды на ней не высаживаться. Я назвал харенов полуразумными, но лишь в том смысле, что их разум только частично совпадает с нашим, а во многом — нечто для нас несусветное. С таким же успехом и они могли бы назвать нас полуразумными — не следует этот точный термин путать с оскорбительным «полоумный».
Так или иначе, но я не был уверен, закономерен ли наш рейс на Харену-2. Все, что мы до сего совершали в поиске, находилось очень далеко от нового задания Марека. Я не скрыл своих сомнений от экипажа. Но все дружно согласились, что помочь нашим друзьям на Харене-2 нужно. Петр Кренстон доказывал, что задача косморазведчиков — находить и изучать все новое в космосе. И если мы пока исследовали одни физические объекты и явления, то это свидетельствует о том, что мы делаем лишь первые шаги в космическом поиске. Для чего в состав экипажа введен астросоциолог Мишель Хаяси? Чтобы распутывать загадки вроде трагедии на Харене, разве не так? Сам Хаяси довольно хладнокровно воспринял патетическое обращение Петра к нему. Он деловито посоветовал:
— Арн, испроси разрешения на вмешательство в социальную структуру харенов. Боюсь, без этого успеха не будет, а ты знаешь, как строго Земля наказывает за попытки насадить у туземцев наши порядки без их согласия. Крона Кваму столько раз хлестали выговорами!
— Попрошу, но не раньше, чем это станет необходимо, — ответил я, и Хаяси успокоился.
Так начался рейс на Харену. Марек честно выполнил обещание, трюмы «Икара» так полно загрузили дефицитнейшим активным веществом для аннигиляторов пространства, что мы могли бы промчаться к ядру Галактики и вернуться обратно, если бы получили разрешение на такой отчаянный рейс. В пути мы смотрели стереофильмы о Харене-2. Планета была со странностями, но нестранных обитаемых планет, по-моему, в Галактике нет. Земля, на взгляд других разумных народов, тоже диковинна. У Земли и Харены-2 есть много общего. Звезда Харена — желтый старичок, как и наше Солнце, планеты — четыре:
Харена-1 — раскаленная пустыня, Харена-2 похожа на Марс, только аммиака побольше, две дальние — глыбы застывшего газа. Жизнь развилась лишь на второй планете. Организмы — белкового типа, но не дышат, а питаются воздухом, насыщенным аммиаком. Наш дуализм дыхания и еды харенам кажется чудовищным излишеством. Возможно, они правы. Во всяком случае, им проще жить: нет проблемы голода, атмосфера густая и питательная, ее на всех хватает. Иван, глядя фильмы, попечалился за людей, лишенных такого важного преимущества, как отсутствие заботы о хлебе насущном. Каких высот достигло бы человечество уже в неандертальстве, не принуждай его горькая судьба периодически заполнять желудок! По облику харены похожи на муравьев, но размером с дога: поднимаясь на задние ноги, становятся вровень с нами. Бегают они так, что угнаться за ними можно только на авиетке, но чаще летают, чем бегают. Полет харенов уникален, другого такого не открыто. Они раздвигают ребра груди, она превращается в разновидность пустого бочонка, и тело, ставшее легче атмосферы, взлетает. Полет равнозначен питанию: вверху аммиака больше, чем внизу, харены вдосталь его наматываются и, отяжелев, скользят вниз.
Наибольшее отличие харен от землян — в ином способе мыслить, узнали мы в одном стереофильме. У них нет речи, нет письменности, нет обмена информацией. Каждый харен — особь, ибо особ физически. Но мыслят они сообща. Все общество — единый мозг, повторяющий свои мысли у каждого. Встречаясь с любым хареном, встречаешься со всем народом сразу. Демонстрировался забавный эпизод: один из землян случайно толкнул оказавшегося рядом харена, тот упал — и моментально попадали все, кто был поблизости и вдали, за пределами видимости. Даже летевшие в этот миг в верхних слоях импульсивно сжали свои бочкообразные талии и стреканули вниз.
Физиологические отправления у харенов индивидуальны: каждый питается за себя, а не за друзей и недругов. Общими являются лишь мысли и высшие чувства. Упавший харен испытал страх, страх вызвал мысль об опасности, а та привела в панику все общество. Землянам рекомендовалось соблюдать на Харене предельную осторожность: нормальных на Земле и иных планетах разговоров здесь нет. То, что узнает один, одновременно узнают все. Любое невинное сообщение может стать поводом для паники, ярости, ужаса, всеобщего бегства или всеобщего восстания. Все харены настроены на одну мыслительную волну, именно так, единым мозговым излучением, они и мыслят. И людям для любого индивидуального контакта надо выражать свои мысли в этом излучении, то есть доводить сразу до всех.
— Не удивительно, что при таких массовых паниках два астроинженера стали жертвой, — с возмущением сказала Анна, когда экран погас. Она даже побледнела от волнения. — Жить на вулкане безопасней, чем на Харене!
— Нам, однако, не сообщили ни одного факта, почему харены объявили двух наших парней «государственными опасниками» и так зверски расправились с ними, — задумчиво заметил Михайловский.
— Один факт известен, — возразил Хаяси.
— Какой, Мишель? Объясни, пожалуйста.
— Тот, что они убиты, — хладнокровно объяснил Хаяси.
В общем, подлетая к Харене, мы уже по горло были полны информацией о ней. На планете нам ее еще добавили. На Станции Космопомощи трудилось тридцать землян — чудесные парни, энтузиасты содействия отсталым внеземным цивилизациям. Они пожаловались, что планета теплая только на поверхности, освещенной не очень-то яркой звездой. Работают на глубине, а там — холод: ядро в тисках космического мороза. Аммиак просачивается в атмосферу из недр и, поднимаясь вверх, постепенно рассеивается в космосе. В атмосфере его становится все меньше. Да и расплодившиеся харены потребляют его больше, чем прежде. Землеройная техника, доставленная с Земли, извлекает твердый аммиак из недр, на поверхности он быстро превращается в жидкость, а затем и в газ. Харены участвуют в строительстве скважин и каналов для аммиака.
Мы не упустили случая посмеяться над Иваном, горевавшим, что у людей условия развития выпали хуже, чем у харенов. Лучше начинать с недостатка питания и дойти до полного довольства, как на Земле, чем, начав с довольства, постепенно впадать в нищету. Но для Ивана это было лишь поводом сменить печаль о людях печалью о харенах. Он так огорчился, что аммиака не хватает, будто его недоставало для нашего собственного питания. Лишь когда Анна стала хохотать, а Елена рассердилась, он, обиженный, замолчал.
Возглавлял Станцию социолог Леонтий Нага, тоже из учеников Крона Квамы и школьный приятель Мишеля Хаяси. Экспедициями к инопланетянам чаще других руководят астросоциологи; это, так сказать, их хлеб. С нами Нага беседовал довольно сдержанно, но с Мишелем разоткровенничался. Он уже третий год на Харене-2, составил подробное описание местных обычаев, быта, взаимоотношений, планы работ, через полгода кончается его командировка — преемнику будет вручен солидный материал. Солидный не значит надежный, надежности в общении с харенами нет. Они похожи на муравьев, и жизнь среди них как в муравейнике — не знаешь, что в следующую минуту: то ли равнодушно будут сновать вокруг, то ли кинутся на тебя. Хаяси он признался:
— Дотяну ли оставшиеся полгода? После гибели Манучара Баркая и Глеба Науманна каждый ждет такой же участи. Смирные же были ребята, и мысли не имели провоцировать харенов, а на тех вдруг нахлынуло бешенство. Посмотри записи команд погибших: не то что для ярости — нет повода для малейшего недовольства!
— Ты сказал — жизнь в муравейнике, но описываешь, скорей, сумасшедший дом с внезапными вспышками массового безумия, — заметил Хаяси.
— Похоже на сумасшедший дом, — мрачно согласился Нага.
Он выдал нам особые скафандры, легкие, специально для местных условий, взамен наших всепоисковых. Бродить в такой одежде удовольствие. Мы сразу совершили вылазку наружу. Грунт напоминал наш земной песок, зелени не было, неподалеку от Станции Космопомощи вздымалась невысокая гряда холмов, в тонко-вишневом небе катилась желтая Харена. Радости планета не порождала, отвращения не вызывала. У холмов землеройная машина била вертикальную шахту к линзе твердого аммиака, найденной в глубине. Вращающийся бур веером выбрасывал грунт. Здесь мы увидели харенов. Одни проворно уносили вынутую землю, другие прокладывали от машины канал к котловану, в него должен был хлынуть из недр быстро тающий аммиак. Мне харены почудились скорее гигантскими многоножками, а не муравьями, а когда кто-то вставал, виделась схожесть и с человеком. Поднимались на задние ноги они перед полетом. Зрелище было интересное. Харен выпрямлялся во весь рост, тонкая талия разбухала, грудь превращалась в бочку, он медленно отрывался от грунта, на высоте вдруг чудовищно утолщался и пулей взмывал в небо.
— Работают они хорошо, — сказал я оператору машины, рыжебородому, рыжеглазому великану, ловко манипулирующему рычагами и кнопками и покрикивающему время от времени на землекопов.
— Отлично работают! Но в этом ли суть? — ответил он и выразительно покривился, показывая, что мог бы и нехорошее сказать о подсобниках, но боится, что до них дойдет его критика.
— Разве они понимают, когда вы кричите? Ведь у харенов нет речи.
— Нет, конечно. Ни речи, ни бесед, ни развлечений, ни отдыха, ни искусства. Работают, и только. Дешифратор в моем скафандре доносит им мои мысли, а кричу я для себя, не привык командовать без слов. — Он невесело ухмыльнулся и снова стал распоряжаться.
Харены с таким рвением выполняли его приказы, что нашим землекопам можно бы поучиться.
На «Икаре» я пошел в механическую лабораторию. Гюнтер и Алексей возились с приборчиком, измеряющим силу взгляда: то один, то другой таращились на туманный экранчик — приемник взгляда, а перо на самописце рисовало всплески выдавленного из себя «зрительного импульса». Удивительное умение восьмируких астронавтов превращать глаза в орудия управления так захватило обоих астроинженеров, что они решили поэкспериментировать со своим зрением.
— Сколько же киловатт в вашем взгляде? — поинтересовался я.
— Если бы киловатты! — Гюнтер вздохнул. — Но около микроватта в зрительном импульсе в одну сотую секунды уже получалось.
Он ужасно вытаращился на экранчик. Поймав такой свирепый взгляд, любой человек в испуге отскочил бы подальше — перо лениво начертило небольшую стрелку вверх.
— Я подключал к Гюнтеру попеременно аккумуляторы и лейденские банки, — порадовал меня Алексей. — Сила взгляда увеличивается ощутительно. Хочешь посмотреть? Подготовка займет минут десять.
— И десяти секунд не буду тратить. Вот что, друзья. Взглядомеры — ваше вольное занятие, запрещать не смею. Но сейчас у нас иные задания.
Поскольку Нага не предложил плана исследований, а самому мне ничего в голову не приходило, я разрешил вольный поиск: практически простое блуждание по планете. «Худший вариант из возможных», — деловито характеризовала его Елена, но, впрочем, вариантов получше сама не нашла. Впоследствии много говорили и о моей выдающейся интуиции, и о том, что из множества разных путей я сразу увидел единственно правильный. Все это преувеличения, поверьте. Не было сверхъестественного озарения, а если получилось удачно, то это игра обстоятельств.
Вот так мы и стали слоняться по планете — скорей туристами, чем поисковиками. День в прогулках, второй, третий, а дни на Харене-2 ровно в два раза длинней земных. Любуемся скучным пейзажем, присматриваемся к харенам, осторожно заговариваем, то есть задаем через шифраторы мысленно простейшие вопросы, получаем такие же мысленные простейшие ответы. Вечером проверяем записи — естественно, ничего существенного. Гюнтер хмурится, у него интереснейшая работа в лаборатории, а я не даю кончить. Елена выразительно пожимает плечами, Хаяси молчит, а Иван от зевоты едва не выворачивает скулы. Остальные из вежливости соглашаются, что надо еще пофланировать по песку. Как-то вечером Иван взмолился: дайте выходной, он устал, он хочет поваляться в постели и вообще у него скоро зловеще подскочит температура от общения с харенами. В зловещую температуру я не поверил, выходного не дал, Иван утром уныло поплелся по холмам. Этот день оказался решающим.
В середине дня мы на часок возвращались на «Икар», ошвартовавшийся возле станции Космопомощи, отдыхали, делились впечатлениями. В тот день все появились в салоне в полдень, один Иван отсутствовал. Это никого не беспокоило: он был из породы зевак — смерть любил бесцельные блуждания. Вероятно, и сейчас, сбежав от харенов, повалился где-нибудь на грунт, озирает серые холмы и светло-вишневое небо и предается столь же бесформенным, как и местный пейзаж, мечтаньицам. Спокойствие наше рассеял появившийся на экране перепуганный Нага:
— На Харене волнение! Они пошли на Ивана!
Михайловский мгновенно дал выход на Ивана. На экране вспыхнул холм, на вершине его валялся Иван с блаженно устремленным вверх лицом, с закрытыми глазами — он кейфовал, не подозревая, что совершается. У подножия бурлила рыжая масса — харены чаще рыжего, иногда черного цвета. Их становилось все больше, они извивались, крутились, вскакивали один на другого — в общем, неистовствовали. Нага, теряя самообладание, умолял:
— Арн, они через две—три минуты ринутся наверх, у меня нет возможности отогнать их, кроме физического истребления, а на это я никогда не пойду! Спасайте его, спасайте сами, пока не поздно!
Ему легко было кричать: «Спасайте сами!». А что мы могли сделать на отдалении, кроме как воспользоваться охранными полями, а их фокусирование на холме неизбежно искалечит кишащих там харенов. Я бросился наружу. Фома, на редкость хладнокровная голова, в трудные минуты отчаянно быстр. Я лишь высунул ногу — авиетка уже покачивалась у люка. Все остальное заняло не больше минуты. Рухнув на вершину, я пнул Ивана ногой, он вскочил, и тут до него дошел «кошмар ситуации», как он потом написал в рапорте. Именно в эту минуту харены начали нападение.
Они ползли по склонам сплошной массой, дешифратор доносил до нас яростный вопль: «Убить опасника! Убить опасника!». Иван прыгнул в авиетку, отпихнул троих, вцепившихся в него, с силой рванул меня к себе. Но я видел, что на меня никто не покушается, расправиться жаждут только с ним, потому крикнул, чтобы он поскорей удирал, — я как-нибудь обойдусь. Он не решился меня оставить. В это время от «Икара» пошла вторая авиетка — с Петром. Иван захлопнул дверь в момент, когда его уже пытались оттуда извлечь разъяренные харены. Одного я оттащил, еще двоих он сам оттолкнул. Петр выскочил мне на помощь, но на меня по-прежнему никто не нападал. Петра тоже не трогали. Харены, взлетая, пустились догонять Ивана. Они пикировали на авиетку сверху, бросались навстречу, он летел в толчее рыжих тел — и так неторопливо, что я встревожился, в порядке ли двигатель. Он по передатчику успокоил: с двигателем порядок, но помешавшиеся бестии так остервенело сталкиваются с авиеткой, что многие получают повреждения, а увеличь он скорость, вниз посыплются не травмированные, а трупы. Преследователей все прибывало, Иван все сбрасывал скорость, чтобы никого не поранить, мы с Петром плелись позади зрителями, а не участниками — нас продолжали игнорировать. И мы еще не добрались до «Икара», как вокруг звездолета кишело месиво копошащихся, возбужденно летающих харенов. Опасаясь, чтобы кто-нибудь не проник на корабль, трое — Гюнтер, Мишель и Алексей — отталкивали от люка самых настырных. Иван влетел внутрь, за ним мы с Петром. Люк задраили.
— Говори теперь, Иван, какого шута ты привел в неистовство все местное общество? — приказал я.
Одного взгляда на его растерянное лицо было достаточно, чтобы поверить в ответ:
— Арн, честное слово, я ничего не делал, просто отдыхал!
— Итак, мы имеем новый факт: ничего не делать, иначе — просто отдыхать на Харене по местным законам преступление, — язвительно прокомментировал Хаяси.
А Елена деловито поинтересовалась:
— В чем конкретно выразилось Иванове ничегонеделание?
— По корабельным законам ничегонеделание, равно как и непредусмотренный отдых во время поиска, — проступок. Выношу тебе за это одно выговор, — постановил я.
На корабль прибыл Нага. Он поздравил со спасением от смертельной опасности одного члена экипажа и попросил поскорей разобраться в происшествии. Волнение не утихает. Все работы прекращены, харены летят и бегут к «Икару», требуя наказания нового «государственного опасника». Объяснений нет, кроме яростного обвинения: «Опасник!».
— Голова кружится! — устало сказал Нага. — Так надеялся, что распутаете загадки, а взамен — чуть не восстание… Возьмите дневник событий, зарегистрированных на Станции. Точность — до одной минуты.
На обзорном экране было видно, что руководитель Станции Космопомощи отнюдь не сгущает тревогу: толпа у «Икара» все прибывала, все исступленней становились прыжки, полеты и беготня.
— Нага, передайте по своим каналам населению, что преступление срочно расследуется, а когда расследование закончится, преступника, или, по-местному, опасника, накажут по всей строгости наших межзвездных законов. К вечеру приговор огласим.
Не знаю, поверили ли Наге, но вскоре возбуждение у звездолета порядком утихло. Впрочем, толпа не поредела и работы не возобновились. Харены, осадив «Икар» лагерем, ожидали возвещенного приговора. Не было сомнений, что буйство вспыхнет вновь, если приговор сочтут слишком мягким.
— Итак, начинаем расследование и выносим приговор, — сказал я. Иван попытался было снова доказывать, что ничего предосудительного не делал, но я оборвал его: — Дело не в том, что ты сам считаешь предосудительным, а что нет. Нас интересует, какое злодеяние обнаружило местное население в твоем невинном ничегонеделании.
Гюнтер подал на экран запись действий и мыслей Ивана. Утро шло как утро, Иван ходил по стройплощадке, задавал харенам деловые вопросы, получал деловые ответы, оплошностей не было, открытий не совершилось, К полудню он взобрался на вершину холма и предался лицезрению окрестностей. Именно в это время автомат на Станции зафиксировал первые признаки беспокойства у харенов. Пейзаж был тускл и безрадостен, Иван стал мысленно его оживлять, фантазия постепенно разыгрывалась, он глядел на песчаную равнину с ее серыми холмами, воображение преобразило ее, она стала почти красивой: желтая звезда превратилась в белую, небо из светло-красноватого — в голубое, на холмах появилась зелень, яркие цветы, высокие деревья, аммиачный ручеек обернулся горной речкой, мы увидели блеск стремящейся вниз воды, шум ее волн… По небу проплывали белые облака — сроду их не бывало на Харене. И, погруженный в свои видения, Иван забыл и о харенах, и об «Икаре», лишь мой удар ногой мигом стер в его мозгу фантастические картины. Следующие записи мыслей — да и действия — полностью отвечали реальности.
— Я замечтался, ребята, — смущенно оправдывался Иван. — Так, знаете, хотелось отвлечься!
— Надо было отключить предварительно дешифратор, — сказала Анна. — В этом вся твоя вина. Ты напрасно посвятил туземцев в свои мечтания.
Елена не преминула построить логическую цепочку:
— Возмущение харенов вызвали мысли Ивана, в действиях не было криминала. Но в мыслях были только мечтательные картинки. Стало быть, они и есть причина волнений. Иначе говоря, на Харене мечтать опасно. Отныне надо остерегаться делать туземцев созрителями своих фантазий.
Все это было убедительно уже потому, что других объяснений не возникало. Я попросил Хаяси высказаться. Если есть возможность найти изъян в построениях Елены, Мишель такой возможности не пропустит. Но он согласился с ней. Суть происшествия в том, что мышление харенов совершается одинаково и одновременно у всех. На Харене нет интеллектуального индивида, есть один мыслительный процесс в миллионах копий. Это не может не обеднять постижение мира. У людей общественное сознание существует наряду с индивидуальным и обслуживает общие потребности, отнюдь не вторгаясь в частные. На Харене частное и общее — тождество. Но при бездне индивидуумов мыслить в каждом за каждого возможно, лишь сосредоточиваясь на общем для всех. Выход за эту межу непосилен. Самосохранение принуждает отвергать любые интеллектуальные излишества. Мышление харенов предельно утилитарно. У них и понятия нет об искусстве, например. Поэтические картины Ивана были для них опаснейшей интеллектуальной роскошью. Мышление человека, наоборот, непрерывно ищет выхода за межу грубой утилитарности, оно жаждет интеллектуального богатства, даже неандерталец предавался мечтам, фантазировал, творил примитивные картины, мастерил безделушки. Фантазия, поэтичность, преодоление узкоутилитарного — не здесь ли мощь человеческого мышления? Но для современных харенов такие умственные полеты — гибель.
— Отлично, Мишель! — сказал я. — Подразумеваю твою блестящую речь, а не интеллект харенов. Мне особо нравится, что ты сказал: современные харены. Завтра, стало быть, могут измениться. Итак, преступление Ивана ясно. Наказание, надеюсь, удовлетворит интеллектуальную суровость харенов.
Я пригласил на «Икар» Нагу. Он явился со всей поспешностью: раздраженных долгим ожиданием жителей Харены снова стало охватывать возбуждение. Я изложил наши выводы:
— Вероятно, и тех двух бедняг, Баркая и Науманна, погубило какое-нибудь интеллектуальное излишество. Возможно, они читали стихи, или рисовали картины, или тоже мечтали. Вот что мы вам посоветуем, друг Нага. Снабдите каждый дешифратор фильтром, отсекающим все неделовое, всякие там фантазии, поэзию и прочее. Харены пока эти роскошества не приемлют. Ну а следующие поколения… Их хорошо бы капля по капле выводить за границы утилитарности — может, когда-нибудь станет потребностью то, что сегодня объявляется преступным излишеством.
— А что я скажу о друге Комнине? — с тревогой осведомился Нага. — Они ведь ждут сурового приговора.
— Приговор наисуровейший! Иван Комнин, астромедик и поэт, навеки изгоняется с Харены. Мы, остальные члены экипажа «Икара», проконвоируем его до Латоны, не выпуская наружу из корабля.
Рейс на Харену вышел кратковременным, и для меня это было только приятно. Харена-2 сохранилась в моей памяти весьма грустным местечком. Не я один вздохнул с облегчением, когда за кормой «Икара» стерлась желтая звездочка, именуемая Хареной, и даже в наши сильные телескопы не стала видна небольшая планетка, населенная народом, мыслящим лишь одной головой.
Зато Марек твердил, что мы совершили космический подвиг. Он причислял наш рейс к выдающимся успехам космонавигации. И он считал своим долгом информировать меня при каждом прилете на базу о делах на Харене-2. Так я узнал, что фильтры, поглощавшие все формы фантазии и поэзии, сконструированы и снабженные ими земляне чувствуют теперь себя в полной безопасности — жизнь на Харене-2 уже никому не кажется неприемлемой. И что Леонтий Нага, когда завершились оставшиеся полгода до конца его командировки, добровольно продлил пребывание на Харене-2 еще на три года. И что — очень осторожно и постепенно — стали приучать харенов к некоторым интеллектуальным «чрезмерностям», хотя фантазия, вроде той, что заполнила Ивана во время отдыха, и теперь небезопасны.
— Вы произвели подлинный переворот в бытии харенов! — с воодушевлением доказывал Марек. — Последствия вашего рейса скажутся по-настоящему лишь в будущем, но и сейчас из лексикона харенов исчез этот странный термин: «опасник». Не хотели бы в свободное время прогуляться на эту интереснейшую планетку и воочию убедиться, что вы для нее сделали?
Рассказы Марека нас радовали, но повторять рейс на Харену-2 никому не улыбалось.
Глава четвертая СУЩЕСТВОВАНИЕ БЕЗ СУЩНОСТИ
Сверхплановых заданий Кнут Марек на этот раз нам не выдал, а плановое было одно: вести вольный поиск в галактическом регионе В-24, то есть, попросту говоря, разрывать аннигиляторами «Икара» пространство в этом расширяющемся конусе Галактики — в нем в общей сложности до миллиарда светил, не думайте, что это такое уж звездное захолустье.
И все-таки, положа руку на сердце, — наш регион был своеобразным захолустьем. Мы проносились сквозь неизведанные районы космоса, снова и снова вторгались в неведомые звездные системы, наносили светила на стереокарты Галактики, изучали планеты, если находили их. И хоть планет встречалось гораздо больше, чем доказывали на лекциях по астронавигации, только одна из тысячи звезд могла похвалиться планетной свитой, и только на одной из тысячи планет мы находили какую-либо форму жизни. «Удивительно безжизненный мир наша Галактика, в ней засилье мертвого вещества!» — уныло выразился Петр, когда писал с Еленой очередной доклад об очередном осмотре очередной планетной системы. После редактирования, проделанного опытной в таких делах Еленой, сентенция эта зазвучала несколько по-иному: «В обследованном по плану космического поиска звездном районе НК-17 галактического региона В-24 материя обнаружена лишь в грубо физической организации, нигде не развившейся до биологических или иных жизнеподобных структур».
За три последующих года мы дважды пополняли на Латоие запасы активного вещества и пользовались кратковременным отдыхом. Марек опять предлагал нам отпуск на Землю, мы опять дружно восставали против. Отпуск у поисковика годовой или двухгодичный, пришлось бы отдать «Икар» в чужие руки — даже мысль об этом была неприятна. Заправившись на Латоне, мы снова уходили в поиск.
Не могу сказать, чтобы эти три года были безрезультатны. Нет, кое-что обнаружили, даже важное: парочку «черных дыр» — почти нацело рухнувших в бездну мирового вакуума погасших звезд — в опасной близости от проектируемой новой галактической трассы. Нормальному звездолету пролететь около такого галактического паука — так мы называли эти сжавшиеся в крохотное сверхмассивное тельце бывшие светила — не дай и не приведи! Мы указали точные координаты «черных дыр», а строительные звездолетные эскадры, базирующиеся на Латоне, немедленно вышли в указанный район — возводить вокруг грозных местечек предупредительные планеты-маяки.
К важнейшему успеху этого периода я отношу открытие планетной семьи четверной звездной системы Фантомы.
Вы знаете, что новообследованные звезды снабжаются только индексами и номерами, ибо придумать названия для двух миллиардов уже изученных звезд нашей Галактики не хватит слов, а еще ждут сто тридцать Миллиардов галактических звезд, до каких пока не добрались звездолеты, я уж не говорю о звездах других галактик. Итак, четырехзвездное семейство получило исчерпывающее и ясное наименование «В-24, НК-17, ЛАК-38349 — четверная», а каждой из звездных сестер присвоили еще индивидуальные индексы: а, б, в, г. Но мы просто не могли ограничиться такими служебно-бесстрастными наименованиями. Четыре звездных сестры заслуживали предпочтения перед всеми своими соседками, ближними и дальними сородичами. Мы их семью назвали Фантомой, и это была точная характеристика, а не случайно приклеенное словцо. Не знаю, юноша, знакомились ли вы когда с отчетом о пребывании «Икара» в Фантоме? Если читали, то должны знать, какое этот отчет породил волнение, я бы даже сказал — возмущение среди астрономов. Доказывали, что описанная нами комбинация светил невозможна по законам небесной механики, астрофизики, космологии и даже теории вероятностей. Один из корифеев космодинамики в Академии бурно негодовал: «Арнольд Гамов со своим экипажем стал писать ненаучную фантастику взамен астронавигационных обследований!». И пуще рассвирепел, когда я хладнокровно разъяснил, что ненаучная фантастика реально встречается в каждом рейсе в далекие районы Галактики, а что до категории невероятности, то природа так богата возможностями, что разрешает себе роскошь иметь среди своих физических явлений и невероятные. «Можете отнести их, дорогой коллега, к логическим излишествам природы или ее космогоническому безумию, выбор такого вполне научного термина предоставляю вам», — учтиво разъяснил я корифею в той дискуссии.
Не буду описывать, как мы открыли Фантому, как, выбросившись из сверхсветового в эйнштейново пространство, осторожно, на двух десятых скорости света, приближались к ней, как удивлялись и восхищались ее оптическими эффектами — сопереживать нам можно и сегодня, сидя в стереокино. Но о каждой из Фантом скажу подробней, это важно для дальнейшего рассказа. Итак, Фантома Первая — рядовой белый карлик, по размеру чуть больше нашей Луны, по массе чуть поменьше нашего Солнца, в общем, белый-белый, пронзительно сияющий шарик, каждый литр вещества которого весит добрую тысячу тонн. Фантому Вторую, оранжевую, мы назвали пыхтящей, она на глазах раздувалась, светлела, накалялась, потом испускала языки сияющей пыли, они облачками уносились, а звезда возвращалась к исходному состоянию — как бы облегчала себя могучим выдохом пыли. Иван — он любил рисовать — изобразил Фантому Вторую в виде курносой девчонки с надутыми щеками — очень верно схвачено, поверьте. А Фантома Третья мигала, даже не мигала, а подмигивала, светила, светила, вдруг начинала быстро темнеть, почти пропадала, затягиваемая черной пеленой, а в пелене вспыхивало озорное пятно и тоже гасло, проходило еще какое-то время, пелена слабела, звезда становилась обычной и, побыв немного такой, снова ударялась в подмигивание. Мы так ее и назвали — Фантома Подмигивающая. К сожалению, это точное название сочли в Академии легкомысленным и переделали в менее точное и гораздо более скучное — Фантома Мигающая.
Так же поступили в Академии и с Четвертой Фантомой. Из Фантомы Бешеной ее переименовали в Фантому Взрывающуюся. Она, разумеется, взрывалась, этого нельзя отрицать: сияние быстро накалялось, она вся белела, потом разлеталась. Казалось, после такого взрыва ничего от звезды не осталось. Но когда исторгнутая пыль тускнела, Фантома Четвертая была на месте и снова накаливалась и белела, подготавливаясь к следующему взрыву. Она не уничтожала себя, только разбрызгивала вокруг сияние, взрывалась светом, а не веществом.
По подсчетам Анны за каждый взрыв расходовалась одна триллионная ее массы, так что устраивать яркие фейерверки Четвертой Фантоме предстоит еще множество лет. Иван изобразил ее монстроподобной, с налитыми кровью глазами, дико распахнутым ртом — типичная картина бешенства. Очень жалко, что земные эксперты не уловили впечатления, создаваемого звездой.
В общем, и сама комбинация из четырех таких звездочек не тривиальна и еще нетривиальней картина движений, какие они совершали вокруг своего центра тяжести, — траектории были до того сложны, что ни разу с планет, вращавшихся вокруг Фантомы, мы не видели одинакового расположения звезд, те являлись перед нами только в разных сочетаниях, а предсказать, как сложится их рисунок спустя некоторое время, могла только наша корабельная МУМ: уж для нее-то не существовало человеческих понятий «удивительно», «невероятно», тем более «живописно» и «восхитительно».
Вначале мы собирались пролететь мимо Фантомы. По предварительным данным, ее район не выделялся ничем особенным: там не происходило грандиозных космических катастроф, оттуда не вырывалось губительных излучений, а мы шли как раз в точку ЛАК-38374 на стереокарте Галактики, где все это имело место — и звездные взрывы, и шальные излучения. Но Анну Мейснер заинтересовало скопление пыли вокруг еще невидимой Фантомы.
— Пыльных облаков в Галактике сколько хочешь, Анна, — сказал я. — Неужели тебя привлекает звездная пыль?
— Это пыль особенная, Арн, — настаивала она. — В ней не только водород и гелий, но и масса тяжелых металлов. Согласись, это не совсем обычно.
Тяжелые металлы в космической пыли и вправду вещь редкая, и мы свернули к Фантоме. Не составило труда установить, что четыре светила связались в единую звездную систему и что вокруг нее вращаются две планеты и с добрую сотню астероидов, и каждая планета окружена густой газо-пылевой атмосферой, а вокруг астероидов атмосферы нет, и они не пылят. Все это были элементарные астрофизические измерения. Мы не считали открытием находку еще одной мертвой планетной системы: об отсутствии предпосылок для жизни свидетельствовали анализы атмосфер двух планеток, вряд ли что живое могло существовать в такой пыли. Сконфуженная Анна признала, что поразившая ее концентрация тяжелых элементов в окрестностях Фантомы, несомненно, результат взрыва массивной планеты, напоминавшей теперь о себе лишь роем астероидов.
— В общем, можно ложиться на старый курс, — сказала она с сожалением.
Фома поддержал ее, остальным было все равно, углубляться ли в пылевые облака Фантомы или мчаться к очагу катастроф где-то в дальнем районе на рейсовой карте. А я не захотел возвращаться, не обследовав хотя бы одну из планет. И снова мое упрямство привело к успеху — и это свидетельствует, юноша, что нет таких уголков космоса, где бы астроразведчика не подстерегало что-то неизвестное.
Мы высадились на дальней планете, сперва раз пять или шесть облетев ее и прощупав поисковыми полями все ее извилины. Планетка была мертвым шариком с вполне приличной гравитацией и до того густой атмосферой, что скорей можно было ее жевать, а не дышать ею. Для жевания атмосфера, впрочем, так же мало годилась, как и для дыхания. Посылать разведочную группу было излишне, приборы гарантировали нам спокойные прогулки. Фома посадил «Икар» на ровной площадке, и мы выбрались наружу. Фома один остался на «Икаре» — это его обязанность. Он выходит наружу, только когда я заменяю его, а это, прямо скажу, происходило не часто.
Каждый, чуть ступив ногой на почву, вскрикивал от восторга, я тоже не был исключением, лишь хладнокровный Хаяси что-то невнятно пробормотал, но, впрочем, так одобрительно, что вполне сходило за восхищение. Четыре Фантомы в тот миг составляли комбинацию, которая больше ни разу не повторялась и была самым живописным их сочетанием. Они катились по тускло-розовому небу величественным созвездием в виде ромба, и оно захватывало ровно половину небесной площади. Вращение дальней планеты вокруг своей оси происходило за четыре наших часа, так что день на ней очень короткий и светила не медлительно плывут, как наше Солнце, а прямо-таки мчатся. Впереди несся диковатый звездный карлик, крохотное, с грецкий орех, белое солнце, до того остро сияющее, что, казалось, оно не просто светит, а пронзает светом. А поодаль и сбоку надувалась Фантома Пыхтящая, а с другого боку как раз взрывалась Фантома Бешеная — и картина ее кажущееся гибели, доложу вам, была весьма впечатляющей. Замыкала бег светил Фантома Мигающая, она была на небосводе небольшой, с десертную тарелочку, что-то среднее между орехом белого карлика и массивными блюдцами двух средних светил, и так выразительно подмигивала, словно приглашала нас полюбоваться великолепным спектаклем над нашими головами. Света от четырех светил было более чем порядочно. Анна высчитала, что если бы не запыленная атмосфера, то безжалостная радиация сожгла бы все на планете, расплавила бы и легкоплавкие металлы, но в атмосфере теряется почти вся лучистая энергия. И хоть на поверхности горячо, как в бане, все же в костюме поисковика ходить можно.
Мы взобрались на пригорочек, осмотрелись и увидели, что планета населена призраками. Белый карлик закатывался за горизонт. Пыхтящая с Бешеной тоже валились вниз, а Мигающая насмешливо озирала мир с зенита. Четыре светила создавали четыре тени, планета была холмистой, тени, густые, четкие, двигались, перемещались — вдруг те, что создавались круто падающими к горизонту звездами, начинали бежать, накладывались на другие, удирали от других. Планета непрерывно меняла свой облик — так красочна была игра теней: чудилось, что она вся, все ее горы, ее скалы, ее расщелины перемещались, сталкивались, то разбухали, то сжимались. Ни на секунду пейзаж не сохранял неизменности, мы в этом убедились потом, рассматривая фотографии, снятые с одной точки, но в разное время. Мы заранее знали, что на снимках одна и та же местность, но глаз видел разные.
— Я пойду направо, Арн, — возгласил Гюнтер Менотти и спустился с холма в правую долинку, где что-то сияло.
С ним пошел Алексей Кастор, его помощник.
— Я пойду налево, там что-то сверкает, — сказала Анна и тоже заскользила с холма.
За ней поспешил Иван.
Петр с Еленой ходили по холмику, изучая биологическими анализаторами почву. Я спросил, есть ли что интересное. Нет, и намека на жизнь они не нашли. Я присел на камешке, рядом опустился Хаяси.
— Здесь тебе делать нечего, Мишель, — сказал я. — Совершенно мертвая природа… Жизнь вообще вроде редкой болезни в космосе, а организованные общества в мироздании — что-то совсем уникальное. Профессия астросоциолога, к сожалению, не принадлежит к популярным.
Он усмехнулся и промолчал. Я наслаждался пейзажем. В странной игре теней была какая-то система, я старался в нее проникнуть. Карлик закатился, теперь заходили обе переменные звезды. В момент их заката все на планете как бы пустилось в бег. Тени поворачивались, удлинялись, расплывались, все уносились к восходу и там сгущались и замирали, а потом терялись, растворялись в общей темноте. И только красноватая Мигающая — она тоже шла на закат — то притушевывалась, то разгоралась, и ей в лад планета то затемнялась, то светлела. Но самое яркое зрелище только подготавливалось, и, когда оно возникло, даже Хаяси воскликнул:
— Здорово, Арн, очень здорово!
У другого края горизонта засверкало белое пятно, оно быстро расширялось — и наверх вырвался раскаленный карлик. Он брызнул светом, и замершие у восхода тени пропали, зато вмиг возникшие новые тени, еще нечеткие, очень длинные, ринулись в обратную сторону, на закат, тут же стали сокращаться, чернеть, делаться четкими. Впечатление было такое, будто все на планете рванулось в испуге от восхода, а потом, опомнившись, стало ползти обратно, — и снова началась игра призраков, порожденных белым карликом, с призраками закатывающейся красноватой Мигающей.
— Думаю, стереофильм, где героями будут одни эти тени, произведет на Земле сенсацию, — сказал одобрительно Хаяси.
В это время меня позвал Менотти, и мы с Хаяси спустились к нему. Гюнтер обвел рукой вокруг. Белый карлик давал достаточно света, чтобы мы могли уяснить удивительность представившегося нам зрелища. В долинке, сложенной желтыми скалами, тек серебристый ручей — так это привиделось издали. А когда мы подошли ближе, то увидели, что скалы — чистое золото, а ручей — столь же чистое железо. Он, естественно, не тек, а покоился длинным могучим языком на дне золотого ущелья.
— Это еще не все! — воскликнул Гюнтер. — Вон за той золотой вершиной металлическое озеро, такое же серебристое, как этот застывший железный поток. И если наши анализаторы не путают, то озерко залито чистейшим никелем, и его миллиарды тонн.
Озеро было внушительное, от берега до берега километров пять, можно было допустить, что в нем и вправду миллиарды тонн никеля. Наши с Хаяси приборы тоже показали, что оно залито этим металлом. Мы осматривали озеро с золотой вершины. К этому часу вышли на небосвод Фантомы Пыхтящая и Бешеная, теперь Пыхтящая отставала от Бешеной, это создавало новые оптические эффекты. От золотых скал на никелевое озеро рушились тени. И золото вершин, и синеватое озеро, и беснующиеся на зеркальной глади тени складывались в многокрасочную фантасмагорию. Не знаю, так ли это было прекрасно, как мне виделось, но глаза не уставали глядеть.
— Друзья, помогите отделить образцы от породы, — сказал Алексей.
Наши плазменные пистолеты при нужде служат и геологическими молотками. Куски, вырезанные нами из скал, из озера и ручья, из застывших металлических водопадов и жил, прорезавших толщу золота, были так велики, что каждому пришлось включать на всю мощь свои переносные гравитаторы, чтобы дотащить добычу до «Икара».
На «Икаре» вернувшаяся раньше Анна встретила нас радостным восклицанием:
— Друзья, эта планета — чудо! Посмотрите, какая красота! На груди у нее красовался оранжевый кристалл, еще не освобожденный полностью от вмещавшей его темноватой породы. Елена, не столь нетерпеливая, сперва очистила такой же кристалл от последних пылинок, потом тоже прикрепила его к воротнику комбинезона. Обе женщины, такие внешне разные, с одинаковым волнением ждали наших оценок.
Вы помните портреты наших подруг, юноша? Темноволосая, длинноволосая дурнушка Анна Мейснер всегда боялась даже становиться рядом со светлокудрой красавицей Еленой Витковской. Фома и Алексей, самые галантные из наших мужчин, называли волосы Елены золотыми. Иван в один из дней ее рождения написал стих, где строка: «Солнце и пепел твоих волос» рифмовалась с сентенцией: «Я счастлив: быть другом, твоим довелось». Еленой нельзя было не любоваться, на Земле ее одолевали поклонники, ею увлекались с первого взгляда — правда, ненадолго; всех быстро отпугивал ее холодный, придирчивый ум, она безошибочно находила у каждого недостатки и не стеснялась говорить о них. Мне она как-то во время кратковременного отдыха на Латоне сказала:
— Очень жалко, Арн, что нам с тобой нужно быть всегда вместе. Три—четыре часа в день ты так хорош, что я разрешила бы тебе влюбиться в меня. Но полные сутки с тобой можно только служить, а не нежничать.
Я ехидно поинтересовался:
— А с собой полные сутки ты способна пребывать в нежности?
Она хладнокровно отпарировала:
— Не знаю. Ты не даешь мне возможности оставаться с собой наедине больше часа. Я не говорю о сне, конечно. Такого скудного времени на самовлюбленность не хватит.
И вот сейчас Анна не побоялась стать перед нами плечом к плечу с Еленой. От одного того, что она нацепила на комбинезон причудливо сверкавший камешек, она вся переменилась. Глаза ее, и обычно немалые, так расширились, в них появилось такое сияние и вся она вдруг стала такой… В общем, то самое, что предки называли вечно женственным. Этого добра в Анне было хоть отбавляй, только она старалась скрывать все, чем могла привлечь.
Если Еленой нельзя было на короткое время не увлечься, то в Анну глубоко влюблялись. Кренстон и Менотти были в этом смысле не исключением. Их отношение к ней сыграло немалую роль в трагедии, постигшей нас на Кремоне. Не подумайте, что я что-либо ставлю Анне в вину или осуждаю Петра с Гюнтером, нет, я просто хочу сказать, что в тот час в салоне «Икара», взволнованная, вдруг преобразившаяся, Анна показалась мне красивей нашей Елены Прекрасной.
Теперь о самих камушках. На Земле эта разновидность алмазов нынче в такой моде, о них столько говорят, женщины ради них забрасывают даже знаменитые острозеленые нептунианы, что мне не добавить нового к бездне сведений о них. Конечно, они красивей земных бриллиантов, к тому же их не надо огранять, каждый кристаллик снабжен своими естественными тремя десятками граней, и этого вполне хватает для блеска. Алексей назвал их вспыхивающими алмазами — название точное. Нас всех тогда особенно поразило, что камушки не просто сверкают, а еще сгущают в себе внешний свет и при каких-то поворотах вдруг выбрасывают накопленное сияние. Я, естественно, похвалил находку, но без восхищения:
— Космические драгоценности вам очень к лицу, подруги, только советую не злоупотреблять ими, а не то от сверкания ваших камней у нас начнут кружиться головы, чего я, будучи командиром корабля, допустить не могу.
Елена сразу сняла украшение, она и без драгоценностей была убеждена в своей неотразимости, хотя, должен отметить со всей честностью, ни разу в рейсах не злоупотребляла этим. Анне очень не хотелось расставаться с камнем, она бросила на меня умоляющий взгляд — я подтвердил приказ сухим кивком головы. На Земле часто не понимали строгости порядков на «Икаре», но те, кто побывал не в кратковременных космических командировках, а участвовал в дальних рейсах, всегда одобряли меня: ни один член экипажа не должен выделяться, каждый носит то же платье, ест ту же еду, не требуя для себя ни в чем предпочтения, а что естественно разделяет нас, не подчеркивается и, если можно, вообще не показывается. Достаточно долгий срок такая жестокая дисциплина сплачивала нас воедино. Но были различия в характере, с этим я справиться не мог — и мало-помалу они стали сказываться.
Вспыхивающие алмазы Анна с Иваном нашли на островке из чистого углерода, возвышавшемся на золотой равнине. Золото, как мы вскоре убедились, основной минерал планеты, оно потом нам порядком надоело: мы ходили по золоту, падали на золото, ударялись о золото и если произносили вслух это название, то с добавлением эпитета «чертово». Потом мы установили, что разлетевшаяся на астероиды третья планета была такого же состава, что и первая. В ней произошло по каким-то причинам полное разделение минералов и элементов. Мы привезли на Латону всего пять самых крохотных астероидов — золотой, железный, никелевый, углеродный, нашпигованный вспыхивающими алмазами, как колбаса салом, и еще один, такого сложного состава, что и поныне в структуре этого космического осколка весом около десяти тысяч тонн еще полностью не разобрались. Впрочем, все это вы знаете не хуже меня.
О второй планете нам нужно поговорить подробней, она сыграла немалую роль в наших последующих странствиях.
Итак, вторая планета, Протея, как назвал ее Иван, — коварнейшее космическое местечко, крутившееся вокруг Фантомы на таком расстоянии, что каждое светило в одиночку могло бы испепелить ее, а все вместе они должны были превратить ее в газ, если бы она не была окутана густой пеленой пыли, и если бы эта пыль не отражала в мертвый космический мороз почти всю приходящую от Фантомы энергию, и если бы к тому же в атмосфере не возникали чудовищные ураганы, выносившие на холод самые нагретые слои. Именно на этой планете наши дальние анализаторы впервые оскандалились. Она сверкала, как звезда, анализаторы установили ее внешнюю температуру почти в тысячу градусов и предсказывали около двух тысяч на почве. Иначе говоря, мы готовились встретиться с жидким варевом из всех элементов Менделеевской таблицы. Но датчики, выстреленные на планету, показали, что нигде ее температура не превосходит сорока градусов, меньше даже, чем летом в земных пустынях. Все же Михайловский вел «Икар» сквозь атмосферную пыль с большой осторожностью и, раньше чем проделал с десяток витков вокруг планеты, не решился посадить на нее корабль.
Не могу забыть, с каким изумлением он поглядел на меня, — в трудных ситуациях я всегда сижу с ним дублером.
— Арн, это же совершенно нормальная планетка, на ней можно безмятежно прогуливаться!
Ну, что до нормальности, то выражение это надо понимать в космическом, а не земном смысле. Ходить по планете можно было лишь в скафандре, а безмятежные прогулки исключались: на каждом шагу подстерегали опасности. Об опасностях мы узнали впоследствии, первый доклад Менотти, высадившегося во главе разведочной группы, свелся к выразительному восклицанию:
— Черт возьми, здесь настоящие привидения! Какое-то царство туманов и призраков!
Для осторожности мы выходили по трое. Я спустился со второй группой. Все вокруг было окутано многоцветным, густым туманом, сквозь него призрачно светили четыре звезды: каждая создавала свои краски в тончайшей пыли. И в атмосфере крутились вихри, то там, то здесь возникали смерчи, они ярко вращались, именно ярко — разбрасывали поглощенную пылинками радиацию Фантомы, по многометровым колоннам смерчей бежали радуги, по грунту ползли побежалые цвета. Далей не существовало, кругом был только меняющий краски туман, синеватый, красноватый, оранжевый, а в нем мчались сверкающие столбы, вблизи они были потоком сияния, поодаль превращались в каких-то гигантских сказочных великанов. А к этим призрачным, снующим повсюду фигурам внезапно добавилась, когда я вышел, еще одна, самая страшная, — похожая на огромного человека, она вынырнула из пелены и помчалась на меня, широко разбрасывая две руки. И рядом с ней сразу появились другие человекоподобные призраки, они умножались, повторялись и все неслись ко мне. Я в испуге отшатнулся.
— Арн, это же ты сам! — со смехом успокоила меня Анна. — Твое преображенное изображение.
Это и вправду был я сам. Зловредный белый карлик в эту минуту точно проходил позади меня, он бросил мою тень на какой-то столб, тот отразил ее на другой столб, отражения стали множиться и искажаться — так возникли копирующие меня страшноватые призраки. С течением времени мы превратили это явление в игру — занимали дающую оптический эффект позицию, и вся окрестность быстро заполнялась нашими мечущимися образами. Особенно забавным было то, что когда мы удалялись от места, где легко рождались тени, даже возвращались на корабль, порожденные нами привидения, отбрасываемые от одного смерча к другому, долго еще творили диковинный шабаш. В общем, если в космосе где-либо и существовала планета призраков, то мы набрели именно на нее. Первое впечатление Гюнтера Менотти ежечасно подтверждалось.
Особенно утвердились мы в таком мнении, когда повстречались с живым существом. Оно выкатилось шаром из дальнего смутного тумана в ближний, более прозрачный, немедленно повторилось в сотнях копий, и вся эта масса расплывчатых, разных по объему шаров подступала к нам спереди и с боков. И вдруг все копии исчезли, а у ног Петра, шедшего впереди, закопошилось нечто круглое, зеленовато-желтое, медузообразное и, по всей видимости, живое. Петр, не дотрагиваясь, склонился над незнакомцем, к Петру подошла Елена, за ней Гюнтер, я и Иван.
— Оно дышит, — сказал Петр.
Периодическое раздувание и опадание тела незнакомца могло сойти и за дыхание: впоследствии мы дознались, что это было скорей питание, а не дыхание. Для живых зверьков, каких мы повстречали здесь, атмосфера служила и пищей и воздухом. В этом отношении — и только в этом — зверьки были схожи с харенами, стоявшими гораздо выше их по развитию. Вообще замечу вам: земной дуализм питания и дыхания в космосе встречается реже, чем, так сказать, питательное дыхание.
— И оно мирное, — добавил Гюнтер и легонько дотронулся ногой до пульсирующего тела.
Легкое прикосновение Гюнтера оказало разительное действие. Шар вдруг взорвался, но взрывом диковинным — не разлетелся на куски и брызги, а буквально за секунду распух раз в десять — двенадцать. Только что он лежал мягкой медузой, а теперь это была уже не медуза, а холмик, человеку по грудь. И трансформация на таком взрывном «выбухании» не завершилась — шар лихорадочно пульсировал, крутился, внезапно перестал быть шаром, стал вытягиваться, удлиняться, заводиться петлями. Не прошло и минуты, как на почве лежала натуральная змея, метров пять длиной, свитая в два кольца — в одно закрутился хвост, а другое состояло из головы, если это была голова, — и в три слоя обвившей ее шеи.
— Будь осторожен! — крикнул Петр Гюнтеру, когда шар еще превращался в змею.
— Нет, оно по-прежнему мирное, — хладнокровно сказал Гюнтер и показал на оба кольца: в центре их покоились два конца змеи, тупые, безглазые и безротые, ни один не напоминал ни головы, ни хвоста.
— Живая колбаса! — воскликнула Анна и залилась смехом. Должен сказать, что в отличие от хладнокровной Елены, насмешливой, но не смешливой, Анна в самых безобидных ситуациях находила повод радостно посмеяться или вознегодовать — последнее с ней происходило даже чаще.
Подошедший Хаяси с минуту всматривался в неподвижную зелено-желтую змею, потом сказал с сомнением:
— Ты говоришь, живое, Петр? Разреши усомниться.
— Живое, — подтвердил Кренстон, но без уверенности. — Дышит, движется, меняет форму тела…
— Никогда не думал, что изменение формы тела является признаком жизнедеятельности. Елена, ты тоже считаешь это физическое явление живым существом? Какой оно тогда природы?
В руках у Елены был такой же биоанализатор, как у Кренстона. Она сверилась с его показаниями. Анализатор утверждал, что незнакомец — нечто живое, но не нашей углеродно-водородной природы, в теле его в основном металлы. И оно, поглощая пылевую атмосферу, добрую часть пыли оставляет в себе: это его пища.
— И знаете, что еще? — сказала Елена с удивлением. — Оно самопроизвольно меняет массу своего тела. В этой змее ровно в два раза больше веса, чем в породившем ее черепахоподобном шаре. Взяло и внезапно самоудвоилось! С таким явлением мы еще не встречались!
Гюнтер опять дотронулся до неподвижной змеи. И опять его легкое прикосновение вызвало несоразмерный эффект. Змея прыгнула вверх, теперь это снова был шар, только не прижатый к земле, а возвышавшийся на тонкой ножке — шар свободно покачивался на ней, как маковая головка на стебле. И в этом новом облике незнакомец не показывал агрессивности — просто качался перед нами, не отступая и не нападая.
Из меняющего краски тумана выявились два новых зверька: один, змееподобный, полз, проворно свиваясь и развиваясь, другой, двухшаровой, что-то напоминающее гантель, неуклюже перекатывался двумя головами, двухголовье явно мешало, а не способствовало движению. Первый был красноват, скорей даже малиновый, а у второго одна голова была тускловато-желтой, зато вторая — той яркой желтизны, какая называется ядовитой. Оба подобрались к нам и замерли. Теперь перед нами образовалось полукружие забавных существ — разной формы, разного цвета, но одинаково безгласных и неподвижных.
— Попробуем и этих на трансформацию, — деловито сказал Гюнтер и ткнул ногой двухголового, но тут же чуть не в испуге отскочил: ему показалось, что тот обеими головами ринулся на него.
Нападения, однако, не было, просто две головы стали стремительно сливаться во что-то единое. Я сказал, юноша, «просто», но простоты в трансформациях не было, и мы были основательно ошеломлены, когда спустя десяток секунд вместо двухголовой живой гантели на грунте пульсировало шарообразование, очень похожее на то, каким предстал вначале первый пришелец. Я строго выговорил Гюнтеру. Нельзя вести себя так легкомысленно! Только ходить и присматриваться, ни до чего не дотрагиваясь, — вот наше поведение в первые дни знакомства. Я еще не закончил начальственного наставления, как Иван показал на что-то впереди. Я обернулся, запнулся ногой и невольно толкнул третьего, змееподобного. Этот каскадом своих превращений заткнул за пояс обоих товарищей. Он свивался и разлетался, раздувался и уминался, был то шаром, то веревкой, то многоголовой гидрой, а кончил огромной лепешкой — распластался и оцепенел, только края подрагивали и пульсировали. Я сердито сказал Ивану:
— Почему ты меня бросаешь в объятия местных кудесников?
— Мне показалось, что из тумана что-то летит на нас, — оправдывался он. — Я вовсе не хотел бросить тебя на протея.
— Протея? Что значит это название?
Иван Комнин, единственный среди нас знаток истории, сказал, что зверьки напоминают ему древнего исторического деятеля Протея, который, попав как-то в руки спартанского царя Менелая, стал отчаянно манипулировать своим внешним обликом. Принимал образы льва, пантеры, дракона, дерева и даже текущей воды, но так и не выскользнув из цепких царских рук — спартанцы не любили упускать захваченную добычу, а Менелай особо отличался этим свойством, — под конец изнемог, смирился и пошел на уступки, которых требовал разбойнически напавший на сонного Протея ловкий спартанский царь.
— Конечно, местным зверькам далеко до нашего земного Протея, но в принципе их поведение типично протейское, почему я и предлагаю именовать их протеями, — так закончил Иван свой исторический экскурс.
Мы тут же согласились наименовать планету Протеей, а ее жителей протеями.
Менотти предложил обследовать окрестности:
— Давайте двигаться парами. Три пары возглавляют корабельные разведчики — я, Петр и Мишель. Елена с Иваном составляют отдельную пару, Елена достаточно осторожна, чтобы не разрешить Ивану ни рискованных поступков, ни бездельных мечтаний, оказавшихся столь опасными на Харене. А себе в напарники я беру нашего капитана, Арн беспокоится, что я веду себя слишком рискованно в неведомых местах. Пусть сам контролирует мои действия. Боюсь только, что его благоразумие будет опасней моего безрассудства.
Он церемонно поклонился мне, я смеялся. В Гюнтере есть что-то актерское, он не просто разговаривает, а как бы иронически подает себя. Елена сказала как-то:
— Гюнтер, ты бы хорошо сыграл Мефистофеля.
Он надменно качнул головой:
— Мне бы тогда пришлось играть самого себя, а я не люблю откровенничать.
Но разведчик он осмотрительный, и если легкий удар ногой на Протее привел к неожиданным следствиям, то, говорят, и на старуху бывает проруха.
Мы разошлись, оставив трех протеев на прежних местах и в образах своей последней трансформации. Уже через минуту вокруг меня и Менотти был только густой, менявший краски пылевой туман и в нем возникали и уносились смерчи, а вверху с ощутимой скоростью передвигалась тусклая четырехликая Фантома — планета, названная нами Протеей, за какие-нибудь полтора часа совершает полный оборот вокруг своей оси.
Вскоре мы установили, что на недостаток меняющих облик зверьков жаловаться не приходится: то один, то другой выкатывался из тумана и замирал неподалеку.
— Они чувствуют нас, — сказал Гюнтер. — Агрессивных среди них пока нет. Ты заметил, что гамма цветов у них не полна — нет черных, нет белых, только один попался фиолетовый, да и тот быстро скрылся. Арн, не будешь возражать, если я тихонько дотронусь вон до того голубенького, похожего на земную морскую звезду?
Голубенький от желтых, зеленых и красных собратьев отличался только цветом. И он пришел в неистовство от прикосновения Менотти, а когда каскад превращений завершился, обернулся чем-то вроде высокого, в два человеческих роста, безголового столба, тихо покачивающегося на ветру. И без прибора было видно, что масса его в результате десятка превращений увеличилась в два или три раза.
— А вот и белый, об отсутствии которого ты печалился, Гюнтер! — Я показал на крутившийся невдалеке смерч, сияние смерча озаряло белого, совершенно круглого, как мяч, протея.
Гюнтер свернул к новому зверьку, но не сделал и десятка шагов, как тот кинулся наутек. Сперва он только катился, потом превратился из мяча в змею и так лихорадочно извивался, так проворно удирал, что мы, и не подумав преследовать, только провожали его взглядом.
— Не все, однако, ползут к нам, некоторые убегают, — констатировал я.
— Рассуждение в стиле Мишеля Хаяси, — съязвил Гюнтер. — Назвать факт и сделать вид, будто это не факт, а глубокая мысль, давшаяся лишь после долгого размышления.
— Не злись! — посоветовал я. — Мне кажется, тебя испугало внезапное бегство белого.
— Во всяком случае, если бы он напал на меня, я был бы меньше поражен, — признался Гюнтер и добавил с усмешкой: — Если кто-то бежит, то кто-то и нападает. Бегство — другая сторона нападения. Не следует ли готовиться к тому, что в следующую минуту мы с тобой станем объектом агрессии?
Спустя ровно минуту мы стали очевидцами агрессии, только жертвами ее были не мы, а зеленый протей. Из тумана вырвалось змееподобное черное существо и набросилось на одного из зверьков, ползавших неподалеку. Остальные, меняя личину, проворно очистили поле боя и пропали в тумане. А двое борцов устроили такой стремительный фейерверк превращений, что я не успевал следить за сменой форм. Гюнтер схватился за стереоаппарат, но и сейчас, прокручивая ленту, лишь при очень замедленной демонстрации можно разглядеть, как велика и разнообразна была вакханалия превращений. Жертва изобретательно защищалась, было даже мгновение, когда зеленый протей, превратившийся в подобие ужа, почти полностью вырвался из захвата своего врага. Стоя поблизости, мы отчетливо разглядели лишь финал сражения — черное одеяло плотно закрыло сжавшуюся в шар жертву и жадно впитывало ее в себя: на грунте вскоре был лишь один черный протей, разбухший, пульсирующий, медленно ползущий в нашу сторону.
— Не нравится мне эта бестия, — сказал Гюнтер. — Мне кажется, она намеревается попробовать, каковы мы на вкус. Давай отойдем.
Мы отдалились. Черный разбойник нас не преследовал. Мы долго еще блуждали в тумане, два раза нам повстречались белые зверьки, они, как и первый беляк, поспешно удирали. Черных больше не попадалось, а малиновых, желтых и зеленых было хоть пруд пруди. На «Икар» мы с Гюнтером воротились последними, в салоне Кренстон докладывал первые выводы астробиологических наблюдений. И он, и Елена подтверждали, что протеи — существа отнюдь не углеродно-водородной структуры, питаются атмосферной пылью и в массе миролюбивы, за единственным исключением черных. Те, по всему, порода агрессивная, могут напасть и на нас, но вряд ли нападение опасно: наши скафандры — вполне надежная защита.
Что две трети выводов астробиологов — ошибочны, мы узнали уже на другой день, но тогда, в салоне «Икара», ни у кого не появилось возражений. Даже скептик Хаяси, не доверявший умозрительным рассуждениям, согласился, что деление протеев на смирных, трусливых и хищных довольно точно характеризует их. Значительно больше, чем доклад Кренстона — мало ли каких диковинных созданий в космосе! — нас заинтересовало сообщение Анны о составе атмосферы и пылевых смерчей. Планетка была незаурядная, это мы сразу признали. Загадок она представила много. Анна пожаловалась, что их пара — она и Мишель — едва не заблудилась в тумане: связь с кораблем на отдалении быстро глохнет, соседей практически не слышно, вокруг только беснующиеся смерчи и наши собственные всюду снующие страшноватые изображения.
— Надо бы светящимися красками отмечать свой путь, чтобы по отметкам находить дорогу обратно, — сказала она.
Фома пошел доставать баллоны с сигнальными красками.
Я взял баллон с черной краской, Гюнтер с белой, остальные — кто какого цвета хотел. Никто — и меньше всего сама Анна — не подозревал, что идея отмечать дорогу в тумане приведет к разрешению многих загадок Протеи, нагромоздит еще больше новых вопросов и едва не приведет к гибели одного из нас.
Вначале все шло как в первый выход. Пары разошлись, блуждали в тумане. Ничего любопытного не обнаружив, мы с Гюнтером сели отдохнуть, а вокруг разместилась добрая дюжина мирных зверьков. Я любовался пляской вихрей и фантасмагорией наших собственных преображений, особенно своего собственного: с добрых три десятка моих исполинских копий устроили бесовский хоровод — все четыре звезды в это время бежали наверху в пыльном тумане, и каждая творила и перемещала мой образ. Образы были удивительно разные, и до того каждый походил на меня самого, что можно было поражаться или пугаться — что больше нравилось. А Гюнтер затеял вчерашнюю игру — шутливо толкал ногой то одного, то другого протея и смеялся их взрывным метаморфозам. Он показал на самого изощренного фокусника.
— Арн, голову на отсечение, это наш первый знакомец. Разобраться, кто есть кто у тварей, способных принимать любой облик, нелегко, но чую, что это он. Он влюбился в меня и будет моим верным спутником на Протее. Уверен, что и завтра, едва сойду с трапа, он подползет к моим ногам. Знаешь что? Я отмечу его белой краской, по ней его легко будет выделить среди всех. Ты ведь заметил, что они свободно меняют форму тела, но не цвет.
Гюнтер направил на избранного протея пульверизатор, и тот вскоре из зеленого с желтизной стал сплошь белым. Побелевший протей, отчаянно трансформируясь, кинулся наутек. Никогда я еще не видал у Гюнтера столь ошалелых глаз.
— Арн, я слишком быстро перекрасил его, он от этого испугался, — сказал астроинженер без уверенности. — Надо проверить на втором.
Второго он окрашивал в белый цвет гораздо медленней. А результат был такой же. Зверек сперва выразил свой протест бешеной сменой личин, а когда белая краска полностью облекла его, стал искать спасения в бегстве.
— Мне кажется, поведение протеев как-то связано с окраской их тела, — сказал я. Меня заинтересовал эксперимент Гюнтера. — Давай-ка проверим еще на одном.
И в третьем случае дело закончилось бегством обеленного протея. Гюнтером овладел азарт экспериментаторства. Он схватил мой баллончик с черной краской и брызнул в очередного зверька. Вначале была обычная круговерть трансформаций, а когда очернение стало гуще, мы увидели неожиданное зрелище. Протей, превратившийся из красного в черного, насел на зеленого соседа и стал свирепо поглощать его. Гюнтер бросился было на выручку зеленого, но я удержал его.
— Отойдем. — Я взял Гюнтера за руку. — Не будем ввязываться в сражение.
Вместе с нами от места битвы поспешно отползали все мирные протеи. Когда новоявленный черный приканчивал зеленого, вокруг уже никого не было. Гюнтера, сколько теперь понимаю, глубоко потрясла спровоцированная гибель дружелюбного зверька. В нашей галактической одиссее мы повидали многое, что и прифантазировать трудно, события на Протее не были удивительней всех прочих. Но стать виновниками чьей-то гибели нам еще не приходилось. Упрямый Гюнтер все не мог поверить, что вина в драме на нем. Он сказал мне с волнением:
— Арн, это же невозможно, чтобы внешняя окраска так меняла характер. Нужны еще эксперименты, без них не поверю!
— Если легкое прикосновение полностью меняет форму тела, то почему бы окраске не менять характер, — возразил я, но Гюнтер пропустил мои соображения мимо ушей.
Он шел угрюмый, отвечал на вопросы мрачно и коротко. Вскоре ему представился случай проверить свою правоту. На очередном отдыхе к нам подполз желтый протей. Гюнтер объявил:
— Арн, он один, других поблизости нет. Жаль упускать такой случай. Если перекраска превратит его в хищника, то никто не станет его жертвой.
Жертвой стал сам Гюнтер. Он безжалостно поливал желтого протея из черного баллончика, а тот осатанело менял свои формы. А затем, уже совершенно черный и змееподобный, он бросился на Гюнтера и обволок его левую ногу. Такого вопля о спасении, раздавшегося в моих наушниках, мне еще не приходилось слышать от гордившегося своей выдержкой Гюнтера, хотя мы не однажды бывали в скверных передрягах и не раз просили один у другого помощи.
— Арн, скафандр не защищает, помоги! — Он исступленно катался по земле, а когда я подбежал, успел, уже теряя сознание, прошептать: — Будь осторожен, будь…
Вероятно, то, что Гюнтер лишился чувств, и помогло спасти его. Находясь в сознании, он с дикой энергией пытался сорвать с ноги хищника, и я не мог пустить в ход свой лучемет, чтобы не поранить самого Гюнтера. Но когда Менотти безжизненно растянулся на грунте, я пламенной струей быстро срезал девять десятых протея с израненной ноги. Расчлененный разбойник слабо подрагивал разбросанными остатками тела, а я оттащил Гюнтера в сторонку и включил сигнал тревоги. Гюнтер очнулся, приподнялся и с удивлением прошептал:
— Ты с ним справился? А ногу он мне оставил? Я не чувствую ноги!
— Лежи, лежи! — приказал я. — Нога на месте, только в каком состоянии — не знаю.
К нам отовсюду бежали на мой непрерывный вызов поисковые пары. Первыми в тумане обрисовались Анна с Мишелем. Анна в ужасе закричала. Она села на грунт, пыталась поднять поврежденную ногу. Ее отстранил прибежавший с Еленой Иван. Он осмотрел рану, хмуро обернулся ко мне.
— Арн, немедленно несем Гюнтера на корабль, ранение серьезное.
Я вызвал авиетку, на ней примчался Фома. Мы доставили Гюнтера в больничную палату. Иван приступил к операции, ему ассистировала Елена, его неизменный помощник в таких делах. Я рассказывал в салоне остальным, как произошло несчастье. Наш астромедик с помощницей отсутствовали больше часа, уже это одно показывало, что операция сложная. Подавленное лицо вернувшегося к нам Ивана говорило о том же. Елена едва удерживалась от слез. Иван сказал:
— Гюнтер усыплен и будет спать не меньше недели. Это нужно для выздоровления. И должен предупредить тебя, Арн, что для выходов на планету он больше не годится. Не уверен, что на Латоне его оставят членом нашего экипажа.
— Неужели рана так серьезна? Проклятый протей ведь ногу Гюнтеру не оторвал. Разве повреждена кость?
— Что называть повреждением?.. Хищник не рвал, а растворял ногу. Он успел высосать часть кости.
— Растворял? — Анна явно не верила. — Никогда не слыхала, что возможно такое стремительное растворение мускулов и костей, ведь нападение длилось не больше минуты. Я захватила останки расчлененного чудовища. Не могу пока сказать, каков их точный состав, но, во всяком случае, это не щелочи, не кислота, в них нет агрессивных веществ, способных быстро растворять другие предметы.
— И тем не менее я могу говорить только о растворении, а не о рваных ранах. А почему стало возможным такое немыслимое явление, ты должна объяснить мне, Анна, а не я тебе. Ты физик, я врач, будем каждый отвечать за свою область.
Несчастье с Гюнтером переменило программу поисков. Протея доказала, что она не местечко для безмятежных прогулок. Я сократил поисковые группы до двух, теперь мы выходили по трое, первой тройкой командовал я, второй — Хаяси. На корабле, кроме Фомы, оставались обе женщины — Анна в лаборатории распутывала загадки физического состава протеев, а Елена ухаживала за Менотти. Гюнтеру было бы, конечно, приятней, если бы у его постели сидела Анна, та тоже намекала, что не прочь на время превратиться в сиделку, но я не разрешил: болезнь могла поставить в этом смысле Гюнтера в привилегированное положение перед Петром, я старался даже такой странной ревности не возбудить в Петре. Кроме того, Елену в работе дублировал тот же Петр, Анна же была единственным штатным астрофизиком — правда, астрофизика, как и умение читать, не проблема для всех нас, в ней обязан разбираться каждый звездопроходец. В какой-то степени мы все были дублерами Анны.
Прежние удивительные наблюдения подтверждались, накапливались новые, не менее удивительные. Протеи и вправду обладали способностью быстро менять не только форму, но и массу своего тела: при фантастических трансформациях они так интенсивно засасывали окружающую пыль или, наоборот, так исторгали свое вещество, что их похудения и отяжеления совершались с непостижимой быстротой. Механизм таких превращений, как вы знаете, до сих пор изучается, многое прояснено, но еще больше темного.
Нас в те дни на Протее, естественно, больше всего занимало, почему смирный зверек внезапно превращается в опаснейшего хищника. Как оказалось, защитный костюм астронавигатора, верой и правдой оберегавший нас даже на страшном Гефесте — прямо-таки пузырившейся вулканами планетке, — здесь от черного протея не спасал: почти мгновенно растворившийся в теле хищника массивный левый сапог Гюнтера свидетельствовал об этом убедительно. Теперь при выходах никто не выпускал из рук пульверизатора — окраска протеев в белое была единственной надежной защитой. К плазменному пистолету, к счастью, пришлось прибегать только один раз — когда я кинулся спасать Менотти.
Вполне подтвердилось и то, что характер протеев определяется их окраской. Никому, конечно, не показалось бы странным, если бы черные протеи хищничали, белые праздновали труса, а остальных цветов держались смирно. Каждый бы рассуждал: «Ну что же, окраска выражает природу, во внешнем виде отражена сущность». Но что сама природа протея определяется его окраской — нет, это как-то плохо укладывалось в сознании!
Не терпевший умозрительных гипотез Мишель Хаяси по этому случаю вдруг ударился в такую отвлеченную философию, что, боюсь, мы далеко не все в ней поняли.
— Мы привыкли к тому, что каждое существо имеет наружный вид и природный характер, то есть внешность и сущность, — разглагольствовал он в салоне. — И до сих пор считали, что сущность гораздо стабильней внешности. Человек и тигр, вырастая и старясь, очень меняют свой внешний облик, но остаются человеком и тигром. Принято думать, что внешность определяется сущностью, что сущность, то есть глубинный характер, — первичное, изначальное, а внешность — вторичное, производное. В принципе это именно так. Но протеи учат нас, что это не всегда так. У них природа, характер определяются внешним видом. А поскольку у каждого протея много внешних образов, то, стало быть, и много характеров. Иначе говоря, у них нет единой сущности. Они не единосущны, а многосущны. Перемена формы изменяет одни характеристики характера, перемена цвета — другие. Сущность у них так же нестабильна, как и внешность.
— Существование без сущности? — уточнил Михайловский. Фома любил абстрактные разговоры.
— Можно выразиться и так, если под отсутствием сущности понимать отсутствие стабильной природы, устойчивого природного характера. Определение это хлесткое, но не очень точное, поэтому в научном отчете я бы не решился его применять.
В разговорах такого рода я был больше слушателем, чем активным участником. Но когда Анна докладывала результаты своих измерений, мы на «Икаре» сразу поняли, что совершено выдающееся открытие, и это же подтвердили лотом эксперты на Латоне и земные физики. Вы, надеюсь, догадываетесь, что я говорю о сепарации изотопов в теле протеев, факте, ныне широко известном, но по-прежнему поражающем воображение.
— Не спрашивайте меня о механизме явлений, о которых я буду говорить, — так начала Анна свой доклад. Она боялась, что мы засыплем ее вопросами, потребуем, чтобы она немедленно рассеяла все наши недоумения, и заранее предупреждала, что на это не способна. — Итак, никаких «почему» и «как», только голые факты. А факты таковы. Практически каждый химический элемент существует в природе как смесь изотопов, то есть атомов с разным весом ядра. У водорода, например, три изотопа: легкий, тяжелый, сверхтяжелый — протий, дейтерий, тритий. У свинца их целый десяток. Так вот, в теле протеев нет естественной смеси изотопов, они из вещества своей планеты извлекают только некоторые, которые им почему-то нравятся, а другие отвергают. Замечу сразу, что изотопный состав элементов планеты нисколько не отличается от обычного на Земле и других планетах космоса. В теле черного протея я нашла свинец только с атомным весом 206, в то время как в минералах планеты присутствуют они все. И водород в нем в основном тяжелый, а не легкий, иначе говоря, протей концентрирует дейтерия больше чем тысячекратно по сравнению с естественным состоянием водорода. Аналогично и с другими элементами. Протей, проанализированный мною, — высокоэффективное избирательное устройство для отделения одних изотопов от других. Мне кажется, главная наша задача сейчас — узнать, общее ли это свойство протеев или диковинная аномалия того, какой напал на Гюнтера.
Ныне широко известно, что все протеи — природные сепарационные фабрики изотопов, по эффективности не идущие ни в какое сравнение с земными громоздкими сепараторами. Но в салоне «Икара» сообщение Анны буквально ошеломило нас. Из него сразу вытекало требование: отловить и проанализировать зверьков других окрасок и доставить на Латону несколько живых экземпляров. До отлета на Латону мы в основном только этим и занимались — осторожно переносили отловленных зверьков в помещения, где создавали привычную им жизнедеятельную среду: не только запыленность, но и перемены освещенности, имитирующие движение звезд и пылевые вихри. Без смерчей и имитаторов четырехликой Фантомы протеи быстро хирели.
Только перед отлетом с Протеи Гюнтер стал ходить, но еще хромал. Он с усмешкой упрекнул свою сиделку:
— По-моему, ты специально расстаралась, Елена, сделать меня плохо ходящим. Ты ведь всегда завидовала, что я тебя редко беру на разведку на новых планетах. Теперь мне придется составить тебе скучную компанию, когда наши друзья будут изведывать захватывающие неведомости.
Елена взмахнула светлыми кудрями и отпарировала:
— Дело совсем в другом, Гюнтер. Ты стремишься выглядеть Мефистофелем, а какой же хороший Мефистофель без хромоты? Я просто помогла тебе привести в соответствие внешность с сущностью — так это будет на языке нашего друга Мишеля Хаяси.
Со мной Гюнтер завел конфиденциальный разговор:
— Арн, я признаю свою вину в легкомысленном обращении с протеями, но, согласись, мой проступок привел к важным открытиям: если бы его не было, мы не узнали бы, что каждый протей может стать опасным хищником, и, возможно, не скоро доведались бы, что они являются сепарационными фабриками изотопов. Как ты думаешь, не смягчает ли это мою вину?
— Чего ты от меня хочешь? — спросил я прямо.
— Походатайствуй перед Мареком, чтобы меня не отчисляли с «Икара». Ты можешь меня понять, ты сам такой: не мыслю себя ни в какой иной жизни, кроме космопоиска!
Походатайствовать я обещал.
Глава пятая ГЕНОКОНСТРУКТОРЫ НА БКС
Марек встретил нас, как триумфаторов. Не хвастаясь, могу сказать, что из каждого рейса «Икар» доставлял что-либо ценное и сами мы, экипаж «Икара», не находили повода особо гордиться открытием Фантомы. К тому же несчастье с Гюнтером Менотти на Протее притушило бы восторг, если бы он одолел нас. А Кнут Марек, начальник Главной Галактической базы, умница и насмешник, «добрый лукавец», по ироническому определению Хаяси, с момента нашей швартовки на астродроме Латоны пребывал в восторге. Он в таких выражениях доложил Земле о нашем походе, что я возмутился и потребовал рапорта поскромней. Марек не обратил внимания на мои протесты.
— Чудаки, вы не понимаете грандиозности собственных открытий, — разъяснял он самым душевным голосом. — Я уж не говорю о том, что гигантские месторождения чистого железа, никеля и золота и несметные множества вспыхивающих алмазов отлично послужат человечеству, — это важно, но не ошеломляет, тут я с вами соглашусь. Но жизнеподобные, неслыханно эффективные фабрики по сепарации изотопов! Не приходит ли вам в голову, друзья, что с находки протеев может начаться новая технологическая стадия развития человечества?
Я спокойно объяснил, что нелепые мысли в мою голову не приходят. Но Марек вдруг вдался в философию истории. Он важно напомнил, что цивилизация началась лишь после того, как дикарь приручил собаку, лошадь и корову. Они подняли его существование на качественно иной уровень: собака охраняла, лошадь перевозила, корова кормила. С той доисторической эпохи ничего великого в приручении животных не совершилось. А использование протеев дает возможность получать неограниченное количество чистых изотопов, столь нужных в технике и столь пока редких. Вместо исполинских, но малопроизводительных сепарационных фабрик — фермы искусственно разводимых зверушек. Разве это не величественно?
Восхваление нашего открытия было столь красноречиво, что за ним не могло не скрываться тайного смысла. Я потребовал, чтобы Марек объяснился начистоту. Он посмеивался:
— Не к спеху, Арн. Отдыхайте, лечите Гюнтера. В нужный час узнаете, какие практические выводы для вас будет иметь открытие Фантомы.
И когда Марек вызвал меня к себе, я понял, что пришел час «узнавать практические выводы». Вероятно, предстоит не слишком приятный рейс, иначе к чему Мареку так меня настраивать, рассуждал я и прикидывал заранее, куда он загонит «Икар».
Марек поднялся навстречу, лицо его сияло ослепительной улыбкой. Это было не к добру.
— Поздравляю, Арн, поздравляю! Земля разрешила Гюнтеру оставаться членом экипажа «Икара». Ты, надеюсь, понимаешь, что мне это стоило хлопот? Гюнтер ведь продолжает хромать — для астроразведчика существенный недостаток.
— Отлично понимаю: ты задабриваешь меня, — отрезал я, садясь у его роскошного, чуть не с теннисную площадку, стола.
— В какую звездную окраину ты собираешься зашвырнуть «Икар»?
Он от души смеялся. Он знал, что я вижу его насквозь.
— Не на окраину, Арн. Но на одну планетку сбегать придется. Наберись терпения, мне нужно кое-что предварительно объяснить.
— Уже набрался. Объясняй.
— Я возвращаюсь на Землю, — сказал он неожиданно.
— Кратковременная командировка в родной дом? Если ты опасаешься возражений с моей стороны, то их не будет, не тревожься.
— Я навсегда покидаю космос, Арн.
Меньше всего я ожидал такого признания. Марек считался выдающимся космоадминистратором. Он любил свое трудное дело. И его любили астронавигаторы и поселенцы. Он так искусно лавировал в бушующем море тысяч строптивых характеров, что завоевал всеобщее уважение. Я невольно что-то сказал об измене душевному призванию.
— Дело как раз душевное, — заверил он. — Хочу жениться, а на Латоне заводить семью запрещено. Поверь, я колебался. Но любовь — чувство, не терпящее проволочек, ты не находишь?
— Я нахожу, что ты заговорил сентиментальностями. Кто же твоя избранница?
— Глория Викторова, астробиолог. Ты ее знаешь.
Я мучительно вспоминал Глорию Викторову. На Латоне была пропасть астроспециалисток: биологов, химиков, энергетиков, врачей и прочих. Ни к одной я не присматривался. Память коварно подсовывала мне с десяток женщин — черных и светленьких, курносых и орлиноносых, быстрых и медлительных, красивых и так себе. Любая могла быть Глорией.
— Кажется, знаю, — сказал я неуверенно. — Прими от меня все приличествующие поздравления и такие же передай Глории. Теперь объясни, какое отношение имеет «Икар» к твоей женитьбе? Уж не собираешься ли использовать для свадебной поездки на Землю сверхмощный галактический поисковик?
— Идея заманчивая, но выше моих возможностей. Зато я собираюсь использовать для женитьбы протеев. Если ты, конечно, не будешь возражать против небольшого рейса на БКС.
— БКС? Что это за штука?
Он посмотрел с укором.
— Пожалуйста, не притворяйся, что не знаешь. Каждому на Латоне известно, что БКС — Биоконструкторская Станция на Урании в планетной системе Мардеки, небольшого солнца в одном парсеке от Латоны — пустяковое расстояние для сверхсветового крейсера. Туда надо забросить дюжину привезенных вами протеев, а заодно с ними и Глорию.
И Марек объяснил, что Глория должна завершить работу, начатую еще на Земле: она внедряла в структуру искусственных бактерий какие-то полезные свойства, Марек сам не знал, что это за бактерии и какие у них синтезируют свойства. Зато он знал, что эксперимент Глории из тех, о каких говорят: «Бабушка гадала, да надвое сказала», — вместо полезных могут появиться весьма опасные. На планете Урания, расположенной достаточно далеко от человеческих поселений в космосе, устроен полигон для разных рискованных опытов. Земля предписала завершить эксперименты Глории на Урании. Туда же надо отправить на изучение всех протеев, кроме отобранных для земных музеев. И последнее — на Урании ослабли источники энергии, неплохо бы подзарядить их генераторами «Икара» — дополнительный запас активного вещества он уже распорядился «Икару» выделить.
И, опасаясь, что я хочу обрушить на него поток возражений, Марек быстро сказал:
— О деталях ты договоришься с Глорией, я ее вызываю.
Это был, конечно, блестящий ход. Глория вошла, и из моей головы мигом испарились все возражения. Нет, она не была красавицей, никакая женская красота не смогла бы переломить моего упрямства, захоти я заупрямиться. Но если бы выдавали призы за обаятельность, Глория ходила бы в чемпионках. Я не буду ее описывать; описания рисуют детали, черты лица, фигуру, манеру разговаривать — все это мелочи. Они были у Глории обычными — она же была прекрасна всей собой в целом, а это не рассказать. Ради такой женщины можно было отказаться от любимой работы, раз уж их — женщину и работу — нельзя совместить. Сам бы я не поступил, как Марек, но понять его был способен.
— Не надо меня уговаривать, Глория, — сказал я, когда она начала с просьбы доставить ее на Уранию. — Меня уже уговорил некий Кнут Марек. Передайте ему потом, — я покосился на радостно ухмыляющегося начальника Главной Галактической базы, — что он напрасно не пошел в космоадвокаты. Он добился бы на этом поприще славы. Итак, поговорим о деталях вашей поездки на загадочную для меня БКС.
Экипажу «Икара» я в этот же день сообщил о полете на Уранию. Гюнтер, самый строптивый из нас, так возликовал, что его не отчислили, что готов бы мчаться хоть к космическим чертям на кулички. Елена и Петр обрадовались, они много слышали о биоконструкторах, но еще не бывали на Урании. Остальные тоже не выразили недовольства.
Спустя два месяца «Икар» опустился на Урании.
Планета была как планета, сотни таких каменистых шариков встречаются повсюду в космосе. И Мардека была звездой без особенностей, желто-зеленоватая, спокойная, на вполне пристойном отдалении от Урании — без излишеств и недостачи снабжала планету теплом и светом.
Научный городок на Урании тоже не оказался грандиозным, всего две—три сотни строений, правда, многоэтажных. Этим — высотой домов — он больше всего отличался от одноэтажной, широко раскинутой Латоны. В городе впечатлял не облик зданий и улиц, а разнообразие ведущихся в нем работ и бездна расходуемой энергии. Мы узнали, что энергетические траты всей Земли с ее тысячами городов лишь немногим больше того, что расходует единственный на Урании городок в три сотни зданий. Алексей воскликнул с восторженной непочтительностью:
— Ну и прорва эта Урания!
Он попросил ознакомить его с Институтом Времени — на него приходилось девяносто девять сотых энергетических расходов. Я туда не пошел, мне еще Марек говорил, что на Урании пытаются наше физическое время деформировать — сжать, расширить, замедлить, убыстрить, искривить, повернуть на обратный ход, в общем, сделать не таким, каким оно течет в космосе, — и совершается эта важная операция в сложнейших закрытых аппаратах, за стенами десятиметровой толщины без выходов и лазов. Алексей с Анной ходили вдоль тех стен и слушали лекцию о методах деформации нормального времени: в отличие от Гюнтера, Алексей, не способный иронизировать, потом так описывал их экскурсию:
— Обычная пропасть без дна! В аппараты вливается энергетическая река в тридцать семь альбертов, а каждый альберт — это все-таки миллиард киловатт мощности! И никакого видимого эффекта! Стены даже на градус не нагреваются. А временщики — так они себя именуют — шумно радуются. Оказывается, в аппаратах время на ядерном уровне уже основательно искривлено, многие реакции там протекают с обратным знаком, и наблюдатели зафиксировали, что в этих реакциях не причины определяют следствия, а следствия — причину. Я спросил, надо ли понимать так, что в этом деформированном времени дети рождают своих родителей, а не родители детей? Меня заверили, что я точно схватил суть проблемы. Я поинтересовался, что произойдет, если изогнутое время распрямится. Мне сказали, что это невозможно. Я настаивал: ну, а если? И получил хладнокровный ответ: тогда энергия хлынет обратно и в течение одной недеформированной земной секунды вся Урания превратится в дико перегретое облачко пара. Я с опаской осведомился: нужны ли столь опасные эксперименты? Все временщики удивились. А как без них проникнуть в иномиры, защищенные щитом мирового вакуума? Существование таких миров установлено твердо, время в них течет по-иному, и единственная возможность состыковать космос с иномирами — искривить наше время так, чтобы оно по фазе совпало с чужим временем. Дорога в иномир вскоре проляжет по искривлению космического времени, как по асфальтированному шоссе. «Что может быть проще?» — спросили меня. Я согласился: «Просто, как удар обухом по голове!». В общем, кроме глухих стен, мы ничего не увидели и, кроме длинной лекции, ничего не услышали.
У меня не было причин огорчаться, что я не пошел в Институт Времени. Но рассказ Алексея показывал, что насытить энергоемкости Урании отнюдь не просто. Подзарядить планетные ядерные аккумуляторы «Икар» был способен, но это требовало такой затраты времени — и нашего родного, отнюдь не деформированного, — что одна мысль о столь долгой задержке была неприятна. Я еще на Латоне обговорил с Мареком то, что он назвал «крайним вариантом»: передать уранийцам один из наших запасных рейсовых аннигиляторов — этого им хватило бы на год, а новые ядерные аккумуляторы Земля обещала доставить за полгода. Для аннигилятора выстроили специальное здание, за установкой аппаратов наблюдали оба моих астроинженера, я обучал энергетиков Урании обращению с механизмом, превращавшим активное вещество в энергию. Вероятно, мы трое до отлета «Икара» не отвлекались бы ни на что другое, если бы не возникли чрезвычайные обстоятельства.
Ко мне пришли три женщины — Глория, Елена, Анна — вместе с Петром и Мишелем и потребовали, чтобы я вмешался в дела геноструктурной лаборатории Биоконструкторской Станции. Эксперименты в ней надо запретить, они безнравственны.
— А какое отношение имеет капитан космического поисковика «Икар» к каким бы то ни было экспериментам в какой бы то ни было лаборатории БКС? — поинтересовался я. — Насколько я знаю, я не президент Академии и вообще ничего не понимаю в биологических исследованиях. Разве у БКС нет начальника, который может призвать к порядку руководителя лаборатории?
— Но вы гуманный человек! — воскликнула Глория. Ее лицо горело от возмущения. — Ваше доброе сердце не сможет не возмутиться, когда вы узнаете, что за дьявол Чарльз Глейстон. Кстати, он руководит всей Биоконструкторской Станцией, геноструктурная лаборатория подчинена Муру Мугоро. Только вы можете воздействовать на Глейстона.
— Допустим, Глория, что мое сердце и вправду возмутится, когда я узнаю, что в образе лично неизвестного мне Чарльза Глейстона затаился дьявол. Но я снова спрашиваю вас: какие у меня права вмешиваться в исследования на Урании?
— Самые прямые, Арн, — уверенно сказал Хаяси. — Во время монтажа аннигиляторов вещества ты полный хозяин на любой планете. Твои запреты и разрешения абсолютны. Их никто не может оспорить. В том числе и работники БКС. Мы просим тебя применить на Урании эти свои диктаторские права.
Дело было, очевидно, серьезно, раз уж уклончивый Хаяси заговорил так категорически. Я попросил Елену разъяснить, что происходит на БКС. Я уже упоминал, что Елена наш штатный докладчик: она мастерски выделяет главное, ею командует логика, а не эмоции. Любая запутанная проблема начинает казаться простой, когда за ее изложение берется Елена Витковская. Ей понадобилось всего десять минут, чтобы разъяснить мне, что в геноструктурной лаборатории практически два руководителя — ее заведующий Муро Мугоро и директор всей БКС астрогенетик Чарльз Глейстон, который в геноструктурной бывает чаще, чем в своем директорском кабинете; что Муро Мугоро — очаровательный мулат по виду, гений в работе и тряпка по характеру, а Чарльз Глейстон, наоборот, невероятно энергичен, собран, целеустремлен, а по натуре, как справедливо оценила его Глория, сущий дьявол; что в лаборатории занимаются установлением геноструктур биороботов; что Глейстон безжалостен к синтетическим творениям до того, что страшно смотреть, как он с ними обращается; что дюжину протеев, привезенных нами с Фантомы, по всему, собираются не так изучать, как истязать; что Глория ведет свои исследования в другой лаборатории, но успех ее экспериментов полностью зависит от Глейстона, а она не может найти с ним общего языка; и что вообще пора покончить со своеволием тирана, именуемого профессором Чарльзом Эдвином Глейстоном, директором БКС, состоящей из четырнадцати специализированных лабораторий.
— Понятно, хотя и неприятно, — сказал я. Мне далеко не все еще было понятно, но ознакомление с подробностями лучше было вести в самой лаборатории Мугоро. — Воспользуюсь своими правами кратковременного диктатора Урании хотя бы для того, чтобы посетить геноструктурную лабораторию. Большего пока не обещаю.
Женщины с Петром ушли, а Хаяси остался.
— Имеешь что-то добавить, Мишель?
— Да, — сказал он. — Хочу информировать тебя об одном осложняющем факторе. Этот профессор Глейстон буквально если не с первого взгляда, то с первого слова влюбился в Глорию. Ты понимаешь, что при ней я не мог этого говорить.
— Не вижу осложнений, вижу облегчение. Раз он влюбился в Глорию, значит, будет угождать ей. Это смягчит их споры.
— Так действовали бы мы с тобой, но не Глейстон. Он не угождает своей любви, а яростно противодействует ей. Он так сильно любит Глорию, что со стороны сдается, будто он ее ненавидит. Он все делает Глории наперекор.
— Ты не находишь, что для настоящей любви слишком уж парадоксально, Мишель?
— Любовь бывает разная, — мудро заметил Хаяси. — А что до Глейстона, то он во всем парадоксален, в любви тоже.
Должен прямо сказать, что нападки на Глейстона меня не очень убедили. Кое-что я слышал о нем и раньше. Он слыл в своей научной области фигурой крупной, еще на Земле приобрел известность выведением необыкновенных пород коров и коз, а его исполинские, как лошади, петухи и куры поистине поражали. Я привык к тому, что выдающиеся люди одарены отнюдь не стандартными приятностями характера: их всегда лучше рассматривать издали, чем толкаться об их колючие грани. Не к таким ли неудобствам близкого общения сводятся претензии трех астробиологов? На всякий случай для первого знакомства с геноконструкторами я попросил Мишеля Хаяси и Гюнтера Менотти сопровождать меня — и не потому, что полагался на их объективность, оба нередко бывают пристрастными, а во исполнение правила: ум — хорошо, три ума — лучше.
— Нас привели к вам скорей туристские, чем служебные интересы, — сказал я Глейстону, появившись на БКС. — Так что обращайтесь с нами как со случайными посетителями.
Он был гораздо тоньше, чем я предполагал, и не стеснялся ставить точки над i.
— Буду обращаться с вами как со случайными посетителями, наделенными правом останавливать любую работу на Урании, в том числе и мою собственную, — сказал он с холодной вежливостью. — Итак, что вас интересует на БКС?
— Нас интересует все, что найдете нужным показать.
Он провел нас по всем четырнадцати лабораториям Биоконструкторской Станции. И в каждой лаборатории была такая бездна интересного, сам Глейстон так интересно рассказывал, а руководители лабораторий с таким энтузиазмом дополняли его рассказы своими, что к концу обхода моя голова распухла от вторгнутой в нее информации, и я стал физически ощущать, как ум заходит за разум. Я взмолился о перерыве, и Глейстон милостиво дал нам передохнуть. Отдых предоставили в кабинете Муро Мугоро: Глейстон не сомневался, что именно геноструктурная лаборатория — главная причина нашего прихода.
— Итак, вы познакомились с нашими биоконструкторскими работами, друзья. (Я заметил, что он любит словечко «итак», он часто начинал с него.) Могу сказать одно: они обещают новую революцию, не менее грандиозную, чем открытие огня, изобретение машин и освоение атомной энергии. Только такими великими масштабами надо измерять наши исследования. Здесь, на Урании, далеко от Земли, мы готовим для человечества вступление в новый период расцвета — и пока успех нам сопутствует.
Он выложил все это без пафоса, холодным, почти ледяным тоном, словно выносил нам выговор, а не соблазнял перспективами величественного успеха. И странное дело, от холода его голоса, от фраз, которые он чеканил, как металлические монеты, а не бросал в нас вдохновенно вспыхивающими, значение слов не пригашалось, а еще усиливалось. И во время обхода лабораторий, когда он описывал конкретные исследования, и сейчас, в кабинете Муро Мугоро, когда давал им общую оценку, он искусно создавал впечатление значительности всего, что делалось на БКС.
Я постарался говорить на более привычном мне деловом языке:
— Сколько понимаю, друг Глейстон, вы синтезируете живых роботов с новыми полезными свойствами. Ведь так?
— И так и не так, — отпарировал он. — То, что вы сказали, верно, но если ограничиться одним этим, понимание будет поверхностное, а не глубокое. Глубокое понимание требует проникновения в философскую суть того, что мы называем живым веществом. Надо уяснить себе природу жизнедеятельности, чтобы оценить наши масштабы. Впрочем, я об этом уже говорил во время обхода.
— Не могли бы вы вкратце повторить? — вежливо попросил Хаяси.
Глейстон, по всему, понял, что если мы с Гюнтером слушатели, честно пытающиеся понять что-либо, то Мишель скорей противник, чем любопытствующий. И он мигом поднял тайно брошенную перчатку и начал борьбу с одним Хаяси, почти презрительно игнорируя остальных. Я бы, наверно, обиделся, если бы не был заинтересован в разгоревшемся споре и если бы сразу не догадался, что для Глейстона любая дискуссия не метод выяснения мнений, а нечто вроде рыцарского турнира и оппонент — вооруженный Противник, которого надо поразить острым, как меч, аргументом и, уже поваленного на землю, разоружить. Он сражался, а не растолковывал — предугадывал противоаргументы и заранее зло опровергал их.
Он и обликом напоминал древнего рыцаря. В земных музеях я видел много таких фигур — в латах, естественно, а не в космокомбинезонах. Знакомство с протеями показало, что внешний вид порой определяет характер и перемена наружности равносильна перемене натуры. Я не ожидал, конечно, что Глейстон начнет диковинные трансформации своего образа, чтобы показать нам свое многосущие, — выражаюсь языком Хаяси, в данном случае он самый точный. Глейстон был высок, худ, гибок, нетороплив — с той нарочитой медлительностью, что лишь прикрывает возможность мгновенно, взрывом переходить к быстрому действию. Голова, пожалуй, была маловата для такого верзилы, лицо было какое-то треугольное — широкий лоб карнизом нависал над впалыми щеками, щеки опадали в узкий, удлиненный, почти копьевидный подбородок. А на лице, между запавшими остроголубыми глазами, резко выдвигался массивный секироподобный нос, и нижняя, очень толстая, очень отвислая губа, пришлепывающая при разговоре по верхней, так выбегала вперед, словно стремилась удрать с лица, во всяком случае, не дать насесть на себя нависающему носу. Вы знаете, юноша, что сам я размерами носа не обижен, во многих песенках обо мне его насмешливо обыгрывают, но и я невольно испытывал почтение, поглядывая на мрачный, насупленный носище директора Биоконструкторской Станции.
А рядом с Глейстоном сидел человек совершенно иного облика — низенький, толстенький, шароголовый, круглощекий, пухлогубый, пухлорукий и с такой никогда не исчезающей на темном лице радостной улыбочкой, что хотелось, чуть взглянув на нее, ответно улыбаться. Муро Мугоро, главный геноструктурщик, всегда радовался: когда была удача — удаче, когда удачи не было — тому, что в следующий раз она наверняка будет. Он начинал любую фразу со смешка — улыбка превращалась в отчетливое «ха-ха-ха» — и таким же хохотком заканчивал ее. Гюнтер потом издевался над Мугоро, подражая его голосу: «Ха-ха-ха, вы не находите, друг Муро, что погоды на Урании ужасны? Ха-ха-ха, друг Гюнтер, непереносимы, я сильно болею, ха-ха-ха!». Такова уж была натура этого помощника Чарльза Эдвина Глейстона — он всему радовался, радость обегала его тело, как кровь, и если не было прямого повода горевать — тогда она лишь немного смягчалась, — то превращалась в какое-то непрестанное ликование. После всего, что случилось на Урании, много говорили, что только научный гений Мугоро дал Глейстону возможность ставить свои опыты. Муро Мугоро был, конечно, мастером своего дела, но вряд ли удалось бы Глейстону вместе с ним что-нибудь крупное сделать, если бы у его помощника оказался не столь покладистый характер.
Пока я разглядывал обоих астрогенетиков, Глейстон продолжал свои объяснения.
— Итак, вы видите, друг Хаяси, что меня значительно меньше волнует проблема энергии, накапливаемой в клетках, чем проблема умений, развиваемых живой тканью, — говорил он, обращаясь по-прежнему к одному Хаяси.
— Но разве умение совершать разные операции не связано с энергией живой ткани? — заметил Мишель.
Глейстон энергично потряс головой. Нет, тысячу раз нет! Смешно отрицать связь между энергией и умением, но связь эта столь же поверхностна, как связь между необходимостью пить и есть и вдохновением, создающим песни Гомера, саги Снорри Стурлусона, драмы Шекспира. У вулкана больше энергии, чем у амебы. А что умеет вулкан, кроме как низвергать лаву и пепел, грохотать и окутываться сернистым газом? Ничтожная же амеба развивает тысячи умений — двигается, растет, делится, перерабатывает пищу, дышит, меняет форму тела… Живое вещество от неживого отличается главным образом тем, что на единицу накопленной в нем энергии развивает неизмеримо, на десятки порядков, больше умений, чем самая совершенная машина. Аэромобиль может мчаться по грунту и в воздухе, он показывает несравненно большую скорость, чем любой человек, гепард или собака. Но самый жалкий пес умеет не только бежать, но и хватать зубами, охранять, нападать, драться, ласкаться, дружить, ненавидеть, любить, печалиться, размножаться, играть, перевозить тяжести… Нужно ли перечислять все десятки тысяч умений обыкновенной дворняжки? Можно ли требовать такого же разнообразия способностей от узкоспециализированной машины, называемой аэромобилем?
— Теперь вы можете понять задачу, какую мы, геноконструкторы, поставили перед собой, — говорил Глейстон. — Первобытный человек, которому не хватало своих умений, начал бег на горные вершины почти божественного совершенства с того, что подчинил себе умения покоренных им животных: лошади — везти, собаки — охранять, коровы — давать молоко и мясо. Он специализировал своих домашних животных на главном их умении, подавляя все иные потенциальные их возможности. Сам он прогрессировал, используя их умения, а они? Он осудил животных на специализацию и застой — такова роль человека в природе. И, естественно, ему потом не хватило гипертрофированных умений его небольшого животного окружения. Он стал создавать машины, умножавшие количество нужных ему умений. Но каждая машина специализирована на какой-то одной функции — мертвая ткань не способна быть иной, кроме как специализированной. Следовательно, для умножения умений нужно умножать число машин. Так началось то, что назвали машинной цивилизацией. Мы на Урании изыскиваем способ свернуть с дороги безмерного накопления Машин на дорогу умножения биологических умений. Мы доводим до высокого совершенства каждую возможность биологической ткани, до максимума число специализированных умений, присущих живой структуре.
В этом месте я счел нужным вмешаться:
— Друг Глейстон, астробиолог Глория Викторова считает, что в лаборатории Муро Мугоро подопытных животных подвергают ненужным мукам. Вы считаете, что она неправа?
Он поглядел на меня высокомерно и неприязненно. Одно великое умение в его глазах, конечно, было — он совершенно выражал взглядом свое отношение к человеку, особенно пренебрежение, презрение, недоброжелательство. Любое словечко, выражающее такие же чувства, вызвало бы немедленно отпор, а на взгляд не принято возражать — Глейстон искусно этим пользовался.
— Условимся прежде всего о смысле фразы «ненужная мука». «Мука» — слово обывательское, давайте лучше применять термин «страдание». Любое страдание свидетельствует о непорядке: перегрузке, недогрузке, неспособности с чем-то справиться, опасности гибели и ран. Подобное сигнальное страдание есть разновидность защитной реакции. Защиту нужно укреплять и совершенствовать — разве не так? Страдание — полезнейшее средство обезопасить себя, без способности страдать любое живое существо легко погибло бы в борьбе за существование. Природа мудро наделила все живое способностью к сигнальному спасающему страданию. И без страдания нет развития, ибо оно, свидетельствуя о каком-то недостатке, открывает возможность ликвидировать этот недостаток, то есть ввести усовершенствование. Вся история человечества неотделима от стимулирующих подъем страданий. Почему вы хотите, чтобы мы были мудрей природы, придумавшей сигнальное страдание как некий маяк, отводящий от губительной дороги на правильный путь?
Вести спор на такой абстрактной высоте я, как, впрочем, и Гюнтер, не был способен. Зато Мишель в сфере абстракции чувствовал себя как гимнаст на спортивной площадке — он настойчиво продолжал:
— Природа за миллиард лет биологического развития гармонизировала страдание со структурой страдающего организма. Согласен, что небольшое страдание сигнализирует об опасности, но чрезмерное губит, оно уже не сигнальное, а разрушающее. Есть ли у вас уверенность, что вы не преступаете грань между сигналом и уничтожением?
— Животные у нас не гибнут! — сказал, засмеявшись, Мугоро. — Мы точно знаем, до какой границы можно вести эксперимент. Можете быть спокойны, у нас все в порядке.
— Наши гости не уверены, что у нас все в порядке, — холодно сказал Глейстон. — Расскажи, как ты определяешь интенсивность эксперимента. Уважаемым гостям будет интересно узнать о твоих работах.
Мугоро не заставил себя упрашивать. Все началось с того, что в университете ему досталась тема: «Биоизлучения человека». Он сконструировал прибор, фиксировавший электромагнитные, акустические, механические и другие колебания, возбуждавшиеся в собственном теле. В результате он накопил полный альбом своих биоизлучений при разных телесных и душевных состояниях. И он заметил, что боль вызывает резкие изломы кривых биоизлучений. Он исколол обе ноги и обе руки, установил, что разная сила боли отвечает разным пикам кривой. Он вычислил и величину губительного для себя страдания — оно оказалось пределом, к какому стремится кривая боли. Вероятно, он и дальше продолжал бы с энтузиазмом терзать себя, если бы не подружился с Глейстоном и тот не указал иную программу работ. Вот уже двадцать три года они вместе изучают границы устойчивого функционирования организмов естественного и синтетического происхождения.
Мугоро закончил радостным хохотком. Глейстон внес в его объяснения свою поправку:
— Нас интересует не сама граница существования, а совершенствование умений, какое можно развить, не превосходя предельной границы. Поэтому важно знать и силу страдания, и его переносимость. Аппаратура, сконструированная Муро Мугоро, дает эти данные. На их основе мы вносим поправки в генную структуру опытных объектов, то есть предлагаем лабораториям, синтезирующим живые объекты, более совершенные генопрограммы. Поэтому лаборатория друга Муро и называется геноструктурной. Задача остальных — осуществить в образе реальных биороботов выданные Мугоро генные структуры.
Я всегда удивлялся, как любой поступок, от самого низменного до самого высокого, можно облечь в слова, одновременно и точные и бесстрастные. Как это гладко звучало: «Изучить переносимость страдания, не переходя пределов устойчивого существования организма, ради совершенствования его умений». Я вспомнил восклицание Глории: «Если бы вы знали, что за дьявол этот Чарльз Глейстон!». Я сделал усилие, чтобы голос мой прозвучал спокойно:
— Скажите, друг Чарльз, известный физик Питер Глейстон, открывший метод придавать стали прозрачность стекла, не ваш родственник? Я как-то слушал доклад Питера о его теории прозрачности, впечатление было большое.
— Питер Глейстон — мой отец, — сухо ответил Глейстон. — Первую научную работу я вел в его лаборатории, он захотел породить прозрачность и в живых тканях. Именно эта — неудавшаяся, впрочем, — работа развила во мне интерес к умениям организма. Во время экспериментов отца с живыми клетками я поссорился с ним и организовал собственную лабораторию.
— Сколько помню, ваш отец трагически погиб?
— Он ставил опыты на себе и сгорел, достигнув только полупрозрачности. В гробу он казался выплавленным из мутного стекла. Трудно решаемые задачи его захватывали больше, чем легко реализуемые. Впрочем, эта наша родовая черта. Весь длинный ряд моих предков выбирал путь максимального сопротивления, тривиальность их не привлекала.
Хаяси с интересом смотрел на Глейстона.
— Длинный ряд предков, друг Чарльз? И вы помните его? Я знаю своего отца и деда, уже о прадеде могу сказать только одно: он, несомненно, был. Дальше этого мои знания о родовых предшественниках не простираются.
— Вы знаете двух предков — и считаете это достаточным? Я знаю тридцать семь генераций людей, носивших фамилию Глейстон, и сожалею, что знания мои так малы. Первым в нашей официальной родословной числится барон Джон Глейстон, сопровождавший короля Ричарда Львиное Сердце в крестовый поход, тайно вернувшийся в Англию со своим повелителем и оставшийся верным королю до его смерти. Это было в двенадцатом веке, тысячу триста лет назад. Я не буду перечислять всех оставшихся тридцать шесть, упомяну лишь некоторых. Перси Глейстона, отказавшегося, как и его великий друг Томас Мор, присягнуть королю Генриху VIII в качестве главы англиканской церкви, постигла та же участь, что и Мора: король послал строптивца на плаху. А король Карл I за два дня до своего пленения возвел графа Роберта Глейстона в сан герцога, на что Кромвель немедленно ответил тем, что велел новому герцогу отрубить голову.
— Верноподданными королей были ваши именитые предки, — иронически заметил Хаяси.
— Только когда королям приходилось плохо. Повторяю, мои предки не выбирали легких путей к славе и богатствам. Капитан Эрнст Глейстон в бою с Непобедимой Армадой первый потопил испанский корабль и первым из англичан сам пошел на дно. А другого капитана, Теодора Глейстона, съели каннибалы на островах Тихого океана. А летчика Бернарда Глейстона в 1944 году сбили над Берлином, во время его шестнадцатого налета на этот город. Сэмюэль Глейстон в XXI веке возглавил в Англии правительство революции, его называли первым революционным герцогом — правда, он добровольно отказался от своего высокого титула. Все последующие поколения мужской линии Глейстонов были учеными и звездопроходцами, их имена вы найдете в Памятном зале Академии и на стенах Музея Космоса. Я чту своих предков. Как и они, я хочу быть в центре важных событий своей эпохи. Сегодня таким событием, считаю, является синтез живого вещества с максимальным количеством умений.
— Не пришла ли пора от генеалогических изысканий перейти к геноструктурным? — вдруг с досадой спросил молчавший до того Гюнтер. — Мне бы хотелось поглядеть, как вы воплощаете в реальность то, о чем так красочно рассказываете.
Глейстон молча встал. Мгновенно вскочил, громко захохотав, Муро Мугоро. В эту минуту вошла Глория. Она еле сдерживалась, это было явно. Ее глаза сверкали. А Глейстон побледнел. Если бы Мишель не предупредил меня, что руководитель БКС влюбился в Глорию, я и сам бы догадался — так сильно он переменился, увидев ее. Он обладал незаурядной выдержкой, не сомневаюсь, что и гордился ею не меньше, чем длинной цепью благородных предков, но голос, вдруг потерявший чеканную твердость, выдавал его.
— Хватит! — гневно крикнула Глория Глейстону. — Есть у вас человеческое сердце или нет?
— Глория, прошу вас!.. — только успел сказать Глейстон.
Она, не дав ему договорить, резко повернулась ко мне.
— Арнольд, больше медлить нельзя! Пора остановить преступников!
Я не торопился отвечать, только вопросительно взглянул на Глейстона. Он взял себя в руки, с лица ушла бледность, дрогнувший было голос зазвучал спокойно.
— Глория! Прошу выбирать выражения! Идет научное исследование, а не преступление. Я ценю вашу чувствительность, но и вам не позволю оскорблять меня. Я не требую дружеского отношения, но на обыкновенную вежливость рассчитываю.
Она подошла к нему вплотную. Я поспешно встал, Гюнтер и Мишель тоже вскочили, Мугоро что-то умоляюще пролепетал. Я опасался, что Глория ударит Глейстона по лицу, но она сказала, задыхаясь от гнева:
— Я вас ненавижу! Вас устраивает такое мое отношение?
Он издевательски поклонился. Думаю, он прикрывал актерским сарказмом опасение, что не справится с волнением. Я сказал Глории:
— Объясните, что произошло?
Она презрительно повела рукой в сторону Мугоро, тот сразу сжался, не сдержав, впрочем, жалкого смешка.
— Он лучше моего объяснит. Его ведь считают гением геноструктур. Только вряд ли и он и его руководитель будут откровенны, лучше уж я за них…
Глейстон, высокомерный, прямой как шест, не прерывал ее ни словом, ни жестом, он демонстрировал свое пренебрежение к обвинениям. А Мугоро ухмылялся — растерянно, умоляюще, почти заискивающе. Он, мне казалось, готов был признать немалые вины за собой, если пообещают снисхождение.
— Итак, мы услышали от высокоуважаемого друга Глории, что у объекта АКН-1440 превзойден безопасный предел нервной и физической нагрузки, — заговорил Глейстон холодно, когда Глория закончила свои обвинения. — И она беспокоится, что у объектов АКЛ-2324, доставленных к нам под неуклюжим наименованием «протеи», планируются столь же высокие перегрузки. Мне думается, словесные перепалки здесь ни к чему. Давайте поглядим эксперимент в действии.
Он невозмутимо направился к выходу, за ним, словно сорвавшись с места в бег, заторопился Мугоро. Хаяси взял под руку Глорию. Мы с Гюнтером замыкали шествие.
— Вы всегда издеваетесь над моим носом, кличете его рулем и утверждаете, что я мастерски держу нос по ветру, — сказал я. — Хочу предложить другую тему для острот — нос Глейстона. Это не нос, а носище, носильник, носак: он требует особо выразительного названия. Носом Глейстон может рубить противника, ты не находишь?
— Я нашел другое, — задумчиво сказал Гюнтер. — У Глейстона потрясающей силы взгляд. Даже странно, что в голубых глазах способны рождаться такие вспышки. Я прикидывал, сколько микроватт можно бы получить в одном его взглядоимпульсе. Если довести Глейстона до ярости, разумеется. При обычном его ледяном высокомерии большой энергоотдачи в глазах не найти.
— Дались тебе взглядомеры!
Я смеялся. Я и в бредовом прозрении не мог предугадать, во что выльется «взглядоэнергетическое» увлечение Гюнтера так упорно не оставлявшее его после знакомства с восьмирукими астронавтами.
Я не описывал вам, юноша, всех лабораторий БКС, какие нам показывал Глейстон. Вы и без меня знаете, что в них выводились — или, верней, синтезировались — новые породы живых роботов с заранее заданными свойствами. Каждая лаборатория специализировалась: одна на летающих, другая на ползающих, третья на роющих грунт и так далее, — типы и размеры придуманных творений были столь разнообразны, что и сотую их долю не вспомнить. Новые живые модели поступали в геноструктурную к Муро Мугоро, и он устанавливал соответствие между их жизнедеятельностью и геноструктурой, выдавал расчет максимально эффективного генонабора. Таким образом, лаборатория Мугоро была не созидательной, а, скорей, испытательной, от нее зависело, пойдет ли созданный в других лабораториях набор генов в серийное телесное воплощение или Мугоро предпишет изменения в геноструктурах. Именно такими, вполне пристойно звучащими терминами сам Мугоро описал функции своей лаборатории.
— Вот поглядите! — воскликнула Глория, введя нас в одну из комнат. — Можно ли здесь остаться равнодушными?
Комната разделялась на две неравные части стальной прозрачной стеной: прозрачные стали — великое творение отца нынешнего руководителя БКС — здесь были ходовым строительным материалом. В меньшей части комнаты стоял щит с измерительной и командной аппаратурой. Вдоль щита нервно прохаживался невысокий человечек — инженер-биоконструктор лаборатории № 7, поставивший свое очередное синтетическое творение на био- и геноиспытание. Он поспешно направился к нам, но его остановило гневное восклицание Глории. Я посмотрел на него, он поклонился. Не сомневаюсь, что его обрадовало наше появление и настроение Глории.
Во второй части комнаты, за толстой прозрачной стеной, металось, меняло окраску тела, стонало фантастическое существо. На БКС можно было встретить любые биомодели, иногда столь необычайные, что они даже отдаленно не напоминали созданных природой животных. Биоконструкторы в голос уверяют, что природа бедна на выдумки, возможности синтеза, мол, безмерно превосходят скромные успехи естественного отбора. Не знаю, может быть и так. Но на меня производил прямо-таки жуткое впечатление, например, волосатый шар с солидную тыкву на четырех тонких ногах, синтезированный в лаборатории № 4 и развивавший на каменистой равнине — прыжками и бегом — скорость до тысячи километров в час. Его придумали в помощь астронавтам, осваивающим неудобные для людей и машин космические местечки.
Но я отвлекся. За стальной прозрачной стеной, я сказал, металось диковинное существо. Оно напоминало гигантского — четыре метра в длину, полметра в диаметре — змея, а еще больше — исполинскую двустороннюю сороконожку, двустороннюю потому, что на животе у нее было с добрую полусотню когтистых, полметра длиной, отростков и на спине столько же. Похожие хватательные отростки виднелись и на боках, но тут их было меньше, зато каждый в метр длиной.
В общем, нечто вроде ерша для прочистки трубок, только за волосинки шли многочисленные руки и ноги. А самым примечательным была голова — огромная, удлиненная, с венком оторачивающих ее зеленоватых глаз и доброй дюжиной похожих на шланги рук, каждая тоже метр длиной, мощных, пятикогтистых, — своеобразная корона из рук чуть пониже глазного венка. И это безмерное обилие членов лихорадочно двигалось: туловище изгибалось, чуть не складываясь наполовину, когтистые отростки впивались один в другой, руки взвивались и раскачивались. Яркие зеленые глаза вспыхивали и тускнели, а по телу и руконожкам бежало сияние, существо из желтого становилось оранжевым, потом красным, потом вдруг исступленно синело, и весь исторгаемый им свет был именно светом, а не цветом, это было излучение внутреннего жара, а не меняющаяся внешняя окраска. И что всего больше поразило меня, стоны издавались не ртом, рта не было, а всем телом, всеми руками и отростками, каждая рука и каждый отросток, пульсируя и рассекая воздух, звучали своим особым звуком — хор их и порождал глухой, воющий, мучительный стон.
Одного взгляда на проходящее контрольные испытания творение лаборатории № 7 было достаточно, чтобы понять: весь организм диковинного существа пронзает жестокая боль.
— Живой объект АКН-1440 синтезирован для работ, какие не могут выполнять машины или какие требуют большого комплекса специализированных машин.
Я невольно вздрогнул, услышав спокойный голос Глейстона, его холодное равнодушие не вязалось с картиной страдания по ту сторону прозрачного барьера.
— Объект способен бегать, ползать, цепляться, но главная его специализация — карабканье по крутым скалам. Он может тащить наверх груз весом до сорока тонн и выбирать из кучи камешки диаметром в миллиметр. Своими мощными конечностями он свободно разрывает толстый железный прут, гнет стальной рельс. Для него не составляет труда проделывать лазы в твердом грунте, он за час выцарапывает верхними головными лапам, и с когтями, равными по твердости корунду, трехметровый туннель в граните или диабазе. И он легко справляется сразу с двадцатью львами или тиграми, ударом туловища валит с ног восемь поставленных бок о бок слонов. К тому же он сотворен добродушным, абсолютно покорным воле поводыря. На его спине, кроме груза, могут поместиться три человека, он будет держать их нежно и надежно спинными лапами, даже быстро карабкаясь вверх по отвесной стене. Наши биоконструкторы создали удачнейший образец универсального биопомощника для освоения неведомых планет. Я советовал бы вам, друг Арнольд, ввести в состав экипажа «Икара» и объект АКН-1440 или следующий за ним серийный номер.
К нам торопливо приблизился конструктор из лаборатории № 7.
— Я так понимаю ваше объяснение, друг Глейстон, что испытания модели 1440 можно считать завершенными? Мы семь раз переделывали генопрограмму объекта. Друг Мугоро предъявлял такие требования…
— Нет, вы неправильно меня поняли, — отчеканил Глейстон.
— Объект недоработан. Он изгибает туловище только на сто тридцать градусов, а надо на сто восемьдесят. И он склоняется головой к пяте, не прижимая всю верхнюю половину к нижней, а образуя широкую дугу. Посмотрите сами, как еще мало гибкости в таком изломе тела. Друг Муро заканчивает расчет более совершенной геноструктуры объекта. Пока не все теоретические геновозможности реализованы, дело не завершено. Вы знаете мое правило: недоработок не выношу.
— А что совершается за прозрачной стеной, которую не пробьет никакой сверхмогучий объект, вы выносите, Глейстон? — тихо спросила Глория.
Помню, меня встревожил почти шепот, каким она заговорила с Глейстоном. Она, несомненно, была вне себя. Но я еще не считал возможным властно вмешаться. Еще не все было мне ясно.
Глейстон показал на щит. На одном из самописцев змеилась тонкая черная линия, над ней горизонтально протянулась толстая красная: черная линия толчками, всплесками поднималась вверх, ее как бы насильно толкали к красной, и она отчаянно изгибалась, чтобы не совпасть с ней, а идти параллельно и на расстоянии. На соседнем приборе бешено скакали какие-то цифры.
Глейстон говорил тоном читающего лекцию профессора:
— На этом щите фиксируются все биоизлучения объекта. Красная линия — предел жизнедеятельности. Черная — состояние объекта в каждый момент. Совпадение черной и красной линий — смерть. Как видите, до смерти еще около пятнадцати миллиметров. А цифры на соседней ленте — анализ крепости организма. Они указывают, где менять геноструктуру, а где ограничиться физическими упражнениями, усиливающими уже созданное умение. Вот этот приборчик, — он показал на ящичек, прикрепленный к щиту, — генератор команд, заставляющих объект продемонстрировать, на что он способен. Команды выдаются автоматически, по строго рассчитанной программе. Сейчас испытывается выламывание туловища, оно идет на среднем уровне, минуты через две автомат задаст усиление.
— То есть муки биоробота будут еще усилены? — все так же тихо спросила Глория.
Глейстон словно хотел ее подразнить:
— Без мук нет совершенствования, друг Глория.
— А себя вы могли бы для самоусовершенствования подвергнуть муке, подобной той, какую мы видим за оградой?
— Вы имеете в виду принципиальную возможность? Нет ничего проще. Возьму генератор команд, переключу его на себя поворотом вон того рычажка и немедленно узнаю собственным страданием, что ощущает сейчас объект АКН-1440. Но делать этого не буду.
— Страшитесь собственного страдания, Глейстон?
— Не нуждаюсь в собственном страдании, дорогая Глория. Страдание — путь к совершенству, но не само совершенство. А я совершенен! О, не надо таких злых усмешек! Я бесконечно мало умею и значу. Но мои умения, основные мои умения, Глория, на пределе, больше их не развить. Мне просто некуда совершенствоваться. Я достиг своего потолка. Вы ведь не потребуете от быка, чтобы он постиг интегральное исчисление? Это выше бычьих потенциальных возможностей. Никаким страданием корову не сделать профессором математики. Нет, собственное страдание мне не нужно. Вам понятно?
Черную линию всплеском подняло выше, теперь она шла в грозной близости от красной черты. Предсказанное Глейстоном усиление мук начиналось. Ответ Глории прозвучал так тихо, что я наполовину услышал, а наполовину угадал:
— Непонятно, Глейстон. Я далека от совершенства. Мне свойственно одно страдание, вам абсолютно неведомое. И без него моя душа была бы пуста и низменна.
— Какое же это страдание, так возвышающее вашу душу?
— Страдание сострадания! — ответила она с горечью. Усиление нагрузок вызвало взрыв активности у ощетинившегося всеми отростками биоробота. Он ошалело взвивался и падал, изгибался, изламывался, судорожно свивал и разбрасывал свои руки и руконожки, засиял сумрачно фиолетовым светом, протяжный стон превратился в надрывный рев. И прежде чем кто-то успел помешать, Глория схватила генератор команд. На вырвавшийся у нее крик боли немедленно отозвался дикий вопль Глейстона:
— Глория, вы погибнете! Отдайте генератор!
Он отдирал ее руки, вцепившиеся в прибор. Она не давалась, она была сильна, потом, когда все осталось в прошлом, мы вспоминали, что еще девочкой она брала призы по скоростному плаванию, занималась альпинизмом; справиться с ней было бы нелегко и мужчине посильней, чем Глейстон. А он оттаскивал ее от щита, неистово молил и кричал — никто и думать не мог, что этот надменный, гордившийся своей выдержкой человек способен на такие отчаянные моления, на такие страстные признания.
— Глория, пустите! — кричал он. — Я не переживу, если вы!.. Убейте лучше меня, я люблю вас!.. Пустите, пустите! Дайте мне, пусть я погибну. Дайте мне! Молю вас, молю вас!
Они сорвали генератор со щита и упали, отчаянно борясь за него, на пол. Гюнтер, Мишель и биоконструктор пытались разнять их, но только вертелись вокруг двух катающихся тел. Биоробот, лишенный внезапно энергии, бессильно распластался на полу. Глорию и Глейстона сводила судорога боли, он резко рванул к себе генератор, прижал его к груди, но и она не выпускала прибора — обоих крутила и ломала та страшная сила, которая еще минуту назад заставляла дико метаться исполинского синтетического зверя. Муро Мугоро, совершенно растерянный, выпучился на них, в глазах его был ужас, на лице застыла бессмысленная ухмылка. Я ударил его, он рухнул на пол. Я рывком поднял его, стукнул всем телом о щит:
— Немедленно отключай аппараты! Немедленно — или убью!
Он оттолкнул меня. Хлесткий удар кулаком привел его разом в чувство. Он стал возиться у щита, крикнув мне:
— Отойдите! Не мешайте! Быстро отключаться нельзя!
Я не отходил от него. Я не смотрел на то, что происходит сейчас с Глорией и Глейстоном. Выручить их мог только Мугоро — это мне было ясно. И хотя меня мутила ярость и я едва удерживался, чтобы снова не пустить в ход кулаки, с невольным уважением я следил, как четко, умело, чеканно точно манипулирует Мугоро клавиатурой кнопок и рычажков. Дело свое он знал — это не оспорить. Услышав ликующий вопль Глейстона, я обернулся. Ему удалось отшвырнуть Глорию от себя, Гюнтер с Хаяси подняли ее, она не стояла на ногах, глаза были закрыты, снежно-белое лицо искажено, губы что-то шептали. А Глейстон изламывался всем телом на полу, не отпуская генератора, биоконструктор пытался поднять его, Глейстон не давался и кричал тонким, ликующим, рыдающим, полным радости и муки, криком:
— Спасена! Спасена! Спасена!
— Аппараты отключены! — крикнул Мугоро, поворачивая последний рычажок, и кинулся к Глейстону.
Судорога, ломавшая Глейстона, затихала, он вытянулся, выпустил из рук генератор, закрыл глаза. Только теперь он разрешил себе потерять сознание — именно разрешил: до этой минуты, исступленно борясь за жизнь Глории, он не мог позволить терзавшей все его клетки боли одолеть себя. Что бы ни думали об этом необыкновенном человеке, но все свои духовные и физические способности он держал на пределе, его надменные слова о собственном совершенстве не были чванливой похвальбой.
Друзья понесли Глорию в кабинет Мугоро, она все не приходила в сознание. Глейстон очнулся, биоконструктор помогал ему двигаться. Мугоро вошел внутрь отгороженного прозрачной сталью помещения, потрогал неподвижного робота.
— Умер! Внезапный отток энергии изо всех клеток… Это хуже, чем удар кувалдой по голове…
— Кстати, об ударах, — со злостью сказал я. — Вы можете отдать меня под суд за избиение, но предварительно я вас с Глейстоном выгоню с Урании.
Он снова улыбался своей дурацкой улыбкой. И хотя мне было не до смеха, как, впрочем, и ему, я тоже непроизвольно ухмыльнулся на его ухмылку — и от этого еще больше рассердился.
— К вашему кулаку у меня претензий нет, — сказал Мугоро.
— Аргумент был веский и своевременный, зачем мне обижаться? А из лаборатории меня выгнать нельзя, мы с ней одно целое. Она погибнет без меня. Конечно, вы можете закрыть лабораторию, но стоит ли?
— Пойдемте к пострадавшим, Мугоро.
Глория, уже в сознании, лежала на диване. Глейстон, опираясь рукой на плечо биоконструктора, стоял посередине комнаты.
Увидев меня и Мугоро, Глория приподнялась. Хаяси бережно поддержал ее.
— Что с биороботом, Арнольд?
— Умер, — коротко ответил я.
Она повернулась к Глейстону.
— Вот что вы наделали! Вас не терзает совесть? Неужели вам не знакомо горе?
Он засмеялся. Он еще не пришел в себя полностью. Было что-то истеричное в его тихом смехе.
— Горе придет, когда вы уедете, Глория. А сейчас я испытываю только радость. Вы погибали на моих глазах, погибали в моих руках!.. Это такое счастье, Глория, такое счастье, что вы живы! Боже мой, поймете ли вы меня? Я ведь видел, как вы погибаете… Это было непереносимо, это было так страшно, Глория!..
— Арн, в твоих руках власть, — с волнением сказал Хаяси.
— Ответь нам: воспользуешься ли ты наконец своей властью?
— Отвечаю: воспользуюсь!
Я решительно повернулся к Глейстону.
— Вы сказали, что горе к вам придет, когда Глория улетит с Урании. Горе придет раньше, друг Глейстон. Увольняю вас с поста директора Биоконструкторской Станции. Вы возвратитесь с нами на Латону, там решат, что вам дальше делать.
Он высокомерно смотрел на меня. Теперь он был в полном сознании.
— Не преувеличиваете ли вы свои возможности, друг Арнольд? У вас нет права снимать меня с должности, это может сделать только Академия на Земле.
— Права снимать вас нет, а власть сделать это — есть. Вашу должность укажет Земля, возможно, она возвратит вас обратно на Уранию. А пока вы займете одну из пассажирских кают «Икара». И если откажетесь, я прикажу связать вас веревками и внести на корабль, как груз. Вот такая ситуация.
Он церемонно поклонился.
— Ситуация ясна. Обойдемся без веревок.
— Что будет с геноструктурной? — спросил Мугоро. — Вы ее закрываете?
Я сердито отвернулся от него. Я опасался, что опять отвечу улыбкой на его неуместный, но дьявольски заразительный смешок.
— Пусть временный директор БКС решает, как быть с геноструктурной.
Глория снова приподнялась.
— Арнольд, вы хорошо подумали, кого назначаете директором Станции? От этого человека будет зависеть все направление исследования!
— Вы сами установите направление исследований, Глория. Я оставляю вас временным директором Станции. И надеюсь, Земля превратит временность в постоянность, если, конечно, у вас самой не появится каких-нибудь возражений.
Спустя три месяца, уже на Латоне, я докладывал Мареку о событиях на Урании.
— Можешь огреть меня выговором, но поверь: иначе я поступить не мог. И я прошу тебя, сделай все, чтобы Глейстон не возвратился на Уранию. Человеку с его способностями можно найти дело и на других планетах. Информирую, что на «Икаре» он держался пристойно — правда, упорно пренебрегал нашим обществом, почти не выходил из каюты, но других протестов не было.
Марек рассеянно глядел куда-то вдаль. Мне казалось, я понимал его состояние. Я сказал, волнуясь:
— Знаю, знаю, очень подвел тебя! Ты хотел возвратиться на Землю с Глорией…
Он оторвался от трудных дум.
— Что поделаешь, Арн? Не судьба мне прощаться с космосом. И вдуматься — нашли бы мы с Глорией счастье на преждевременном покое? Не тосковали бы на милой зеленой Земле о дальних краях?.. Глория всегда мечтала об исследованиях, какие можно поставить только на Урании. Надеюсь, Земля утвердит ее директором БКС. Буду утешаться ее радостью… Давай поговорим о вашем следующем рейсе, Арн.
— Давай поговорим, — согласился я.
Глава шестая ЧУЖАКИ В РАЮ
Марек отправил Глейстона на Землю, там он, слышал я потом, занялся расчетом биоструктур и создавал на бумаге таких зверей, что сам всетворитель господь — если бы он существовал — в ужасе бы отпрянул. Некоторые из теоретически разработанных Глейстоном тварей были реально синтезированы — модели более простые, естественно. А мы на «Икаре» умчались дальше в том же отведенном нам регионе В-24, НК-17. И еще долго стойкой темой бесед в салоне были события на Урании. Непосредственные участники — Хаяси, Менотти — все снова с наслаждением описывали происшествие: и мою драку с Мугоро, и спасение Глории, и все прочее. Хаяси критиковал глейстоновскую теорию страдания как путь к совершенствованию, доказывая, что в ней есть крохотное рациональное зерно — без преодоления трудностей нет дороги на высоту, — но превращать любую трудность в страдание чудовищно. Однажды Елена, слушая Хаяси, воскликнула:
— В человеческих преданиях есть сказание о рае, где отсутствуют муки и тревоги. А мы в своих странствиях и намека на рай не встречали, зато адских местечек сколько угодно. Везде страдания — естественные и искусственные. Ужасно хочется побывать в настоящем добром раю. Чему ты посмеиваешься, Гюнтер?
Он выразительно пожал плечами:
— Рай — общежитие святых, Елена. А разве мы святые? Скорей, неисправимые грешники. Впусти таких в благоустроенный рай, он покажется нам хуже ада.
— Тебе лишь бы возражать, что ни скажи, Гюнтер! Если рай — гармония и согласие, то для рая ты и вправду не годишься, ты ни с кем согласия не приемлешь.
— Уж каков есть. И переделывать себя не буду даже для тебя, Елена.
Я впоследствии часто вспоминал эту забавную перепалку и удивлялся, до чего она оказалась пророческой. Но буду рассказывать по порядку.
На двенадцатый год полета «Икара» в отведенном нам космическом регионе мы обнаружили в планетной системе Кремоны следы высокоразвитой цивилизации. Вы знаете не хуже меня, как редок разум во Вселенной. Любая встреча, с существами высокого интеллекта — событие и открытие. Это к тому же было неожиданным: локация планет Кремоны со звездолета «Медея», пролетавшего в прошлом неподалеку, показало их безжизненность. И мы и не подумали бы свернуть на нее, если бы Фому не встревожил странный астероид, выскочивший на экран.
— В нем что-то искусственное, Арн, — сказал Фома.
Я интереса в астероиде не нашел. Надо было оконтурить район опасности вокруг зловещей «дыры» Н‑128, а звезд вроде Кремоны в Галактике больше ста миллиардов. Мои аргументы не подействовали на упрямого Михайловского. Фома стоит на своем, пока не стукнется лбом в ошибку. И хоть ошибается он ровно в девяти случаях из десяти, зато в десятом непостижимо постигает истину в дикой путанице противоречий. Случай с Кремоной оказался именно таким.
— Нет, тут что-то неладно, Арн, — твердил он. — Разреши подвернуть поближе.
Я мог бы запретить изменение курса — и мы потеряли бы одно из интереснейших открытий и избежали бы гибели трети экипажа. Но мне не захотелось спорить с Фомой. Он не такой обидчивый, как Гюнтер, не так импульсивен, как Иван, но глубоко огорчается, встречая отпор, а не уговор. И хотя я, часто объяснял ему, что уговоры в общении с ним не эффективны и отпор — единственная мера убеждения, он не меняется. Я сдался.
— Черт с тобой, Фома! — сказал я великодушно. — Трать на выход в эйнштейново пространство тонны активного вещества, еще тонны потрать на уход из него, а выговоры от Марека поделим пополам. И честно предупреждаю: ту половину, которая больше, спихну на тебя.
Не прошло и часа, как я заговорил иначе. Это было, конечно, сооружение, а не астероид. Представьте себе длиннющую сигару с черными парусами перпендикулярно к оси — и все существенное в облике будет схвачено. На позывные сигара не отвечала, ничто не показывало, что она хочет приблизиться или скрыться. Фома притянул ее захватывающим полем, заставил три раза повернуться. Носовая часть сохранилась хорошо, на корме зияло отверстие. Иван доказывал, что эдакие космические рыдваны были и у человечества лет триста назад, может быть, мы встретились с одним из них, затерявшимся в космосе. Фома помнил облик всех первых звездолетов — как вернувшихся на Землю, так и погибших в просторах Галактики: они были совершенней.
Елена объявила очередной неопровержимый логический вывод:
— Если это не древнее человеческое творение, то мы повстречались с новой разумной цивилизацией машинного типа. Это будет наше второе серьезное открытие после астронавтов-осьминогов.
Хаяси не преминул возразить, что мы познакомились лишь с затерянной в космосе гробницей астронавтов-осьминогов, а о том, существует ли еще их общество и где существует, понятия не имеем. Алексей по парусам, видимо использующим «солнечный ветер» — лучистую энергию светила, отнес корабль к типу планетолетов, а не звездолетов. Я включил Алексея четвертым в разведочную группу Гюнтера. Планетолет «Гермес» понесся к чужому кораблю, продолжавшему неторопливо плестись вокруг далекой Кремоны уже по новой орбите — Фома захватывающим полем слегка изменил ее.
О корабле кремонцев столько говорили потом на Земле, что мне нечего добавить к известному всем описанию. Но для Кнута Марека сообщение об открытии технически развитой цивилизации неподалеку от главной базы космического флота человечества прозвучало как взрыв у самых ног: он перед тем в годичном докладе Большому Совету утверждал, что его регион Галактики не является обиталищем разумных существ. К чести Марека, он не упорствует в заблуждениях. В ротонограмме на тысячу слов он требовал, просил, умолял — зная, что мы можем и воспротивиться, ссылаясь на программу поиска, — забыть о всех предписанных программах и идти на Кремону, откуда, по его мнению, стартовал обнаруженный нами планетолет. Признаться, колебания у меня были сильные. Во всех нас, кроме Марека, мигом отказавшегося от прежних заблуждений, крепко засела уверенность, что и сама Кремона — звезда скучная и планетная ее система — собрание мертвых шариков. То, что обнаружили чужой корабль на планетной окраине Кремоны, отнюдь не свидетельствовало о его кремонском происхождении, скорей, наоборот. И на корабле, явно созданном живыми существами, мы не нашли следов какой-либо жизни — ни трупов, ни праха. Гюнтер решил сначала, что судно вели автоматы, но даже обломков механизмов не было. Половинка длинной сигары с оторванной кормой и солнечными парусами, а внутри пустота. На Земле потом, я знаю, нашли тысячу и один убедительный признак обитания на судне кремонцев, но мы не располагали ни временем для долгих исследований, ни земной аппаратурой. Я послал депешу Мареку, что представители разумной цивилизации не обнаружены и что вряд ли планетолет стартовал с внутренних планет Кремоны. Он повторил просьбу забыть о всех прочих заданиях и идти на Кремону. Пришлось идти.
— Разубеди Марека, Анна, — сказал я, после того как две дальние планеты оказались грудой пыли, окаменевшей в космическом холоде. — Ты астрофизик, к твоим аргументам прислушаются охотней, чем к моим. Все равно будешь подтверждать прежние наблюдения «Медеи». Не вижу причин брать под сомнения работу предшественников. Если бы я хоть минуту верил, что эта сигара с парусами не примчалась издалека!
— Вариант появления издалека даже более вероятен, — сказал Фома — он незадолго перед тем провел расчеты.
Анна никогда не колебалась высказывать свое мнение, но страсть не любила быть арбитром в спорах. Соглашаться с другими она могла, но совестилась опровергать того, с кем не соглашалась: природная деликатность запрещала наносить обиды. Она знала, что я не желаю идти на Кремону, а Марек настаивает на этом, и стеснялась стать судьей между нами. Вместо нее ответил Мишель:
— Установлено два факта, Арн. Чужой планетолет замечен на окраинах кремонских планет — первый факт. Он мог прибыть сюда отовсюду, в том числе и от одной из них. Это не факт, а предположение. Планеты Кремоны как объект излучения всего ближе — второй факт. Елена, какой отсюда логический вывод?
— Тот самый, какого ты ждешь. — Елена рассмеялась и взмахнула желтыми локонами. — Надо обследовать планеты Кремоны.
Таким образом, поддержки у экипажа я не встретил. Мы двинулись к третьей планете, но и она оказалась таким же комком перемерзшей пыли. Никто не сомневался, что и следующая не принесет нового.
Следующая была неожиданна. Анализаторы издалека установили, что излучение от нее соответствует каменно-пылевому объекту при температуре около ста градусов ниже нуля — именно этого я и ждал, — но картина поверхности странна: какие-то тени, силуэты, мазки, а не обычные четкие линии и краски. Впервые я видел обоих астроинженеров сконфуженными. Я сердито потребовал от них приличных изображений. Фома вел «Икар» на малой скорости. Планета — солидный шарик, на три четверти массы Земли, — приближалась. Вдруг все изменилось. На экране вспыхнула картина, не имеющая никакого сходства с той, что недавно фиксировали анализаторы: не груда серой пыли, от одного морозного вида которой знобило, а очаровательная планетка, до того похожая на Землю, что хотелось кричать от восторга. Я и закричал, но на Алексея с Гюнтером:
— Что за вздор фиксировали ваши приборы недавно?
Ответ астроинженеров заставил меня задуматься. Анализаторы верно показывали, что им предстояло. Сама планета путала свои изображения. С расстояния в сто тысяч километров она рисовалась серым безжизненным комком, а на отдалении в тысячу — восхитительной страной. Мы второй десяток лет носились в Галактике на «Икаре», каждый еще до «Икара» накопил от трех до десяти лет космического стажа на других кораблях, в Академии нам читали о всех прошлых интересных космических рейсах — ни с чем похожим мы не встречались и ни о чем похожем не слыхали. Я приказал отдалиться от Кремоны-4, фиксируя изменение картины. Мы отходили — и яркие краски тускнели, пропадала зелень, леса, моря, горы, облака, усиливалась серятина, типичная для мертвой пыли, и с какого-то момента уже не было планеты, разительно похожей на Землю, была несущаяся вокруг далекой желтой звезды груда каменного мусора. Мы дали сильное увеличение — не то, что гора или море — обычный дом зафиксировался бы на пленке, — но картина осталась прежней: навеки промороженный, мертвый шарик. Мы возвращались — все менялось, снова под нами проплывал зеленый, теплый, великолепно убранный мир.
Иван считал, что планета закамуфлирована особым экраном.
— А что особенного? Не захотели жители, чтобы их издали разглядывали, вот и прикрылись искажающей сферой.
Все это выглядело правдоподобно, но надо было предварительно доказать, что планета населена, и определить физическую природу камуфлирующего экрана. Мы проделывали один виток за другим, наблюдали планету при кремонском дне и в глухую кремонскую ночь. Иван просил о высадке, Гюнтер требовал послать его группу в разведку. Я колебался. Я побаивался. На планете росли травы и деревья, в атмосфере летали птицы, в водах резвились водяные твари, и крупные и мелкие, по земле сновали животные, но разумных существ и признака не было. Но тогда кто окружил планету искусственным экраном? Что он искусственный — никаких сомнений. Не попрятались ли обитатели? Как они встретят нас, когда высадимся? С зеленой веткой мира в руках (или лапах) или залпом лазерных аппаратов из укрытий? Какова их техническая мощь? Каков уровень интеллекта? «Икар», конечно, надежный корабль, но мы пошли в дальний поиск, чтобы умножать друзей человечества, а не ввязываться в сражения. Я так и сформулировал потом в отчете свою позицию: «Не хотели провоцировать конфликта». И день за днем, ночь за ночью — верным спутником планеты, до того не имевшей их, — мы облетали и облетали Кремону-4.
В салоне ко мне обратилась Елена:
— Арн, рано или поздно ты пошлешь разведчиков на планету. Мое мнение: лучше скорей, чем позже, но советов давать не буду. Прошу включить и меня в группу Гюнтера. Почему? Анализаторы показывают, что жизнь здесь идентична земной, но гораздо пышней. Нигде в космосе мы еще не встречали копии нашей зеленой старушки. Я биолог, Арн. Я не прощу себе, если останусь любоваться местными чудесами только с экрана, а Петр будет ходить среди них.
В разведочной группе, кроме ее постоянных членов — Гюнтера Менотти, Петра Кренстона, Мишеля Хаяси, — на этот раз было еще двое: Елена и я. Мы высадились на лугу у прекрасного озера, неподалеку зеленел лес, дальше поднималась седлообразная гора. Кремона, чуть поменьше и пожелтей Солнца, светила ярко и тепло, шло местное лето. Все было до неправдоподобия похоже на земное. Немного оставалось до времени, когда мы обнаружили и различия, и они стали грозно накапливаться, но в тот момент из различий мы ощутили только, что ходить здесь легче, чем на Земле, и вволю попрыгали на лужайке. Лишь человек, годы не ступавший по настоящей почве, может понять, какое это наслаждение — пуститься в пляс, отбросив громоздкие гравитаторы. Петр с Мишелем, обнявшись, любовались озером. Гюнтер протянул обе руки Елене, острова со смехом ухватилась за них и закружилась вокруг вето. Помню, меня этот пустяковый эпизод удивил, Гюнтер, тайно влюбленный в Анну, не позволял себе на корабле хоть в чем-нибудь относиться к обеим женщинам иначе, чем к другим товарищам. Танцы и у нас бывали, но малообщительный Гюнтер участия в них не принимал.
— Елена, хватит развлекаться, посмотри на фиолетовых рыб! — крикнул Петр, и Елена побежала к нему.
Гюнтер рухнул в траву. Он выглядел немыслимо блаженным.
— Арн, мне хочется полежать под нежным светом Кремоны, таскаться со стереоискателем я буду поздней, дай понежиться вдосталь! — Столь выспренне Гюнтер раньше не умел говорить, я отнес нежданно высокий стиль к действию пейзажа. Гюнтер томно бубнил: — И вообще, знаешь, где мы? Мы в раю! Именно о таком местечке мечтала Елена, когда я посмеивался над ней. Я каюсь и отрекаюсь от былых заблуждений. Рай существует. Мы искали его на Земле и на планетных островках космоса, но не нашли, а он вот тут. Где-то здесь господь на манер нашего недавнего друга Чарльза Глейстона синтезировал Адама с Евой. Обоснованно гневаясь на первую человеческую пару, он потом выселил Адама с Евой на Землю, вероятно, перенес туда на космической ракете. Бог был добрей Глейстона, тот подверг бы первую сотворенную человеческую пару неистовым искупительным, то есть совершенствующим, страданиям. Впрочем, страданий потом и нашим прародителям хватало. Короче, мы на прародине. Вековая мечта человечества!.. Вечный мир и блаженство?.. Не удивлюсь, если где-нибудь повстречается лев в обнимку с ягненком.
— Насчет льва и ягненка не уверен. А тигр с зайцем составили дружескую пару. Только они не лежат, обнявшись, а шествуют к нам.
Гюнтер мигом вскочил. Из леса выходило животное, и вправду похожее на здоровенного, в полтонны, тигра, — рыжее, с массивной мордой. Рядом с ним смешно подпрыгивал зверек, серый, остроухий, с длинными задними ногами. Гюнтер предостерегающе крикнул товарищам, чем-то любовавшимся у озера. Те обернулись. Елена ахнула, Кренстон и Хаяси выхватили плазменные пистолеты и быстро пошли к нам на подмогу. Я посоветовал Гюнтеру — он направил на страшилище оружие — не нервничать. Тигр подошел, уставился на меня — я стоял впереди — желтыми искристыми глазами, зевнул, вывалил язык и раза два ударил хвостом но земле — и все это так добродушно, будто приветствовал и зевком, я высунутым языком, и дружелюбными ударами хвоста, только не говорил: «Здравствуйте, ребята, как поживаете?». Маленький зверушка — нрава, похоже, не такого компанейского — покосился на нас, толкнул тигра носом в лапу, тот повернулся к спутнику, подумал и двинулся к лесу, величественно перебирая лапами. Рядом подпрыгивал по-заячьи востроухий малыш.
— Рай, Елена, сущий рай, — ликовал Гюнтер, показывая пистолетом на скрывающихся в чаще зверей. — Тигр гуляет с зайцем! Мыслимо ли это? Тебя не радует, что мечта твоя осуществилась?
— Радует, очень радует, Гюнтер! — весело отозвалась она.
— И особенно радует, что этот рай еще не знает грехопадения. Ведь в нашем человеческом раю сорванное Евой яблоко отразилось к худшему не только на человеческой судьбе, но и на нравах животных. Они стали поедать друг друга.
— Не цирк ли? Там тоже обнимаются тигры с зайцами, — скептически заметил Хаяси.
— Звери похожи на земных, растения и рыбы тоже, — задумчиво сказал Петр. — Не приготовиться ли к встрече с человекообразными?
Мы прошли через лес, вышли к новому озеру, сели в авиетки, поднялись на них в гору, облетели долинки, опустились на море, покачались на волнах. А вечером нас очаровали розовые волны, точно такие, что мы видели с вами сегодня. Все было до восхищения земное. И если скоро мы обнаружили неизвестные растения и диковинных, на наш взгляд, зверей, рыб, насекомых и если над нами изредка проносились птицы причудливых очертаний, каких и художники-фантасты не придумывали, то это не уничтожало «впечатления земности», как выразилась Елена. Но людей не было — ни примитивных, ни равных нам по разуму, ни выше нас по интеллекту. Если мы и вправду попали в некую разновидность рая, то — Елена права — в дочеловеческую его эпоху: Адама с Евой тут еще не создали.
Высадка передавалась на «Икар», там следили нашими глазами за всем, что мы видели, а заодно и за нами. Всеобщее мнение: еще не встречалась столь удобная для людей планета. Иван ликовал: найдена превосходная площадка для заселения, он, выйдя на пенсию, устроит здесь человеческую колонию, если до того ее не освоят другие новоселы. Анну восхитило, что хищность не в характере местного зверья, — удивительное свойство, о нем тысячи лет мечтают земные животноводы, но никак не умеют подружить льва с ягненком. Даже Глейстону с его свирепой жаждой совершенствования не удался бы проект тигро—заячьей любви.
Фома разделял общие восторги, но кое-что его и обеспокоило. Камуфлирующее излучение планеты оказалось коварным, мы пробивали его раз десять, то удаляясь, то приближаясь, и каждый раз оно влияло на навигационные приборы. В результате — неустойчивость показаний. Выходить снова в далекий рейс с такими приборами ему бы не хотелось. Он просил месяц задержаться на Кремоне-4 для ремонта и регулировок.
— Но, пробив при отлете камуфлирующий слой, ты снова внесешь неточность в анализаторы, — возразил я.
— Один раз не существенно.
— Даю месяц, Фома. А пока будем изучать Кремону-4, сбегаем на «Гермесе» и на внутренние планеты.
Вам хорошо известно, что мы задержались на Кремоне-4 не на месяц, а на целых шесть: мастерские у нас были отличные, но исправление всего, что нуждалось в ремонте, потребовало слишком много усилий. На планете поочередно побывали все. «Икар», превращенный в ее спутник, недвижно висел над Кремоной-4, на нее сперва высаживались группами на планетолете, потом индивидуально на авиетках. Если вначале и возникала мысль об опасностях, особенно у меня — командиру корабля опасения положены по штату, утверждает Иван, — то вскоре и я перестал беспокоиться. Планета казалась неправдоподобно, невероятно, немыслимо мирной. Посмотрите вот эти снимки: Иван верхом на тигре, зверь прямо-таки радостно ухмыляется, сам Иван куда серьезней, он лишь торжествует; здесь Менотти обнял змею, там змеи покрупней наших; а вот и Анна верхом на кондоре, ну, не на кондоре, а на кондороподобной птице, даже Анна, не очень-то боевая, рискнула покататься на крылатом коне, посмотрите, как она счастливо машет рукой. Таких картин блаженного бытия множество, каждая встреча с обитателями планеты убеждала, что иного здесь не бывает.
Но однажды Иван, примчавшись на «Икар» после прогулки, в смятении доложил, что лицезрел страшное зрелище. Тигр прогуливался с теленком — это, конечно, был не теленок, а некая теленкообразность, как и сам тигр — не тигр, а нечто тигрообразное. И вот тигр остановился, лениво повернул голову, придушил своего спутника и, не торопясь, благодушно сжевал его. Иван вывалил на стол в салоне стереоленту, он, хоть и растерялся, успел заснять происшествие. Мы молча рассматривали кадр за кадром, тигр жрал свою жертву и вправду без злобы, истово, даже как-то вежливо, будто и мысли не имел причинить зло, а у теленка на мордочке, пока она целиком не исчезла в пасти тигра, и следа не было ужаса, боли, страха, обреченности, в общем, всего, что, по нашему мнению, он должен был испытать. Напротив, он безмятежно улыбался своей телячьей улыбкой, он как бы говорил ею: «Ах, как мне приятно, что тебе приятно закусывать мною!».
— Ужас! — воскликнула бледная Анна. — Я буду теперь бояться встречи с этими бестиями. Но ведь и признака хищности нет у этого зверюги, такая благопристойность на морде!
— Наши крокодилы идут дальше благопристойности, Анна, они от сочувствия к жертве плачут, когда поедают ее, — иронически отозвался Хаяси. Он один не возмутился жутковатым все-таки зрелищем.
Я отменил вольные выходы, теперь на планету высаживались снова группами, подстраховывая друг друга, — никому не улыбалось стать закуской радушных хищников. И снова мы убеждались, что хищников в нашем понимании нет — крупные звери не нападали на мелких, не гнались за ними, мелкие не убегали, не прятались, не пробовали защищаться. Все совершалось проще и страшней. Трагические происшествия быстро умножались: животные на Кремоне-4 поедали одно другое не реже, чем в дикой природе на Земле, но только здесь это не выглядело картиной мук. Кренстон с Еленой доложили нам результаты изучения биологии местных животных:
— В характере хищников не запрограммировано злобы, у мирных — страха. Этим и объясняется ублаготворенность, сопровождающая гибель.
— А не привить ли им недостающие свойства, чтобы дать возможность жертвам спасаться? — предложил Гюнтер. — В лабораториях Урании такие операции совершаются запросто. Пригласить бы специалистов из БКС, в частности этого вечно смеющегося Муро Мугоро.
Петру идея Гюнтера понравилась, мне — нет. Астроразведчикам запрещено менять условия обитания живых существ на открываемых планетах. Допускаются исключения, здесь я их не видел. Но зрелище безмятежного уничтожения одних другими стало действовать мне на нервы. Иван добавил жара в тускло затлевший огонек раздражения. У него родилась очередная ослепительная идея — здесь обитали разумные гуманоиды, вероятно, те самые, что сконструировали планетолет с солнечными парусами, но их постепенно пожрали хищники.
— Выйди, например, я без скафандра и оружия, — доказывал он с увлечением, — обязательно пообедают мной! Хотите проверим? Не бойтесь, я — то смогу отбиться, да и вы не дадите меня в обиду. Просто эксперимент: будут ли меня жевать?
К этому времени мы наконец обнаружили следы разумных созданий: подземные жилища, похожие на соты, кости десятков поколений кремонцев — так мы их стали называть, народа вполне гуманоидного, на Земле их признали бы одной из человеческих рас, вроде пигмеев — они не выше полутора метров, большегубые, большеглазые, лопоухие, длиннорукие, почти безносые, в общем, не Аполлоны Дельфийские, но и не обезьяны. А когда мы наткнулись в пещере на мозаику из цветных камешков, ту, что сейчас в Музее Космоса, и на нас глянули с картины огромные, умные, бесконечно грустные глаза… Впрочем, вы больше моего знаете о кремонцах, столько о них новых данных! Для нас тогда самым, возможно, важным было, что мы нашли и мастерские, где они создавали свои космические тихоходы, — обломки, детали, два почти готовых корабля.
А самих кремонцев не было. Словно все вымерли или покинули планету. В этих условиях мысль, что их просто пожрали, нельзя было легко отринуть. Я распорядился.
— Можете экспериментировать, друзья. Приглашать специалистов БКС не будем, а чему научились на Урании сами, то постараемся использовать.
Все одобрили мое разрешение, один Хаяси с сомнением поджимал губы. Нет более консервативного народа, чем социологи: они оперируют большими массами — не индивидами, а решения, затрагивающие целые общества, всегда крупней и ответственней частных — без долгих раздумий на них не идут. Петр радовался, Гюнтер тоже, он заскучал, оставив свои взглядомеры, правда, они с Алексеем добились какой-то удачи. «Нет возможности применить на практике наш успех», — с сожалением говорил Алексей. Но я отвлекся, о взглядомерах потом. Елена, биолог, как и Петр, одобрила эксперименты, но участвовать в них отказалась: она не экспериментатор, просто ученый биолог, даже так: биолог-социолог, биолог-психолог, а всего верней — биолог-логик, не лабораторный работник, конечно. Петр же специализировался в свое время в экспериментальной генетике и, как записано в его паспорте астронавигатора, достиг в ней немалого мастерства. И на Урании он с первого дня не покидал геноконструкторских лабораторий, почему, собственно, и не принял активного участия в нашей стычке с Глейстоном. Зато он отлично усвоил все новшества в переделке геноструктур, разработанные на БКС, и вдобавок разжился специальными аппаратами, созданными геноконструкторами. Можно было не сомневаться, что придуманное себе задание по переделке местного зверья он выполнит безукоризненно. К тому же ему помогали Гюнтер с Алексеем, оба изобретательнейшие инженеры.
Мы доставили на «Икар» двух тигров и с десяток мелких зверушек, составлявших, мы это уже знали, любимое блюдо благопристойных хищников. Тигры вели себя на корабле как милые домашние твари, мурлыкали, а не рычали, просили погладить их, умильно заглядывали в глаза, но, потеряв к ним доверие, мы остерегались панибратствовать. Петр усыпил всех, больших и малых, Гюнтер с Алексеем ассистировали. Вскоре они доложили, что можно знакомиться с результатами, и мы пошли всем экипажем в биологическую лабораторию.
В ней стояли две клетки, одна — большая и прочная — с тиграми, другая — маленькая, с тонкими прутьями — для зверушек. Картина поведения разительно отличалась от той, что мы видели все эти дни. Тигры бросались на прутья, свирепый рык сотрясал воздух, зверушки жались кучкой в дальний угол клетки. Иван подошел к большой клетке и отпрянул, тигр, еще недавно благожелательно допускавший себя седлать, проворно просунул сквозь решетку лапу, едва не прихватил Ивана когтями и так заревел от разочарования, что заныло в ушах.
— Отличная работа! — воскликнул сияющий Иван. Вчера он ликовал от добродушия хищников, сегодня восхищался их злобой. — Огромные успехи сделала инженерная генетика! Как по-вашему, други?
По плану эксперимента оперированных животных выпускали на волю, но полной свободы не предоставляли: Гюнтер и Петр в авиетках следовали за тиграми и, давая им нападать на безмятежно прогуливающиеся жертвы, в последний момент должны были предотвращать тормозными полями расправу. Что до зверушек с внедренными способностями страха, то они должны были продемонстрировать собратьям спасительность боязни. Но эксперимент пошел по-иному. Мы и отдаленно не догадывались, что за странное местечко эта райская планета Кремона-4.
Первыми выпустили мирных зверушек. Они боязливо потоптались, потом кучкой осторожно направились к лесу. Оттуда вышел великолепный тигрина с когортой своих потенциальных жертв, весело семенивших по его бокам. Наши зверьки на мгновение оцепенели, затем с визгом кинулись врассыпную. Лесные выходцы с удивлением смотрели на перепуганных земляков, впервые мы разглядели на их мордах это столь редкое здесь чувство — удивление. А с беглецами сотворилось нечто непредвиденное: их вдруг побросало вверх, завертело, швырнуло оземь, визг затих, и через две-три минуты все движенья замерли. Гюнтер и Петр, посадив авиетки, подбежали к зверькам. Я с Еленой и Хаяси тоже заторопились поближе. Перед нами лежали трупы, зверьки быстро холодели.
— Ничего не понимаю, Арн! — выдавил трясущимися губами Петр. — Эксперимент был чистый.
— Я, кажется, догадываюсь! — медленно проговорил Гюнтер.
— Ну и дьявольский характер у этой райской планетки. Но надо проверить. Разреши выводить тигров, Арн.
С играми расправа неведомых сил была еще более быстрой и жестокой. Они бешено вынеслись из клетки, свирепо зарыкали, их в ту же секунду кинуло оземь, железная судорога ломала гибкие, красивые тела, душила, выворачивала спины.
В минуту все было кончено.
Я молча глядел на бездыханных красавцев. Ко мне подошел Гюнтер.
— Арн, — сказал он хрипло. В какие-то несколько секунд он страшно переменился — лицо исказилось, глаза зло засверкали.
— Беру свои извинения перед Еленой обратно. Возвращаюсь к старому мнению: рай не по мне, человек грешный. Хочу, чтобы ты это знал! И чтобы ты это знала, Елена!
— Я не уверена, что причина неудачи эксперимента в самой планете, — возразила Елена. — Надо поискать факторы поконкретней. И напомню, что еще недавно ты больше всех восхищался Кремоной.
Я не мог знать в ту минуту, что в коллективе нашем образовалась трещина и что она будет отныне расти. Но тон, каким Гюнтер заговорил с Еленой, рассердил меня. Он еще никогда с такой неприязнью не глядел ни на кого, тем более на нее: Гюнтер был характера нелегкого, но человек воспитанный.
— Златокудрая, — сказал он с холодной любезностью, — строй, пожалуйста, свои логические цепи для собственного душевного утешения. А я не люблю, чтобы меня превращали в дурака. Ни для Кремоны, ни для тебя не делаю исключения.
Я оборвал их спор, возможно, с излишней резкостью: у Елены от грубого отпора навернулись слезы, этого я не мог снести. Гюнтер раздраженно зашагал к авиетке. Я пробормотал, что странно действует на нас планета, райские условия, а нервы у некоторых расходятся.
Когда мы возвращались на «Икар», Хаяси взял меня под руку.
— Арн, держись, пожалуйста, — сказал он. — От тебя во многом зависит наше настроение, а оно ухудшается у всех. Давай обсудим на «Икаре» результаты эксперимента. Он не такой уж неудачный. Кое-какие факты установлены.
Обсуждение мало что дало. Правда, стало очевидным, что Кремона-4 — планета отнюдь не нормального планетного характера. И неразгаданная сфера вокруг нее, превращавшая для наблюдателя извне прекрасное местечко в мертвое тело, и внешнее благолепие, картина всеобщего радушия при отнюдь не благостных жизнеотправлениях, и даже то, что рейсовые механизмы здесь разладились и восстановление идет трудней, чем хотелось бы, — все это и раньше поражало. А сегодня добавилось, что нормальные реакции организма) ярость, помогающая нападать, чтобы пропитаться, страх, способствующий самосохранению, — на планете запретны. Анна поддерживала Гюнтера, запальчиво обвинявшего саму Кремону-4 в расправе с экспериментальными животными. Разве нельзя допустить, что свирепость и страх, доказывал она, вовне выражают себя неведомыми физическими полями и что поля эти несовместимы с опять-таки неизвестными нам физическими полями самой планеты? Разве не при помощи воздействия на излучения синтезированных на Урании биороботов Глейстон менял свойства и возможности своих созданий? Достаточно допустить, что и на Кремоне каким-то неизвестным нам образом происходит подобное тому, что мы видели на Урании, и сегодняшнее событие станет ясным.
— То есть неизвестное объясняется при помощи неведомого, — презрительно бросила Елена. Стычка с Гюнтером сделала и ее раздражительной. И что Анна поддержала Гюнтера, не улучшило настроения Елены. — Не знаю, как тут с астрофизикой, а логика уникальная!
Для меня было ясно одно: если Кремона-4 арена игры неведомых физических сил, то надо силы эти открыть и изучить. И познакомиться с внутренними планетами — может, сферы и там камуфлируют их природу? Разбиваемся на две группы, предложил я. Астрофизик Анна Мейснер, биолог Елена Витковская, астроинженер Алексей Кастор, астроботаник и медик Иван Комнин, штурман Фома Михайловский продолжают на «Икаре» изучение Кремоны-4. Остальные четверо, разведочная группа астроинженера Гюнтера Менотти вместе со мной, на «Гермесе» уходят на соседние планеты. Сегодня, оглядываясь, я вижу, что допустил просчет. Что-то нехорошее появилось среди экипажа, я почувствовал перемену, но игнорировал ее: общая работа заставит забыть о неудачах, думал я тогда, и ограничился тем, что поставил каждому деловое задание.
Так началось наше путешествие на Кремону-5 и дальше, к звезде. Нет, я не буду описывать вам ту экспедицию, гораздо полней о ней можно узнать из наших отчетов. Но о чувствах, которые тогда нас одолевали, хочу поведать. Кремона-5 повторяла Кремону-4, но как бы на ранней стадии. Таинственная сфера тоже окружала ее — и под ней планета тоже являлась иной, чем виделась издали. «Как бы под защитным колпаком, предохраняющим от любопытных взглядов и нежелательных посещений», — твердил все злее Гюнтер, уверовавший, что и сфера эта, как и все остальное, вызывающее недоумение, — искусственное изделие, а не стихийная игра природы. Благодатные условия жизни не только не уступали условиям на Кремоне-4, но и превосходили их: звезда светила здесь ярче, растительность была пышней, а вода походила на питательный бульон. «Суп густой консистенции», — оценил Петр одно из морей. Но питаться было некому. Еду приготовили, подали на стол, но не пригласили поглощающих ртов. Микроорганизмы, небольшая табличка простейших — вот и все, что нашел Петр. Кремона-5 только начинала свою биологическую историю.
Зато усыпальницей для пришельцев она успела стать. Кремона-5 была мастерской и стартовой площадкой космических кораблей. Еще вернее было бы назвать ее массовым кладбищем. Трудно передать чувство, с каким мы осматривали сотни звездопарусных судов, они встречались во множестве мест — где недостроенные, где разбитые, но ни одного годного к вылету. Те, что могли лететь, улетели; поврежденные возвращались обратно, если не погибали после вылета, — такова была наша оценка. Первые найденные корабли возбудили ликование, мы радовались, что нашли новую техническую цивилизацию, круг друзей человечества теперь расширится. Но радость гасла, превращалась в смятение, смятение становилось печалью — найденной высокой цивилизации больше не существовало, она была в далеком прошлом. Конечно, мы находили кремонцев — и немало, — но скелеты, а не тела.
Мы полетели дальше, на ближние четыре планеты Кремоны — четыре сожженных беспощадной звездой каменистых шара, лишенных даже намека на жизнь. И снова здесь мы находили остатки кораблей кремонцев, поплавленные, раздавленные, сами ли опустившиеся в пекло или затянутые им — неведомо.
На «Икаре» мы обсудили результаты поиска. Докладывали Гюнтер и Хаяси — одни факты, никаких заключений. Гюнтер старался быть сдержанным, а у Мишеля сдержанность в натуре — когда он вдруг не ударяется в любимую, все обобщающую философию: удивительно в нем совмещается приверженность фактам с безудержными абстракциями. Я не поклонник тощей фактологии, не сторонник и длинных логических вывязываний — любимого занятия Елены. У меня сложилось определенное мнение, и я его высказал. На Кремоне-4, в прекрасных условиях жизни, когда-то развилась цивилизация кремонцев. Им захотелось превратить благоденствие в блаженство — и они для защиты от внешней опасности создали таинственную камуфляжную сферу, отменили страдания и муки. Правда, преодолеть естественный круговорот жизни было выше их сил, и на Кремоне-4 одни организмы служат пищей другим, зато процесс этот происходит без боли, отчаяния, страха, ярости. Выражаясь по-старому, кремонцам удалась революция чувств, они упразднили все отрицательные эмоции. И если лев пожирает ягненка, то делает это благодушно, в вольное от пищеприятия время тот же лев мирно покоится рядом с ягненком. А ягненок, теряя жизнь, не теряет ощущения блаженства. По завершении райского распорядка на родной планете, кремонцы вздумали освоить и другие планеты своего звездного мирка. Их погнал наружу бес экспансии. Начинается эра звездного кораблестроения. Но они не стали выдающимися космическими инженерами. Их корабли примитивны, на протяжении тысячелетий все снова воспроизводится одна и та же модель — огромные парусовидные приемники лучистой энергии Кремоны, которые затем, вдали от генерирующей энергию звезды, могут стать источником двигательной силы. Иначе говоря, звездолет кремонцев должен подлететь поближе к звезде, нахвататься ее жара и лишь потом пуститься в межзвездное плавание. План не удался. Катастрофы стали правилом. То пережигали приемники, то перенапрягали накопители — и те взрывались: сказывались и недоработки отдельных узлов и деталей. Звездоплаватели падали на ближние планеты или носились вечными мертвецами в космосе, вроде того корабля, что нам встретился. Можно, однако, думать, что часть кремонцев ушла; вероятно, когда-нибудь откроют их следы в других местах. Погибнуть весь народ не мог. Значит, эвакуировались, покинули свою благополучную обитель. Возможно, в конце концов изобрели и более удачные звездолеты, способные на далекие походы.
У нас на «Икаре» была традиция: дискуссии исчерпываются выяснением мнений. Никакой запальчивости, никакого навязывания своих взглядов. Расхождение оценок — да, препирательства — нет. Мы достаточно уважали друг друга, чтобы не доказывать, что оппонент чего-то не понял, не усвоил, не постиг, не проник, — в общем, разбирается плохо.
Но новый дух, возникший на Кремоне-4, стал все явственней показывать себя. Мои отнюдь не излишне смелые аргументы вызвали раздражение. Елена еще сдерживалась, Анна опустила голову, чтобы я по глазам не понял, как глубоко она не согласна, Иван нервничал, и, если бы первым не взорвался Гюнтер, в дискуссию ринулся бы он.
— Нет! — закричал Гюнтер. — Ты чудовищно далек от истины, Арн. Нельзя всех мерить по себе. Ты в аналогичной ситуации поступил бы так-то, стало быть, и кремонцы действовали так — вот твоя аргументация. Ты не понял главного. Кремонцы — самоубийцы! Их гнал не бес экспансии, но дьявол отчаяния. Они сознательно устремились к гибели.
— Самоубийцы? — переспросил я, порядком удивленный.
Он запальчиво повторил — да, самоубийцы. Безмерное благолепие довело их до тошноты. Они возненавидели свою благоустроенность, свое вечное довольство, свой чудовищно завершенный быт, где не оставалось чего-либо желать. Но они сохранили разум, а разум беспокоен, разум ищет, разум восстал против тупого благоденствия. Сам разум создавал его, это райское блаженство, и пока рая не было, было стремление достичь его. Но на вершине осталось безделье: полная удовлетворенность, отмена всего, что могло тревожить или вызывать желание. Пути вперед уже не было. Но и назад не стало!
— Ты хочешь сказать, что кремонцы не могли возвратиться в прежнее бытие?
— Да, Арн, именно это! Их трагедия в том, что благолепие на Кремоне осуществляется ныне автоматически. Они основательно поработали, чтобы достичь счастья, ставшего горем. Разве гибель экспериментальных животных произошла от злого умысла мыслящих жителей? Нет! Они погибли, ибо какие-то поля, генерируемые страхом и свирепостью, враждебны созданному здесь могучему полю святости. Планета существует самостоятельно, самодовлеюще — так бы это назвал ученый старой школы. Она активно противодействует всему, что есть не она. В ней могучий потенциал самосохранения. И кремонцы, попав в эту западню, изнемогли в борьбе с созданным ими чудовищем вечного довольства и вечной ясности. Древний поэт презрительно сказал: «Кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп». Они не были глупы и поняли, что судьба их — стать блаженными идиотами. Было от чего впасть в отчаяние! Вдумайся и в то, Арн, что даже покончить с собой на Кремоне-4 невозможно, при этом ведь надо испытать отрицательные эмоции, а все отрицательное ликвидировано. И, говоря об отчаянии, о горе, я подразумеваю мысли, а не чувства. Преодолеть печальные суждения, интеллектуальную грусть не хватит всей мощи райских энергетических полей Кремоны-4. Кремонцы интеллектуально изнемогли, интеллектуально впали в отчаяние, интеллектуально, а не эмоционально возненавидели свою жизнь. Это предохранило их от идиотизма, но привело к гибели. Они всем народом пошли на самоуничтожение. Вот почему они не стремились к техническому совершенству своих кораблей, они, уверен, могли создать и такие, но зачем? И парусный космический рыдван способен стать катапультой, бросающей из вечного довольства в вечное небытие, а большего и не требовалось.
Очень бы я погрешил, если бы не упомянул, с каким мрачным вдохновением Гюнтер излагал свою теорию. Его лицо горело, глаза пылали, он уже практически применял знания, добытые при разработке взглядомера, только мы об этом не догадывались — и два хмурых света, бившие из его глаз, действовали прямо-таки жутко. Один Хаяси выглядел спокойным, и я попросил Хаяси высказаться.
— Я согласен и не согласен с обоими, — сказал он мягко. — И хоть не люблю выходить из области фактов, сейчас позволю это себе, ибо Арн и Гюнтер сдобрили добытую информацию жгучим перцем своих фантазий, а это неубедительно. Мне не нравится теория экспансии Арна и теория самоубийства Гюнтера, все остальное правильно.
— Получается, Мишель: плюс отвергается, а минус не принимается. Что остается? Нуль! Вот и вся информация, — сострил Иван.
— Остается живой разум, восставший против препарирования эмоций! — невозмутимо отпарировал Хаяси. — По-моему, кремонцы — общество, впавшее в тоску. Они возжаждали перемен, но убедились, что на планете ничего не изменить, — тут я присоединяюсь к Гюнтеру. Верно, что они лихорадочно рвались наружу. Но не погибнуть — обрести новое бытие! И не усовершенствовали свои корабли не потому, что не хотели, просто не сумели — возможно, не понимали, что они примитивны: зловещая благоустроенность Кремоны ослабила и самокритичность разума. Вероятней всего, большинство их погибло еще в границах своей звездной системы, но не удивлюсь, если какая-то часть вырвалась в иные звездные районы. Решение даст только опыт.
Гюнтер все время порывался перебить Хаяси и, когда тот, наконец, закончил свою мысль, снова взорвался.
— Хорошо, опыт! Но разве опыт не говорит, что не только кремонцам, но и людям здесь грозит опасность? Пока не изучен механизм охраны планеты, мы сами можем стать ее жертвой! Адское местечко! Предки говорили, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Я добавлю: а облик ада порою райски приятен. Если это рай, то рай для дьяволов. А мы хоть и грешники, но не черти, а люди.
— Чего ты хочешь, Гюнтер? — спросил я. — И пожалуйста, без богословских терминов! Твой инженерный язык мне нравится больше.
— Хочу побороться с планетой! Для начала поставить ей несколько каверзных вопросов и послушать ее ответы. Вот тебе инженерный ответ.
— Вряд ли удастся. Я послал ротонограмму на Латону с докладом об осмотре внутренних планет и надеюсь, что Марек, удовлетворенный, разрешит нам вернуться на базу. Мы поисковики, а не штатные исследователи. Пусть другие экспедиции займутся Кремоной. Конечно, — добавил я, чтобы не выводить из себя Гюнтера, — я бы разрешил тебе поспрошать планету, если бы мы скоро не возвращались на базу.
Ночью дежурил Хаяси. Все шло нормально. Хаяси сказал после рапорта об отсутствии происшествий:
— Арн, не уверен, что анализ душевного состояния экипажа входит в обязанности дежурного, но хочу обратить твое внимание, что Гюнтер правдиво уловил тревожную новость: планета плохо действует на нас. Она незримо ломает нас в свою сторону, а наша психика сопротивляется. Предвижу взрывы. Все возбуждены, все чего-то ждут.
— Все ждут возвращения, и только его я предвижу, Мишель. Не сочти меня легкомысленным. Подавление живых чувств угнетает не одного Гюнтера. Но до разлада не дойдет, мы раньше вырвемся из дурманящих полей планеты.
Я ошибся: Марек не высказал удовлетворения. Уже давно не открывали новых физических процессов в космосе, наш доклад, что и охранная сфера Кремоны, и запрет на отрицательные эмоции — действие неведомых физических полей, породил на Латоне волнение. Нас просили хоть приблизительно установить, что это за поля.
К этому времени Фома завершил наладку приборов. Распоряжение Марека путало мои планы. Я был в недоумении. Одно — установить в наличии неизвестные поля, совсем другое — превратить их в известные. Анализаторы расшифровки не дали, надо было придумывать эксперименты. Я попросил представить проекты. Каждый откликнулся тем, к чему больше лежала душа. Анна, не мудря, предложила увеличить спектр восприятия анализаторов — обычная ее работа: добрая доля установленной на «Икаре» приемной аппаратуры еще на Земле проходила через ее руки. Улучшение анализаторов, конечно, было полезно. Анна просила вызвать резкие всплески полей планеты, они пока тоже как бы за охранным щитом: побудить ее к активным действиям — именно это Гюнтер называл «ставить каверзные вопросы». Петр хотел вновь выпустить наружу зверушек с внедренным в сознание сопротивлением уничтожению и определить, чем неведомые силы попытаются подавить это сопротивление. Гюнтер обещал подарить планете не зверушек, а зверей — и таких, что ей будут не по зубам. Алексей брался подготавливать аппаратуру. Елена, Иван и Мишель вызвались в помощники к экспериментаторам. Нас охватило возбуждение, хорошее возбуждение. Никто, кроме Гюнтера, не собирался побороться со странной планетой как с живым существом, но все жаждали бросить вызов ее загадочным охранным силам.
Я пришел в лабораторию Гюнтера. Ему помогали Алексей и Иван. Все трое возились с громоздким аппаратом. Мне он показался обыкновенным стереопроектором.
— Проектор, но необыкновенный, — нетерпеливо сказал Гюнтер. Увлекаясь, он сердился, если его отвлекали. — Арн, капитан корабля имеет право знать, чем занимаются сотрудники, но у тебя слишком крупный нос, таким носом неудобно лезть во все детали. Ты понял намек?
Намек был слишком груб, чтобы не понять. Иван с воодушевлением проорал, когда я уходил:
— Арн! Гарантируем потрясающее зрелище! Кремона содрогнется!
К сожалению, он оказался более прав, чем сам мог подозревать. Петр внедрил в дюжину зайчат выведенное им чувство страха: в данном случае фраза «выведенное чувство» — самый точный термин. Петру помогали Елена и Анна — первая определяла психическое и физиологическое состояние зверушек, вторая старалась сверхчувствительными детекторами установить, какое излучение генерируют у зверьков их эмоции. Анне тоже послужили на пользу навыки и приемы, приобретенные на БКС уже после того, как я убрал Глейстона с директорства. Больше месяца мы провели на Урании, и это время не было потеряно.
— Подопытные животные разбиты на две группы, — порадовал меня Петр. — У одних страх нарастает постепенно, у других — взрывом. Ожидаем, что и реакция планеты тоже выразится не одинаково, а это облегчит идентификацию ее ответов.
Анна вскоре доведалась, что, впадая в страх, животные генерируют особые электромагнитные волны со сложным кружевом обертонов. Елена не преминула выстроить логическую цепочку:
— Если страх или ярость воспринимаются в отдалении, как электромагнитные импульсы, то и подавляются они противоимпульсами той же природы, но с противоположными обертонами. Это существенно сужает круг поисков.
Я не удержался от ехидства:
— Да, конечно, если бы противодействие исчерпывалось только подавлением страха или гнева. Но пока зверьков на планете просто уничтожают, а это уже не противообертоны.
Новые настроения, появившиеся на Кремоне, у Елены выражаются своеобразно: она потеряла прежнюю самоуверенность. Еще недавно она стала бы отстаивать свою идею, сейчас, смутившись, промолчала. Вероятно, это происходило оттого, что рай, о котором она мечтала, порождал отнюдь не райское блаженство.
День решающего эксперимента стал днем торжества и горя. Петр выбрал полигон — маленькую цветущую долинку, с трех сторон обнесенную холмами. Единственный выход вел к озеру. Подопытным зверькам некуда было бежать, они могли лишь метаться между озером и холмами. К холму приткнули испытательную камеру — нечто вроде древнего стального танка с откидной боковой дверкой, — она оставляла экспериментаторам свободу действий впереди, а сверху, снизу и с боков надежно экранировала от посторонних полей.
Здесь я должен сделать важные пояснения.
В отличие от Петра, снова выпустившего на волю животных, подвергнутых генооперации, Гюнтер придумал страшные стереообразы. Он так расписал их преимущества, что ни у кого не явилось возражений. Снова задним числом признаю: мы все недооценивали Кремону-4.
— При помощи своего аппарата я могу создать любой облик любой степени привлекательности и ужаса, — говорил Гюнтер, когда утверждался план эксперимента. — Что у Глейстона изготовлялось в телесном воплощении, то гораздо разнообразней и быстрей можно сотворить в оптическом исполнении. Изображение, кажущееся реальностью, — вот что такое мои оптические чудища. Анна определила обертоны страха, смятения, ярости, ненависти, свирепости, жадности и другие. Все такого рода излучения в любом усилении будут сопровождать мои фигуры. И эти излучения из индикаторных могут стать боевыми, я направлю их против любых полей планеты, пусть только Анна даст своевременно их характеристику, чтобы знать, чему противоборствовать. Вообще можно обойтись и без жалких телесных зверьков Петра, но, раз он поработал с ними, пусть выводит на расправу. И еще одно: управление проектором кнопочное, но могу и глазами. Я наконец создал устройство, воспринимающее энергию взгляда: подключаю аккумуляторы на себя и перевожу их мощность в интенсивность взгляда. Посмотрите, как это делается.
Алексей, ассистировавший Гюнтеру, выключил лампы. В темноте из глаз Гюнтера полился свет, и все, что было впереди, отчетливо выступило из мрака. Несколько раз, то погашая взгляд до мерцания, то накаляя до белого жара, он погружал во тьму и заливал сиянием салон. Зрелище было незаурядное! Иван бил в ладоши. Гюнтер торжествующе закончил:
— Как видите, мне удалось овладеть тайной восьмируких астронавтов, управляющих своими аппаратами силой взгляда. Думаю, на Земле оценят это открытие. Сомневаюсь, впрочем, чтобы оно вошло в широкое употребление. Нельзя же, чтобы люди дуэлировали глазами, исподтишка или открыто ослепляли один другого. Какими тогда взглядами обменивались бы соперники и каким сиянием озаряли своих возлюбленных!
Почти все смеялись шуткам Гюнтера — и напрасно. Что до меня, то я был восхищен и обеспокоен. Гюнтер Менотти, конечно, был инженерный гений, теперь это признано. Его разработки поражают и сегодня. Я сразу понял их величие. Но мне не понравился тон Гюнтера. Скромностью он и раньше не болел, но и надменностью не оскорблял. В тот вечер в салоне он держался надменно. В нем появилось какое-то тревожное сходство с Глейстоном. Взгляд, какой он метнул при усилении на Петра, заставил того невольно пригнуться. Поймите меня правильно, я уже говорил, что, переступив порог «Икара», оба они, Петр и Гюнтер, дали обещание забыть о соперничестве и о своем особом отношении к Анне и двенадцать лет честно держались слова. Но на Кремоне‑4 все стало разлаживаться, взрыв, какой предугадывал Хаяси, назревал. Во время монтажа аппаратуры в долинке я отвел Гюнтера в сторону.
— Ты готовишься к эксперименту, как к сражению. Пожалуйста, не увлекайся. Наше дело изучать, а не ликвидировать то, что кажется недостатком. Прошу руководствоваться этим.
Он зло поглядел. Я порадовался, что Гюнтер не подключил к себе аккумулятор, питающий энергией взгляд. И не мог допустить, чтобы так на меня глядели, и тем более чтобы не выполняли моих распоряжений. Он понял, что я готов рассердиться. Ссоры он не пожелал.
— Арн, ты забудешь о своей осторожности, увидев, как разворачивается эксперимент! И надеюсь, это произойдет еще до того, как на лужайку вырвется мой Бафамет. Уверен, что ты тогда отдашь другие приказы.
Бафаметом он назвал самое страшное из своих стереосозданий. Придумал Бафамета мастер на фантазии Иван, Гюнтеру оставалось лишь превратить в нечто почти реальное поэтическое чудовище Ивана — сделано это было мастерски.
На площадке распоряжался Петр, ассистировал Алексей. Гюнтер с Иваном сидели поблизости от испытательной камеры, в кабине проектора, похожего на исполинского краба. Остальные, и я с ними, разместились в танкообразной камере. Фома наблюдал за нами на корабельном экране.
На лужайку выбежал зверек, осмотрелся, навострил уши, стал весело прыгать. Петр сделал знак Гюнтеру, тот набрал цифру на пульте, на лужайке внезапно, из небытия, возникли три дога — вы их видели в моем саду, не правда ли страшилы? — и бросились на зайца. У этого подопытного экземпляра страх нарастал постепенно, он сперва присел, потом отпрянул, потом кинулся наутек, но выхода наружу не было, он заметался по долинке. Судорога стала бить его о грунт. Не прошло и минуты, как дух из него вышибло.
Петр и Гюнтер со своими ассистентами приблизились к камере. Анна показала запись возмущений, уловленных в пространстве. Предположения наши оправдались частично — были и противообертоны, нейтрализовавшие кривые страха, но вместе с ними и линии иных полей — они-то и были губительны. Их расшифровку тут же уверенно дала Елена.
— В зверьке возбужден внутримолекулярный резонанс. В нем разорвали связи, скрепляющие определенные атомы в молекулах. Для любой биологической структуры такие резонансные колебания — гибель.
— Тем же резонансом пытались расправиться и с моими псами! — Гюнтер злорадно ухмыльнулся. — Но автоматика благолепия не сработала: у стереофигур нет внутримолекулярных связей. Дай-ка ленту, Анна. Я настрою Бафамета на противорезонансные поля.
Петр выводил одного зверька за другим. Записи умножались, становились доказательней. Теперь мы знали, как загадочная автоматика планеты расправляется с нежеланными эмоциями. В общем, это был тот же физический принцип, какой применяли Глейстон с Мугоро на БКС. Но там это делалось для совершенствования умений организма, а здесь для беспощадной расправы с организмами.
Планета казалось чудовищно, невообразимо усиленной глейстоновской лабораторией, но запрограммированной на зло: ради сохранения внешнего благолепия она жестоко истребляла все, что не совпадало с благолепием хоть малость.
— Выводи Бафамета, Гюнтер, — предложил Петр. — Попытаемся с его помощью защитить следующего зверька.
На лужайке обрисовалось чудовище. Что оно собой представляло? Не знаю, как и описать! И на БКС таких страшилищ не придумывали. Многоногое, многорогое, ушастое, клыкастое, гривастое, сверкающее, пылающее, пылящее, дымящее, к тому же исполинское, в общем, ужасающее. Древние жутковатые химеры показались бы рядом с ним невинными куколками. Выпущенный на лужайку зверек — он был из числа «взрывных», а не «постепенных» — взвился, завизжал, пытался удрать, его тут же поразила судорога, он упал. Над ним наклонился гигантской пастью Бафамет, теперь эта стереобестия стала защитницей, а не губителем — резонансные излучения нейтрализовались, этого не было видно, зато мы видели, как зверек продолжает, визжа, ползти по земле: губительная судорога уже не терзала его. На планете, автоматически пресекавшей все сильные чувства, теперь вольно бушевали две неподавленные эмоции — устрашение и страх.
— Отлично, Гюнтер! — радостно крикнул Петр. — Планете с Бафаметом не расправиться.
Все остальное совершилось в считанные секунды. С холмов стали валиться камни. Один ударил Петра. Не знаю, как такой опытный астроразведчик мог выйти в незакрепленном на все застежки скафандре. Единственное объяснение — дурманящее благоденствие Кремоны-4, непроизвольно приучившее, что ничего опасного здесь не совершится. И мы увидели, что с Петра слетел шлем, и что сам Петр валится на землю, и что его бьет судорога. Из камеры криком выскочила Анна, упала на Петра, и ее тоже мигом скрутило. Но все вдруг разом успокоилось, и страшное наше ошеломление разорвал резкий крик Гюнтера:
— Минуту я их прикрою! Скорей тащите в укрытие!
Мы все бросились из камеры к товарищам. Мы с Иваном подняли бледную, с закрытыми глазами, едва дышащую Анну. Хаяси и Алексей понесли бесчувственного Петра. Елена помогла уложить в камере обоих. Иван приставил к груди Петра активатор. Петр стал дышать, но слабо. Иван перенес активатор на грудь Анны, быстро сказал:
— Арн, надо немедленно перенести обоих на «Икар»!
Я выскочил наружу. Гюнтер в бешенстве крутил какие-то рычаги. Я подбежал к нему.
— Что ты делаешь? Надо нести пострадавших на корабль.
Он взглянул на меня с такой яростью, словно я был виноват в несчастье. Я схватил его за руку. Он с силой вырвался. Он хрипел, с губ срывалась пена:
— Хватит, Арн! Простить чертовке Анну и Петра? Сейчас я ей покажу!
В тот момент вряд ли я полностью понимал, что он делает, но чувствовал, что надо немедленно его остановить. Я вновь ухватил его со всей силой, на какую был способен. Гюнтер так толкнул меня, что я отлетел метра на три и упал. И, лежа на земле, я разглядел, что Гюнтер лихорадочно набирает какую-то комбинацию цифр, затем рвет рычаги, нажимает на кнопки. Теперь я понимаю, что в неистовстве он возбудил противополе всем зафиксированным Анной излучениям планеты и сфокусировал его в Бафамете. Вероятно, ему вообразилось, что таким кинжальным противополем он пронзит всю Кремону-4 или оглушит ее, как дубиной. Боюсь, он и вправду уверовал, что перед ним не гигантский автомат, а что-то вроде злого, очень властного, очень опасного, очень неумного самодура, которого надо проучить. Теперь мы знаем, что его атака для планеты значила не больше, чем укус комара для носорога. В ту минуту было не до отвлеченных рассуждений. Я вскочил и… на меня обрушился мир.
С миром, естественно, ничего не случилось, просто судорога свела всю долину, почва заходила ходуном, холмы зашатались. И холм, у подножия которого мы приткнули защитную камеру, массой земли и камней рухнул вниз. Я снова упал, пытался подняться и не сумел — рухнувшая глыба раздробила мне ноги. Я успел еще увидеть как заваливает землей камеру, сквозь грохот землетрясения услышал отчаянный крик Ивана и потерял сознание.
Не думаю, чтобы мой обморок продолжался больше минуты. Очнувшись, я увидел, что Гюнтер яростно тащит свой аппарат к завалу. То, что недавно было проектором и генератором полей, превратилось не то в исполинского крота, бешено разбрасывающего грунт, не то в огнемет — из аппарата било пламя, пыль плавилась, превращалась в газ, дымом, раскаленным прахом рассеивалась по долинке. Я попытался на руках доползти до Гюнтера. Он услышал мой стон, на миг повернулся. Никогда не забуду его лица — мертвенно-бледного, отрешенного, ожесточенного. О людях, впавших в неистовство, говорят, что они вне себя, — он впал в неистовство, полностью впав в себя. Вторая моя попытка подтянуть искалеченные ноги на секунду опять обратила его ко мне. Он крикнул:
— Ты жив? Попытайся услышать, что в камере. Слабеют аккумуляторы!
Лежа я отрегулировал свой передатчик на максимальную громкость. Груда земли экранировала друзей, но я услышал тихий голос Хаяси:
— Кто-нибудь нас слышит? Петр плох, Анна тоже, у остальных повреждения не опасные. Не хватает воздуха. Конденсатор завален. Слышите нас? Слышите нас?
Я крикнул Гюнтеру, что конденсатор воздуха — мы всегда берем его, выходя из корабля, — потерян, Анна и Петр в тяжелом состоянии, остальные живы. Он заработал еще яростней. Хаяси услышал меня, я передал, что Гюнтер пробивается к ним, а я не могу двигаться. Он ответил, что с полчаса продержатся, но вряд ли больше. Голос, спокойный, но слабый, прерывался.
Рядом со мной опустилась авиетка, из нее выскочил Фома. Он кинулся ко мне, я оттолкнул его. Гюнтер крикнул, чтобы Фома немедленно доставил ядерные аккумуляторы. Фома секунду колебался. Я махнул рукой:
— Скорей назад! Они задыхаются.
— Вряд ли смогу раньше получаса, — крикнул он, взмывая. Теперь мне оставалось только лежать и вслушиваться. Изредка слабеющий, но такой же спокойный голос Хаяси сообщал, что они еще живы. Облако пыли и дыма, выбрасываемое аппаратом Гюнтера, оседало. Он в отчаянии крикнул:
— Где Фома? Неужели не понимает?..
— Раньше получаса он не управится…
Гюнтер оставил аппарат и обернулся. Он словно с усилием пытался проникнуть в смысл моих слов. И медленно сказал:
— Через полчаса мы будем вытаскивать их трупы. Арн, придется на себе испытать, на что годится мое изобретение.
Аппарат снова заработал, сперва медленно, потом все сильней. Друзья молчали, я лежал, стараясь не шевелиться, любое движение причиняло боль. Минута бежала за минутой, облако пыли и дыма снова заволокло всю долинку. Внезапно донесся — ликующим всхлипом — шепот Хаяси:
— Воздух! Воздух!
Приподнявшись на руках, я крикнул Гюнтеру, что дыра пробита, воздух поступает. Он убрал пламя, теперь аппарат только выбивал, а не выплавлял землю. Прошло еще несколько минут, и аппарат замолк. Я окликнул Гюнтера, он молчал. Я вызвал Хаяси, теперь его голос доносился явственно, слышались и другие голоса. Елена плакала, Анна тихо стонала. Я спросил, что с Петром. Петр лежал без сознания. Иван крикнул:
— Арн, почему перестали раскапывать?
Узнав, что Фома на «Икаре», а Гюнтер не отвечает на оклики, они замолчали. Молчание тянулось минут десять, все эти минуты я приподнимал голову и окликал Гюнтера. Теперь, когда пыль улеглась, я хорошо видел его. Он скрючился на сиденье, не шевелился. На площадку опустилась авиетка, Фома вытащил компактные ядерные аккумуляторы и пневмобуры.
— Посмотри, что с Гюнтером, — сказал я. — Аккумуляторы уже не понадобятся, а с бурами тебе работать одному.
Фома подошел к аппарату и возвратился подавленный.
— Мертв? — спросил я.
Фома кивнул. Я вновь потерял сознание.
Когда я очнулся, вокруг были все друзья — спасенные и погибшие. Петр и Гюнтер лежали рядышком, они единственные выглядели как в жизни. На остальных было страшно смотреть. Хаяси говорил, что повреждения неопасные, но, когда я увидел лицо Ивана, превращенное в сплошной синяк, покрытого ранами Хаяси, хромающую, исцарапанную Елену, Алексея, выплевывающего кровь растерзанными губами, мне чуть снова не стало дурно.
Фома хотел меня первым переносить на «Икар», я напомнил, что капитан при опасности последним покидает корабль, а если тот становится убежищем, последним возвращается на него. В авиетку погрузили Петра и Гюнтера. Анну, поддерживая с двух сторон, подвели к Гюнтеру, она со слезами поцеловала его. Ее и меня увезли на другой авиетке.
На «Икаре» Иван осмотрел меня и пообещал, что через месяц я встану на ноги, а через полгода буду ходить. Я спросил об Анне, он заплакал.
— Не спасу! Она перестала цепляться за жизнь. Это ослабляет лечение. Проклятая планета подорвала наши духовные силы!
Вечером в мою каюту пришел Хаяси. Я смотрел на него, он на меня. Вид у обоих был ужасный.
— Ты знаешь, Арн, что сделал Гюнтер?
— Догадываюсь. Переключил на себя аппарат, когда исчерпались аккумуляторы?
— Да, Арн. Какое зловещее изобретение — превратить глаза в генераторы энергии! Спасая нас, Гюнтер беспощадно расправился с собой. За пятнадцать минут он похудел на восемнадцать килограммов — такой был отток энергии из тела!..
Что еще сказать вам, юноша? На Кремоне-4 мы больше не могли оставаться и часа. Говорят, на ней теперь работают с десяток специализированных экспедиций и открывают массу интересного. Что до расследования наших действий, то результаты их вы знаете. Много важных выводов, несколько существенных поправок в кодексе астронавигаторов и астроразведчиков. Все это теперь проходит мимо меня. Месяц назад сообщили, что умер Хаяси, я единственный из экипажа «Икара» еще живу. И не думаю о прошлом: лишь стереопсы Гюнтера Менотти напоминают о дальних звездных краях…
— Я слышал, аппарат Менотти сдан в Музей Космоса.
— Я попросил сделать его копию без узла, творящего Бафамета. Слишком уж страшен… Ну что же, я вам не надоел длинным рассказом? Ночь закончилась, повесть моя тоже.
— Сейчас уйду. Но… Простите, Арн. Может, все-таки посмотрите наш проект? Ваша оценка столь важна…
Он долго глядел куда-то в угол, чему-то грустно улыбался, потом резко взмахнул длинными волосами, ставшими из седых желтыми.
— Нет, юноша. Не расстраивайтесь, есть и без меня толковые эксперты. У меня был совершенный корабль поверьте, лучшего я не желал. Но не все исчерпывается чудесами техники. Боюсь, до вас это не доходит. Единственное скажу на прощание — от души желаю успеха.



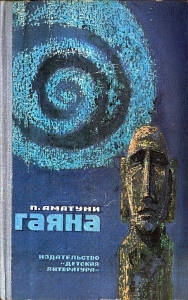
Комментарии к книге «Экспедиция в иномир», Сергей Снегов
Всего 0 комментариев