Даниил СМУШКОВИЧ
ИСЦЕЛЕНИЕ ОГНЕМ
По ночной дороге бродят
неприкаянные звуки
Ближний говор, дальний шепот,
поступь мерная коня,
Потом, пылью и полынью
пахнут ласковые руки,
Постепенно происходит
исцеление огня.
Э.Раткевич
Дверь захлопнулась, отсекая шорох ветра в грудах сухой листвы у дороги, зловещий шепоток отчаяния и сомнения, Засов, замок, цепочка именно в этом порядке замыкаются они ритуалом защиты. Вайн прислонился спиной к прохладной стене, блаженствуя в полумраке прихожей. Это мой дом, мой замок и лен. Они не войдут сюда.
Он внимательно, настороженно осматривал - скамеечку, ящик для обуви, зеркало с полочкой, те вещи, что служили дому охраной. Все на месте, как было утром. Ящик, о который споткнется непрошенный гость, тапочки, которые он оттолкнет с дороги или раздавил тяжелым башмаком - смотря по настроению. Но тревожных признаков нет. Можно снять портупею, нацепив на древнюю, как церковь, вешалку, и немного расслабиться.
Комната встретила Вайна молчанием. Так и должно быть, умница девочка. Все вещи на своих местах; на столе, тумбах, шкафах - налет ржавой пыли, будто в не своем доме, где жить - живут, но заботиться о нем никто не станет, ищи дурака! Только... горят в нише буфета две свечи, тонкие, съеденные огнем уже до половины. Синеватый дымок тает в воздухе, наполняя гостиную тяжелой лаской благовоний. Сколько раз он повторял ей, чтобы она оставила этот кощунственный обычай, и все равно каждый раз, приходя домой, обнаруживал на буфете две свечи - за себя и за нее.
Шуршал ветер позади затворенных ставен, перешептывался сам с собой, так что Вайн не сразу заметил слабый звук из спальни. А потом распахнулась дверь, радость захлестнула его, стройное тело прижалось к груди. Палая листва волос, небеса глаз - Харраэ, грех мой, любовь моя...
Имперские войска вступили в город поздним утром. Весь предыдущий день, и ночь, и еще три дня до этого за горизонтом ворочался страшный зверь - канонада; поспешно откатывались назад, на север, части конфедератов, их волны одна за другой сочились сквозь город, оставляя в сите улиц брошенный металлолом. Последняя бронеколонна прокатила по главной улице уже за полночь, в кровавом свете малого солнца, и наступила тишина. Как после убийственной засухи, когда дохлую саранчу - и ту сдуло ветром. В молчании поднялось в небеса дневное светило. А за час до полудня с рокотом и лязгом вкатились в Тернаин-дорэ-ридер первые имперские танки. Они шли не останавливаясь, не сворачивая, по главному тракту, с закрытыми люками и недобро прищуренными смотровыми щелями. Вайн наблюдал за их неуклонным, обманчиво медленным ходом со ступеней церкви, негромко повторяя вслух: "Почто мятутся народы, племена замышляют тщетное? Нет бога, кроме Господа. Восстают цари один на другого, не убоясь гнева Его. Нет веры кроме истинной. Услышь мольбу мою, Всевладыко: Усмири мятежных и вразуми сомневающихся, а иного не надо мне." А танки под лазурными вымпелами все шли и шли через город. Жидкая толпа, собравшаяся на встречу освободителей, вначале размахивала синими флагами, кидала под гусеницы ветви цветущего вааля, возглашая одинокими голосами славу императору, потом утихла, замерла и вскоре расточилась. Опустела площадь, и только танки бесконечной чередой шли главным трактом. А к вечеру за горизонтом вновь заговорили пушки; их голоса глохли, постепенно отдаляясь. Империя, только что заглотившая Тернаин-дорэ-ридер, город тысячи дорог, двигалась на север.
Они сидели за широким, как площадь, столом, прижавшись плечами. Гостиную освещала лишь лампа, отставленная на буфет, и оттого в ней казалось как-то уютно.
Вайн жил ради этих вечеров. Ради них натягивал каждое утро синюю с пурпуром униформу: цеплял на бок дурацкий пистолет, из которого - он знал - все равно не сможет никого застрелить. Ради этих вечеров терпел бессмысленную болтовню товарищей и патрули по пустым улицам, постоянный страх разоблачения, отнимающий силы ужас предательства.
Вот уже год Харраэ жила у него в шкафу. Два или три раза он оказывался на грани разоблачения, когда приятели по службе бесцеремонно заваливали в гости, пытаясь начать, продолжить или достойно завершить очередной кутеж, но все как-то обходилось. Потом ночные вторжения прекратились, но приходилось постоянно опасаться - косого взгляда в незашторенное случайно окно, нежданного гостя, оставленной на виду вещи, любого следа женского присутствия.
А вечерами, поужинав, они садились в гостиной, прижавшись друг к другу плечами. Первые недели они просто радовались покою, не произнося ни слова. Ближе к осени вечера заполнились разговорами, воспоминаниями и печалью о прошлом. Зима застала их в богословских спорах, в которых Харраэ сражалась со всем пылом незнания, а Вайн - с искусством прирожденного теолога. Весна слышала слова их любви. А с приходом лета слова смолкли вовсе, сменившись прикосновениями. Иной раз Харраэ зажигала вечерние свечи, и оба подолгу глядели на огонь - она с благоговением, он с тайным ужасом. Иногда Вайн открывал книги Речений и читал вслух древние строфы. "Любовь моя как вааль: цветы ее непрочны, и срок им отмерен, но корни ее рушат камень и ствол не сломится бурей...".
Харраэ обернулась к нему; голубые ее глаза в сумраке обрели оттенок гемирского флага.
- Что-то гнетет тебя, - произнесла она без намека на вопрос. Придыхающий интерийский акцент придавал ее высокому голосу удивительную мягкость.
- Да, - тяжело ответил он. - Да.
Империя пришла в город куда раньше своих танков. Для Вайна ее владычество началось со смертью старого настоятеля городской церкви. Новый настоятель, присланный из провинциальной столицы, Оногер-те, оказался человеком деятельным и нетерпимым. Сменился тон проповедей. Потом сменилось настроение магистрата. Быстро и бесповоротно живший дотоле единой жизнью город, где не разбирали, кто аргитянин, кто интери, а кто горец-хейнтарит, раскололся натрое. Перемена коснулась всех. Начали появляться синие и пурпурные полосы на дверях иноверческих домов. В лавочке Вайна раскупили весь ультрамарин. Кое-где стали писать на стенах лозунги. Кое-где стали претворять лозунги в жизнь, и всякий раз убийцы оставались ненайденными.
Потом в городе, испокон веков плевавшем на всякую политику, появилось отделение национальной партии, объединившее почти всех вайновых сверстников. Стали поговаривать втихаря, что под гемирской властью жилось бы куда как лучше. Уже не только жители, а и сам город распался на аргитянскую и инородческую части. Границу между ними пересекали без опаски лишь молодчики преподобного Тевия Миахара.
Вайна страшные перемены нового времени поначалу не коснулись. Он по-прежнему держал лавочку москательных товаров - ту самую, что не дала ему поступить в семинарию, и если уменьшился спрос на ароматные свечи, благословленные Костром Жрецов, то повысился сбыт всего синего и пурпурного. Но и он, глядя на осунувшийся город, повторял про себя: "Долго жил я среди ненавидящих мир. Я мирен; но, только заговорю, они - к войне".
И война началась.
- Да, - тяжело ответил он.
Вот уже неделю, полных пять дней предчувствия мучили его. Ничего определенного, никаких явных знаков опасности. Но что-то сгущалось в воздухе.
Заснул он той ночью с трудом. Харраэ уже давно задремала, свернувшись клубочком рядом с ним; лицо девушки мучительно искажалось во сне - кошмары не оставляли ее уже год, с той, огненной ночи. Алые лучи меньшего солнца сочились сквозь щели в ставнях, повисая в душном воздухе спальни окровавленными копьями; касаясь простынь, лучи бросали на них отсветы адского пламени. Постепенно смерклось; наползла с востока туча, заволокла небеса, и только тогда Вайна сморил тяжелый, муторный сон, не снявший ни усталости, ни тревоги.
Матери своей Вайн почти не помнил. Когда мальчику едва исполнилось четыре года, она умерла родами, а с ней и младенец, крошечный Вайнов братик. Так Вайн остался один. Воспитанием его занимался отец, а, вернее, не занимался - после смерти жены старый Ретт ожесточился на весь мир, и даже собственного сына недолюбливал, хотя ненависти к нему, как ко многим близким ранее людям, не испытывал.
Истинным воспитателем молодого Вайна стал преподобный Элл Сайнин, которому часто препоручал мальчика отец - на время отлучек или запоев. Старый священник походил на сухой куст - такой же корявый, бурый, сучковатый; волосы его не столько поседели, сколько пего выцвели и как бы пожухли. Настоящего возраста преподобного не знал никто; некоторые, склонные к суевериям, утверждали всерьез, что он ровесник своей церкви, а той перевалило уже за пять шестидесятилетий.
Именно от старого священника Вайн впитал истовую веру в своего Бога, могучего и грозного, возглашенного пророком Сарагом тридцать поколений назад. Вера потребовала знания Речений пророка, учеников его и последователей - и, пока одногодки Вайна играли в "выбей птичку", мальчик корпел над тяжелыми, хрупкими листами священных книг. Изучал он не только свою религию, но также верования безбожников-горцев и, пуще того, интери-огнепоклонников, почитающих за Вевладыку - Всеврага, которого сам пророк назвал Князем Огней, повелителем адского пламени.
Быть может, Вайн и сумел бы поступить, как мечтал, в духовную семинарию. Но очень не вовремя умер от удара, вызванного запойным пьянством, его отец. Юноше уже исполнилось полтора цикла, без двух лет двадцать, и во владение наследством - домом и лавкой - он вступил без проволочек. А с лавкой... какая там учеба. Да и неприлично бросать отцовское дело.
Двумя годами позже умер преподобный Элл Сайнин. И эта потеря показалась - великий грех - куда большей.
Утро выдалось пасмурное. Серая пелена колыхалась в небе, дразня близким дождем. Сухое аргитянское лето вот-вот должно было завершиться.
Вайн расстегнул ворот рубашки. Обычно он застегивался на все пуговицы, но невыносимая духота заставила его изменить привычке. Приближение грозы давило сердце и душу.
- Эй, Монашек! - это кричит Рром Айерен, старший патрульный. А вот и он сам: рубашка расстегнута до пупа, смоляно-черные волосы растрепаны, автомат болтается на ремне, большие пальцы заткнуты за пояс. Воплощение абсолютного ублюдка.
- Монашек! - сколько Вайн себя помнил, по имени его называл только отец. Старшие почему-то предпочитали обращаться по фамилии, по-своему не менее оскорбительной, чем прозвище, брошенное кем-то из сверстников и с радостью подхваченное - ведь Толлиер на северном диалекте означает "коромысло весов", а перед войной слово это обрело новый смысл соглашатель, почти предатель. Харраэ же звала его Торгар - этим послеименем интери награждали старшего сына в семье.
- Монашек, ты заснул?! - нет, никуда не денешься. Придется с ним разговаривать.
- Нет, задумался, - угрюмо ответил Вайн. Угрюмость эта - напускная, и все же истинная - служила частью маски, одеваемой им изо дня в день. Так охраняем мы души свои - пусть все вокруг ляжет золою, пусть ярится огонь, но сердце мое - мой замок и лен. Они не войдут в него.
- Ты бы еще помолился, - хохотнул Рром.
- А в чем дело? - мрачно осведомился Вайн.
- Тебя требует комиссар, - Рром огляделся, хотя улица была пуста. - С самого утра ищет.
- Да и сейчас вроде не вечер, - с некоторым удивлением ответил Вайн.
- Не в том дело, - Рром зачем-то вновь огляделся и продолжил, понизив голос: - Под тебя вроде копает наш преподобный. Ты и сам хорош, конечно...
Сердце Вайна с садистской медлительностью поднялось к шее, забив намертво гортань: не вздохнуть, не возразить, не оправдаться...
- В общем, дуй к комиссару, друг, - Рром запанибратски хлопнул Вайна по плечу, того внутренне передернуло. - А я домой, баиньки, притомился за ночь...
Он хитро улыбнулся, вытащил из кармана связку из полудюжины дешевеньких серебряных колец на медной булавке, подкинул, поймал, распрощался и ушел. А Вайн так и остался стоять посреди улицы. Со стороны горского гетто донесся выстрел. Еще один, и автоматная очередь. Снова тишина. Немилосердное солнце прожигало дыры в сером пологе облаков, и на город сверху смотрело яростное бело-голубое небо.
Кровавое солнце с усталым равнодушием куталось в черный тюль. Зеленое небо поглощало клочья дыма, они таяли, исчезали. Даже за несколько кварталов Вайна преследовал низкий стон обезумевшего пламени.
Синяя рубашка обжигала не тело - душу. Вайн расстегнул ворот, потом остановился, содрал рубаху через голову, скомкал, да так и пошел с ней в руках, куда ноги несут и глаза глядят.
Недалеко оказался канал - загаженный, мелкий. По совершенно гладкой поверхности воды плыла третья луна, отражаясь в небе. Вайна стошнило рядом с луной, и ему стало немного легче. Немного. Огонь все еще плясал перед его внутренним взором.
Он обернулся. Языки пламени лизали небо, храм горел, как спичка. Интери всегда считали пожары благословением божьим. Но этот огонь выплеснулся из самого ада.
Что-то шевельнулось. Этого не мола быть. Город опустел, как обескровленный труп. Только люди в синем ходят по его улицам этой ночью, и все они - на площади перед капищем. Но нет - кто-то сидит там, в непроглядной тени, следит за ним, блестя глазами...
Ужас оледенил мысли. Вайн судорожно выдернул из кармана пистолет, с полминуты взводил курок, ткнул дулом в тень. "Кто там?", неестественно громко спросил он. Стены отозвались насмешливым хмыканьем.
Нет ответа. Приглядевшись, Вайн различил в тени контуры свернувшейся комком человеческой фигурки. "Вылезай", грубо приказал он. Снова нет ответа. Только едва слышный полустон-полувизг, непрестанный, дрожащий, звериный...
Вайн протянул руку в тень, нащупал, дернул. Звук прервался, сменившись хрипом, но тот, кто сидел там, забившись в щель меж двух сараев, держался крепко. Вайн рванул изо всех сил, что-то оглушительно хрустнуло; сидевший вылетел на свет, царапая ногтями старые доски в попытках удержаться, и Вайн от неожиданности отпустил ее руку. Тонкие черты лица корежил дикий ужас, по плечам рассыпались светлые волосы - знак дьявола.
- Ты кто? - спросил Вайн. В ответ девушка - какое там, девчонка начала визжать. Она не сделала и попытки убежать, спрятаться, просто стояла, издавая горлом жалобный писк. Вайн дрожащей рукой отвесил ей пощечину, и она замолчала.
Но что же с ней делать? Отвести на площадь... нет, нет, немыслимо, будь она хоть демон, хоть саламандра. Бросить тут? Наткнется кто другой, и все равно площадь. Значит - укрыть на время, пока не уймется захлестнувшее Город Тысячи Дорог безумие. Да. Это будет достойно.
Он еще не знал, что безумие не схлынет. Не утихнет огонь на площади.
Комиссариат располагался в здании бывшей магистратуры, на главной площади города. На флагштоке перед входом вяло колыхался ультрамариновый вымпел.
Вайн постоял немного под балконом, использовавшимся для произнесения торжественных речей при большом скоплении народа. Речи произносились довольно часто, всякий раз в ознаменование побед Гемирской Империи на северном фронте, заключавшихся поначалу в наступлении, а последнее время больше в отступлении - стратегическом, конечно. Развиднелось; солнце палило нещадно, плыл воздух на мостовой, хозяйки жарили оладьи на раскаленных карнизах. Вайн намеренно задержался с приходом, боясь предстоящей беседы.
Приемный зал переделали в место отдыха для патрульных довольно давно - вышвырнули и спалили конторки, приволокли трактирные столы и лавки, поставили в дальнем углу стойку, где можно было получить пива и пирожков за счет города. Сейчас почти все соратники Вайна собрались здесь, спасаясь от жуткой послеполуденной жары; те, кто еще мог, весело приветствовали его, остальные дремали, сморенные духотой и пивом.
Вайн отвечал на приветствия вяло. Он знал, как относятся к нему в отряде: как к своему, городскому дурачку. Свои могут и подшутить над ним, и поиздеваться, но стоит кому чужому обидеть - все встанут на защиту. Эта роль тоже принадлежала маске, крепя ее к живому лицу; поначалу крепления эти терли до крови, потом он привык.
Комиссарские хоромы располагались на втором этаже, там, где при конфедерации сидел бургомистр. Старую табличку кто-то остервенело сбил прикладом, едва не проломив хлипкую стенку, новой так и не повесили. Да и что вешать, раз все и так знают, что Рред Ллаин главный человек в городе.
Конечно, комиссар был местным. Гемирцы приезжали в Тернаин-дорэ-ридер лишь трижды, на инспекции; каждый раз оказывались весьма довольны. В остальном же горожане сами собой управляли, сами на себя доносили и сами себя расстреливали. А Рред Ллаин до войны служил письмоводителем при магистрате, и к нынешнему своему посту относился, как к заслуженному повышению.
Вайн постоял немного у двери, сделал три глубоких вдоха, прикрыл глаза и вошел без стука.
- А, Толлиер, - услышал он и поднял веки.
Комиссар сидел на массивном письменном столе, заваленном вещами настолько, что трудно было понять, как умещается на нем широкое седалище хозяина города. Покоились на столешнице и бумаги, витки, гармошки тетрадей, конверты с гербовой печатью, но больше было вещей, особенно серебряных подсвечников интерийской работы; здоровенный канделябр в углу как бы завершал их ряд.
Был комиссар мрачен и неряшлив. Форменную рубашку с вышитым на рукаве цветком пурпурника - эмблемой Аргитянского Добровольческого Корпуса - он, как и все, расстегнул, обнажив живот, буро-розовый и округлый, точно коровье вымя.
- Вот что, Толлиер, - комиссар слез со стола, брюхо торжественно колыхнулось. - Я все понимаю... но дальше так продолжаться не может.
- Что именно? - надежда на лучшее еще теплилась. А зря.
Комиссар навис над Вайном всей своей тушей, брыли его тряслись от негодования.
- Вы думаете, Толлиер, я не знаю, с кем вы в постели кувыркаетесь? негромко, чтобы не подслушали, но с обидой и гневом заявил он. - Знаю! Я терпел месяц, полгода, год... хватит! Когда с вами захочет побеседовать наш преподобный, выкручивайтесь сами.
Воздух комнаты обрел плотность, стал ватой, водой, звоном. Вайн стоял в каком-то оцепенении, слушая комиссара Ллаина.
- А он тебя вызовет, будь спокоен, и никуда ты не денешься. И пришьет тебе измену вере и нации. Так что один у тебя выход - покаяться. А для этого - сам понимаешь...
Вайн понимал.
- Парень, - комиссар смягчился, - я тебе зла не желаю. Но ты палку-то перегнул. Вот и... сдал тебя кто-то. Так что иди. Выполняй свой долг.
"Скажи прямо - "убей ее", подумал Вайн.
- Придешь завтра, к полудню, тут как раз преподобный будет, доложишь и покаешься. Да не будет тебе ничего, не трясись, - покровительственно добавил комиссар, - обломим святошу...
Вайн слепо глянул на него.
- Завтра в полдень, - повторил он и вышел, не прощаясь. В голове его билась одинокая строка: "Постепенно происходит исцеление огня...".
- Господи! - воззвал он - через потолок - в немое небо. - Господи, для чего?
После ухода танковой колонны город впал в каталепсию; оставь монету на мостовой - будет лежать. Потом, под вечер, началось движение. В окно Вайну постучал Рром Айерен, сунул синюю рубашку и пистолет, передал велено собираться на площади Свободы, между церквей. Вайн пошел, сам не зная зачем.
На площади уже стало людно. Вокруг четырех храмов - ортодоксального, народного, огнекапища интери и хейнтаритской библиотеки - деловито сновали синерубашечники. Сгущалась межсолнечная мгла, небо накинуло траурный лиловый плащ, отделанный звездами, сколотый брошью третьей луны. Из огнекапища глухо доносилось пенье - многие голоса тянули заунывное молебствие.
Подкатил грузовичок, доверху набитый канистрами. Тут же образовалась живая цепочка, канистры плыли из рук в руки - оказавшийся в цепочке Вайн не мог уследить, куда. На ступенях церкви стоял преподобный Тевий Миахар; проповедовал, но голос его сливался с пеньем интери.
Багровое светило медленно выкатилось в позеленевшее небо. Работа шла споро, с шутками и перебранками. Грузовичок уехал, тут же прикатил другой, привез интери, человек тридцать, больше женщин. Их загнали в боковую дверь святилища Вернулся первый грузовик, и в боковую дверь проследовала еще одна процессия. На лицах застыло бесслезное отчаяние.
Вайн стоял в стороне, чувствуя себя потерянным, ненужным. Он молился, но сердце подсказывало ему - Господь не услышит, ибо сказано - "Отверну лик свой от прогневавших меня...".
Кто-то подал преподобному мегафон, резкий голос зазвучал на площадью. До Вайна доходили лишь отдельные слова, остальное же терялось в гуле разговоров вокруг - странные разговоры, приглушенные, точно подростки болтают украдкой о запретном.
"Не заключай союза с ними, и перемирия со лжебогами их... Нет мира нечестивым, говорит Господь... Мечем кары порази их, и дома их, и чада...". Слова пахли пылью, кровью и горечью. Напряжение нарастало. В душном воздухе оно висело звенящей нотой, вплетаясь в непрестанное пение Люди вокруг Вайна что-то кричали, и сам он кричал, потрясая кулаками, подхваченный сладким безумием единения с толпой - безумием, стирающим одиночество.
Развязка наступила быстро. Преподобному поднесли зажженный факел. Толпа расступилась, пропуская священника к пропитанному бензином кругу. "Огонь к огню!", возгласил преподобный, и швырнул факел к дверям капища. Взметнулось пламя, охватывая ржаво-красные стены. "Аа-гонь к аа-гню", скандировала толпа мерно, точно пытаясь заглушить крик полыхающего бензина.
Вайн молчал. Страшный костер будто выжег за одно мгновение грешные его глаза, одарив новым зрением, безжалостно-жарким. Лица вокруг, только что родные, стали отвратительными, творимое действо - кощунственным и, более того, постыдным до невыразимости, как неисповеданный грешок, как бесцельная ложь, как холодная липкая слизь самоудовлетворения. Тошнота билась в горле, накатывая и разбиваясь о стену плотно сжатых зубов.
Вайн ждал криков боли и ужаса, а капище молчало, разгораясь, пока, наконец, не донеслось из огня пение, торжественное и мучительно-скорбное. Пламя вторило ему на разные голоса. Площадь смолкла. Трещали балки, зазвенело лопающееся стекло, а пение длилось, постепенно слабея. Распахнулись двери капища, появилась на секунду в проеме чья-то тень на фоне огня, и исчезла, отброшенная внутрь автоматной очередью.
Вайн содрогнулся. Не сознавая, что делает, он выскользнул из толпы, нырнул в переулок и побрел, преследуемый гулом бешеного огня. С грохотом обрушилась внутрь крыша капища, взметнулся к небу столб липкого жирного дыма, и пение смолкло. В голове Вайна билась одинокая строка древней ереси: "Постепенно происходит исцеление огня...".
Дороги домой Вайн не запомнил. Только у самой двери он осознал, куда бредет. А с поворотом ключа в мозгу его произошел сдвиг. Не оглядываясь, не исполнив ритуала защиты - засов, замок, цепочка - он пробежал в кухню, нашарил коробку спичек, зажег одну и глядел на пламя, пока оно не обожгло ему пальцы. Потом зажег еще одну, потом еще. Странное спокойствие снизошло на его душу.
Та ночь запомнилась ему как удивительно счастливая. Он все рассказал Харраэ - все, без утайки, - и они вместе зажгли охранные свечи, и до полночи занимались любовью. Вайн распахнул по всему дому ставни и окна впервые за год, не таясь, не скрываясь. А когда девушка уснула, разметавшись на мокрых простынях, слабо улыбаясь во сне, Вайн сел за широкий, как пустыня, стол в гостиной и до утра чистил, полировал, смазывал свой пистолет. Когда взошло золотое солнце, он старательно отгладил свою униформу - синюю с пурпуром, - умылся, оделся, собрал сумку и приготовил вещи для бегства, позавтракал - Харраэ еще спала. Потом он вышел из дому. Со стороны восхода поднималась в небо аспидно-серая стена. Шла гроза, первая гроза животворящей осени. Вязкий воздух то замирал, то хлестал по лицу, точно дохлой рыбой. Без четверти полдень Вайн вошел в комиссариат. Патрульные проводили его сочувственными взглядами.
"Только бы перенести, - молился Вайн. - Господи, дай мне сил, не оставь!.." И силы пришли. Закованный в синеву, как в кандалы, он прошел через зал, поднялся по лестнице. Еще раз оглядел себя: форма отутюжена, портупея блестит, кобура расстегнута, торчит рукоять пистолета, маня тускло-стальным блеском. Он положил сумку у двери и вошел.
Комиссар был не один. Направо, у стены, сидел невысокий человек в черной рясе, перетянутой кожаными ремнями портупеи. Лицо этого человека поражало своей разнородностью, настолько четкая граница проходила по нему. Верхняя половина могла бы принадлежать мыслителю, святому - высокий лоб, страдальчески взметнувшиеся брови, острый нос и скулы, обтянутые кожей, как колени подростка. Но срезанный подбородок и поджатые тонкие губы превращали святого в святошу, мыслителя - в догматика. А глаза пребывали отдельно от лица: блекло-желтые, прозрачные, пустые и гулкие. То был Тевий Миахар.
- А, Толлиер, - сухой, жесткий голос похож на опавший лист, на ртутное струение змеи в песке. - Приятно видеть вас. Комиссар Ллаин уже сообщил мне о вашем искреннем раскаянии и готовности искупить вину, так что, учитывая ваше безупречное происхождение и преданность вере и нации, можно ограничиться дисциплинарным взысканием и недельной епитимьей. Надеюсь, вы принесли что-либо в подтверждение исполнения приказа?
- Вы меня не поняли, - тихо ответил Вайн, и комната качнулась. - Я не выполнил приказа.
"Господи, дай мне сил...".
- То есть как - не выполнили? - преподобный подобрался, пустые глаза его широко раскрылись, будто стремясь пожрать Вайна. - Как это понимать?!
- Не выполнил, и не выполню, - твердо ответил юноша.
Казалось, преподобный сейчас взорвется гневом, но нет - гнев не приличествует ему.
- Вы, кажется, славились своим благочестием, Толлиер, - произнес он. - Не припомните ли: "Возжигают огонь, призывают грех, хвалятся отвращением от Господа; имя им зло, и число их тьма тем."
- Книга пророка Ррома, реченье шестое, стих пятый, - ответил Вайн.
- "Подняли нечестивые меч, согнули лук в погубление праведных; оборонись же от них, поверни меч против слуг огня."
- Книга святого Рреда, реченье двадцать первое, стих седьмой.
- А помнишь ли: "Не оставь ни надежды, ни покоя им; мечем кары порази их, и дома их, и чада, и род богомерзкий до шестого колена"?!
- Книга учителя Торъя, реченье третье, стих второй.
- И зная это, ты осмеливаешься защищать огнепоклонников? Идешь против Священных Писаний?
- Я исполняю заповедь пророка, - негромко сказал Вайн, поворачиваясь к преподобному и кладя правую руку на пояс. "Господи, дай мне сил..." Ибо сказано к Книге Закона, реченьи втором...
Вновь дрогнула комната. Безжалостный свет, бивший в окно, вдруг смягчился. Пророкотал дальний гром.
- "...Не убий", - проговорил Вайн и, выдернув пистолет из кобуры, отправил пулю в ее краткий полет. Преподобный Миахар не успел ничего ответить. Тело его сложилось и осело на пол. По исшарканному паркету растекалась иссиня-пурпурная лужа.
Вайн обернулся к комиссару. Тот не сказал ни слова. Губы его сложились ухмылочкой; видно было, что сейчас он уже раздумывает, в какую бы сторону обернуть гибель священника и сумасшествие патрульного Толлиера. Он не сделал даже попытки остановить Вайна, когда тот тихо вышел из комнаты.
А выйдя, ударил тяжелым башмаком по сумке - зазвенело стекло - и бросил спичку на намокшую дерюгу. Полыхнуло. Пятновыводитель горел великолепно. Струйки жидкого огня бежали по полу.
Вайн выбежал на улицу прежде, чем пожар разгорелся. Снова прогремел гром. Горизонт блеснул синевой, еще раз. В текучую, ржавую пыль упала свинцово-тяжелая капля, оставив по себе темный кружок на мостовой. Быстро и неумолимо надвигался дождь, нет - ливень. Поначалу капли выбивали причудливый узор пятнышек, потом пятна стали сливаться, и вдруг воздух наполнился ласковыми, журчащими струями, несущими жизнь иссохшей земле.
Но огня было уже не унять.
На окраине Оногер-те, в интерийском предместье, утопающем во фруктовых садах, вы не найдете Вайна Толлиера, сколько ни спрашивайте местных жителей, хоть и знают они все друг друга по именам и в лицо. А вот имя Вайна Торгара Тхелери вызовет у них живой отклик. Вас проводят, и покажут большой белый дом на самом берегу великой реки Гродт - сами вы его не найдете, так плотно скрывает его от посторонних глаз буйно разросшийся сад.
А в доме вас встретит хозяин, и в серебре его волос вы заметите редкие черные нити, столь удивительные среди интери. Он проведет вас в гостиную, и перезнакомит со множеством своих потомков - истинным благословением огня, - а кого не случится дома, тех покажут на большой общей фотографии, где изображены трое сыновей, и две дочери, и двадцать один внук, и четверо правнучков Вайна Торгара Тхелери. И вас усадят, и напоят холодным соком, и обсудят с вами все местные новости, словно вы старый друг в этом доме.
А если вы очень попросите, старик-хозяин расскажет вам историю своей жизни, расскажет неторопливо и печально, по временам оглядываясь на горящие в стеной нише свечи, тяжелый аромат которых пробивается даже сквозь запахи цветущего сада. Долгой будет его повесть; она завершится, пожалуй, к вечеру, когда заходящее солнце зажжет свой тревожный костер. А когда хозяин умолкнет на полуслове, не просите его продолжить; когда он встанет и уйдет, не следуйте за ним. Он идет в комнату прощаний. Там стоит каменная шкатулка с прахом. И хозяин гостеприимного дома будет долго вглядываться в фотографию на крышке. Оттуда глянет на него тонкое лицо немолодой уже женщины, поражающее, однако, своими красотой и спокойствием.
А великая река Гродт несет свои воды к дальнему морю. Танцуют в небе солнца, кружат луны. И горят, не угасая, охранные свечи, горят исцеленным огнем.






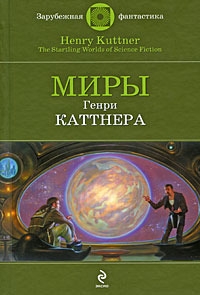

Комментарии к книге «Исцеление огнём», Даниэль Максимович Смушкович
Всего 0 комментариев