Миры Клиффорда Саймака Книга одиннадцатая
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА «ПОЛЯРИС»
Выбор богов
Глава 1
1 августа 2185 года. Итак, мы начинаем заново. В сущности, мы начали заново пятьдесят лет назад, но тогда мы этого не знали. Одно время мы питали надежду, что где-то еще остались люди и что мы сможем продолжить саморазвитие с той же точки, где остановились. Когда прошел шок и мы оказались в состоянии яснее размышлять и разумнее строить планы, мы полагали, будто сможем опереться на свой багаж. К концу первого года нам следовало бы понять, а к концу пятого — признать, что это невозможно. Сначала мы отказывались смотреть факту в лицо, а когда пришлось, стали цепляться за какую-то бессмысленную веру. Возродить старый образ жизни было невозможно; нас слишком мало, у нас нет специальных знаний, а старая техника, пришедшая со временем в негодность, уже не поддавалась восстановлению. Слишком сложная, она требовала многочисленного обслуживающего персонала, с соответствующими навыками и знаниями, не только для управления ею, но и для получения нужной ей энергии. Мы сейчас не более чем воронье, расклевывающее труп прошлого; однажды от него останутся одни голые кости, и мы окончательно будем предоставлены самим себе. Однако в течение многих лет мы восстанавливали — или открывали заново, как будет угодно, — древние элементарные технологии, приспособленные к более простому образу жизни, и эти основные элементарные умения должны помочь нам не впасть в состояние первобытной дикости.
Никто не знает, что же в действительности случилось, что, конечно, не мешает некоторым из нас разрабатывать теории для объяснения происшедшего. Беда в том, что все теории сводятся к простым догадкам, в которых свою роль играют разнообразнейшие неверные метафизические представления. У нас нет никаких данных, кроме двух очень простых фактов. Первый из них состоит в том, что пятьдесят лет назад большая часть человечества либо куда-то перенеслась, либо была куда-то перенесена. Из более чем восьми миллиардов людей, что, разумеется, было чересчур много, сейчас осталось от силы несколько сотен. В доме, где я пишу эти строки, находятся шестьдесят семь человек; так много их только потому, что в тот вечер, когда все случилось, мы пригласили в гости нескольких молодых людей, чтобы отпраздновать совершеннолетие наших внуков-близнецов, Джона и Джейсона Уитни. Индейцев с озера Лич сейчас, возможно, не менее трех сотен, хотя теперь мы их нечасто видим: они вновь, как их далекие предки, кочуют по свету, вполне, как мне кажется, благополучно и себе на пользу. Временами до нас доходят слухи об уцелевших еще где-то горстках людей (слухи обычно приносит какой-нибудь пришедший издалека робот), но в указанном месте никогда никого не оказывается и нет никаких свидетельств тому, что люди там были. Это, конечно, ничего не доказывает. Разумно предположить, что где-то на Земле остался кто-то, хотя нам не известно где. Мы их уже не разыскиваем, поскольку нам кажется, что они нам не нужны. За прошедшие годы мы смирились, свыклись с однообразием сельской жизни.
Роботы по-прежнему с нами, но сколько их, мы не имеем ни малейшего представления. Все ранее существовавшие роботы должны были остаться. Они не покидали Земли и не были с нее перенесены. С течением лет какое-то количество их поселилось с нами, выполняя всю физическую работу и занимаясь домашними делами, необходимыми для нашего беспечального существования, и став поистине неотъемлемой частью нашего сообщества. Некоторые из них порой уходят от нас на время, иногда появляются новые роботы, и они либо остаются с нами навсегда, либо потом уходят. Человеку, не знакомому со сложившейся ситуацией, могло бы показаться, что роботы могут обеспечить функционирование хотя бы небольшой части нужной нам старой техники. Вероятно, роботов можно было бы этому обучить, но здесь у нас нет никого, кто обладал бы соответствующими знаниями. К тому же мозг робота не технологичен. Роботов создавали для другого, для того, чтобы они тешили людское тщеславие и гордыню, утоляли ту странную жажду, которая, похоже, изначально присуща человеческому «я» — стремление иметь подле себя других людей (или разумное факсимиле людей), которые бы удовлетворяли наши желания и нужды, рабов, находящихся у нас в подчинении, человеческих существ, над которыми мужчина, или женщина, или ребенок могли бы властвовать, создавая таким образом ложное чувство превосходства. Их назначение заключалось в том, чтобы служить кухарками, садовниками, дворецкими, горничными, лакеями (я никогда толком не мог понять, что же такое лакей) — в общем, быть слугами. Прислужники и неравные компаньоны, выполняющие любое распоряжение, рабы. Собственно говоря, чем бы они ни занимались, я полагаю, они по-прежнему рабы. Хотя сомневаюсь, чтобы сами они считали это рабством; их ценности, пусть и дарованные человеком, не являются полностью человеческими. Роботы служат нам с чрезвычайной охотой; благодарные за возможность служить, они навязывают нам свои услуги и очевидно, рады тому, что нашли новых хозяев взамен старых.
Таково положение в отношении нас; в случае с индейцами все совершенно иначе. Роботы рядом с индейцами чувствуют себя неловко, а те, в свою очередь, смотрят на них с чувством, близким к отвращению. Роботы — составная часть культуры белого человека, и, в силу того что прежде мы имели дело с машинами, мы с готовностью принимаем роботов. Индейцы же воспринимают их как нечистых, как нечто отвратительно грязное и чужое и не желают иметь с ними дела. Любой робот, забредший в их лагерь, немедленно изгоняется. Здесь у нас всего несколько роботов, хотя их должно быть много тысяч. Тех, что живут не с нами, мы стали называть дикими роботами, но верно ли это? Часто из окна, или сидя во внутреннем дворике, или во время прогулки мы видим группы диких роботов, спешащих словно бы по чрезвычайно важному делу. Куда и зачем они спешат? До нас доходят разные слухи, но все это не более чем слухи, ничем не подтвержденные и не стоящие того, чтобы пересказывать их.
Я сказал, что существуют два факта, но увлекся, рассказывая о первом. Второй факт таков: мы живем теперь гораздо дольше. Каким-то странным образом, совершенно не доступным нашему пониманию, процесс старения если не остановился, то во всяком случае замедлился. За последние пятьдесят лет я словно бы ничуть не постарел, и остальные тоже. Если у меня и прибавилось несколько седых волосков, я их не вижу; если спустя пятьдесят лет походка моя и стала чуть медленнее, я этого не замечаю. Тогда мне было шестьдесят лет, и сейчас мне по-прежнему шестьдесят. Молодые достигают зрелости обычным образом и за соответствующий промежуток времени, но, достигнув ее, в дальнейшем не стареют. Нашим внукам-близнецам двадцать один год исполнился пятьдесят лет назад, но им по-прежнему двадцать один год. Если судить по внешнему виду, они одного возраста со своими сыновьями и старшими внуками, и порой это приводит в некоторое замешательство человека вроде меня, который всю свою жизнь прожил, старея и ожидая наступления старости. Однако даже если меня это смущает, особых причин жаловаться все же нет. Ибо попутно мы обзавелись невероятно крепким здоровьем. Поначалу нас беспокоило: если все люди исчезли, то что делать, если кто-нибудь заболеет и ему потребуется врачебная помощь и больничный уход? Но, к нашему счастью, количество хронологических лет, в течение которых женщина способна рожать детей, осталось приблизительно таким же, как и до того, как была увеличена продолжительность жизни. Очевидно, женские детородные органы истощают свой запас потенциальных яйцеклеток в течение примерно тридцати лет, как и прежде.
Нет никаких сомнений, что исчезновение человечества и замедление старения каким-то образом связаны. В сущности, мы можем быть только благодарны за эту долгую жизнь, а возможно, и за снятие социального напряжения, возникшего в связи с перенаселением планеты. Но наиболее вдумчивых из нас порой тревожит мысль о скрытом от нас значении происшедшего.
Во тьме ночи мы лежим без сна и размышляем, и, хотя с годами потрясение прошло, мы, случается, боимся.
Вот почему этим августовским утром незадолго до конца двадцать второго столетия от Рождества Христова я начинаю записи о том, что произошло. Я старейший обитатель нашего дома, в возрасте ста десяти хронологических лет, и мне кажется правильным и должным, что именно моя рука напишет эти строки. Без записи подобного рода то, что произошло с населявшими Землю людьми, станет со временем мифом…
Глава 2
У него все не выходил из головы тот последний медведь, однако, как ни странно, он не мог точно вспомнить, что произошло. Последние несколько дней он постоянно об этом думал, пытался вспомнить, пытался обрести уверенность — и был к ответу не ближе, чем когда-либо. Зверь, поднявшийся на дыбы из глубокого русла ручья, застал его врасплох, и убежать было невозможно. Стрела наверняка не поразила медведя насмерть, он не успел даже ее вложить как следует. Однако же, рванувшись вперед и рухнув почти у самых его ног, зверь умер. И в этот краткий предсмертный миг произошло нечто, но что именно, он не мог вспомнить. Несомненно, он что-то сделал, однако не было никакой возможности узнать что. Несколько раз ему казалось, что он вот-вот отыщет ответ, но тот вновь уплывал в глубины подсознания, словно бы не знать его было лучше для него самого.
Он сложил узел с поклажей у ног и прислонил к нему лук. Обширное пространство обрамленной утесами, расписанной осенними красками долины, где соединялись две огромные реки, выглядело так, как его описывали охотники на буйволов, которых он встретил на высокогорной равнине почти месяц назад. При мысли о них он улыбнулся — это были приятные люди. Они просили его остаться, и он едва не остался. С ними была девушка, которая смеялась негромким грудным смехом, и был юноша, дружески коснувшийся его рукой. Однако он не мог остаться с ними.
Солнце поднималось, и под его лучами клены у края дальнего утеса неожиданно запылали золотом и багрянцем. И там, на скалистом мысе, возвышавшемся над местом слияния рек, стоял огромный дом, о котором ему рассказывали; его многочисленные печные трубы торчали над крышей, словно уставленные в небо короткие, толстые пальцы.
Юноша поднял висевший на груди бинокль и поднес его к глазам. От движения ремешка тихонько стукнулись друг о друга медвежьи когти на его ожерелье.
Джейсон Уитни закончил утреннюю прогулку и сказал себе, что это была его лучшая прогулка. Хотя та же мысль приходит ему в голову каждое утро, когда он по пологому склону поднимается к дворику, а из кухни плывет запах жареной ветчины и яичницы, которые готовит Тэтчер. Но сегодня утро действительно замечательное. Такое свежее, даже с прохладцей, пока ее не разогнало поднимающееся солнце; и листья, подумал он, листья просто великолепны.
Он стоял на краю обрыва и смотрел вниз на две реки, и их голубой цвет (возможно, для того, чтобы дополнить краски осеннего полотна) был темнее обычного. Смотрел на стаю уток, летевших через долину над самыми макушками деревьев; в одном из маленьких прудов, которыми был усеян заливной луг, по колено в воде стоял лось, он опускал голову в воду и жевал лилии, а когда ее поднимал, вода каскадами скатывалась с его мощных рогов. Джейсону даже казалось, будто он слышит звук этих водопадов, хотя он знал, что это невозможно.
Две собаки, сопровождавшие его, убежали вперед и теперь ждали во дворике; не его, хотя ему было бы приятно так думать, а свои миски с едой. Во время прогулки Баусер, проживший на свете много лет, ступал подле Джейсона тяжело и степенно, а Ровер, глупый щенок, загнал на дерево белку в ореховой роще, а на осеннем поле поднял стаю куропаток из собранной в снопы кукурузы.
Открылась дверь во внутренний дворик, и вышла Марта с мисками для собак. Она наклонилась и поставила их на камни, а собаки ждали, вежливо и уважительно, помахивая хвостами и подняв уши. Выпрямившись, Марта вышла со двора и пошла вниз по склону навстречу Джейсону. Поцеловала его привычным утренним поцелуем и взяла под руку.
— Пока ты гулял, — сказала она, — я разговаривала с Нэнси.
Он сдвинул брови, пытаясь вспомнить.
— Нэнси?
— Ну да. Ты же знаешь. Старшая дочь Джеффри. Мы с ней так давно не говорили.
— Теперь вспомнил, — сказал он. — И где же Нэнси теперь обитает?
— Где-то в районе Полярной звезды, — ответила Марта. — Они совсем недавно переехали. Сейчас живут на чудеснейшей планете…
Вечерняя Звезда, сидя на корточках в вигваме, украшала амулет. Она очень старалась, чтобы он вышел красивым, и сегодня собиралась отнести его дубу. День для этого хороший, сказала она себе, — ясный, тихий и теплый. Такие дни надо ценить, хранить их у самого сердца, ведь разноцветных, ярких дней осенью бывает немного. Скоро настанут сумрачные дни, когда холодный туман повиснет меж обнаженных деревьев, и задуют ледяные северные ветры, и принесут с собой снег. С улицы доносились звуки утренней жизни лагеря: удары топора по дереву, бренчание котелков, дружеский оклик, счастливый лай собаки. Позже снова начнется работа по расчистке старых полей — придется выкорчевывать поросль, убирать камни, сгребать и сжигать сорняки, оставляя землю обнаженной, готовой к тому, чтобы весной ее вспахали и засеяли. Все будут заняты (как и она), и будет нетрудно потихоньку ускользнуть из лагеря и вернуться прежде, чем кто-либо заметит ее отсутствие.
Никто об этом не должен знать, напомнила она себе, ни отец, ни мать, ни тем более Красное Облако, первый вождь их племени и ее дальний-дальний прапрадед. Ибо не пристало женщине иметь духа-хранителя. Правда, сама она не видела в этом ничего плохого. В тот день, семь лет назад, признаки ее хранителя проявились слишком явно, чтобы можно было усомниться в них. Дерево говорило с ней, и она говорила с деревом, как если бы разговаривали друг с другом отец и дочь. Я не искала, подумала она, этого родства. У нее и в мыслях не было ничего подобного. Но если дерево с тобой говорит, что остается делать?
А сегодня заговорит ли дерево с ней? После столь долгого отсутствия вспомнит ли?..
Езекия сидел на мраморной скамье под ветвями старой ивы, закутав в грубую коричневую рясу свое металлическое тело, — это и есть гордыня и притворство, подумал он, недостойные меня, поскольку я не нуждаюсь ни в том, чтобы сидеть, ни в том, чтобы носить одежду. Желтый лист, кружась, опустился ему на колени: чистая, почти прозрачная желтизна на фоне коричневой рясы. Езекия хотел было его смахнуть, но потом оставил. Ибо кто я такой, подумал он, чтобы вмешиваться или противиться даже столь простой вещи, как падение листа.
Он поднял глаза, и взор его остановился на огромном каменном доме; он стоял примерно в миле от монастыря на возвышающейся над реками скалистой зубчатой стене — могучее, большое строение; окна его поблескивали на утреннем солнце, а печные трубы казались руками, с мольбой воздетыми к Господу.
Именно они, люди, живущие в доме, должны были быть здесь вместо нас, подумал он, и тут же вспомнил, что на протяжении многих веков там живут только двое, Джейсон Уитни и его милая жена Марта. Порой кто-нибудь из бывших жильцов возвращается со звезд, чтобы посмотреть на свой старый дом или старое фамильное гнездо; многие из них родились далеко отсюда. И что им делать там, среди звезд, спросил себя Езекия с оттенком горечи. Заботить их должны отнюдь не звезды и не тамошние развлечения; единственное, что поистине должно заботить каждого человека, — это состояние его бессмертной души.
В роще музыкальных деревьев за монастырскими стенами тихонько шелестели листья, но деревья пока молчали. Попозже, где-нибудь после обеда, они начнут настраиваться на ночной концерт. Это будет великолепно, подумал он, несколько стыдясь своей мысли. Одно время он представлял себе, будто их музыка является пением какого-то божественного хора, однако он знал, что это лишь плод его воображения. Церковную музыку это напоминало менее всего.
Именно подобные мысли, сказал он себе, а также сидение на скамье и ношение одежды не позволяют мне и моим товарищам должным образом выполнять задачу, которую мы на себя возложили. Однако обнаженный робот, подумал он, не может предстать перед Богом; он должен иметь на себе что-либо из человеческой одежды, если желает заменить человека.
Старые сомнения и страхи хлынули потоком, и он сидел, согнувшись под их тяжестью. Казалось бы, они не оставляли его с самого начала (и других тоже), но их острота не притупилась. С течением времени они становились острее, и, потратив столетия на изучение подробнейших комментариев и пространных писаний людских теологов, Езекия так и не нашел ответа. Может, его вопросы, с болью спрашивал он себя, чудовищное кощунство? Могут ли существа, не имеющие души, служить Богу? Но, быть может, после стольких лет работы и веры они обрели души? В глубине себя он поискал душу (и делал это не в первый раз) и не нашел. Будь она у меня, размышлял он, как ее узнать? Из каких составных частей складывается душа? Можно ли, в сущности, обрести ее или надо с ней родиться — а если верно последнее, то какие генетические модели принимают в этом участие?
Не присваивает ли он себе со своими товарищами-роботами (товарищами-монахами?) человеческие права? Не стремятся ли они, в греховной гордыне, к чему-то, предназначенному лишь для людей? Входит ли — входило ли когда-нибудь — в их компетенцию пытаться поддерживать человеческое и божественное установление, которое люди отвергли и до которого теперь даже Богу, возможно, нет дела?
Глава 3
После завтрака, в спокойной тишине библиотеки, Джейсон Уитни сел к столу и открыл переплетенную книгу записей, взяв ее с полки, где стоял длинный ряд точно таких же книг. Последнюю запись он сделал более месяца тому назад. Да и не было, подумал он, особой причины что-либо записывать. Жизнь течет так спокойно, а достойная упоминания рябь на ее поверхности появляется так редко. Возможно, лучше бы вернуть журнал обратно на полку и ничего не писать, но Джейсону почему-то казалось, что хорошо бы время от времени все-таки заносить по нескольку строк. За последний месяц не произошло ничего значительного — никто не приехал их навестить, ничего примечательного не было слышно со звезд, никаких известий об индейцах, не заглядывал ни один странствующий робот, а значит, не было и новостей; хотя роботы чаще приносили слухи, чем достоверные новости. Разумеется, были сплетни. Марта вела постоянные разговоры со всей родней, и, когда они вдвоем сидели во дворике, готовясь к ночному концерту, она пересказывала ему услышанное за день. Однако по большей части это были лишь бабьи сплетни и ничего, достойного записи.
Сквозь щель между тяжелыми шторами на высоких окнах пробился тонкий лучик утреннего солнца и осветил его седую голову и широкие крепкие плечи. Джейсон был высок ростом, худ, но ощущение скрытой в нем силы компенсировало худобу. Лицо его было покрыто тонкой сеткой морщинок. Густые усы топорщились, и под стать им кустистые брови над глубоко посаженными суровыми глазами. Он неподвижно сидел в кресле, оглядывая комнату и снова удивляясь тому спокойному чувству удовлетворенности, которое неизменно обретал здесь; порой даже более чем удовлетворенности, словно эта уставленная книгами просторная комната несла на себе печать особого благословения. Здесь обитают, сказал он себе, мысли многих людей — всех великих мыслителей мира, — надежно хранимые в переплетах томов, что стоят на полках, отобранные и помещенные туда давным-давно его дедом, чтобы во дни грядущие самая суть человечества, наследие записанной мысли, находилась всегда под рукой. Он не раз испытывал чувство гордости от того, что основные персонажи этих древних писателей, словно призрачные их представители, поселились в этой комнате, и поздно ночью, когда все вокруг затихало, он часто ловил себя на том, что беседует с ними, возникающими из праха прошлого в сумраке настоящего.
Полка с книгами огибала всю комнату, прерываясь только двумя дверьми, а на стороне, выходящей к реке, тремя окнами. Над первым рядом книг по всем стенам проходила галерея с декоративной металлической решеткой, и на ней помещался второй ряд. Над одной из дверей висели часы, и на протяжении более чем пяти тысяч лет, с удивлением напомнил он себе, они шли, век за веком отсчитывая секунды. Часы показывали пятнадцать минут десятого; интересно, подумалось ему, насколько их показания отличны от времени, которое люди установили много лет назад? Никто не может этого знать, но теперь это не имеет никакого значения. Мир вполне может обойтись вообще безо всяких часов.
С улицы в комнату пробирались приглушенные звуки — скорбное мычание коровы, пасшейся вдалеке, близкий собачий лай, заполошное кудахтанье курицы. Музыкальные деревья по-прежнему молчали: они начнут настраиваться ближе к вечеру. Хотелось бы знать, подумал он, будут ли они сегодня исполнять новую композицию. В последнее время их было очень много. Он бы предпочел, чтобы это была не одна из тех экспериментальных пьес, которыми они с недавних пор увлеклись. Так много других композиций, старых и любимых. Похоже, сказал он себе, их музыка стала ухудшаться с тех пор, как два самых старых дерева начали умирать. Ветки сохли и обламывались, и с каждой весной листва становится все реже. Правда, в роще выросли молодые побеги. В том-то, возможно, и дело.
Джейсон поднял руку и обеспокоенно пригладил пальцем усы. В тысячный раз он пожалел, что понятия не имеет о том, как ухаживать за деревьями. Он, разумеется, читал кое-какие книги, но нет никакой уверенности, что уход за музыкальными деревьями как за земными принесет желаемый результат.
Он обернулся, услышав тихие шаги робота Тэтчера.
— Что такое, Тэтчер?
— Пришел мистер Гораций Красное Облако, сэр.
— Но Гораций на севере. В стране дикого риса.
— Похоже, сэр, племя перекочевало. Они стоят лагерем ниже по реке, как раньше. Они собираются восстановить старые поля и следующей весной их засеять.
— Ты разговаривал с ним?
— Сэр, — сказал Тэтчер, — он мой старый знакомый; естественно, мы немного потолковали. Он принес мешок риса.
— Надеюсь, Тэтчер, ты его поблагодарил.
— Разумеется, поблагодарил, сэр.
— Тебе следовало привести его сюда.
— Он сказал, что не хочет мешать вам, сэр, если вы заняты.
— Я никогда по-настоящему не занят. Ты это прекрасно знаешь.
— Тогда, — сказал Тэтчер, — я попрошу его войти. Джейсон поднялся, обошел стол и остановился в ожидании друга. Как давно это было, подумал он, — года четыре или пять назад… пять, никак не меньше. Он тогда пришел в лагерь прощаться и, после того как индейцы расселись в каноэ, долго стоял на засыпанном галькой берегу и смотрел, как длинная вереница лодок быстро поднимается вверх по реке, как вспыхивают на солнце мокрые лопасти весел.
Красное Облако был одного возраста с Джейсоном, но выглядел моложе. Походка его была упруга, как у юноши. В черных волосах ни намека на седину; ровно посередине их разделял пробор, и двумя тяжелыми косами они спадали на грудь. Лицо обветренное, но совершенно без морщин, за исключением крошечной сеточки у глаз. Он был одет в рубашку и гетры из оленьей кожи, на ногах — мокасины. Рука, протянутая Джейсону, крупная, огрубевшая, с короткими, толстыми пальцами.
— Много времени прошло, Гораций, — сказал Джейсон. — Я рад тебя видеть.
— Ты единственный, — сказал Красное Облако, — кто по-прежнему зовет меня Гораций.
— А что, мне называть тебя вождем? Или Облаком? Или, может, Красным?
Красное Облако усмехнулся:
— В твоих устах, Джейсон, «Гораций» звучит замечательно. Мы с тобой вместе были молоды. Ты, конечно, помнишь. И это имя напоминает те времена, когда мы вдвоем бродили по лесам. Мы сделали себе надрезы на запястьях и соединили их, чтобы наша кровь смешалась. Или, по крайней мере, мы думали, что она смешается. Я в этом сильно сомневаюсь, что, однако, совершенно неважно. Важнее символ.
— Я помню, — сказал Джейсон. — Помню тот первый день, когда твое племя спустилось в лодках по реке и вы увидели, что из нашей трубы идет дым. Вы все, вся ваша братия, дружно ринулись вверх по склону узнать, что тут, и тогда впервые и вы, и живущие в этом доме люди узнали, что они не одни на свете, что остался кто-то еще.
— Мы разожгли на поляне большие костры, — продолжил Красное Облако, — забили быка или двух и устроили празднество. Мы взялись за руки и плясали вокруг костров с криками и пением. Твой дед, светлая ему память, выкатил бочонок виски, и мы все довольно сильно напились.
— Тогда-то мы с тобой впервые и встретились, — сказал Джейсон. — Два молодых побега, желавшие показать себя миру, — да только никого не было, чтобы на них посмотреть. Мы сразу же понравились друг другу. Мы вместе охотились, ловили рыбу, бродили по холмам. И бегали за девушками.
— И, насколько мне помнится, некоторых поймали, — произнес Красное Облако.
— Их было нетрудно поймать, — ответил Джейсон. Они постояли, молча глядя друг на друга, затем Джейсон сказал:
— Присядем. Нам нужно о многом поговорить.
Красное Облако сел в кресло, Джейсон взял другое и развернул его, чтобы видеть лицо друга.
— Сколько времени прошло? — спросил он.
— Шесть лет.
— Вы только что прибыли?
— Неделю назад, — сказал Красное Облако. — Мы покинули северные земли, собрав урожай дикого риса. Мы не торопились. Останавливались, если находили хорошее место для лагеря, бездельничали и охотились. Несколько наших молодых людей отвели лошадей к западу от реки, они останутся там, пока лед не окрепнет. Когда станет холоднее, мы перейдем на другой берег и будем охотиться на буйволов и дикий скот и заготовлять мясо на зиму. Вчера ночью явился гонец и сказал, что в прериях их очень много.
Джейсон нахмурился:
— Говоришь, неделю. Тебе не следовало ждать так долго. Если тебе самому было некогда, послал бы гонца. Я бы пришел тебя повидать.
— Время бежит быстро. Было много дел. Мы пытаемся привести в порядок земли под посевы. Поля сильно заросли. У нас кончилась кукуруза, и мы по ней изголодались. Пытались выращивать ее там на севере, но теплое время года оказалось слишком коротко. Посеяли поздно, ее побило морозом. Собрали несколько побуревших початков, вот и все.
— У нас есть кукуруза, — сказал Джейсон. — Большой запас. Смолота и готова. Я сегодня же пошлю вам кукурузы. Что вам еще нужно — ветчина, яйца, мука? У нас хорошая пшеничная мука. Гораздо больше, чем нам требуется. Ткань, если вам надо. Шерсть была хорошая, ткацкий станок поработал на славу.
— Джейсон, я пришел к тебе не попрошайничать…
— Я знаю. Мы много лет обменивались то одним, то другим. Сколько мяса и рыбы, да ягод, да прочего вы отправляли нам в прошлом! Тэтчер говорит, ты принес риса…
— Ладно, — сказал Красное Облако. — Ты не станешь возражать против мяса буйвола, когда мы закончим охоту?
— Нисколько, — ответил Джейсон.
— А как насчет того, чтобы отправиться на охоту вместе с нами?
— С превеликим удовольствием.
— Хорошо! Это будет, как в былые времена. Остальные пусть работают, а мы с тобой будем сидеть у костра, беседовать и есть самые нежные куски.
— Вы живете хорошей жизнью, Гораций.
— Думаю, да. Было много путей, мы могли выбирать. Мы могли осесть на земле. Поселились бы где-нибудь в хорошем месте, заняли хорошие поля и засеяли их и собрали бы себе домашний скот. Мы могли стать хорошими фермерами — однако не стали. Мы вернулись к старому образу жизни. Каждый из нас в глубине души мечтал о нем. Нас тянуло обратно. Мы слышали зов. Наши предки вели такую жизнь тысячи лет. А мы всего несколько сотен лет жили той жизнью, которую установил белый человек, и это были далеко не лучшие годы. Мы так и не приспособились, не смогли. С облегчением все это бросили и вернулись к цветам, деревьям, облакам, к временам года с любой погодой, к бегущей воде, к обитателям лесов и прерий, чтобы снова сделать их частью себя, более, чем когда-либо раньше. Кое-чему научились от белых людей, мы не можем этого отрицать, — и были бы глупцами, если б не научились. И воспользовались тем, что переняли у белого человека, чтобы сделать прежний образ жизни еще лучше. Иногда я задумываюсь, правильный ли выбор мы сделали, и вижу осенний лист — один только лист — или слышу журчание бегущего в лесу ручейка, или чувствую запах леса, и понимаю, что не ошиблись. Мы вернулись к земле, соединились с холмами и потоками, и так оно и должно быть. Именно для такой жизни мы созданы. Вернулись не к старой племенной идее, но к образу жизни. Сначала были сугубо лесным племенем, но сейчас уже не только. Возможно, мы просто индейцы. У племен, живущих на западных равнинах, мы переняли вигвам из кожи и одежду, а также умение обращаться с лошадьми. Однако по-прежнему делаем каноэ из бересты, собираем дикий рис и кленовый сахар. Это хорошая жизнь. Мы с тобой, дружище, ощутили жизнь — я в своем вигваме, ты в этом каменном доме. Ты ни разу не отправлялся к звездам и, возможно, будешь счастлив, если никогда и не отправишься. Я полагаю, другим там нравится.
— Да, несомненно, — сказал Джейсон. — Много интересного и, возможно, даже полезного. Но мы мало чем воспользовались. Мы наблюдали, даже изучали, в некоторых случаях поняли, что происходит. Но мы теперь не технологическая раса. Мы утратили технологию, рабочие руки и знания. Машины износились, и никто не мог их заставить ожить, не было энергии, на которой им работать. Мы не печалимся об утрате, как ты знаешь. Мы превратились в способных наблюдателей и получаем удовлетворение от наших наблюдений. Наша цель — знание, а не использование. Мы не нуждаемся в использовании; каким-то образом мы поднялись выше его. Ресурсы лежат невостребованными; нам даже кажется постыдным попробовать применить их. И не только ресурсы; идеи и…
— Ты много помнишь, Джейсон? Из далекого прошлого? Не про наше племя, а все остальное?
— Я помню, — ответил Джейсон. — И ты тоже должен. Мы оба были молоды, когда все это случилось.
Красное Облако помотал головой:
— Мои воспоминания смутны. Так много всего наслоено. Я едва помню иную жизнь, не ту, которой мы живем сейчас.
— Моя память заключена в журнале, во многих журналах. — Джейсон указал на полку позади стола. — Все записано. Начал мой дед лет пятьдесят спустя после всего, что произошло. Записал, чтобы мы не забыли, чтобы это не стало мифом. Он описал все, что помнил, и делал регулярные записи. Когда он умер, я продолжил работу. Все записано с того самого дня…
— А когда ты умрешь, — спросил Красное Облако, — кто будет вести записи?
— Не знаю, — ответил Джейсон.
— Джейсон, есть вещь, о которой я часто думал, но никогда не спрашивал. Можно я спрошу сейчас?
— Конечно. Все, что хочешь.
— Почему ты ни разу не отправлялся к звездам?
— Возможно, потому, что не могу.
— Но ты никогда и не пытался. Никогда по-настоящему не хотел.
— Да, люди покидали Землю, один за другим, — сказал Джейсон, — пока не остались только Марта да я. Нам казалось, что кто-то должен остаться, кто-то, кто был бы для остальных чем-то вроде якоря. Поддерживал бы в очаге огонь, встречал тех, кто захочет вернуться.
— Они возвращаются, и вы встречаете их.
— Некоторые возвращаются, — сказал Джейсон. — Не все. Мой брат Джон покинул нас одним из первых. Он не возвращался ни разу, и мы о нем ничего не слыхали. Я часто думаю о том, где же он. Если он еще жив.
— Ты говоришь об ответственности, о необходимости остаться. Однако, Джейсон, дело не только в этом.
— Конечно, хотя прежде это было очень важно, важнее, чем сейчас. Джон и я были старшими. Моя сестра Дженис моложе нас. Мы по-прежнему иногда встречаемся с ней, и Марта часто с нею разговаривает. Если бы Джон остался, возможно, отправились бы мы с Мартой. Способность покидать свой дом, похоже, врожденная. Я допускаю, что человек обладал ею давно, прежде чем начал использовать. Чтобы она развилась, необходимо было время, и его дала нам удлинившаяся жизнь. Возможно, она развилась бы и раньше, не будь мы столь озабочены и столь сбиты с толку нашей технологией. Быть может, где-то мы свернули не туда, восприняли неверные ценности и позволили, чтобы наша забота о развитии технологии подменила нашу скрытую цель. Наши способности не могли пробиться в сознание сквозь толстые пласты машин, сметных калькуляций и тому подобного. Эти способности — не только путешествие к звездам. Твой народ к звездам не летает. Возможно, вы в этом не нуждаетесь, вы стали частью окружающей вас среды, живете в ней и понимаете ее.
— Но если в тебе сохранилось желание путешествовать, почему ты этого не делаешь? Ты бы мог позволить себе недолгое отсутствие. Роботы поддерживали бы огонь в очаге, могли бы встретить тех, кто захочет вернуться.
Джейсон покрутил головой:
— Теперь уже слишком поздно. С годами я все больше влюбляюсь в этот дом и эти земли. Я чувствую себя их частью. Без них — и без Земли — я пропаду. Я не смогу жить без них. Но у меня дурные манеры, — прервал себя Джейсон. — Мне следовало спросить прежде, как поживает миссис Облако.
— Счастлива. Блаженствует, распоряжаясь в новом лагере.
— А твои сыновья и праправнуки?
— Из правнуков с нами остались немногие, — ответил Красное Облако. — Сыновья и внуки живут в других племенах. Кое-что мы узнаем о них. Бегущего Лося, моего прапраправнука, около года тому назад задрал гризли. Нам сообщил гонец. Все остальные благополучно здравствуют.
— Я скорблю, — сказал Джейсон. — Бегущим Лосем можно было гордиться.
Красное Облако благодарно склонил голову.
— Миссис Джейсон, как я понимаю, находится в добром здравии.
Джейсон кивнул:
— Она проводит много времени в беседах с остальными. Ей это прекрасно удается, гораздо лучше, чем мне. Телепатия словно ее вторая натура, и каждый вечер у нее ворох новостей. Нас теперь много. Понятия не имею, сколько именно; Марта скажет вернее. Она все помнит, все родственные связи, кто на ком женился, кто… и так далее. Нас несколько тысяч, не меньше.
— Ты как-то говорил, что в космосе были обнаружены разумные существа, но не похожие на нас. За то время, что нас не было…
— Ты прав, — сказал Джейсон. — Все на нас не похожи. С некоторыми мы вступили в контакт. Одни дружелюбны, другие не очень, третьи к нам равнодушны. Большинство из них настолько нам чужды, что мурашки бегут по телу. И есть инопланетные путешественники, которые, случается, посещают Землю.
— И это все? Никакого взаимодействия…
— Нет, не все, — ответил Джейсон. — Появилось нечто весьма и весьма тревожное. Буквально дуновение, но чрезвычайно нас встревожившее. Словно прилетевший с ветром дурной запах. Откуда-то из центра…
— Из центра чего, Джейсон?
— Центра Галактики. Из ядра. Какой-то разум. Мы смутно его почуяли, и этого достаточно…
— Враждебный?
— Нет, не враждебный. Холодный. Рассудочный, слишком рассудочный. Холодный и равнодушный. Аналитический. Черт, я не могу тебе объяснить. Это невозможно объяснить. Как если бы земляной червь смог почуять человеческий разум. Но разница между ним и нами больше, чем между человеком и земляным червем.
— Вас это напугало?
— Напугало? Пожалуй. Расстроило. Встревожило. Одно утешение — нас, возможно, не замечают.
— Тогда зачем волноваться?
— Мы не слишком волнуемся. Дело в другом. Просто ощущаешь себя нечистым, зная, что в одной с тобой Галактике существует нечто подобное. Как если бы наткнулся на яму, полную концентрированного зла.
— Однако это не зло.
— Видимо, нет. Я не знаю, что это. И никто не знает. Мы просто почуяли запах…
— Ты сам его обнаружил?
— Нет. Другие. Двое из тех, со звезд.
— Скорее всего, беспокоиться незачем, просто надо держаться подальше. Однако интересно — не имеет ли это нечто какого-нибудь отношения к исчезновению Людей? Хотя не похоже. Ты, Джейсон, по-прежнему не знаешь, почему это случилось, почему все Люди покинули Землю?
— Понятия не имею, — ответил Джейсон.
— Ты говорил об инопланетянах, которые объявляются у нас…
— Да, — сказал Джейсон, — их немного, то есть о немногих мы знаем. В прошлом веке два или три. Но раньше их будто вовсе не было. Они стали появляться только после исчезновения Людей. Хотя, возможно, они бывали на Земле и прежде, но их никто не видел, а если и видели, то не признавали за инопланетян. Может быть, мы их не видели, потому что не хотели этого. Мы бы чувствовали себя неуютно в присутствии чего-то, чего не можем понять, и потому широким жестом перечеркнули всех.
— Возможно, так оно и было, — сказал Красное Облако. — Или прежде их было гораздо меньше. Наша беспокойная планета была переполнена разумом, который порой наводил ужас. Быть может, уменьшенное подобие этого разума в центре Галактики. Инопланетный путешественник не стал бы останавливаться и искать покоя и отдыха здесь. В те дни покоя у нас никто не знал.
— Ты прав, — сказал Джейсон. — Теперь мы это знаем, но не тогда. Мы двигались вперед, мы развивались…
— Я полагаю, ты разговаривал с кем-нибудь из путешественников.
— С двумя или тремя. Однажды я преодолел пятьсот миль, чтобы поговорить с одним из них, но он исчез прежде, чем я туда добрался. Известие о нем принес робот. Я не столь искусен в галактической телепатии, но могу беседовать с инопланетянами, во всяком случае с некоторыми. Многие из них не воспринимают звуковые волны в качестве средства связи, а человек, со своей стороны, не воспринимает сигналы или психические волны, которые используют они. А иной раз просто совершенно не о чем говорить, никаких общих тем.
— Я пришел поговорить об инопланетных путешественниках, — сказал Красное Облако. — Я бы пришел в любом случае, в первый же день, если бы смог. Но я хотел тебе рассказать об одном из них. В начале Ущелья Кошачьей Берлоги его нашел Маленький Волк и прибежал ко мне. Я отправился взглянуть.
Вот оно что, подумал Джейсон. Эта осторожная, вежливая беседа вокруг той единственной вещи, ради которой пришел Красное Облако. Разговор по старинке, не спеша, соблюдая племенной этикет, сохраняя достоинство.
— Ты пытался с ним поговорить?
— Нет, — ответил Гораций Красное Облако. — Я умею разговаривать с цветами и реками, и они отвечают мне, но инопланетянин… я не знаю, с чего начать.
— Хорошо, — сказал Джейсон, — я схожу и посмотрю, что у него на уме. Если я смогу с ним говорить. Ты видел, каким образом он прибыл?
— Видимо, телепортировался. Никаких признаков корабля.
— Обычно они так и делают, — произнес Джейсон. — Так же, как и мы. Машина — громоздкая и обременительная штука. В скитании среди звезд нет ничего нового, хотя поначалу мы думали иначе. Мы полагали, что сделали удивительное открытие, когда стали развивать и использовать парапсихологические способности. У нас, технологической расы, на многое не хватало времени, а если бы кто-то попытался говорить об этом, над ним бы посмеялись.
— Никто из нас не путешествовал среди звезд, — сказал Красное Облако. — Я не уверен, есть ли у нас вообще эта способность. Мы так заняты миром, в котором живем, и его тайнами. Но теперь…
— Я думаю, вы обладаете определенными способностями, — сказал Джейсон, — и используете их для самых благих целей. Вы знаете окружающий вас мир и связаны с ним органичнее, чем когда-либо раньше. Для этого, несомненно, требуется некий психический инстинкт. Пусть это не столь романтично, как скитание среди звезд, зато, возможно, требует большего понимания.
— Благодарю тебя за доброту, — ответил Красное Облако. — Может быть, в твоих словах есть определенная доля правды. У меня есть красивая и очень глупенькая далекая-далекая праправнучка, которой исполнилось девятнадцать лет. Может, ты ее помнишь — Вечерняя Звезда.
— Ну конечно, помню, — довольно сказал Джейсон. — Когда ты покидал лагерь или был очень занят, она меня развлекала. Мы ходили на прогулки, и она показывала мне птиц, и цветы, и другие лесные чудеса, и всю дорогу очаровательно щебетала.
— Она по-прежнему очаровательно щебечет, однако меня это беспокоит. Сдается мне, она обладает какими-то способностями вроде тех, что имеет ваш клан…
— Ты имеешь в виду путешествие к звездам? Красное Облако поморщился:
— Я не уверен. Нет, вряд ли. Что-то иное. Я ощущаю в ней определенную странность. Она обладает такой жаждой знаний, какой я никогда не встречал в своем народе. Не желание познать свой мир, хотя это тоже есть, но стремление за его пределы. Узнать все, что когда-либо происходило, все, о чем люди размышляли. Она прочла все книги, что у нас есть, а их у нас очень немного…
Джейсон обвел рукой комнату.
— Вот книги, — сказал он. — Если она захочет прийти и прочесть… В подвальных помещениях есть еще, от пола до потолка. Может брать какие угодно, но мне бы не хотелось, чтобы они покидали этот дом. Потерянную книгу нельзя заменить.
— Я пришел к тебе с этой просьбой, — сказал Красное Облако. — К тому и вел разговор. Спасибо за предложение.
— Мне приятно, что нашелся человек, который хочет их прочесть. Уверяю тебя, для меня это честь.
— Полагаю, — проговорил Красное Облако, — нам тоже следовало бы позаботиться о книгах, но теперь поздно что-либо делать. Время, насколько я понимаю, большинство из них уничтожило. Их погубили грызуны и сырость. А наши люди не решаются отправляться на поиски. Мы очень не любим древние города. Они такие старые и замшелые, и полны призраков — призраков прошлого, о котором мы и теперь не желаем думать. У нас есть несколько книг, и мы их бережно храним. И отдаем долг чести прошлому, обучая читать каждого ребенка. Однако для большинства это неприятная обязанность. Но не для Вечерней Звезды. Она хочет читать.
— Не захочет ли Вечерняя Звезда, — спросил Джейсон, — прийти сюда и пожить с нами? Присутствие молодой девушки оживило бы дом, а я готов помогать ей советом в выборе книг.
— Я передам ей, — сказал Красное Облако. — Она будет очень рада. Ты, конечно, знаешь, она называет тебя дядя Джейсон.
— Нет, я не знал, — ответил Джейсон. — Я польщен.
Двое мужчин сидели в молчании в тишине библиотеки. Часы на стене громко отсчитывали секунды. Красное Облако пошевелился:
— Джейсон, ты следил за временем. За тем, сколько прошло лет. У тебя даже есть часы. Мы не имеем часов и не вели счет. Не обременяли себя понапрасну. Мы встречали каждый день и проживали его сполна. Мы живем не днями, а временами года. А времена года мы не считали.
— Где-то, — сказал Джейсон, — я мог потерять день или два или день-другой добавить — не могу сказать точно. Но счет мы вели. Прошло пять тысяч лет. Физически я в том возрасте моего деда, когда он стал вести записи. После этого он прожил почти три тысячи лет. Если я последую его примеру, я проживу полных восемь тысяч. Это кажется невозможным, и даже несколько неприлично человеку жить на свете восемь тысяч лет.
— Однажды, — сказал Красное Облако, — мы, может быть, узнаем, куда исчезли Люди и почему мы так долго живем.
— Возможно, хотя я не надеюсь. Я вот о чем подумал, Гораций…
— Да?
— Я мог бы собрать партию роботов и послать их, чтобы они расчистили для вас поля. Они слоняются тут без дела. Я, правда, знаю, как вы относитесь к роботам…
— Нет. Большое спасибо. Мы примем кукурузу, и муку, и все остальное, но мы не можем согласиться на помощь роботов.
— Что, в сущности, вы имеете против них? Вы им не доверяете? Они не будут вам докучать. Они просто расчистят поля, а потом уйдут.
— Рядом с ними мы чувствуем себя неловко, — сказал Красное Облако. — Они не вписываются в наш уклад. Напоминают, что с нами случилось, когда пришли белые люди. Мы порвали с прошлым полностью. Сохранили всего несколько вещей. Простые металлические инструменты, плуг, большую хозяйственную предусмотрительность — мы больше не живем, сегодня пируя, а завтра голодая, как бывало до появления белого человека. Мы вернулись к прежней жизни в лесах, в прериях. Мы стали жить, полагаясь только на самих себя; так должно быть и впредь.
— Кажется, я понимаю.
— Я не уверен, что мы доверяли роботам, — продолжал Красное Облако. — Не до конца. Те, что у вас работают на полях, они, может, и ничего. Однако некоторые из диких… Я говорил тебе, что теперь их много выше по течению реки, на месте какого-то старого города…
— Да, я помню. Миннеаполис. Вы их видели много-много лет назад. Они что-то строили.
— Они и теперь строят, — сказал Красное Облако. — Мы видели их, когда спускались по реке, издалека. Их больше, чем когда-либо, и они по-прежнему строят. Огромное здание, хотя на здание оно не похоже. Роботы не стали бы строить дом, верно?
— Не думаю. Во всяком случае, для себя. Непогода не имеет для них никакого значения — они сделаны из сверхпрочного сплава. Он не ржавеет, не изнашивается, выдерживает практически все. Непогоду, холод, жару, дождь… им все это нипочем.
— Мы там не задерживались, — продолжал Красное Облако. — И держались подальше. Смотрели в бинокль, но увидели немного. Пожалуй, мы были напуганы, чувствовали себя неуютно. И быстренько убрались оттуда. Вряд ли что-то реально угрожало нам, однако мы не стали рисковать.
Глава 4
Вечерняя Звезда шла сквозь осеннее утро и разговаривала с друзьями, которых встречала по пути. Будь осторожен, кролик, когда щиплешь клевер: рыжая лисица вырыла себе нору прямо за холмом. А ты что стрекочешь, пушистый хвостик, и топаешь на меня лапкой: мимо проходит твой друг. Ты обобрала все орехи с тех трех больших деревьев возле ущелья, прежде чем я успела до них добраться. Ты должна радоваться, поскольку ты самая счастливая из белок: у тебя есть глубокое дупло в старом дубе, и тебе будет там уютно и тепло, когда придет зима, и у тебя везде припрятана еда. Цыпка моя, для тебя сейчас не время. Почему ты уже здесь, на чертополохе? Тебе еще рано прилетать. Ты должна прилететь, когда в воздухе закружатся снежные хлопья. Ты опередила своих собратьев; тебе будет одиноко без них. Или ты, как и я, радуешься последним золотым дням?
Она шла сквозь утреннее солнце, и вокруг нее золотилось и пламенело разноцветное великолепие редколесья. Она видела металлически блестевший золотарник, небесно-голубые астры. Она ступала по траве, когда-то сочной и зеленой, а теперь побуревшей и скользкой. Она опустилась на колени и провела рукой по зелено-алому ковру лишайника, пятнами покрывшего старый серый валун, и внутри у нее все пело, ибо она была частью всего этого — да, даже частью лишайника, даже частью валуна.
Она взобралась на вершину гряды, и теперь внизу лежал густой лес, покрывавший холмы по берегам реки. Здесь начиналось ущелье, и она стала спускаться по нему вниз. В одном месте из земли бил родничок, и девушка шла по ущелью, а где-то рядом, прячась в камнях, бежал и пел ручеек. Ей вспомнился тот, другой, день.
Тогда было лето, холмы покрывала зеленая пена листвы, и на деревьях пели птицы. Она крепко прижала к груди амулет, и опять услышала слова, сказанные ей деревом. Это, конечно, очень нехорошо, женщина не должна заключать соглашение с деревом. И ладно бы с березой, или тополем, или каким-нибудь другим деревом, поменьше, более женственным. Но с ней говорил старый белый дуб — дерево охотника. Дуб стоял впереди, старый, в наростах, сучковатый, могучий, но, несмотря на всю свою толщину и мощь, казался припавшим к земле, словно приготовился к бою. Листья его побурели и начали сохнуть, однако не успели опасть. Дуб все еще кутался в свой воинственный плащ, хотя деревья вокруг уже стояли совсем обнаженные.
Она спустилась к нему по склону и нашла в могучем стволе дупло, древесина вокруг которого гнила и отслаивалась. Привстав на цыпочки, она увидела в тайнике амулет, положенный туда много лет назад, — маленькая куколка из стержня кукурузного початка, одетая в лоскутки шерстяной материи. Амулет попортился и потемнел от дождя, просачивавшегося в дупло, однако сохранил свою форму.
Девушка положила в дупло новое приношение, аккуратно поместив его рядом с первым.
— Дедушка Дуб, — сказала она, уважительно опустив глаза, — я уходила, но не забывала о тебе. И долгой ночью, и ярким днем я тебя помнила. Теперь я вернулась, чтобы сказать, что могу снова уйти, хотя и иначе. Но я никогда не покину этот мир вовсе, потому что слишком сильно люблю его. И я всегда буду тянуться к тебе, и ты будешь знать, когда я протяну к тебе руки, и я буду знать, что на этой земле есть кто-то, кому я могу довериться и на кого могу положиться. Я тебе искренне благодарна, Дедушка Дуб, за ту силу, что ты мне даешь, и за твое понимание.
Она замолчала и подождала ответа, но его не последовало. Дерево не заговорило с ней, как в тот, первый, раз.
— Я не ведаю, куда пойду, — продолжала она, — и отправлюсь ли вообще, но я пришла сказать тебе об этом. Чтобы разделить с тобой чувство, которое не могу разделить ни с кем другим.
Она опять подождала, чтобы дерево ответило, и не дождалась слов, но ей показалось, что могучий дуб встрепенулся, словно пробуждаясь ото сна, и будто огромные руки поднялись и простерлись над ее головой, и нечто — благословение? — снизошло на нее с ветвей дерева.
Она медленно, шаг за шагом, попятилась, не отрывая от земли глаз, затем повернулась и бросилась бежать прочь, вверх по склону холма, словно дерево коснулось ее, наполнив неведомым прежде чувством.
Она споткнулась о корень, петлей торчавший из земли, упала на руки на огромный ствол поваленного дерева. Отсюда старого дуба она уже не видела.
Вокруг тихо, ничто не шелохнется в подлеске, и птиц не видно. Весной и летом их было здесь множество, но сейчас они либо улетели на юг, либо находились где-то в другом месте, собираясь в стаи перед отлетом. Внизу, на реке, стаи уток ссорились и шумели на заводях, а заросли тростника кишели черными дроздами, которые свистящей бурей взмывали в небо. Но отсюда птицы улетели, и в лесу стояла тишина, торжественный покой с легким привкусом одиночества.
Что она сказала дереву? То ли сказала, что действительно имела в виду, и что она знает об этом? Иногда ей казалось, что она собирается в какое-то другое место, — так ли это? В ней жило чувство смутного беспокойства, ожидания, покалывающее ощущение, что вот-вот произойдет что-то чрезвычайно важное, нечто незнакомое, даже пугающее. Мир ее был полон друзей — не только среди людей: маленькие пташки в лесах и кустарниках, застенчивые цветы, прячущиеся в лесных укромных уголках, стройные деревья, тянущиеся к небу, самый ветер, и солнце, и дождь.
Она тихонько похлопала ладонью гниющий ствол, словно и он был ее другом, и заметила, что вереск и другие растения собрались вокруг него, оберегая и защищая, пряча его от глаз в час унижения и беды.
Она поднялась и медленно пошла дальше, вверх по склону. Она оставила амулет, а дерево не заговорило с ней. Но что-то сделало с нею, и все было хорошо.
Она достигла гребня холма, начала спуск, направляясь к лагерю, и вдруг почувствовала, что она не одна. Девушка быстро обернулась — он стоял тут, в одной набедренной повязке, и его бронзовый крепкий торс блестел под лучами солнца, а рядом лежали вещи, и к ним был прислонен лук. На груди его висел бинокль, наполовину скрывая ожерелье.
— Я вторгся на твою землю? — проговорил он вежливо.
— Земля ничья, — ответила она.
Ожерелье ее зачаровало, она не сводила с него глаз. Он дотронулся до ожерелья.
— Тщеславие.
— Ты убил огромного белого медведя[1], — произнесла она. — И не одного.
— Один коготь — один медведь, — сказал он. — По когтю от каждого.
У нее захватило дух.
— У тебя надежный амулет.
Он провел рукой по луку.
— У меня лук. Верные стрелы с кремневым наконечником. Кремень лучше всего, лучше него только чистая сталь, а где теперь найдешь хорошую сталь.
— Ты пришел с запада, — сказала она, зная, что огромные белые медведи водятся только на западе. Год назад один из них задрал ее родственника, Бегущего Лося.
Он кивнул.
— Далеко с запада. Оттуда, где большая вода. С океана.
— Ты долго шел?
— Не знаю. Я был в пути много лун.
— Ты считаешь лунами. Ты принадлежишь к моему народу?
— Нет, не думаю. У меня белая кожа, потемнела она от солнца. Я встречался с твоим народом, они охотились на буйволов. Это были первые люди, не считая моего народа. Других я не видел. Я не знал, что есть еще люди. Прежде я встречал только роботов.
Она сделала презрительный жест.
— Мы не знаемся с роботами.
— Я так и понял.
— Куда ты направляешься? Дальше на восток прерия кончается. Там только лес, а за ним еще один океан. Я видела карты.
Он указал на дом, стоящий на вершине огромного мыса.
— Может быть, туда. Люди в прериях говорили мне о большом доме из камня, где живут люди. Я видел много домов из камня, но в них никто не жил. А здесь живут?
— Двое.
— И только?
— Остальные, — сказала она, — отправились к звездам.
— Об этом они тоже говорили, — сказал он, — и я удивлялся. Я не мог поверить. Кто же захочет отправиться к звездам?
— Они находят другие миры и живут там.
— Звезды — всего лишь яркие огоньки, что светятся в небе.
— Это другие солнца, — сказала она. — Ты не читал книг?
Он покачал головой:
— Однажды я видел… Мне сказали, что это книга. Сказали, что, если знать способ, она могла бы со мной говорить. Но человек, который мне ее показывал, забыл его.
— Ты не умеешь читать?
— Чтение и есть тот способ? Способ, при помощи которого книга заговорит?
— Да, — сказала она. — Там есть маленькие значки. Читаешь, и все.
— У тебя есть книга? — спросил он.
— Большой ящик книг. Я их все прочитала. Но там, — указала она на дом, — есть комнаты, полные книг. Мой прапрадед сегодня спросит, можно ли мне их прочесть.
— Странно, — сказал он. — Ты читаешь книги. Я убиваю медведей. Книга мне не нравится. Мне сказали, что книга может говорить, но при помощи древнего колдовства, и поэтому лучше оставить ее в покое.
— Это неверно, — сказала она. — Ты странный человек.
— Я пришел издалека, — ответил он, словно это все объясняло. — Через высокие горы, через бурные реки, через такие места, где один песок и слишком много солнца.
— Зачем? Зачем ты так далеко шел?
— Что-то во мне говорило: «Иди и ищи». Оно не сказало, что именно. Просто идти и искать. Я чувствую, как что-то меня гонит. Когда люди в прериях рассказали об этом огромном высоком доме из камня, я подумал: может быть, это и есть то, что я ищу.
— Ты идешь туда?
— Да, конечно, — сказал он.
— И если это то, что ты ищешь, ты там и останешься?
— Возможно. Я не знаю. То, что гонит меня вперед, подскажет. Немного раньше я думал, что, может быть, нашел то, что нужно было найти. Но огромный дуб изменился. Ты так сделала.
Она вспыхнула от гнева.
— Ты подглядывал за мной.
— Я не хотел подглядывать, — сказал он. — Я поднимался по склону и увидел тебя возле дерева. Я спрятался, чтобы ты меня не заметила. Я подумал, что ты не захочешь, чтобы кто-нибудь знал. Поэтому тихо ушел, чтобы ты не узнала.
— Однако ты мне рассказываешь.
— Да, рассказываю. Дуб изменился. Это было удивительно.
— Как ты узнал, что дуб изменился? Он наморщил лоб.
— Не знаю. Как и тот медведь. Которого моя стрела не убила, однако он упал мертвый. Я этого не понимаю. Мне странно.
— Скажи, как изменился дуб? Он покачал головой.
— Я только почувствовал, что он изменился.
— Тебе не следовало подглядывать.
— Мне стыдно. Я не буду об этом говорить.
— Спасибо, — сказала она и повернулась, чтобы идти дальше.
— Можно мне пройти с тобой немного?
— Я иду в эту сторону, — ответила она. — Ты идешь к дому.
— До свидания, — сказал он.
Она стала спускаться по склону. Когда она оглянулась, он все еще стоял на прежнем месте. Ожерелье из медвежьих когтей блестело на солнце.
Глава 5
Инопланетянин походил на клубок червей. Он съежился между валунов, у маленькой березовой рощицы, прилепившейся к краю ущелья; деревья клонились вниз и нависали над высохшим руслом ручья. Падающий сквозь листву солнечный свет пятнами ложился на словно плетеное тело инопланетянина; оно преломляло лучи, и казалось, он лежит в россыпи осколков радуги.
Джейсон Уитни прислонился к стволу молодого ясеня на поросшем мхом берегу. Вокруг стоял слабый тонкий запах опавших осенних листьев.
Он омерзителен, подумал Джейсон, и тут же постарался прогнать эту мысль. Инопланетяне бывали не так уж плохи, но этот хуже всех. Если бы он, по крайней мере, не двигался, подумал Джейсон, можно было бы как-то освоиться и привыкнуть к нему. Но клубок червей безостановочно шевелился, отчего делался еще отвратительнее.
Джейсон мысленно осторожно потянулся к нему, намереваясь дотронуться, затем, испугавшись, отпрянул и понадежнее упрятал сознание внутрь себя. Надо успокоиться, прежде чем пытаться разговаривать с этим существом. На своем веку он перевидал так много инопланетян, что должен был сохранять невозмутимость, однако этот выводил его из состояния равновесия.
Он сидел неподвижно, слушая глухую тишину, вдыхая запах опавших листьев, не позволяя себе думать ни о чем определенном. Именно так это и делается — подбираешься к нему тайком, притворяясь, будто вовсе не замечаешь.
Но инопланетянин не стал ждать. Он выбросил мысленный щуп и дотронулся до Джейсона, твердо, спокойно и тепло, что так не соответствовало его внешнему облику.
— Приветствую тебя, — сказал он в ответ. — Надеюсь, что, обращаясь к тебе, я не преступаю никаких законов и не нарушаю границ чужих владений. Я знаю, кто ты. Я видел таких, как ты. Ты человеческое существо.
— Да, — ответил Джейсон, — я человек. Добро пожаловать. Ты не преступаешь никаких законов, ибо у нас их очень мало. И не нарушаешь границ чужих владений.
— Ты один из путешественников, — сказал клубок червей. — Сейчас ты отдыхаешь на своей планете, но, бывает, отправляешься очень далеко.
— Не я, — сказал Джейсон. — Путешествуют другие. Я не покидаю своего дома.
— Значит, я достиг своей цели. Планета путешественника, с которым я общался очень, очень давно. До сих пор я не был полностью уверен в этом.
— Это планета Земля, — сказал Джейсон.
— Да, такое название, — радостно ответило существо. — Я не мог его вспомнить. Тот, другой, описал ее мне, и я искал ее повсюду, лишь в общих чертах представляя себе направление, в котором она должна находиться. Но я не сомневался, когда сюда прибыл, что это та самая планета.
— Ты хочешь сказать, что искал нашу Землю? Ты не просто остановился отдохнуть здесь?
— Я явился сюда искать душу.
— Явился искать что?
— Душу, — ответило существо. — Тот другой, с которым я общался, сказал, что у людей были души и, возможно, они есть и сейчас. Хотя он не был уверен в этом и вообще проявил глубокое невежество. Я заинтересовался его рассказом о душах, однако он не смог мне объяснить, что же это такое. Я сказал себе, втайне, конечно, что такую замечательную вещь стоит поискать. И поэтому пустился на розыски.
— Возможно, тебе интересно будет узнать, — сказал Джейсон, — что многие люди тоже искали свои души.
Какое странное стечение обстоятельств, подумалось ему. Кто из наших мог разговориться с этим существом об идее души? Маловероятная тема для беседы, и к тому же в ней таятся определенные опасности. Однако, скорее всего, разговор был несерьезным или, по крайней мере, тот человек говорил не всерьез. Хотя этот клубок червей, похоже, принял его слова настолько близко к сердцу, что отправился на поиски.
— Я чувствую в твоем ответе что-то странное, — сказал инопланетянин. — Можешь ли ты мне сказать, что у тебя есть душа?
— Нет, не могу, — ответил Джейсон.
— Если бы она у тебя была, ты бы, конечно, знал.
— Не обязательно.
— Ты говоришь, — сказало существо, — как говорил тот, с которым мы вместе просидели полдня на вершине холма на моей прекрасной планете. Мы беседовали о многом, но больше всего о душах. Он тоже не знал, есть ли у него душа, и не мог сказать с уверенностью, есть ли она у других людей или была ли в прошлом. И он не мог объяснить мне, что это такое — душа и можно ли ее обрести. Похоже, он полагал, что знает преимущества обладания душой, однако говорил он об этом как-то очень туманно. Его объяснение во многих отношениях чрезвычайно неудовлетворительно, однако мне показалось, в нем есть зерно истины. Если я сумею найти дорогу к его родной планете, подумал я, кто-нибудь предоставит мне сведения, которые я ищу.
— Мне жаль, — сказал Джейсон. — Ужасно жаль, что ты проделал столь долгий путь и зря потратил столько времени.
— Ты ничего не можешь мне сказать? Здесь нет никого другого?
— Может быть, и есть, — сказал ему Джейсон и быстро добавил: — Я не уверен.
Он сказал лишнее и знал это. Он не мог знакомить Езекию с этим существом. Езекия и без того тронутый, а тут и подавно сойдет с ума.
— Но должны же быть другие.
— Нас только двое.
— Ты, несомненно, ошибаешься, — ответил инопланетянин. — Сюда приходили двое. Не с тобой. Они стояли и смотрели на меня, а потом ушли. Мне не удалось установить с ними связь.
— Они не могли тебя слышать, — сказал Джейсон. — И не могли ответить. Их мозг для другого. Но они сказали мне о тебе. Они знали, что я смогу поговорить с тобой.
— Но есть еще один, с кем я мог бы говорить.
— Да. Остальные находятся там, далеко среди звезд. С одним из них ты и разговаривал.
— С этим вторым?
— Не знаю, — сказал Джейсон. — Она никогда не говорила ни с кем, кроме своих. Она с ними здорово общается, независимо от расстояния.
— Значит, ты единственный. И ты ничего не можешь мне сказать.
— Послушай, это старая идея. Никогда не существовало никаких доказательств. Была одна лишь вера. Человек говорил себе: у меня есть душа. Он в это верил, потому что так говорили ему другие. Говорили властно. Без рассуждений и объяснений. Говорили это так часто, и он сам себе говорил это так часто, что никогда не задавался вопросом, есть ли у него душа. Но никогда не было никаких свидетельств. Не было никаких доказательств.
— Но, досточтимый сэр, — взмолился инопланетянин, — ты скажешь мне, что же такое душа?
— Многие полагают, — ответил Джейсон, — что она есть. Это часть тебя. Невидимая и неощущаемая. Не часть твоего тела. Даже не часть твоего сознания. После твоей смерти она продолжает жить и живет вечно. Или предполагается, что она живет вечно, и условия, в которых она оказывается после твоей смерти, зависят от того, каким ты был.
— Кто судит о том, каким ты был?
— Божество, — сказал Джейсон.
— А это божество?..
— Не знаю, — сказал Джейсон. — Я просто не знаю.
— Ты откровенен со мной. Я сердечно тебе благодарен за откровенность. Ты говоришь приблизительно то же, что и тот, другой, с которым я беседовал.
— Может быть, найдется еще один, — сказал Джейсон. — Если я разыщу его, я с ним поговорю.
— Но ты сказал…
— Я знаю, что сказал. Это не человек. Это другое существо, возможно, более осведомленное, чем я. Но ты не сможешь с ним говорить. Придется предоставить это мне.
— Я тебе доверяю, — звучал голос из клубка червей.
— Пока же позволь пригласить тебя в гости, — продолжал Джейсон. — У меня есть жилище, и в нем найдется место для тебя. Мы были бы рады тебе.
— Ты испытываешь замешательство при виде меня, — сказал инопланетянин.
— Не стану лгать, — ответил Джейсон. — Но я говорю себе, что ты тоже, возможно, испытываешь его при взгляде на меня.
Лгать не было смысла, Джейсон это знал. Существу не требуются слова, чтобы понять, какие чувства он испытывает.
— Вовсе нет, — сказало существо. — Я ко всему отношусь терпимо. Однако, вероятно, нам лучше быть порознь. Я буду ждать тебя здесь.
— Тебе что-нибудь нужно? — спросил Джейсон.
— Нет, спасибо. Мне хорошо. Я ни в чем не нуждаюсь.
Джейсон встал, чтобы уйти.
— У тебя чудесная планета, — сказал инопланетянин. — Такое тихое, спокойное место. И исполнено странной красоты.
— Да, мы тоже так считаем. Чудесная планета. Джейсон вскарабкался по узкой тропке, сбегавшей в ущелье. Солнце уже прошло зенит и клонилось к западу. Вдалеке громоздились темные грозовые тучи, готовые поглотить солнце. С появлением туч тишина, казалось, стала еще более глубокой. Он слышал, как тихо ложатся на землю падающие листья. Где-то далеко слева цокала белка. Сегодня — великолепный день, подумал он, совершенно великолепный, и, даже если пойдет дождь, он все равно будет великолепным во всех отношениях. Жаль, что его испортила эта свалившаяся на него проблема.
Чтобы сдержать слово, данное инопланетянину, Джейсону придется поговорить с Езекией, но что может выйти из разговора с этим самозваным роботом-аббатом, неизвестно. Хотя, может быть, и несправедливо называть его самозванцем. Кто теперь взялся бы утверждать, что роботы не вправе взять на себя эту задачу: поддерживать искру древней человеческой веры?
И насчет этой веры… Почему люди от нее отвернулись? В тот день, когда человечество было куда-то перенесено, вера еще существовала. Ее следы заметны в ранних записях, которые делал его дед в первой из своих книг. Возможно, она сохранилась в несколько ином виде среди индейцев, хотя никогда не проявляется в их общении с Джейсоном. Некоторые, а может, и все молодые люди устанавливают тайные связи с предметами окружающего мира. Сомнительно, однако, чтобы это можно было назвать верой. О ней никто не говорил вслух, и потому, естественно, Джейсон располагал лишь самыми скудными сведениями.
На Земле остались не те люди, подумал он. Если бы неведомая сила, что унесла куда-то человечество, сделала иной выбор, древняя вера могла бы процветать, даже более чем когда-либо раньше. Но в его семье и среди людей, которые находились в большом доме на мысе в ту роковую ночь, вера уже была подорвана, оставаясь не более чем цивилизованной условностью, которой они безразлично подчинялись. Возможно, когда-то она была исполнена смысла. Вера пережила период пышного расцвета, затем — увядания и упадка, и наконец превратилась лишь в тень своего былого могущества. Она стала жертвой неверного поведения человека, его всепоглощающей идеи собственности и прибыли. Люди охотнее строили величественные здания, полные пышности и блеска, чем заботились о вере в сердце и в мыслях своих. И вот ее поддерживают существа, которые даже не люди, машины, которым придали сходство с человеком только развитие технологии и человеческая гордыня.
Джейсон добрался до вершины гряды; лес остался внизу, и в открывшейся перспективе он увидел грозовые тучи на западе. Они громоздились все выше и уже закрыли солнце. Джейсон зашагал чуть быстрее, чем обычно. Сегодня утром он раскрыл свою летописную книгу, она по-прежнему лежала открытой у него на столе, но он не записал в нее ни строчки. Утром еще нечего было записывать, однако теперь появилось так много нового: приход Горация Красное Облако, инопланетянин в ущелье и его странная просьба, желание Вечерней Звезды читать книги и то, что он пригласил ее пожить с ним и Мартой. Он успеет кое-что записать до обеда, а после вечернего концерта снова сядет к столу и завершит свой отчет о событиях дня.
Музыкальные деревья настраивались; один молодой побег заметно фальшивил. За домом робот-кузнец громко стучал по металлу — скорее всего, трудился над плугом. Тэтчер говорил, припомнил Джейсон, что все плужные лемеха снесены в дом, чтобы подготовить их к приходу весны и новому севу.
Открылась дверь внутреннего дворика, вышла Марта и двинулась по дорожке ему навстречу. Какая она красивая, подумал он, красивее, чем в тот далекий день, когда они поженились. Они хорошо жили вместе. В нем поднялась теплая волна благодарности за всю полноту жизни.
— Джейсон! — крикнула Марта, поспешая навстречу. — Джейсон, у нас Джон! Твой брат Джон вернулся!
Глава 6
Из записи в журнале от 2 сентября 2185 года:
…Я часто размышляю о том, как же случилось, что мы остались здесь. Если Людей куда-то перенесли, то вследствие какой причуды судьбы или рока сила, вызвавшая их исчезновение, не тронула тех, кто находился в доме? Монахов из монастыря, что стоит в миле от нас по дороге, забрали. Людей с сельскохозяйственной станции, которая сама по себе являлась довольно крупным поселком, забрали. Большое поселение в пяти милях выше по реке, где жили рыбаки, было опустошено. Остались мы одни.
Порой я думаю, не сыграло ли здесь роль то социальное и финансовое положение, которое моя семья занимала в течение последнего столетия. Почему-то даже эта сверхъестественная сила не коснулась нас, как не затронули (мало того, даже принесли определенную пользу) нищета, нужда и всякого рода ограничения, что были вызваны перенаселением Земли. Видимо, это социальная аксиома — в то время как многие терпят все большую нужду и лишения, немногие обретают роскошь и комфорт, питаясь за счет нищеты. Возможно, даже не желая того — но живут.
Конечно, только обращенное в прошлое сознание вины заставляет меня так думать, и я знаю, что не прав. Многие семьи, помимо нашей, так же жирели на чужой нищете, но были наказаны. Если «наказаны» — верное слово. Мы не знаем, что означало это исчезновение. Оно могло означать смерть, а могло означать перемещение в другое место или во множество других мест, и тогда это перемещение могло быть благом. Ибо в то время большинство людей покинули бы Землю без сожаления. Вся поверхность суши, часть водного пространства и вся получаемая энергия использовались лишь для того, чтобы поддерживать простое существование огромных масс людей, населявших планету. Простое существование — не пустая фраза, ибо людям едва хватало еды, чтобы прокормиться, едва хватало места, чтобы жить, едва хватало одежды, чтобы прикрыть наготу.
То, что моей семье, равно как и другим подобным семьям, было позволено сохранить за собой то относительно большое жизненное пространство, которым они располагали задолго до того, как связанные с перенаселением проблемы достигли критической остроты, только один из примеров несправедливости. То, что племя индейцев с озера Лич, тоже оставленное на Земле той сверхъестественной силой, жило на относительно большом и малонаселенном пространстве, объясняется иначе. Земли, куда столетия назад их вытеснили, по большей части были бросовыми, хотя с течением лет неумолимая сила экономической необходимости отнимала у них кусок за куском, и в недалеком будущем они оказались бы загнаны в безымянное всепланетное гетто. Впрочем, по правде говоря, они жили в гетто с самого начала.
В момент, близкий к исчезновению человечества, строительство этого дома и приобретение окружающих его земель были бы невозможны. Во-первых, не нашлось бы подобного участка, а если бы и нашелся, то такой дорогой, что даже самые богатые семьи не смогли бы купить его. Далее, некому и не из чего было бы строить дом. Мировое хозяйство было напряжено до предела, пытаясь содержать восемь миллиардов людей.
Мой прадед построил этот дом почти полтора века назад. Даже тогда он смог приобрести участок только потому, что монастырь по соседству переживал тяжелые времена и был вынужден продать часть своих земель, чтобы уплатить по неотложным обязательствам. При строительстве дома мой прадед пренебрег всеми современными направлениями в архитектуре и вернулся к основательности и простоте огромных сельских домов, которые люди строили несколько веков назад. Он часто повторял, что дом будет стоять вечно, и хотя это было преувеличением, несомненно, дом будет стоять, когда многие другие рассыплются в прах.
В нашем нынешнем положении большое счастье, что у нас есть дом, прочный и большой. Даже сейчас шестьдесят семь человек живут в нем, не испытывая особых неудобств. Хотя с ростом населения, видимо, придется искать и другие места. Можно рассчитывать на монастырские постройки (четыре робота, которые их сейчас занимают, вполне могут обойтись и меньшим пространством), а также, с некоторыми оговорками, на бывший рыбацкий поселок вверх по течению реки. Простояв пустыми все эти пятьдесят лет, его многоквартирные дома требуют ремонта, однако наши роботы, я полагаю, справятся с этой задачей.
У нас достаточно средств к существованию, нужное количество земли из той, что в прошлом обрабатывали рабочие сельскохозяйственной станции. Роботы вполне справляются с необходимыми задачами, и, поскольку старые сельскохозяйственные машины пришли уже в полную негодность, мы вернулись к обработке земли лошадьми и к простому плугу, косилке и жатке. Наши роботы сделали их, растащив по частям более сложные орудия.
Мы теперь живем, как мне нравится это называть, манориальным[2] хозяйством, производя в своем поместье все необходимое. Мы держим большие стада овец, с которых получаем мясо и шерсть, молочное стадо, коров мясной породы, свиней, дающих нам мясо, ветчину и грудинку, домашнюю птицу и пчел; мы выращиваем сахарный тростник, пшеницу, большое количество овощей и фруктов. Мы ведем простое существование, спокойное и чрезвычайно приятное. Поначалу мы жалели о прошлой жизни — по крайней мере кое-кто из молодых, — но теперь, я полагаю, мы все убеждены, что жизнь, которой мы живем, чрезвычайно хороша.
Лишь об одном я глубоко сожалею. Как бы мне хотелось, чтобы мой сын Джонатан и его милая жена Мэри, родители троих наших внуков, были живы и жили с нами. Им обоим, я знаю, наша нынешняя жизнь доставила бы истинное наслаждение. Ребенком Джонатан не уставал бродить по поместью. Он любил деревья и цветы, тех немногих диких существ, что обитали в нашем маленьком лесу, то свободное и спокойное чувство, которое дает даже небольшое открытое пространство. Теперь мир (или известная мне его часть, а может, и все остальное) возвращается в дикое состояние. На месте прежних полей растут деревья. Трава пробралась в места, где раньше ее никогда не было. Цветы выбираются из укромных уголков, живая природа возрождается и набирает силу. В речных долинах, теперь густо поросших лесом, во множестве водятся белки и еноты, и порой можно встретить оленей, пришедших, вероятно, с севера. Я знаю пять перепелиных выводков, а на днях наткнулся на стаю куропаток. Перелетные птицы опять каждую весну и осень огромными клиньями летят по небу. Когда тяжелая человеческая рука перестала давить Землю, маленькие, робкие, незаметные существа стали вступать в свои древние права. С определенными оговорками нынешнюю ситуацию можно уподобить вымиранию динозавров в конце мелового периода. Но динозавры вымерли все, а здесь горстка людей продолжает жить. Однако, возможно, мое сравнение несколько преждевременно. Трицератопы, как полагают, были последними из существовавших динозавров, и не исключено, что небольшие их стада встречались еще в течение полумиллиона или даже более лет. В таком свете факт существования нескольких сотен людей, жалких остатков когда-то могущественной расы, не имеет большого значения. Возможно, мы трицератопы человеческого рода.
Когда вымерли динозавры и другие рептилии, млекопитающие, существовавшие миллионы лет, хлынули в образовавшуюся пустоту и начали размножаться. Является ли нынешняя ситуация результатом уничтожения определенной части млекопитающих с целью предоставить другим позвоночным еще один шанс, отвести от них гибель от руки человека? Или же это побочный результат? Было ли человечество, или большая его часть, перенесено с Земли с целью дать дорогу дальнейшему эволюционному развитию? И если так, где же и что представляет собой это новое эволюционирующее существо?
Когда думаешь об этом, удивляешься странному процессу исчезновения. Изменение климатических условий, сдвиги в земной коре, эпидемии, смещение экономических параметров, факторы, ограничивающие количество производимых продуктов питания, — все это понятно с физической, биологической и геологической точек зрения. Исчезновение же, или почти полное исчезновение, человеческого рода — загадка. Медленное, постепенное угасание — это одно, мгновенное исчезновение — совсем другое. Оно требует вмешательства некоего разума и не объяснимо каким-либо естественным образом.
Если исчезновение — результат действия другого разума, мы вынуждены задаться вопросом: где он находится, что собой представляет и, что более важно, какую он мог преследовать цель?
Не наблюдает ли за всей существующей в Галактике жизнью некий могучий центральный разум, пресекающий преступления, которые нельзя допустить? Не было ли исчезновение человеческого рода наказанием, уничтожением, приведенным в исполнение смертным приговором за то, что мы сделали с планетой Земля и со всеми остальными существами, делившими ее с нами? Или же это просто устранение, очищение — действие, предпринятое с целью защитить ценную планету от окончательной гибели? Или даже более того, с целью дать ей возможность восполнить в течение последующего миллиарда лет истощенные природные ресурсы: могли бы вновь образоваться залежи каменного угля и месторождения нефти, восстановилось бы плодородие почв, появились бы новые рудные месторождения?
Бессмысленно и бесполезно, как мне думается, размышлять об этих вещах и задавать вопросы. Но человек, добившийся кратковременного владычества над планетой благодаря тому, что задавал вопросы, не откажется от размышлений.
Глава 7
В течение нескольких часов после полудня в небе росла гряда темных туч, и, глядя, как она увеличивается, Езекия сказал себе, что в небе словно висит лестница, по которой облака лезут вверх, делаясь все более грозными и впечатляющими. Он осудил себя за эти мысли — в небе нет никакой лестницы, на то воля Бога, чтобы тучи громоздились все выше. Он не понимал и стыдился этих взлетов фантазии, этого романтизма, который ему следовало обуздать давным-давно, но который в последние несколько лет (или так ему казалось) прорывался все чаще. Или же в последние годы он стал больше обращать на это внимания, неприятно пораженный тем, что никак не может избавиться от нелепых представлений, столь далеких от серьезных размышлений, которым должен себя посвящать.
Его братья сидели в кабинете, склонясь над книгами. Они просиживали так годами, сопоставляя и сводя к элементарным истинам все, что было написано живым существом, человеком, все, о чем он думал, рассуждал и размышлял — в сфере духа и религии. Из четверых лишь он, Езекия, не связал себя с написанным или печатным словом — так они решили много веков назад, когда задумали начать поиски истины. Трое изучали все когда-либо написанное — переписывая, перераспределяя, переоценивая, словно обо всем этом думал и все написал один человек, один-единственный, не многие, а один, который понял. Трое выполняли эту работу, а четвертый сопоставлял результаты их анализа и оценки, пытаясь разгадать смысл, ускользнувший от человека. Это была замечательная идея, вновь сказал себе Езекия; тогда она выглядела убедительной, она и сейчас разумна, однако путь оказался длинней и сложней, чем они полагали, и они по-прежнему были далеки от истины. С годами работа, которой они занимались, углубила и укрепила их веру, однако вера не вела к истине. Возможно ли, спрашивал себя Езекия, что вере и истине попросту нет места, что это два взаимоисключающих качества? От этой мысли его пробрала дрожь. Если это так, они столетия потратили ради ничтожной цели, в погоне за блуждающим огоньком. Должна ли вера непременно означать готовность и способность верить при отсутствии каких-либо доказательств? Если отыщутся доказательства, умрет ли вера? Что, собственно, им нужно — истина или вера? Может быть, подумал он, человек уже пытался делать то, что они пытаются сделать сейчас, и понял, что не существует истины, но есть вера, и, будучи не в состоянии принять веру без доказательств, отказался и от нее? Книги им об этом ничего не сказали, но, имея в своем распоряжении тысячи книг, они знали, что это не все книги. Не лежит ли где-нибудь, превращаясь в прах — или уже превратившись, — книга (или несколько книг), которая открыла бы, что человек уже сделал или пытался, но не сумел сделать.
Езекия с полудня расхаживал по саду; это обычное занятие, он часто ходил здесь. Ходьба помогала ему думать, к тому же он любил сад, за красоту, за то, как распускается, меняет цвет и опадает листва, за цветы весной и летом, за чудо жизни и смерти, за пение птиц и их полет, за окутанные дымкой холмы по берегам реки и, порой, за звучание оркестра музыкальных деревьев — хотя он не сказал бы, что безусловно их одобряет. Однако едва Езекия достиг двери в здании капитула, разразилась гроза, мощные потоки дождя обрушились на сад, громко застучали по крышам, наполнили сточные канавы, почти мгновенно превратили дорожки в полноводные ручьи.
Он отворил дверь и нырнул внутрь, но задержался в передней, оставив дверь приоткрытой и глядя в сад, где потоки дождя хлестали траву и цветы. Старая ива у скамьи гнулась под ветром и тянула ветви, словно пытаясь оторваться от корней.
Где-то что-то стучало, он понял, что это. Ветер распахнул огромную металлическую калитку во внешней стене, и теперь она билась о камень, из которого была сложена стена. Если калитку не запереть, ее разобьет о камни.
Езекия шагнул за порог, прикрыв за собой дверь. Он шел по превратившейся в ручей дорожке, и его тоже хлестали ветер и дождь, который потоком скатывался по телу. Дорожка повернула за угол здания, и ветер ударил ему в лицо, словно огромная рука уперлась в его металлическую грудь. Коричневая ряса, хлопая на ветру, развевалась за его спиной.
Калитку рвало на петлях, она оглушительно стучала о стену, металл содрогался при каждом ударе о камень. Но не только калитка привлекла его внимание. Рядом, наполовину на дорожке, наполовину на траве, кто-то лежал. Даже сквозь плотную завесу дождя Езекия разглядел, что это был человек.
Он лежал лицом вниз, и, перевернув его, Езекия увидел неровный порез, начинавшийся у виска и пересекавший щеку — лиловатая полоска рассеченной плоти, чистая, поскольку кровь смывало дождем.
Он обхватил человека руками, поднял его и пошел по дорожке, сопротивляясь напору ветра.
Езекия добрался до двери в здании капитула и вошел. Ногой захлопнул дверь, пересек комнату и положил свою ношу на скамью у стены. Человек еще дышал, грудь его поднималась и опускалась. Он был молод или казался молодым, обнаженный, если не считать набедренной повязки, ожерелья из медвежьих когтей и бинокля на шее: чужестранец, подумал Езекия, человек ниоткуда и, милостью Божией, искавший здесь убежища от грозы. Вырвавшаяся из рук под порывами ветра калитка сбила его с ног.
За все время, что роботы обитали в монастыре, впервые сюда пришел человек, ища приюта и помощи. И это, сказал себе Езекия, правильно, поскольку исторически в течение многих столетий подобные места давали приют нуждающимся. Он почувствовал дрожь в теле, дрожь волнения и преданности. Это ответственность, которую они должны на себя принять, долг и обязанность, которые должны выполнить. Нужны одеяла, горячая пища, огонь в камине, кровать — а здесь нет ни одеял, ни горячей пищи, ни огня. Их нет уже многие годы, роботы в них не нуждаются.
— Никодемус! — крикнул он. — Никодемус!
Его голос гулко ударился о стены, словно волшебным образом проснулось древнее эхо, молчавшее в течение долгих-долгих лет.
Он услышал топот бегущих ног, распахнулась дверь, и вбежали трое роботов.
— У нас гость, — сказал Езекия. — Он ранен, и мы должны о нем позаботиться. Один из вас пусть бежит к дому и найдет Тэтчера. Скажет ему, что нам нужны еда, одеяла и что-нибудь, чтобы развести огонь. Другой пусть разломает что-нибудь из мебели и сложит в камин. Все дрова снаружи намокли. Но постарайтесь выбрать что похуже. Старые табуретки, например, сломанный стол или стул.
Он слышал, как они вышли, как хлопнула входная дверь, когда Никодемус бросился сквозь грозу к дому.
Езекия присел на корточки у скамьи и не спускал глаз с человека. Тот дышал ровно, и лицо покидала бледность, видимая даже сквозь загар. Из пореза сочилась кровь, текла по лицу. Езекия подобрал конец промокшей рясы и осторожно отер кровь.
Он ощущал в себе глубокое, прочное чувство умиротворения, завершенности, сострадания и преданности человеку, лежащему на скамье. Может быть, подумал он, это истинное назначение людей — или роботов, — обитающих в стенах этого дома? Не тщетные поиски истины, но оказание помощи в трудную минуту людям — своим собратьям? Хотя он понимал, что это не верно. На скамье лежал не его собрат, он не мог быть его собратом; робот — не собрат человеку. Но если, думал Езекия, робот заменил человека, занял место человека, если он придерживается обычаев человека и пытается продолжать дело, которое человек забросил, разве не может он называться собратом человека?
И ужаснулся.
Как мог он помыслить, что робот может быть собратом человеку?
«Тщеславие!» — мысленно вскричал он. Чрезмерное тщеславие станет его погибелью — его проклятием; и он опять ужаснулся: разве робот достоин хотя бы проклятия?
Он ничтожество, ничтожество и еще раз ничтожество. И однако же подражает человеку. Он носит рясу, он сидит, не нуждаясь ни в одежде, ни в том, чтобы сидеть; он бежал от грозы, хотя ему незачем бежать от сырости и дождя. Он читает книги, которые написал человек, и он ищет понимания, которое человек не сумел найти. Он поклоняется Богу — и это, подумал он, быть может, самое большое кощунство.
Он сидел на полу возле скамьи, и его переполняли страдание и ужас.
Глава 8
Он не узнал бы брата при случайной встрече, сказал себе Джейсон. Стан был тот же и гордая, внушительная осанка, но лицо скрывала блеклая, с проседью, борода. И кое-что еще — холодное выражение глаз, напряженность в лице. С возрастом Джон не стал мягче; годы его закалили и сделали жестче, и придали печаль, которой раньше не было.
— Джон, — проговорил он и остановился на пороге. — Джон, мы так часто думали… — и замолчал.
— Ничего, Джейсон, — сказал его брат. — Марта тоже меня не узнала. Я изменился.
— Я бы узнала, — отозвалась Марта. — Чуть позже, но узнала бы. Это из-за бороды.
Джейсон быстро пересек комнату, схватил протянутую руку, другой рукой обнял брата за плечи, привлек к себе и крепко прижал.
— Рад тебя видеть, — сказал он. — Так хорошо, что ты вернулся. Уж очень долго тебя не было.
Они отстранились и мгновение постояли, молча глядя друг на друга, и каждый старался разглядеть в другом того человека, которого видел в последнюю встречу. Наконец Джон произнес:
— Ты хорошо выглядишь, Джейсон. Я знал, что так и будет. Ты всегда умел о себе позаботиться. И еще о тебе заботится Марта. Мне говорили, что вы остались дома.
— Кто-то должен был остаться, — ответил Джейсон. — Здесь хорошо жить, мы были здесь счастливы.
— Я о тебе часто спрашивала, — сказала Марта. — Я всегда спрашивала, но никто ничего не знал.
— Я был очень далеко. У центра Галактики. Там что-то есть… Я подобрался к центру ближе, чем кто-либо. Мне говорили, что там — или, вернее, что там может быть. Хотя что именно, они толком не знали. Мне нужно было туда добраться и посмотреть. Кому-то надо было отправиться, точно так же, как кто-то должен был остаться дома.
— Давай сядем, — сказал Джейсон. — Тебе нужно многое нам рассказать, так расположимся поудобней. Тэтчер что-нибудь принесет, и мы поговорим. Джон, ты голоден?
Брат покачал головой.
— Может, выпьешь чего-нибудь? Из старых запасов ничего не осталось, но наши роботы неплохо делают нечто вроде самогона. Если его правильно выдерживать и хранить, он вполне хорош. Мы пробовали делать вино, но безуспешно. Почва не та, и тепла не хватает. Скверное получается.
— Потом, — сказал Джон. — Сначала я вам расскажу. Потом можно будет и выпить.
— Ты нашел то зло, — проговорил Джейсон. — Несомненно. Мы знаем, что там есть некое зло. Несколько лет назад до нас дошли слухи. Никто не знал, что это, — и зло ли это на самом деле. Единственное, что мы знали, — у него дурной запах.
— Это не зло, — сказал Джон. — Нечто худшее, чем зло. Глубочайшее безразличие. Безразличие разума. Разум, утративший то, что мы называем человечностью. Или никогда ее не имевший. Но это не все. Я нашел Людей.
— Людей! — вскричал Джейсон. — Не может быть! Никто понятия не имел…
— Разумеется, никто не знал. Но я их нашел. Они живут на трех планетах, близко друг от друга, и дела у них идут очень здорово, пожалуй, даже слишком здорово. Они не изменились. Они такие же, какими были мы пять тысяч лет назад. Они прошли до логического конца тот путь, по которому мы шли пять тысяч лет назад, и теперь возвращаются на Землю. Они на пути к Земле.
В окна неожиданно ударили потоки воды, принесенные ветром. Ветер завыл и загулял среди карнизов.
— Гроза началась, — сказала Марта. — Какая сильная.
Глава 9
Она сидела и слушала голоса книг — или, скорее, голоса людей, что написали все эти книги. Странные, серьезные, далекие, звучащие из глубин времени; то было будто отдаленное бормотание голосов мудрых людей, без слов, но полное значения и мысли. Она никогда бы не поверила, сказала себе девушка, что может быть так. Деревья говорили словами, цветы несли смысл, и маленький лесной народец тоже часто с ней разговаривал, и в журчании реки и бегущих ручьев улавливалась музыка и очарование, превосходящее всякое понимание. Но это потому, что они живые — да, даже реку и ручейки можно считать живыми существами. Возможно ли, чтобы книги тоже были живыми?
Столько книг, целая комната, от пола до потолка ряды книг, и во много раз больше, сказал ей маленький забавный робот Тэтчер, хранится в подвальных помещениях. Но самым странным было то, что она могла думать о роботе как о забавном существе — почти так же, как если бы он был человеком. «Здесь вы сможете проследить и нанести на карту путь, который проделал человек из самой темной ночи к свету». Сказал с гордостью, словно сам был человеком и один, с тревогой и надеждой, прошагал от начала до конца этот путь.
Голоса книг все звучали в сумраке комнаты, под стук дождя — приветливое бормотание, которое не должно никогда умолкать, призрачные разговоры писателей, чьи произведения стояли рядами вдоль стен кабинета. Игра ли воображения, спросила она себя, или другие тоже слышат их — слышит ли их иногда дядя Джейсон, когда сидит здесь? Она знала, что никогда не сможет спросить об этом. Может, она одна их слышит, как услышала голос старого Дедушки Дуба в тот далекий летний день, когда ее племя отправилось в страну дикого риса, или сегодня, когда она ощутила, что поднялись огромные руки и на нее снизошло благословение?
Она сидела перед раскрытой книгой за маленьким столиком в углу комнаты (не за тем большим столом, где дядя Джейсон писал свои хроники), слушая, как гуляет в карнизах ветер, глядя, как хлещет дождь за окнами, на которых Тэтчер раздвинул шторы. И незаметно перенеслась в какое-то другое место. А может, ей это только показалось? Множество людей, или, по крайней мере, тени множества людей, и множество других столов, и далекие-далекие времена и места, хотя казались они ближе, чем им полагалось быть, словно бы завесы времени и пространства стали тонкими и готовы растаять; и она сидела, наблюдая великое чудо: время и пространство почти исчезли, не разделяя людей и события, но соединяя их, словно все когда-либо случившееся произошло одновременно и в одном и том же месте, а прошлое придвинулось вплотную к будущему в пределах одной крошечной точки существования, которую, для удобства, можно было назвать настоящим. Испуганная происходящим, она тем не менее увидела за одно страшное, величественное мгновение все причины и следствия, все направления и цели, всю муку и счастье, которые побудили людей написать те миллиарды слов, что хранились в комнате. Увидела это все, не понимая, не успев и не будучи в состоянии понять, осознав лишь, что нечто, побудившее людей создать все произнесенные, начертанные, пылающие слова, являлось не столько результатом работы многих умов, сколько результатом воздействия образа существования на умы всего человечества.
Наваждение (если это было всего лишь наваждением) почти сразу же рассеялось. В дверь вошел Тэтчер с подносом и, тихими шагами подойдя к девушке, поставил поднос на стол.
— С некоторым опозданием, — извинился он. — Из монастыря прибежал Никодемус и попросил горячего супа, одеял и много других вещей, требующихся для раненого паломника.
На подносе были стакан молока, баночка варенья из дикого крыжовника, ломтики хлеба с маслом и кусок медового пирога.
— Не слишком большое разнообразие, — продолжал Тэтчер. — Не столь изысканно, как вправе ожидать гость в этом доме, но, занимаясь нуждами монастыря, я не успел должным образом все приготовить.
— Этого более чем достаточно, — сказала Вечерняя Звезда. — Я не ожидала подобной заботы. Ты был так занят, что не стоило себя утруждать.
— Мисс, — проговорил Тэтчер, — в течение столетий на мне лежала приятная обязанность вести здесь домашнее хозяйство в соответствии с определенными нормами, которые за это время ни разу не менялись. Я лишь сожалею, что заведенный порядок впервые был нарушен в первый же день вашего пребывания здесь.
— Ничего страшного, — ответила она. — Ты говорил о паломнике. Паломники часто приходят в монастырь? Я никогда о них не слыхала.
— Он — первый, — сказал Тэтчер. — И я не уверен, что он паломник, хотя именно так его назвал Никодемус. Несомненно, просто странник, хотя само по себе и это примечательно, поскольку прежде никогда не было странников — людей. Молодой человек, почти обнаженный, как говорит Никодемус, с ожерельем из медвежьих когтей на шее.
Она застыла, вспомнив мужчину, которого встретила утром на вершине утеса.
— Он серьезно ранен? — спросила она.
— Не думаю, — ответил Тэтчер. — Он хотел укрыться в монастыре от грозы. Открыл калитку, ее рванул ветер, и она его ударила. Ничего особенного с ним не случилось.
— Это хороший человек, — сказала Вечерняя Звезда, — и очень простой. Он даже не умеет читать. Считает, что звезды — всего лишь крошечные огоньки, светящиеся в небе. Но ему дано чувствовать дерево…
И замолчала, смутившись, потому что о дереве рассказывать нельзя. Нужно научиться следить за тем, что говоришь.
— Мисс, вы знаете его?
— Нет. По-настоящему не знаю. Сегодня утром я совсем недолго говорила с ним. Он сказал, что направляется сюда. Он что-то искал и полагал, что может найти это здесь.
— Все люди что-нибудь ищут, — произнес Тэтчер. — Мы, роботы, совершенно иные. Мы довольствуемся тем, что служим.
Глава 10
— Сначала, — рассказывал Джон Уитни, — я просто путешествовал. Это казалось чудесным всем нам, но мне почему-то думается, что мне — больше всех. Что человек может свободно передвигаться во Вселенной, что он может направиться, куда пожелает, казалось волшебством и было выше всякого понимания. А то, что он может делать это без каких-либо механизмов и инструментов, посредством силы, заключенной в нем самом и дотоле никому не известной, было просто невероятно, и я использовал эту силу, чтобы снова и снова доказать самому себе, что могу это делать, что это постоянная, неисчезающая способность, которой можно пользоваться по своему желанию, и что она наша по праву принадлежности к человеческому роду, а не дана откуда-то извне, и не может быть отнята в мгновение ока. Вы никогда не пробовали, Джейсон, ни ты, ни Марта?
Джейсон покачал головой:
— Мы нашли кое-что иное. Возможно, не столь волнующее, но дающее глубокое удовлетворение. Любовь к Земле и чувство целостности, неразрывности, ощущение непрерывности жизни земной, житейской определенности.
— Пожалуй, я могу понять это, — сказал Джон. — То, чего у меня никогда не было, и, подозреваю, именно отсутствие его гнало меня все дальше и дальше, даже когда удовольствие от путешествия от звезды к звезде несколько потускнело. Хотя новое место по-прежнему способно взволновать меня — ибо нет двух похожих друг на друга мест. Что меня изумляло, что продолжает меня изумлять — так это огромное разнообразие, которое существует на свете, даже на планетах, геология и история которых очень похожи.
— Но почему, Джон, ты так долго ждал? Не давал знать о себе. Ты говорил, что встречался с другими и они тебе сказали, что мы по-прежнему на Земле.
— Я думал об этом, — ответил Джон. — Я много раз думал о том, чтобы вернуться домой и встретиться с вами. Но я бы прибыл с пустыми руками. Речь не о вещах, мы теперь знаем, что они не в счет. Но не было ничего, что бы я узнал, ничего нового, что бы я понял. Горстка рассказов о том, где был и что видел, только и всего. Блудный сын…
— Но тебя всегда ждал радушный прием. Мы тебя ждали и спрашивали о тебе.
— Я не понимаю одного, — сказала Марта. — Почему о тебе не было никаких известий? Ты говоришь, что встречался с другими, и никто о тебе не слышал, никогда, ничего. Ты просто бесследно исчез.
— Я был очень далеко, Марта. Гораздо дальше, чем большинство остальных. Я бежал со всех ног. Не спрашивайте почему; я сам себя спрашивал и не нашел ответа. Вразумительного ответа. Те же, с кем я встречался — всего двое или трое да и то совершенно случайно, — мчались так же, как и я. Как стайка ребятишек, попавшая в незнакомое чудесное место, где так много интересного, что страшно что-нибудь упустить. И бегут во весь дух, и говорят себе, что, когда посмотрят все, вернутся в то единственное место, которое лучше всех; и, возможно, знают, что никогда не вернутся, поскольку им кажется, что самое лучшее место всегда чуть впереди; и они одержимы мыслью, что, остановившись, не найдут его. Я понимал, что делаю, и знал, что это глупо, и утешался только тем, что я не один такой.
— Однако, — сказал Джейсон, — ты нашел Людей. Потому что забрался так далеко.
— Верно, — ответил Джон, — но у меня не было такой цели. Я на них наткнулся случайно. Я их не разыскивал. Я ощутил Принцип, который искал.
— Принцип?
— Даже не знаю, Джейсон, как вам рассказать, — в языке, думаю, не существует нужных слов. Я просто не в состоянии точно объяснить… Возможно, никому не дано знать, что это такое. Помнишь, ты сказал, что ближе к центру Галактики находится зло. Это зло и есть Принцип. Люди, которых я там встречал, тоже его ощущали и, видимо, кое-что рассказали другим. Однако слово «зло» неверно; в действительности это не зло. Если его ощутить, почуять, почувствовать издалека… Принцип имеет запах зла, нечеловеческий, безразличный. По нашим стандартам, он слеп и не наделен разумом. У него нет ни цели, ни единого мыслительного процесса, который мог бы быть приравнен к деятельности человеческого мозга. В сравнении с ним паук является нашим кровным братом и разум его на одном уровне с нашим. Принцип знает все, что только можно знать. И знание его выражается в столь нечеловеческих терминах, что мы не смогли бы даже приблизительно понять самый простейший из них. Он находится там, зная все, и знание его столь леденяще верно, что ты бросаешься прочь. Он не ошибается ни на йоту. Я назвал его нечеловеческим, и, возможно, именно эта способность быть всегда совершенно правым, абсолютно точным и делает его таковым. Ибо, как бы ни гордились мы своим разумом и пониманием, никто из нас не может искренне и со всей уверенностью сказать, что прав всегда и во всем.
— Но ты говорил, что нашел Людей и что они возвращаются на Землю, — сказала Марта. — Не расскажешь ли ты нам о них? И когда они вернутся…
— Дорогая, — мягко произнес Джейсон, — я думаю, прежде чем перейти к Людям, у Джона есть еще много о чем рассказать нам.
Джон поднялся из кресла, подошел к залитому дождем окну и выглянул наружу, затем вернулся и остановился перед Джейсоном и Мартой, сидевшими на кушетке.
— Джейсон прав, — сказал он. — Я так долго ждал возможности кому-нибудь рассказать, с кем-нибудь разделить мои мысли. Возможно, я не прав. Я так долго об этом размышлял, что, может, и сам запутался. Я бы хотел, чтобы вы оба меня выслушали. — Джон снова сел в кресло. — Попробую изложить все предельно объективно. Вы понимаете, что я никогда не видел эту штуку, этот Принцип. Возможно, я даже рядом с ним не был. Но был достаточно близко, чтобы знать, что он есть, и чтобы почувствовать, что это за штука. Конечно, я его не понял, даже не пытался понять, для этого я слишком мал и слаб. Это-то меня больше всего и мучило — сознание своей малости и слабости, и не только собственной, но и всего человечества. Нечто, уравнивавшее человека с микробом, даже с чем-то меньшим, нежели микроб. Понимаешь, что тебя, отдельного человека, он не в состоянии заметить, хоть есть свидетельства, по крайней мере мне так кажется, что он способен заметить и действительно заметил человечество.
Я подобрался к нему так близко, как только мог. Я съеживался перед ним. Все это припоминается как-то смутно. Возможно, я был слишком близко. Но мне надо было знать, понимаете? И теперь я уверен: он там, и он наблюдает, и он — знает. Он может действовать, хотя я склонен думать, что торопиться он бы не стал.
— Как действовать? — спросил Джейсон.
— Не знаю, — ответил Джон. — Ты должен понять, все это только впечатление, мысленное. Ничего зрительного. Ничего, что бы я видел или слышал. Именно поэтому его так трудно описать. Как описать реакции человеческого мозга? Как передать эмоциональное воздействие этих реакций?
— До нас доходили слухи. — Джейсон обратился к Марте: — Кто-то говорил… Ты не помнишь, кто это был? Кто-то, кто находился так же далеко, как Джон, или почти так же…
— Не стоило забираться так далеко, — сказал Джон. — Можно ощутить с гораздо большего расстояния. Я намеренно старался подобраться поближе.
— Не помню, кто это был, — ответила Марта. — Говорили двое или трое. Не сомневаюсь, это сведения из вторых рук. Слух, передаваемый от одного к другому, многих ко многим. О том, что в центре Галактики находится некое зло, что кто-то на него натолкнулся. Но его никто не исследовал. Наверное, боялись.
— Что верно, то верно, — отозвался Джон. — Я очень боялся.
— Ты называешь его Принципом, — сказал Джейсон. — Странное название. Почему Принцип?
— Так мне подумалось, когда я был с ним рядом, — ответил Джон. — Он со мной не общался. Возможно, он меня даже не замечал, не знал, что я существую. Крошечный микроб…
— Но — Принцип? Это что же предмет, существо, организм? Довольно странно называть так существо или организм.
— Я не уверен, Джейсон, что это существо или организм. Это просто нечто. Возможно, сгусток разума. А какую форму может принять сгусток разума? На что он похож? Можно ли его увидеть? Это облако, или поток газа, или триллионы крошечных пылинок, танцующих в свете солнц, находящихся в центре Галактики? Почему я назвал его Принципом? Я не могу сказать. Тут нет логики. Просто я чувствовал, что это. Основной принцип Вселенной, ее направляющая сила, ее мозговой центр, то, что делает Вселенную единым целым и приводит ее в действие — сила, заставляющая электроны вращаться вокруг ядра, а галактики — вокруг их центров, сила, удерживающая все и вся на своих местах.
— Ты мог бы точно указать его местоположение? — спросил Джейсон.
Джон покачал головой:
— Это невозможно. Ощущение Принципа, казалось, было везде. Оно исходило отовсюду. Смыкалось вокруг. Окутывало и поглощало. Не было никакого направления. И там столько солнц и столько планет. Битком набито. Солнца друг от друга на расстоянии меньше одного светового года. В большинстве своем старые, и большая часть планет мертва. На некоторых из них развалины того, что когда-то, видимо, было великими цивилизациями, но все они погибли…
— Может быть, это одна из тех цивилизаций…
— Может быть, — сказал Джон. — Я поначалу так и думал: одной из этих древних цивилизаций удалось выжить. И разум ее превратился в Принцип. Но для проявления и развития Принципа нужно больше времени, чем весь период существования Галактики. Я не знаю, как это объяснить. Только силой этого разума или тем, насколько он нам чужд. В космосе повсюду встречаются формы разумной жизни, отличные от нас, и эти отличия делают их чуждыми нам. Но Принцип нам страшно чужд. И это наводит на мысль о том, что зародился он вне Галактики и во время, предшествующее ее появлению. Зародился во времени и месте, столь разнящихся с нашей Галактикой, что постичь его невозможно. Я полагаю, ты знаком с теорией стационарной вселенной?
— Да, конечно, — сказал Джейсон. — Вселенная не имеет ни начала, ни конца, она находится в состоянии непрерывного созидания, образуется новая материя, появляются новые галактики, старые погибают. Однако специалисты по космологии еще до исчезновения Людей установили, что эта теория несостоятельна.
— Я знаю, — сказал Джон. — И все же одна надежда… Люди из философских соображений упрямо цеплялись за эту концепцию. Она была столь красива, столь величественна и внушала такое благоговение: предположим, что вселенная гораздо больше, чем кажется, что мы видим лишь малую ее часть, крошечный прыщик на коже этой большой вселенной, и этот крошечный прыщик находится в стадии, которая заставляет нас думать не о стационарной вселенной, а о развивающейся.
— И ты считаешь, что они были правы?
— Возможно. Стационарное состояние дало бы Принципу время, необходимое для его появления. До этого Вселенная, возможно, находилась в состоянии хаоса. Принцип мог быть той созидающей силой, которая все расставила по своим местам.
— Ты в это веришь?
— Да, верю. У меня было время подумать, я собрал все воедино. Теперь я в этом убежден. Не имею ни малейших доказательств. Ни крупицы информации. Но эта мысль укрепилась в моем сознании, и я не могу от нее избавиться. Я говорю себе, что ее внедрил Принцип, внушил ее мне. Только так я могу это объяснить. Но Принцип, вне всякого сомнения, понятия не имел обо мне.
— Ты говоришь, что находился близко от него.
— Настолько близко, насколько хватило храбрости. Мне все время было страшно. Пока не добрался до точки, откуда бежал.
— Где-то по дороге ты нашел Людей. Ты бы никогда не нашел их, если б не гонялся за этой штукой, которую зовешь Принципом.
— Джейсон, — сказала Марта, — похоже, на тебя все это не произвело особого впечатления. Что с тобой? Вернулся твой брат…
— Прошу прощения, — ответил Джейсон. — Пожалуй, я еще не осознал всего. Возможно, в глубине души я испытываю ужас, и, называя его «этой штукой», я отталкиваю его от себя.
— То же было и со мной, — сказал Джон Марте. — Поначалу. Но я это преодолел. И верно, я бы никогда не нашел Людей, если бы не искал Принцип. Это слепая случайность, что я нашел их. Я уже двинулся обратно и прыгал с планеты на планету, но, думаю, вы знаете, что надо с предельной осторожностью выбирать планеты. Ты можешь выбрать те, что кажутся лучше, есть много ориентиров. Однако у планеты могут обнаружиться особенности, которых ты не знал, поэтому всегда надо иметь в запасе планету-другую, чтобы переместиться в другое место. У меня были такие запасные варианты. Я попал на планету, если и не смертельную для меня, то, по крайней мере, чрезвычайно неудобную. Я быстро перескочил на другую и тут-то нашел Людей. Это планета, расположенная очень близко к Принципу, и я удивлялся, как они могут жить так близко и совершенно не обращать внимания на него или делать вид, что не обращают. Может, они к нему привыкли, хотя к такой вещи не легко привыкнуть. Спустя какое-то время я понял, что они его не замечают. У них не развились парапсихологические способности, как у нас. Они понятия не имели, что там такое.
Мне повезло. Я материализовался в открытом поле… «материализовался», конечно, не то слово, но у нас нет более подходящего. Нелепо, когда человек может что-то делать и не знает слова для того, чтобы это как-то назвать. Джейсон, ты случайно не знаешь, разобрался ли кто-нибудь в том, что же, в сущности, происходит, когда мы путешествуем среди звезд?
— Не знаю, — ответил Джейсон. — Думаю, нет. Может, Марта знает лучше меня. Она постоянно разговаривает с остальными и знает все новости.
— Некоторые пытались разобраться, — сказала Марта, — но ничего не добились. Это было давно. Не думаю, чтобы кто-то долго упорствовал. Сейчас они просто принимают все как должное, никого больше не заботит, как и почему это происходит.
— Может, оно и хорошо, — сказал Джон. — Как бы то ни было, я мог промахнуться. Прибыл бы в густонаселенное место, кто-нибудь бы увидел, что я появился ниоткуда. Или же через столько столетий увидев людей, признал их за бывших землян и поспешил бы к ним в объятия. Хотя я совсем не искал их. Вот уж о чем думать не думал.
Однако я появился в чистом поле и в некотором отдалении от людей. Я решил, что это люди, фермеры, которые работали с большими самоходными сельскохозяйственными орудиями. Я понял, что если это и люди, то не нашего клана, ведь мы уже тысячи лет не имеем дело с самоходными машинами. Мне пришло в голову, что эти люди в свое время были унесены с Земли, и от этой мысли я ощутил слабость в коленях и восторг в душе. Хотя я сказал себе, что, очевидно, обнаружил еще одну расу гуманоидов. Но это тоже было маловероятно. Во всей Галактике никто не нашел другой расы людей. Или уже нашли? Я так долго отсутствовал…
— Нет, не нашли, — ответила Марта. — Множество других существ, но не гуманоидов.
— И у них были машины. Хотя мы уже встречались с другими технологическими расами, но их техника сложна и фантастична. Мы даже не в состоянии понять принцип ее действия или назначение. Казалось абсурдным, что я натолкнулся еще на одну гуманоидную расу, имеющую машинную технологию. Единственный, стало быть, вывод: передо мной Люди. Поняв это, я стал несколько осмотрительнее. Пусть мы одной крови, но между нами пять тысяч лет, а за пять тысяч лет, напомнил я себе, мы могли стать абсолютно чужими друг другу. А вступать в контакт с чужаками надо очень осторожно.
Не стану рассказывать вам обо всем, что случилось. Может быть, позднее. Я склонен думать, что справился со своей задачей хорошо. Хотя, пожалуй, мне просто повезло. Фермеры меня приняли за странствующего ученого с какой-то из трех планет, где обитает человечество, — за ученого, который слегка не в своем уме и занят такими вещами, на которые ни один нормальный человек и внимания-то обращать не станет. Я это понял и стал им подыгрывать; все пошло гладко. Мои промахи казались им всего лишь чудачеством. К счастью, они изъяснялись на английском, пусть и отличном от того языка, на котором говорим мы. Скрываясь за приписанным мне по ошибке образом, я смог побывать во многих местах и разобраться что к чему, понять их общество, их замыслы относительно будущего.
— И все это оказалось не очень симпатичным, — сказал Джейсон.
Джон взглянул на него с изумлением.
— Откуда ты знаешь?
— Ты говорил, что у них по-прежнему машинная технология. Наверное, в этом суть. Когда все утряслось, они продолжали двигаться по тому же пути, что прежде на Земле.
— Ты прав, — сказал Джон. — Им, очевидно, потребовалось не много времени, чтобы, как ты говоришь, все утряслось. После того как они в мгновение ока очутились на другой планете, точнее, на других планетах в неведомой части космоса, они сориентировались, организовались и снова пошли по прежнему пути. Разумеется, им пришлось начать с нуля, однако технические знания и нетронутые запасы природных ресурсов помогли им. Более того, они наделены той же продолжительностью жизни, что и мы. Многие из них погибли в первые годы, но многие выжили, и среди них люди, обладающие знаниями, необходимыми для создания новой технологии. Представь себе, что квалифицированный, опытный инженер или эрудированный, одаренный воображением ученый живут несколько веков. Гении не умирают, но продолжают быть гениями. Инженеры строят и проектируют на протяжении веков. Создатель теории сохраняет молодость, необходимую для работы. Но есть во всем этом один очень крупный недостаток. Присутствие людей с огромным опытом отрицательно сказалось бы на молодых, порождая консерватизм, невосприимчивость к новым идеям. У Людей хватило здравого смысла это осознать и снабдить социальную структуру элементами компенсации.
— Ты узнал что-либо о сроках? Как быстро они продвигались вперед?
— Разумеется, ничего определенного. Но примерно сто лет на то, чтобы утвердиться как жизнеспособное общество, и лет триста, чтобы восстановить технологическую структуру, существовавшую здесь, на Земле. Они все строили с нуля, но приходилось бороться со старением. Не прошло и тысячи лет, как Люди, живущие на трех разных планетах, на расстоянии менее одного светового года друг от друга, узнали об этом. И очень быстро были разработаны и построены космические корабли; человечество опять воссоединилось. Физические контакты и торговля дали новый толчок развитию техники, поскольку, существуя эту тысячу лет отдельно друг от друга, они развивались в области технологии по-разному. К тому же они владели ресурсами сразу трех планет, а не одной, и это было явное преимущество. В результате произошло слияние трех отдельных культур в нечто вроде единой суперкультуры, имеющей общие корни.
— У них не развились парапсихологические способности? Никаких признаков?
Джон покачал головой:
— Они к ним так же глухи, как и прежде. Чтобы эти способности развились, нужно не только время. Очевидно, необходим иной взгляд на вещи, снятие гнета технологического развития. Это бремя, которое легло не только на весь род людской, но и на каждого отдельного человека.
— А их технология?
— Нам с тобой она показалась бы отвратительной. Не зная ничего иного, видя в ней единственную цель, они, по всей вероятности, считают ее расчудесной. Ну, если не чудесной, то по крайней мере удовлетворительной. Для них она означает свободу — свободу возвыситься над окружающей средой и подчинить ее своим целям. Мы бы в ней задохнулись.
— Но они должны думать о прошлом, — проговорила Марта. — Их перемещение с Земли произошло относительно недавно. Должны быть записи. Все эти годы они наверняка размышляли над тем, что с ними произошло и где осталась Земля.
— Записи сохранились, — сказал Джон. — В них правда перемешана с домыслами, потому что лишь спустя много лет они обратились к бумаге. К тому времени воспоминания о происшедшем затуманились и никто уже не мог с точностью сказать, что же именно случилось. Хотя они не переставали задаваться вопросами, выдвинули великолепные теории, но так и не пришли к окончательному выводу. А у тебя, Джейсон, есть записи, которые начал наш дед. Ты их ведешь по-прежнему?
— Время от времени, — ответил Джейсон. — Бывает, что писать особенно не о чем.
— Наши записи, — продолжал Джон, — сделаны с ясным намерением, спокойно и не торопясь. Мы не пережили никакого перемещения; нас оставили здесь. Но его пережили другие. Трудно представить, как это было. Что значит оказаться на планете, похожей на Землю, но и совершенно иной. Оказаться там без пищи, без вещей, без крова. Стать первооткрывателями в мгновение ока, при самых неблагоприятных обстоятельствах. Они были испуганы, растеряны и, что хуже всего, совершенно сбиты с толку. Человеку чрезвычайно важно объяснить, что с ним происходит, а они не могли найти никакого объяснения. Словно какое-то колдовство, очень злобное, жестокое. Удивительно, что кто-то из них выжил. И они по сей день не знают, почему и как это случилось. Мне кажется, я знаю причину.
— Ты имеешь в виду Принцип?
— Возможно, это всего лишь моя фантазия, — сказал Джон. — Может, я пришел к этой мысли только потому, что не видел никаких других объяснений. Если бы Люди имели парапсихологические способности и знали о существовании Принципа, они бы сделали тот же вывод. Из чего вовсе не следует, что мы действительно правы. Я уже говорил: вряд ли Принцип знал обо мне. Я не уверен, что он способен заметить отдельного человека. Так человек не замечает существования микроба, хотя и способен к чрезвычайно тонкому восприятию. Но Принцип скорее обратил бы внимание на большое число людей, на какие угодно существа, но именно в большом количестве, заинтересовавшись, например, социальной структурой этой массы или направлением их интеллектуального развития. Я полагаю, чтобы привлечь его внимание, ситуация должна быть уникальна. Я бы сказал, что пять тысяч лет назад человечество, в полном расцвете технологического развития и со своим материалистическим мировоззрением, должно было казаться уникальным. Возможно, некоторое время Принцип нас изучал, недоумевая и, может быть, несколько опасаясь, что со временем мы можем нарушить установленный порядок во Вселенной. Этого он не хотел. Поэтому, думаю я, он сделал с нами именно то, что сделали бы люди, обнаружив новый штамм вируса. Вирус поместили бы в пробирки и подвергли анализу, пытаясь определить, как он поведет себя в различных условиях. Принцип отправил человечество на три планеты и стал наблюдать, сохранится ли чистота штамма. Культуры трех планет, разумеется, отличались друг от друга, но при всем своем отличии все три являлись технологическими и материалистичными и впоследствии без труда объединились в суперкультуру.
— Не знаю почему, — произнес Джейсон, — но когда ты говоришь о Людях, у меня появляется чувство, будто ты описываешь не человечество, а какую-то чудовищную расу инопланетных существ.
— Я боюсь, — сказал Джон. — И, пожалуй, не какого-то отдельно взятого аспекта их культуры — некоторые из них могут быть очень даже приятны, — но скрытого в ней чувства высокомерия. Не силы и могущества, хотя они тоже присутствуют, но неприкрытого высокомерия вида, который всё почитает своей собственностью.
— И все же, — сказала Марта, — это Люди. Мы так долго думали о них, беспокоились, мучились вопросом, что с ними случилось. Мы должны быть счастливы, что нашли их, счастливы, что у них хорошо идут дела.
— Должны, — проговорил Джейсон, — но я почему-то не могу. Джон сказал, они возвращаются на Землю. Мы не можем позволить им этого. Что они сделают с Землей, с нами?
— Может быть, нам придется ее покинуть, — ответила Марта.
— Мы не можем этого сделать, — сказал Джейсон. — Земля — часть нас самих. И не только нас с тобой, но и других тоже. Земля — наш якорь; она удерживает нас вместе — всех нас, даже тех, кто никогда на ней не был.
— Зачем им понадобилось искать Землю? — спросила Марта. — Как они, затерянные среди звезд, сумели найти Землю?
— Не знаю, — ответил Джон. — Но они умны. Чересчур умны. Их астрономия, их науки превосходят все, о чем земляне когда-либо осмеливались мечтать. Каким-то образом им удалось нащупать среди звезд и определить солнце своих предков. И у них есть корабли. Они уже добрались до других близлежащих солнц, исследуя их и пользуясь ими.
— Дорога сюда неблизкая, — сказал Джейсон. — Мы успеем что-нибудь предпринять.
Джон покачал головой:
— Скорость их кораблей во много раз превышает скорость света. Разведывательный корабль уже год в пути. Он может прибыть не сегодня-завтра.
Глава 11
Из записи в журнале от 19 апреля 6135 года:
…Сегодня мы посадили деревья, которые принес Роберт. С исключительной бережностью мы посадили их на небольшой возвышенности, что находится на полпути между домом и монастырем. Работали, конечно, роботы, но мы тоже присутствовали и руководили — чего, впрочем, совершенно не требовалось. Там были Марта, я и Роберт, потом прибыли Эндрю и Маргарет с детьми. Словом, получился хороший праздник.
Хотелось бы знать, приживутся ли деревья. Не в первый раз мы пытаемся сажать инопланетные растения на Земле. Джастин, например, принес откуда-то с Полярной звезды горсть хлебных зерен, были клубни, которые собрала Силия. И то и другое пришлось бы кстати, добавив разнообразия нашей пище, однако у нас ничего не вышло. Зерна протянули несколько лет, с каждым разом давая все меньший урожай, пока наконец, высадив то немногое, что имели, мы не увидели даже всходов. Вероятно, нашей почве чего-то недостает, возможно, отсутствуют минералы, бактерии либо микроскопические животные формы жизни, которые необходимы инопланетным растениям.
Мы, разумеется, будем заботиться о деревьях и внимательно наблюдать за ними. Если они приживутся, это будет замечательно. Роберт называет их музыкальными деревьями и говорит, что на его родной планете они растут огромными рощами и в вечерние часы дают концерты. Но кому? На их планете нет никакой разумной формы жизни, способной оценить хорошую музыку. Возможно, они играют для себя или для соседей, и вечерами одна роща слушает другую, оценивая ее по достоинству.
Вероятно, могут быть и иные причины, которых Роберт не понял, довольствуясь тем, что сидел и слушал музыку. Мне тоже их не понять. Наш опыт и история слишком малы, чтобы объяснить иные формы жизни, обитающие в нашей Галактике.
Роберт принес на Землю с полдюжины деревьев, маленькие побеги высотой фута в три. Выкопал он их чрезвычайно осторожно, корни обернул собственной одеждой и на Земле объявился совершенно голым. Моя одежда ему великовата, однако, всегда готовый посмеяться, в том числе и над собой, он ничего не имеет против. Роботы сейчас готовят ему гардероб, и он покинет Землю, экипированный лучше, чем прежде.
У нас нет никаких оснований надеяться, что деревья примутся, но очень хочется надеяться. Я так давно не слышал никакой музыки, что трудно даже вспомнить, что это такое. Ни у меня, ни у Марты совершенно нет музыкальных способностей. Лишь двое из наших обладали музыкальным слухом, но они давным-давно покинули Землю. Много лет назад, охваченный грандиозной идеей, я прочитал достаточно книг, чтобы постичь кое-какие основы игры на музыкальных инструментах, и засадил роботов за их изготовление. Результат оказался не слишком блестящим, а играли они еще хуже. По всей видимости, роботы — по крайней мере наши — имеют не больше музыкальных способностей, чем я. В дни моей молодости музыка записывалась при помощи электронной аппаратуры, но после Исчезновения оказалось совершенно невозможным воспроизвести ее. По правде говоря, мой дед, собрав книги и произведения искусства, не взял в коллекцию ни единой записи. Но мне кажется, что в одном из подвалов хранится значительное собрание партитур — старик, видимо, надеялся, что в будущем найдутся музыкально одаренные люди, которым они пригодятся…
Глава 12
Он знал, что такое музыка, и был ею очарован; порой она чудилась ему в шелесте листвы на ветру или в серебряном звоне бегущей по камням воды. Но никогда в жизни не доводилось ему слушать музыку, подобную этой.
Он помнил, как старый Джоуз садился по вечерам у порога своей хижины, прилаживал под подбородком скрипку и водил смычком по струнам, порождая радость или печаль, а порой просто чарующую мелодию.
— Играю я уже неважно, — говаривал он. — Пальцы мои уже не так ловко танцуют по струнам, и рука, держащая смычок, отяжелела. Она должна бабочкой порхать над струнами — вот так.
Однако мальчику, сидящему на еще теплом от солнца песке, эта музыка казалась чудесной. На высоком холме позади хижины койот поднимал к небу морду и выл под звучание скрипки, повествуя о пустынности холмов, и моря, и пляжа, словно, кроме него, старика со скрипкой да сидящего на корточках паренька, вокруг не осталось ничего живого, одни пни да древние холмы, виднеющиеся в сумерках.
Еще были охотники на буйволов со своими барабанами, трещотками и свистками из оленьей кости, и он вместе с другими плясал в сильнейшем возбуждении, которое, как он чувствовал, уходило корнями в далекое прошлое.
Но здесь звучала не скрипка, не свисток из оленьей кости, не барабан; эта музыка наполняла собою весь мир и гремела под небесами, она захватывала человека и уносила с собой, затопляла его, заставляла забыть о собственном теле, влиться всем существом в узор, который она создавала.
Какая-то часть его сознания оставалась свободной и озадаченно и изумленно тянулась навстречу звучащему волшебству, снова и снова повторяя: музыку создают деревья. Маленькая группка деревьев на холме — они кажутся призрачными в вечернем свете, когда все вокруг так чисто и свежо после дождя, белые, как березы, но выше, чем обычно бывают березы. Деревья, у которых есть барабан, и скрипка, и свисток из оленьей кости, и еще много-много чего, и они объединяют все это, пока не заговорит само небо.
Он заметил, что кто-то прошел через сад и остановился рядом, но юноша не повернулся взглянуть, кто это, поскольку на холме, где стояли деревья, что-то было неладно. Невзирая на всю красоту и мощь, в музыке было нечто неправильное, и, если бы удалось это исправить, музыка стала бы совершенной.
Езекия протянул руку и осторожно поправил повязку на щеке юноши.
— Теперь вы хорошо себя чувствуете? — спросил он. — Вам лучше?
— Замечательно, — ответил тот, — но что-то не так.
— Все как положено, — сказал Езекия. — Редко бывало лучше. И это одна из старых композиций, не экспериментальная…
— В ней есть какой-то недуг.
— Некоторые деревья уже состарились и умирают, — сказал Езекия. — Может быть, они играют не так, как в былые дни, но все равно хорошо. И там есть молодые побеги, которые еще не приобрели сноровки.
— Почему им никто не поможет?
— Им невозможно помочь. Никто не знает как. Все на свете старится и умирает, вы — от старости, я — от ржавчины. Это не земные деревья. Их много веков назад принес один из тех, кто путешествует к звездам.
Вот опять, подумал молодой человек, говорят о путешествии к звездам. Охотники на буйволов рассказывали, что есть мужчины и женщины, которые отправляются к звездам, и сегодня утром об этом упомянула девушка, с которой он говорил. Девушка-то должна знать — ведь она может разговаривать с деревьями. Интересно, подумал он, говорила ли она когда-нибудь с призрачными деревьями на холме?
Она может говорить с деревьями, а он может убивать медведей, и неожиданно в памяти всплыл миг, когда в балке поднялся на дыбы тот последний медведь. Но теперь, по какой-то странной причине, это был совсем не медведь, а деревья на холме, и появилось то же чувство: будто он выходит из собственного тела и с чем-то соприкасается. Но с чем? С медведем? С деревьями?
Затем все исчезло, он опять вернулся в свое тело, и все стало правильно и хорошо. Музыка наполняла собою мир и гремела под небесами.
Езекия сказал:
— Вы ошибаетесь насчет деревьев. В них не может быть никакого недуга. Мне кажется, именно сейчас они играют как никогда.
Глава 13
Ночью Джейсон проснулся и заснуть снова уже не смог. Он знал, что не тело его пренебрегает сном; это его ум, переполненный думами и дурными предчувствиями, отказывался отдыхать.
В конце концов он встал и начал одеваться.
— Что такое, Джейсон? — спросила Марта со своей кровати.
— Не спится, — ответил он. — Пойду пройдусь.
— Надень плащ. Ветер ночью холодный. И постарайся не беспокоиться. Все образуется, все будет хорошо.
Спускаясь по лестнице, он подумал, что Марта не права и знает, что не права. Ничего не образуется. Стоит Людям вернуться на Землю, и жизнь непременно изменится, она уже никогда не будет такой, как прежде.
Когда он вышел во внутренний дворик, из-за угла кухни показался старый Баусер. Не было ни молодого пса, который обычно сопровождал его на прогулках, ни остальных собак. Либо они где-то спали, либо отправились охотиться на енота, а может быть, учуяли мышей в кукурузных снопах. Ночь была тиха, прохладна и исполнена чувства, одновременно холодного и печального. На западе, над темной массой поросшего лесом утеса на другом берегу Миссисипи, висел тонкий месяц. В воздухе стоял слабый запах опавших листьев.
Джейсон пошел по тропинке, ведущей к оконечности мыса и слиянию рек. Старый пес увязался за ним.
Месяц светил совсем тускло, хотя, сказал себе Джейсон, свет им и не нужен. Он столько раз ходил этой тропинкой, что нашел бы ее даже в темноте.
Земля спокойна, подумал он, не только здесь, но и повсюду. Спокойна и отдыхает после тех бурных столетий, когда человек вырубал деревья, вырывал из ее недр минералы, распахивал прерии, строил дома на ее широких просторах и вылавливал рыбу в ее водах. Неужели после краткого отдыха все начнется сначала? Направляющийся к Земле корабль послан, чтобы отыскать старушку Землю, удостовериться, что астрономы не ошиблись в своих расчетах, осмотреть и доставить назад сообщение. А потом, подумал Джейсон, что будет потом? Не предъявят ли Люди права на свою собственность? Хотя он очень сомневался в том, чтобы человек действительно был когда-либо истинным собственником Земли. Правильнее было бы сказать, что Люди захватили ее, отняв у других существ, имевших на нее столько же прав, но не обладавших разумом, умением или достаточной силой, чтобы эти права отстаивать. Человек был скорее бесцеремонным, высокомерным захватчиком, а не владельцем, хозяином. Он одержал победу силой разума, которая может быть не менее отвратительна, чем сила мускулов, создавая собственные правила, ставя свои цели, устанавливая свои собственные ценности и полностью игнорируя все прочее, что было живого на Земле.
Из дубовой рощи поднялась неслышная тень и проплыла вниз, в глубокую лощину, где ее поглотили тьма и безмолвие, частью которых она была. Сова, сказал себе Джейсон. Совы здесь водились во множестве, но днем они прятались. Что-то прошелестело в листьях. Баусер поднял одно ухо и принюхался, но то ли был слишком мудр, то ли слишком стар и тяжел на подъем, чтобы броситься вдогонку. Ласка, скорее всего, а может быть, норка; хотя для норки, пожалуй, далековато от воды.
Человек узнает своих соседей, подумал Джейсон, когда перестает на них охотиться. В былые времена он вместе с другими ходил на охоту, дичи тогда было много. Они называли это спортом или развлечением — мягкое обозначение той жажды крови, которую человек принес с доисторических времен, когда охота была средством для поддержания жизни. Человек — родной брат других хищников и, подумал Джейсон, самый большой хищник из всех. Теперь таким, как он, не было нужды охотиться на своих братьев, обитателей лесов и болот. Мясом их обеспечивали стада коров и овец, хотя, как он полагал, употребляя в пищу даже такое мясо, человек не перестает быть хищником. Если бы кому-то пришло в голову поохотиться, ему пришлось бы вернуться к луку со стрелами и копью. Ружья по-прежнему лежали в своих чехлах, и роботы тщательно их чистили, однако запас пороха давно иссяк, а чтобы возобновить его, потребовалось бы прочесть немало книг и затратить много усилий.
Тропинка поднялась на холм, к небольшому полю, где в снопах стояла кукуруза и на земле еще лежали тыквы. Через день-два роботы уберут тыкву, а кукуруза, вероятно, так и останется лежать в снопах, пока не закончатся остальные осенние работы. Ее можно будет свезти в хранилище позже или лущить прямо в поле уже после того, как выпадет снег.
Снопы в тусклом лунном свете показались Джейсону похожими на индейские вигвамы. Он подумал о том, отнесли ли роботы в лагерь Горация Красное Облако пшеничную и кукурузную муку, ветчину и все, что он распорядился туда доставить. Скорее всего, да. Роботы чрезвычайно аккуратны во всем, и он в который раз уже задал себе вопрос, что же они находят в том, чтобы заботиться о нем и о Марте, работать по дому и на ферме. И, коли на то пошло, что вообще важно для роботов? Езекия и прочие, что живут в монастыре, роботы, которые строят нечто непонятное выше по течению реки… Этот вопрос, как он понимал, восходит к древним соображениям выгоды, которые в свое время безраздельно владели человечеством. Ничего не делать, если от этого нет материальной отдачи. Старая привычка, старый образ мыслей, и Джейсон слегка устыдился этого.
Если Люди опять завладеют Землей, снова утвердятся соображения выгоды и основывающиеся на ней философские концепции. Земля, если не считать пользы, извлеченной из пяти тысяч лет свободы от человеческой чумы, окажется не в лучшем положении, чем прежде. Маловероятно, чтобы у них не возникло желания завладеть ею вновь. Они, конечно, поймут, что основные ресурсы Земли исчерпаны, но могут отбросить даже это соображение. Может быть (Джон ничего об этом не говорил), многие из них испытывают страстное желание вернуться на планету своих предков. Пять тысяч лет — достаточный срок, чтобы они стали считать планеты, на которых сейчас живут, своим домом, но кто их знает? В лучшем случае на Землю могут хлынуть потоки туристов и паломников, жаждущих поклониться родине человечества.
Он миновал кукурузное поле и пошел вдоль узкого гребня туда, где утес нависал над местом слияния рек. В лунном свете реки казались дорогами из сияющего серебра, проложенными сквозь темные леса долины. Он уселся на большой камень, на котором сидел всегда, закутался от холодного ночного ветра в свой тяжелый плащ. Сидя в тишине, в полном одиночестве, он подивился тому, что одиночество его не гнетет. Ибо здесь мой дом, подумал он, а в стенах своего дома никто не может быть одинок.
Потому-то он и ждал прибытия Людей с ужасом. Они вторгнутся в его дом, на землю, которую он сделал своей; своей настолько же, насколько все остальные животные считают своей территорию, где обитают. Не на основании человеческого права, не в силу какого-либо чувства собственности, но просто по праву жизни.
Этого нельзя позволить, сказал он себе. Нельзя позволить им вернуться и снова изгадить Землю. Нельзя, чтобы они опять отравили ее своими машинами. Он должен найти способ, как их остановить, — но он знал, что такого способа нет. Один-единственный и очень старый человек не может противостоять человечеству; может, и права не имеет. У них всего три планеты, и Земля станет четвертой, а у тех, кто не попал в унесшую остальных сеть, в распоряжении вся Галактика, даже, может быть, Вселенная.
Он Галактику не освоил: ни он, ни Марта. Здесь их дом, не эти несколько акров, но вся Земля. А индейцы с озера Лич. Что будет с ними? С ними и с их образом жизни? Еще одна резервация? Еще одна тюрьма?
У него за спиной из-под чьей-то ноги покатился вниз по склону камень. Джейсон вскочил.
— Кто там? — громко спросил он. Это мог быть медведь. Мог быть олень.
— Езекия, сэр, — раздался голос. — Я увидел, что вы вышли из дому, и пошел следом.
— Ну, иди сюда, — сказал Джейсон. — Зачем ты пошел за мной?
— Чтобы выразить благодарность, — ответил робот. — Свою самую сердечную благодарность.
Шумно ступая, он появился из темноты.
— Садись, — сказал Джейсон. — Вон на тот камень. На нем удобно.
— Я не нуждаюсь в удобстве. Мне не обязательно сидеть.
— И однако ты сидишь. Я часто вижу, как ты сидишь на скамье под ивой.
— Это только притворство, — сказал Езекия. — Подражание тем, кто стоит выше меня, и совершенно недостойное поведение. Я этого стыжусь.
— Стыдись дальше, если хочешь, — проговорил Джейсон, — но, пожалуйста, доставь мне удовольствие. Я предпочитаю сидеть, и буду чувствовать себя неудобно, если ты останешься стоять.
— Если вы настаиваете, — сказал Езекия.
— Именно настаиваю, — ответил Джейсон. — И что же это за доброе дело, за которое ты хочешь меня поблагодарить?
— Это касается паломника.
— Да, я знаю. Тэтчер мне о нем говорил.
— Я совершенно уверен, — продолжал робот, — что он не паломник. Никодемус так сказал. Никодемус не в меру замечтался. Так легко, сэр, замечтаться, когда чего-то очень хочешь.
— Могу понять, — сказал Джейсон.
— Было бы чудесно, если бы он оказался паломником. Это значило бы, что разнеслась молва о деле, которому мы себя посвятили. Вы понимаете, не робот-паломник, а паломник-человек.
Джейсон молчал. Ветер трепал рясу, в которую был одет робот; Езекия подобрал ее концы, плотнее в нее завернулся.
— Гордыня, — повторил он. — Вот с чем нужно бороться. С тем, что сидишь, когда нет нужды сидеть. Что носишь одежду, когда в ней не нуждаешься. Что, размышляя, расхаживаешь по саду, когда с тем же успехом можно думать и стоя на одном месте.
Джейсон сидел, сжав губы, хотя с языка так и рвались вопросы: что там с этим паломником? кто он? откуда? что он делал все эти годы? Хотя еще несколько мгновений назад он и думать не думал о незнакомце в монастыре, занятый тревожными мыслями о возвращении Людей.
— Я вот что хочу сказать, — произнес Езекия. — Я знаю, как долго люди, живущие в доме, пытались отыскать других людей. Доходили слухи, и, слух за слухом, вас постигало разочарование. Теперь человек в самом деле появился, и вы имеете полное право поспешить за ним. Но вы этого не сделали. Вы не пришли. Вы оставили его нам. Подарили нам наш звездный час.
— Мы посчитали, что это ваш шанс, — ответил Джейсон. — Мы обсуждали все и решили пока остаться в стороне. Мы можем поговорить с этим человеком позже. Маловероятно, чтобы он убежал; он, должно быть, пришел издалека.
— Наш звездный час, и час безотрадный, ибо теперь мы знаем, что обманулись. Иногда я спрашиваю себя, не является ли вся наша жизнь заблуждением.
— Я не стану вместе с тобой кататься по земле, изображая мученика, — сказал Джейсон. — Я знаю, вы тут годами терзались мыслями, не поразит ли вас гром за вашу самонадеянность. Ну, гром вас не поразил…
— Вы хотите сказать, что одобряете. Что вы, человек…
— Нет, — сказал Джейсон. — Не одобряю и не осуждаю.
— Но когда-то…
— Да, знаю. Когда-то давно человек из палок и глины делал фигуры и им поклонялся. Когда-то давно он считал Богом солнце. Сколько раз человек должен ошибиться, прежде чем познает истину?
— Я понимаю вашу мысль, — сказал Езекия. — Вы думаете, мы сможем узнать истину?
— Вы очень хотите ее узнать?
— Мы ищем ее изо всех сил. Таково наше предназначение, не так ли?
— Не могу сказать, — проговорил Джейсон. — Я бы сам хотел это узнать.
До чего же нелепо, подумал он, сидеть здесь, на вершине утеса, на ветру, в глухую полночь, и обсуждать возможность постижения истины — любой истины — с фанатичным роботом. Он мог бы рассказать Езекии о Принципе, который обнаружил Джон. Мог бы рассказать про инопланетянина, явившегося искать душу. И что из этого?
— Я говорю вам о своих заботах, — сказал Езекия. — Но у вас есть собственные заботы. Вы гуляете ночью, размышляя о своих проблемах.
Джейсон пробурчал в ответ что-то неопределенное. Он мог бы заподозрить это раньше. Роботам иногда становится известно о происходящем чуть ли не прежде, чем тебе самому. Они, при желании, умеют ходить тихо-тихо и слушают, а услышанная новость передается от одного к другому со скоростью света. Тэтчер наверняка слышал разговоры за обедом и потом, когда они сидели во дворике и слушали концерт и вечер был такой замечательный и чистый после прошедшего дождя (и, если вспомнить, во время концерта произошло что-то очень странное). Но не только Тэтчер. Они всегда рядом. Подслушивают и подсматривают, а затем до бесконечности обсуждают это между собой. Конечно, ничего плохого в этом нет, людям нечего скрывать. Однако то, как их интересует каждая подробность человеческой жизни, порой приводит в смущение.
— Я разделяю вашу великую тревогу, — сказал Езекия.
— То есть? — удивленно спросил Джейсон.
— Я понимаю, что вы должны чувствовать, — отвечал робот. — Возможно, не все, кто находится среди звезд. Но вы и мисс Марта, вы двое, конечно…
— Не только мы, — сказал Джейсон. — А индейские племена? Уклад жизни их предков однажды уже был нарушен. Это должно повториться? Они создали себе новую жизнь. Отказаться от нее теперь? А как насчет твоего народа? Вы стали бы счастливее, будь здесь больше людей? Иногда я думаю, что да.
— Некоторые из нас, возможно, — сказал Езекия. — Наше дело — служить, а здесь мало тех, кому мы можем служить. Вот если бы племена…
— Но ты же знаешь, они не хотят иметь дела с вами.
— Я собирался сказать, — продолжал Езекия, — что среди нас есть такие, кто, может быть, не благосклонно отнесется к возвращению Людей. Я мало о них знаю, они заняты каким-то проектом…
— Ты имеешь в виду то строительство вверх по течению реки?
Робот кивнул.
— Вы могли бы с ними поговорить. Может, они чем-то помогут.
— Думаешь, они станут нам помогать? Захотят?
— Ходят слухи, — сказал Езекия, — о грандиозных новых идеях, о какой-то чрезвычайно интересной работе. Я ничего в этом не понимаю.
Джейсон сгорбившись сидел на своем камне. Его пробрала дрожь, и он плотнее завернулся в плащ. Ночь неожиданно стала словно темнее и показалась исполненной одиночества и даже немного пугающей.
— Спасибо, — проговорил он. — Я подумаю об этом.
Утром он отправится на берег реки и поговорит с Горацием Красное Облако. Быть может, Гораций подскажет, что делать.
Глава 14
Из запаси в журнале от 18 сентября 2185 года:
…Вскоре после того, как мы начали совершать дальние поездки, собирая библиотеку и хоть какие-то произведения искусства, ко мне явились четыре робота. Я их не узнал. В конце концов, роботов вообще трудно отличить друг от друга. Может, они уже несколько лет работали на ферме, а может, только что пришли. Сейчас, когда я об этом пишу, я сам удивляюсь, почему не расспросил их подробнее. Возможно, оттого, что я был так изумлен — и в некотором смысле расстроен — их просьбой.
Они сказали, что их зовут Езекия, Никодемус, Ионафан и Авен-Езер и что, если я не возражаю, они хотели бы поселиться в монастыре, который расположен от нас неподалеку, и посвятить все свое время изучению христианства. Похоже, они решили, что человек изучил религию совершенно недостаточно, а они, как беспристрастные ученые, могли бы исследовать сей предмет гораздо глубже. Я не заметил никаких признаков религиозного пыла, хотя опасаюсь, что если они будут продолжать (а они этим занимаются уже почти тридцать лет), то в конце концов впадут в религиозный фанатизм. Даже сейчас я не уверен (пожалуй, сейчас даже менее уверен, чем тогда), что был прав, удовлетворив их просьбу. Быть может, было неправильно или неразумно допускать роботов к столь деликатному предмету. Я полагаю, фанатики занимают свою нишу в любом обществе, но мысль о фанатичных роботах (фанатичных в любой области, а религия прямо-таки плодит фанатиков) не слишком меня прельщает. Все это наводит на размышления о ситуации, которая может оказаться просто пугающей. Раз большая часть человечества исчезла, а все роботы остались, они со временем могут попытаться заполнить образовавшуюся пустоту. Они были созданы, чтобы служить нам, и по самой своей природе не могут пребывать в бездействии. Невольно задаешься вопросом: не замыслят ли они, по причине отсутствия людей, служения самим себе? Каковы их побуждения и цели? Несомненно, не человеческие, что, я бы сказал, чрезвычайно отрадно. Однако лишь с простительным опасением можно рассматривать создание новой философии и новых ценностей существами, которые были созданы чуть более века назад и не прошли периода эволюции, как человек и все остальные обитатели Земли (не будем, впрочем, забывать, что человек, при всей своей длительной истории, развивался, возможно, все же слишком быстро). Быть может, им потребуется-таки время на некую эволюцию, чтобы создать логическую опорную базу. Но, боюсь, период этот окажется коротким, и, как следствие, существует вероятность серьезных ошибок. Эволюция предоставляет время для того, чтобы опробовать и отбросить негодное, и потому естественным образом выпрямляются неверные изгибы. У роботов же многие из этих изгибов будут перенесены в окончательно сформировавшееся мышление.
Но я отвлекся. Возвращаюсь к тем четверым, что явились со мной поговорить. Если они займутся этой работой, сказали они, им нужны религиозные сочинения, и, поинтересовались они, нельзя ли им сопровождать нас, когда мы выезжаем на сбор книг; они, дескать, готовы нам помогать, а мы будем поставлять книги для их занятий. В их помощи мы не нуждались, и у нас достаточно своих роботов. Не понимаю (а может, и тогда не понимал), по какой причине, но я согласился. Возможно, их планы показались мне в тот момент комичными. Я тогда даже посмеялся, хотя теперь мне вовсе не до смеха.
Создание библиотеки оказалось гораздо более трудной задачей, чем я ожидал. Казалось бы, проще простого сесть и написать список, имея в виду, что нам нужны Шекспир, Пруст, Платон, Аристотель, Вергилий, Гиббон, Локк, Еврипид, Аристофан, Толстой, Паскаль, Чосер, Монтень, Хемингуэй, Вульф, Стейнбек, Фолкнер и все прочие писатели, которые вошли бы в любой перечень; что нам требуются учебники по математике, физике, химии, астрономии, биологии, философии, психологии и по многим другим отраслям науки и искусства, за исключением, может быть, медицины, которая, похоже, больше нам не нужна (хотя знать этого наверняка никто не может). Но как можно быть уверенным, что ты не пропустил чего-то такого, о чем в будущем не то чтобы пожалеют — кто об этом будет знать? — но чего просто не будет, когда в том возникнет нужда? И с другой стороны, как знать, не окажутся ли отобранные нами книги со временем не стоящими того места, которое занимают?
У нас будет возможность обрести то, что мы в свое время проглядели. Однако с течением лет сделать это будет все сложнее. Мы уже встретились с большими трудностями. Грузовики требовали постоянного ремонта, и большинство дорог разрушилось от дождей и холодов. Грузовики, разумеется, давно не на ходу. Дороги, я полагаю, разрушились еще больше, хотя, может быть, по ним еще можно проехать в повозке. Настанет время, когда в поисках какой-то книги или книг людям придется отправляться пешком или на лошадях по бездорожью.
Но к тому времени книги, вероятно, уже не сохранятся. Даже в самых лучших условиях давно покинутых городов до них доберутся сырость, грызуны и черви или само время нанесет им тяжелый удар.
В конце концов мы отыскали и перевезли сюда все занесенные в список книги. С предметами искусства трудностей было гораздо больше, главным образом потому, что они занимают больше места, чем книги. Нам приходилось отбирать их мучительно и с величайшим тщанием. Сколько картин Рембрандта, к примеру, могли мы себе позволить, зная, что каждый лишний Рембрандт лишит нас картины Курбе или Ренуара? Именно из-за недостатка места, равно при перевозке и при хранении, мы были вынуждены отдавать предпочтение полотнам меньшего размера. Тот же критерий применялся и ко всем другим видам искусства.
Бывает, я готов заплакать, думая обо всех тех великих достижениях человечества, которые нам пришлось утратить навсегда…
Глава 15
Когда белые люди ушли, Гораций Красное Облако еще долго сидел у костра. Он глядел им вслед, пока они не скрылись из виду. Утро давно прошло, но лагерь еще лежал в тени: солнце не успело подняться над вздымающимися над ним утесами. В лагере было тихо, тише, чем обычно: все поняли, что-то произошло, но не беспокоили Красное Облако. Его не станут спрашивать, подождут, пока он сам все расскажет.
Женщины, как всегда, занимались своими делами, но не стуча котелками и не перекликаясь друг с другом. Люди собирались в кучки, перешептывались, едва сдерживая возбуждение. Остальных в лагере не было — видимо, работали на полях или охотились и ловили рыбу. Тихо… Даже собаки притихли.
Костер прогорел, осталась зола да несколько головешек по краям, и тоненькие струйки дыма поднимались от головешек и из середины кострища, где прятался последний остывающий жар.
Красное Облако медленно вытянул руки и держал их над костром, потирая друг о друга, словно умывая дымом. Он даже улыбнулся, заметив, что делает. Рефлекторное движение, наследие прошлой культуры, подумал он, но не убирал рук. Так поступали его далекие предки, совершая обряд очищения, — одно из многих бессмысленных движений, предшествовавших колдовству. Что он и все остальные утратили, отказавшись от колдовства? Разумеется, веру, а вера, возможно, имеет некоторую ценность. Но рядом присутствует и обман, а хочет ли человек оплачивать ценность веры монетой обмана? Мы потеряли так мало, сказал он себе, а приобрели гораздо больше: осознание самих себя как части природной среды. Мы научились жить с деревьями и ручьями, землей и небом, ветром, дождем и солнцем, со зверями и птицами, словно все они наши братья. Прибегая к их помощи, когда появляется в том нужда, но не злоупотребляя ею. Обращаясь с ними иначе, чем белый человек, не властвуя над ними, не пренебрегая, не испытывая к ним презрения.
Он медленно поднялся от костра и пошел по тропинке к реке. Там, где у кромки воды тропинка кончалась, на покрытый галькой берег были вытащены каноэ, и пожелтевшая ива, развесив никнущие ветви, купала в струившемся потоке золото своих листьев. По воде плыли и другие листья: красно-коричневые с дуба, багряные с клена, желтые с вяза — дань деревьев, растущих выше по течению, приношения реке, которая поила их в жаркие, сухие дни лета. Река разговаривала с ним; не только с ним одним, но и с деревьями, с холмами, с небом — приветливый невнятный говорок, бегущий куда-то меж двух берегов.
Он наклонился и зачерпнул полную пригоршню воды, она просочилась между пальцами и осталась только крошечная лужица в ладонях. Он разжал руки, и последние капли упали обратно в реку. Так и должно быть, сказал он себе. Воду, воздух и землю нельзя поймать и удержать. Ими нельзя владеть. Давным-давно, с самого начала, так и было, а затем появились Люди, пытавшиеся ими завладеть, воздействовать на них, заставить работать на себя. Потом вернулся естественный ход бытия, и неужели ему опять придет конец?
Я созову все племена, сказал он Джейсону, когда они сидели у костра. Время запасать на зиму мясо, но это важнее, чем заготовка мяса. Хотя с его стороны глупо так говорить, ибо, даже будь у него людей в тысячу раз больше, и они не смогли бы противостоять бледнолицым, захоти они вернуться. Сил недостаточно, решимость окажется бесполезной, любовь к родной земле ничего не стоит. Люди могут летать среди звезд на своих кораблях. Они с самого начала шли по одному пути, подумал он, а мы — по другому, и наш путь был верным, но мы не силах сопротивляться их ненасытности, как ничто не в силах сопротивляться ей.
После их исчезновения настало хорошее время. Снова свободно дул ветер и беспрепятственно текла вода. Снова в прериях росла густая и сочная трава, лес опять стал лесом, а небо весной и осенью было черным-черно от перелетных птиц.
Ему не нравилась идея отправиться на место, где роботы ведут свое строительство. Он испытывал омерзение при мысли, что робот Езекия поплывет с ним в каноэ, разделив хотя бы временно их древний образ жизни. Но Джейсон совершенно прав — это единственное, что они могут сделать, их единственная надежда.
Он повернул по тропинке обратно к лагерю. Они ждут, и он созовет их всех. Надо выбрать людей, кто сядет в каноэ на весла. Надо послать молодых добыть свежего мяса и рыбы для путешествия. Женщины должны собрать еду и одежду. Дел много: они отправятся завтра утром.
Глава 16
Вечерняя Звезда сидела во внутреннем дворике, когда на дороге со стороны монастыря показался юноша с биноклем и ожерельем из медвежьих когтей на шее.
Он остановился перед ней.
— Ты пришла сюда читать книги, — сказал он. — Я правильно сказал — читать?
На щеке у него была белая повязка.
— Правильно, — ответила она. — Садись, пожалуйста. Как ты себя чувствуешь?
— Прекрасно. Роботы обо мне хорошо позаботились.
— Ну тогда садись, — сказала она. — Или ты куда-то идешь?
— Мне некуда идти. — Он сел в кресло рядом с ней и положил лук на каменные плиты, которыми был вымощен двор. — Я хотел спросить тебя о деревьях, которые создают музыку. Ты знаешь про деревья. Вчера ты говорила со старым дубом…
— Ты сказал, — ответила она чуть сердито, — что никогда больше не заговоришь об этом. Ты подглядывал за мной.
— Прости, но я должен. Я никогда не встречал человека, который мог бы говорить с деревьями. Я никогда не слышал дерево, которое создавало бы музыку.
— Какое отношение одно имеет к другому?
— Вчера вечером с деревьями что-то было неладно. Я думал, ты заметила. Мне кажется, я с ними что-то сделал.
— Ты шутишь. Как можно что-нибудь сделать с деревьями? С ними все в порядке. Они замечательно играли.
— В них был какой-то недуг, может быть, в некоторых из них, Они играли не так хорошо, как могут. Я и с медведями что-то такое сделал. Особенно с тем, последним. Может, со всеми.
— Ты мне рассказывал, что ты их убил. И от каждого брал в ожерелье один коготь. Чтобы вести счет им, сказал ты. И по-моему, чтобы похвастаться.
Она ждала, что он рассердится, но на его лице появилось лишь слегка озадаченное выражение.
— Я думал, — сказал он, — что дело в луке. Что я метко стреляю и стрелы у меня так хороши. Но что, если убивает не лук, не стрелы и не моя меткость, а нечто совсем другое?
— Какая разница? Ты их убил, правильно?
— Да, я их, конечно, убил, но…
— Меня зовут Вечерняя Звезда, — проговорила она, — а ты мне своего имени не сказал.
— Я Дэвид Хант.
— Ну так, Дэвид Хант, расскажи мне о себе.
— Рассказывать особенно не о чем.
— Но у тебя есть свой народ и свой дом. Откуда ты?
— Дом. Да, пожалуй. Хотя мы кочевали с места на место. Мы все время убегали, и многие покидали нас.
— Убегали? От кого?
— От Темного Ходуна. Я вижу, ты о нем ничего не знаешь? Не слыхала про него?
Она покачала головой.
— Это призрак, — сказал он. — Вроде человека, но и не похож на него. С двумя ногами — возможно, только тем и похож. Его не видно днем, только ночью. Всегда на вершине холма, черный такой на фоне неба. Впервые его заметили в ту ночь, когда все исчезли, все, кроме нас, точнее, кроме нас и людей здесь и в прериях. Я первым из наших узнал, что есть и другие люди.
— Ты уверен, что Темный Ходун существует? Может, вы его вообразили себе? Мой народ в свое время напридумывал множество вещей, которых и в помине не было. Он кому-нибудь из ваших причинял вред?
Дэвид нахмурился, пытаясь припомнить.
— Нет, по крайней мере, я об этом не слышал. Он никому не причиняет вреда. Но видеть его страшно. Мы все время настороже и, увидев его, переселяемся в другие места.
— Ты никогда не пытался его выследить?
— Нет, — сказал он.
— А я подумала, может, именно этого ты сейчас, хочешь. Пытаешься его выследить и убить. Такой великий стрелок из лука, убиваешь медведей…
— Ты смеешься надо мной, — сказал он, но без тени гнева.
— Но ты так гордишься тем, что убил медведей, — ответила она. — Никто из наших не убивал столько.
— Сомневаюсь, чтобы Ходуна можно было убить стрелой. Может, его вообще нельзя убить.
— Может, вообще нет никакого Ходуна, — сказала девушка. — Тебе не приходило это в голову? Мы бы тоже его видели или слышали. Наши бывают далеко на западе, у самых гор, дошли бы слухи. А кстати, почему все эти годы ничего не было известно о твоем народе? Те, кто живет в этом доме, веками разыскивали других людей.
— Поначалу, как мне говорили, и наши тоже. Я только слышал об этом, в разговорах. Мне всего двадцать лет.
— Мы с тобой одного возраста, — сказала Вечерняя Звезда. — Мне девятнадцать.
— Среди нас мало молодых, — сказал Дэвид Хант. — Нас вообще немного, и мы так часто снимаемся с места…
— Странно, что вас мало. Если вы такие же, как мы, вы живете очень, очень долго и совсем не болеете. Мой народ вырос из маленького племени, нас теперь много тысяч. И тысячи потомков немногих людей, живущих в этом доме, живут среди звезд. И вас должны быть тысячи, вы должны быть сильны и многочисленны…
— Нас могло быть много, — сказал он, — но мы уходим…
— Ты, по-моему, говорил…
— Не к звездам, а по воде. Какое-то безумие заставляет нас уплывать по воде, строить плоты и отправляться вслед за заходящим солнцем. Так было много лет. Я не знаю почему, мне этого никто не говорил.
— Может быть, убегая от Ходуна.
— Не думаю, — сказал он. — Вряд ли те, кто уплывает, знают, почему они это делают.
— Лемминги, — проговорила Вечерняя Звезда.
— Что такое лемминги?
— Маленькие животные. Грызуны. Я про них однажды читала.
— Какое отношение имеют к нам лемминги?
— Я не уверена, что имеют, — сказала она.
— Я убежал, — продолжал он. — Я и старый Джоуз. Мы оба боялись огромного пространства воды. Мы не хотели плыть. Если мы убежим, сказал Джоуз, безумие может не затронуть нас. Джоуз видел Ходуна дважды после того, как мы убежали, и мы опять ударились в бега.
— Джоуз видел Ходуна, а ты…
— Я никогда не видел.
— Как ты думаешь, после того как вы с Джоузом ушли, остальные люди уплыли?
— Не знаю, — сказал он. — Джоуз умер. Он был очень-очень стар. Он помнил, как исчезли Люди. Он уже тогда был стариком. Однажды пришел день, когда его жизнь иссякла. Думаю, он был доволен; не всегда хорошо слишком долго жить.
— Но ведь с ним был ты.
— Да, но нас разделяло слишком много лет. Мы хорошо ладили и много разговаривали, но ему не хватало людей, таких, как он. Он играл на скрипке, я слушал, а койоты сидели на холмах и пели вместе со скрипкой. Ты когда-нибудь слышала, как поет койот?
— Я слышала, как они лают и воют, — ответила она. — Но не слышала, чтобы они пели.
— Когда старый Джоуз играл, они пели, каждый вечер. Он играл только вечерами. Множество койотов, думаю, нарочно приходили слушать и петь вместе с ним. Иногда приходила целая дюжина, рассаживалась на вершинах холмов и пела. Джоуз говорил, что пальцы его уже не такие ловкие и рука, водившая смычок, отяжелела. Я чувствовал, что к нему подбирается смерть, что вместе с волками она стоит на вершине холма и слушает его скрипку. Когда Джоуз умер, я выкопал глубокую яму и похоронил его, а скрипку положил рядом. Мне она была не нужна, а ему бы это понравилось. Потом несколько дней я таскал камни и заваливал могилу, чтобы волки не смогли до него добраться. И все это время я не чувствовал себя одиноким — мне казалось, я все еще с Джоузом. Но я закончил и остался один.
— Ты мог бы отыскать свой народ.
— Я думал об этом, — сказал он. — Но я понятия не имел, где они, и по-прежнему боялся безумия, которое гонит их по океану. У меня было чувство, что, пока я один, безумие не настигнет меня. Это… как это называется?.. массовое безумие. И что-то говорило мне, чтобы я шел туда, где восходит солнце. Я много раз думал о том, что же заставляет меня идти. Казалось, нет никакой причины. Но я словно бы что-то искал, хотя и не знал, что именно. Я встретил в прериях твой народ и хотел остаться с ним. Мне бы позволили остаться. Но я не смог. Во мне по-прежнему звучал зов восходящего солнца, и мне пришлось уйти. Ваши люди рассказали мне об этом огромном каменном доме, и я подумал, не его ли я ищу. Я встречал много домов из камня, но боялся их. Мой народ никогда не жил в домах. Мы их боялись. Ночью из них доносились всякие звуки, они были пусты, и, думали мы, может, в них водятся привидения или призраки исчезнувших Людей.
— Теперь ты здесь, — проговорила девушка, — и надеюсь, пока останешься. На востоке ты ничего не найдешь, один лес. Там живут наши, но в основном там только лес. А этот дом не похож на дома, которые ты видел. Он не пустой, в нем живут. В нем есть ощущение людей.
— Роботы позволят мне жить у них, — сказал он. — Это добрый народ.
— Но они не люди, — возразила она. — Ты захочешь быть вместе с людьми. Дядя Джейсон и тетя Марта, не сомневаюсь, будут рады тебе. Или, если захочешь, для тебя всегда найдется место в нашем лагере.
— Дядя Джейсон и тетя Марта живут в этом доме?
— Да, но по-настоящему они мне не дядя и не тетя. Я их так называю про себя. Они этого не знают. Дядя Джейсон и мой далекий прапрадед дружат всю жизнь. Они были молодыми, когда все исчезли.
— Может быть, зов восходящего солнца меня не оставил, — сказал он. — Но я был бы рад немного отдохнуть. Я пришел спросить, как ты говоришь с деревьями? Ты говоришь со всеми деревьями или только с одним, определенным?
— Ты не поймешь, — сказала она. — Мы живем рядом с деревьями, ручьями, цветами, животными и птицами. Мы с ними одно целое. И любой из нас может говорить с ними.
— А ты лучше всех.
— Не знаю. Мы это не обсуждаем. Я могу говорить только за себя. Я иду лесом или вдоль ручья и никогда не чувствую себя одинокой. Я встречаю так много друзей и всегда говорю с ними.
— И они тебе отвечают?
— Иногда, — сказала она.
— Ты говоришь с деревьями, а кто-то отправляется к звездам.
— Ты еще не веришь в это.
— Начинаю верить, — сказал он. — Хотя поверить трудно. Я спрашивал об этом роботов, но, по-моему, я не все понял. Они сказали, что из всех людей, когда-то живших в этом доме, остались только двое. Остальные среди звезд. Роботы сказали, что иногда они возвращаются, ненадолго. Это так?
— Да. Как раз сейчас один вернулся, брат дяди Джейсона. Он принес тревожные известия. С дядей Джейсоном он сегодня утром отправился в лагерь поговорить с моим прапрадедом.
Я слишком много болтаю, подумала она. Дяде Джейсону может не понравиться, что я рассказываю все совершенно незнакомому человеку, который неизвестно откуда взялся. Просто говорила как с другом. А ведь она толком его не знает. Она видела его вчера, он за ней подглядывал, и сегодня утром, когда он пришел из монастыря. И все же она словно бы знает его уже много лет. Молодой парень. Может быть, все дело в этом. Они оба молоды.
— Ты думаешь, — сказал он, — твои тетя и дядя позволят мне пожить здесь? Ты спросишь тетю?
— Не сейчас, — сказала Вечерняя Звезда. — Она разговаривает со звездами, все утро. Но мы спросим попозже. Ее или дядю, когда он вернется из лагеря.
Глава 17
Он чувствовал себя старым и одиноким. Одиночество он ощутил впервые за много лет, а старым не чувствовал себя никогда.
— Не знаю, говорить тебе или нет, — сказала Марта. — Но ты, Джейсон, должен знать. Они все отнеслись вежливо и с пониманием…
— И немного позабавились, — добавил он.
— Вряд ли, — сказала она. — Они были слегка озадачены тем, что ты так расстроился. Конечно, Земля для них не то же, что для нас с тобой. Некоторые на ней никогда не бывали. Для них Земля просто старая красивая сказка. Они сказали, что те люди, возможно, вовсе не собираются возвращаться и снова поселяться здесь; просто исследовательская экспедиция, призванная удовлетворить их любопытство.
— Дело в том, — сказал Джейсон, — что у них есть звезды. Земля им не нужна. Говоришь, для них это только сказка? Я подумал было о том, чтобы созвать совещание: пригласить старых, проверенных друзей, кое-кого из молодых, самых близких.
— Это хорошая мысль, — ответила Марта. — Они бы отозвались, я уверена. Они так много всего знают, о чем мы даже и не слыхали.
— Я не слишком рассчитываю на то, что они узнали, — проговорил Джон. — С тех пор как они отправились к звездам, сумма их знаний сравнялась со знаниями людей на Земле до Исчезновения или даже превысила их. Но их знания поверхностны, это лежащие на поверхности факты. Они знают, что такая-то вещь возможна или что такое-то действие имеет определенный результат, однако они не достигли истинного понимания, не стремились понять отчего и почему. Поэтому, хотя они и имеют представление о многих странных и неразгаданных вещах, толку от этого мало. Они не могут воспользоваться своим знанием. И к тому же многое вообще выше всякого человеческого понимания. Оно настолько чуждо человеческому представлению о Вселенной, что его невозможно понять, пока человек не проникнется самым духом инопланетных цивилизаций, не постигнет их способ мышления и…
— Можешь не продолжать, — горько произнес Джейсон. — Я знаю это.
— Вам это не нравится, — сказал Джон. — Но, если станет совсем плохо, вы с Мартой сможете отправиться к звездам.
— Джон, ты знаешь, что я не смогу этого сделать, — сказал Джейсон. — И, думаю, Марта тоже. Земля у нас в крови. Мы прожили на ней слишком долго, она часть нашего существа, слишком большая часть.
— Я часто думала о звездах, — сказала Марта. — Я со многими разговаривала. Но не думаю, что смогла бы отправиться туда.
— Ты же видишь, — сказал Джейсон, — мы просто эгоистичные старики.
И это правда, сказал он себе. Эгоизм — держаться за Землю, заявлять на нее, на всю целиком, свои права. Люди имеют полное право при желании вернуться сюда. Они покинули Землю не по своей воле. Раз они сумели найти дорогу обратно, никто не имеет ни юридического, ни морального права препятствовать им. Хуже всего то, что они непременно захотят разделить с оставшимися на Земле все, что узнали и чего достигли, все технические успехи, все блестящие новые концепции, все знания. Они будут исполнены решимости одарить отсталых землян всеми преимуществами своего развития. А что будет с племенами, которым ничего этого не нужно? А с роботами? Хотя как раз роботы, возможно, их возвращению будут только рады. Он мало знал роботов: как они встретят новость?
Через день-два он это узнает. Завтра утром он, Джон и Езекия тронутся вверх по реке. Вместе с Красным Облаком и его людьми.
Глава 18
Из записи в журнале от 9 октября 3935 года:
…Я колебался, я не мог определиться в своем отношении ко всем этим путешествиям к звездам. Я знал, что другие это делают; я знал, что это возможно; я видел, как люди исчезают, а через некоторое время возвращаются. И я с ними говорил об этом; мы все подолгу говорили об этом и, будучи людьми, попытались установить, каким образом это возможно. Порой, хотя теперь уже нечасто, мы даже сомневались в желательности открытого нами свойства. Даже употребление этого слова — свойство — чрезвычайно показательно, ибо подчеркивает тот факт, что мы не имеем ни малейшего представления о том, как это делается или как эта способность появилась в нас.
Я сказал, что с моей стороны были некоторые колебания относительно того, принять ли путешествия к звездам, и, я понимаю, — это несколько странное утверждение. Но я не уверен, что смогу толком объяснить, что и почему. Я принял их разумом и даже чувством, будучи не менее любого другого взволнован осуществимостью, казалось бы, невозможного. Но принял я их не полностью. Если бы мне показали какое-нибудь невозможное животное или растение (невозможное в силу каких угодно веских и основательных причин), я был бы вынужден признать, что оно в самом деле существует. Но, пойдя прочь, я бы усомнился в свидетельстве собственных глаз. Я сказал бы себе, что в действительности его не видел, и мне пришлось бы вернуться, чтобы опять посмотреть на него. И во второй раз, и в третий, и в четвертый, и в пятый я бы по-прежнему сомневался и был бы вынужден возвращаться опять и опять. Сколько ни тщусь, я не могу решить, полезная ли это вещь для человека и даже приличествует ли она ему. Врожденная осторожность или, быть может, неприятие всего излишне уж непривычного (отношение, которое нередко встречается у людей одного со мной биологического возраста) преследует меня постоянно, нашептывая о катастрофе как результате этой появившейся способности. Присущий мне консерватизм не допускает мысли, что такая великая вещь может быть предоставлена человечеству даром, без взыскания некой огромной платы. И потому, полагаю, я подсознательно пришел к следующему убеждению: пока я открыто не признаю, что это так, платеж может быть отсрочен.
Все это, разумеется, эгоцентризм чистейшей воды и, более того, явная глупость. Иногда я чувствовал, хотя все очень старались не подавать виду, что свалял дурака. Ибо путешествия к звездам насчитывают уже несколько лет, и почти все совершили хотя бы одно короткое путешествие. Я — нет; мои сомнения и оговорки, безусловно, психологическая защита, но об этом вообще бессмысленно рассуждать. Мой внук Джейсон и его замечательная Марта — одни из немногих, кто тоже не покидал Землю. И из-за своих предубеждений я очень этому рад. Мне кажется, Джейсон любит землю своих предков так же сильно, как я, и я склонен думать, что эта любовь вообще не позволит ему когда-либо отправиться к звездам, в чем — хотя я могу и ошибаться — я не вижу никакой трагедии. А его брат Джон покинул нас одним из первых и до сих пор не вернулся. Я очень за него беспокоюсь.
Нелепо, конечно, что я упорствую в своем столь нелогичном отношении к путешествиям. Что бы я ни говорил, ни думал, Человек в конце концов совершенно естественным образом порвал свою зависимость от Земли. В этом-то, возможно, и коренится суть всего: я ощущаю неловкость при мысли о том, что спустя долгие тысячелетия Человек наконец перестал зависеть от своей родной планеты.
Дом полон принесенных со звезд сувениров. Как раз сегодня утром Аманда принесла красивый букет престраннейших цветов — он сейчас у меня на столе, — собранных на планете, название которой вылетело у меня из головы. Хотя оно не имеет значения, поскольку это не настоящее ее название, а имя, которое дали ей двое людей, Аманда и ее приятель Джордж. Планета находится в направлении яркой звезды, название которой я тоже не могу припомнить; планета не собственно этой звезды, а ее меньшего соседа, свет которого настолько слаб, что мы не увидели бы его даже в большой телескоп. В доме полно странных предметов — ветки с сушеными ягодами, разноцветные камни и камешки, куски экзотического дерева, причудливые остатки материальной культуры, подобранные в местах, где когда-то обитали разумные существа. К сожалению, у нас нет фотографий; наши фотоаппараты все еще в рабочем состоянии, но у нас нет пленки, чтобы их зарядить. Может быть, однажды снова найдут способ ее производства. Странно, что это заботит меня одного; все прочие снимками не интересуются.
Поначалу мы опасались, что, возвращаясь со звезд, кто-нибудь может угодить в место, где находится какой-нибудь большой твердый предмет или другой человек: это было бы чрезвычайно неприятно. Но думаю, что путешественник, перед тем как нацелиться на следующую точку материализации, заглядывает туда или как-то иначе оценивает ситуацию и условия. Должен признать, что мои описания весьма невнятны; я до сих пор не понимаю, что же, собственно, происходит — возможно, оттого, что развившаяся у остальных способность у меня самого начисто отсутствует.
Во всяком случае — к этому-то я и вел — на четвертом этаже мы отвели большой танцевальный зал под место, где материализуются возвращающиеся путешественники и куда всем прочим запрещено входить; в зале никогда не было никаких предметов. Кое-кто из молодежи назвал помещение Вокзалом, вспомнив о тех поистине доисторических временах, когда автобусы и поезда отходили с вокзалов, и название закрепилось. Поначалу оно вызывало бурное веселье и молодым казалось очень забавным. Должен признаться, мне оно таковым не кажется, хотя я не вижу никакого вреда в том, что его так называют.
Я серьезно обдумывал причины развития этой способности, и, несмотря на некоторые теории, выдвинутые другими (они путешествовали и потому полагают, что знают об этом больше, чем я), я считаю, что мы имеем дело с нормальным процессом эволюции; по крайней мере так мне бы хотелось думать. Человек поднялся от скромного примата до разумного существа, стал изготовлять орудия, охотиться, заниматься сельским хозяйством, начал управлять окружающим его миром — словом, многие столетия уверенно двигался вперед, и продвижение это, надо признаться, не всегда шло на пользу ему самому и остальным. Но главное, он развивался, и эти путешествия к звездам, возможно, всего лишь очередная веха на пути его дальнейшего развития…
Глава 19
Джейсону никак не удавалось уснуть; он все не мог отделаться от мыслей о Принципе. Почему он стал думать о нем, Джейсон не знал и, чтобы избавиться от навязчивых размышлений, попытался вернуться к началу, однако не сумел вспомнить и мысли одолевали по-прежнему.
Надо заснуть, говорил он себе. Тэтчер разбудит его рано утром, и вместе с Джоном он отправится в лагерь Горация Красное Облако. Путешествие вверх по реке его весьма прельщало, обещая быть интересным, — он уже давно не бывал далеко от дома; но каким бы интересным оно ни оказалось, завтра у него трудный день, и ему нужно выспаться.
Он пытался считать овец, складывать в уме числа, но овцы не желали прыгать через изгородь, а числа таяли в небытии, откуда он их вызывал, и он оставался со своими тревожными думами о Принципе.
Если Вселенная находится в стационарном состоянии, если у нее не было начала и не будет конца, если она всегда существовала и никогда не исчезнет, то в какой момент этой вечности появился Принцип? Или он, как и Вселенная, вечен? А если Вселенная находится в процессе эволюции, появившись в определенной точке пространства и времени, то существовал ли Принцип уже тогда, или он зародился позднее, и из чего он зародился? И почему выбрана наша Галактика, думал Джейсон, почему Принцип решил поселиться именно в нашей Галактике, когда существуют миллиарды других, которые могли бы стать его домом? Может, он появился в нашей Галактике и здесь остался, но если так, то какими уникальными особенностями она обладает, чтобы вызвать его появление? Или же это нечто гораздо большее, чем мы можем себе представить, и то, что мы наблюдаем в нашей Галактике, — всего лишь скромный аванпост?
Все это глупо. Ответа ему не найти; он не может предложить ни одной мало-мальски логически обоснованной разгадки того, что же в действительности происходило. У него нет данных; ни у кого нет данных. Единственный, кто может знать, — сам Принцип. Все его размышления, понимал Джейсон, — глупейшее занятие, ему вообще незачем искать ответы. Однако разум его все мучился и мучился вопросами, отчаянно борясь с неразрешимой проблемой.
Он беспокойно ворочался на постели, зарываясь головой в подушку.
— Джейсон, — из темноты спросила Марта, — ты спишь?
— Почти, — пробормотал он. — Почти.
Глава 20
Он был гладко отполирован и блестел на утреннем солнце; он сказал, что его зовут Стэнли и что он очень рад их приходу. Из пришедших он узнал троих — Езекию, Джейсона и Красное Облако, — и сказал, что молва о них дошла до Проекта. Познакомившись с Джоном, он выразил удовольствие от того, что встретил человека, путешествующего среди звезд. Он был учтив и обходителен, и при каждом движении на нем вспыхивали яркие блики; он сказал, что они поступили по-соседски, нанеся визит, пусть и спустя долгие годы, и что он в отчаянии оттого, что не может предложить им никакого угощения, ведь роботы не нуждаются ни в пище, ни в питье.
По всей видимости, за ними наблюдали с той самой минуты, когда цепочка каноэ впервые показалась на реке: когда они, вытащив лодки на берег и оставив при них гребцов, поднялись на вершину утеса, Стэнли их уже ждал.
Над утесом вздымалось само сооружение — огромное, плавно изгибавшееся, тонкое внизу и расширявшееся кверху, черное, но сиявшее на солнце множеством металлических бликов; огромное, поднимавшееся к небу тонким цветком здание, больше похожее на фантастический монумент или дремлющую скульптуру. Оно было круглым, но окружность не замыкалась, и с одной стороны зиял пустотой вырезанный во всю высоту сооружения сектор. Понять назначение его казалось немыслимым.
За ним лежали развалины древнего города, тут и там виднелись остатки разрушенных стен и покосившиеся металлические скелеты зданий, похожие то ли на поднятые стволы каких-то орудий, то ли на застывшие руки мертвецов, зарытых в землю поспешно и недостаточно глубоко.
На другом берегу реки тоже руины, но эта часть города казалась менее разрушившейся, поскольку кое-где все еще высились огромные строения.
Стэнли перехватил взгляд Джейсона.
— Старый университет, — пояснил он. — Мы приложили немало усилий, чтобы сохранить отдельные здания.
— Вы их используете?
— То, что в них сохранилось. Приборы и библиотеки. Старые мастерские и лаборатории. А чего недоставало, мы со временем перевезли из других учебных центров. Хотя, — добавил он с оттенком печали в голосе, — уже почти нигде ничего не осталось.
— Вы использовали свои знания, чтобы построить это? — спросил Джон, кивнув в сторону сооружения.
— Да, — ответил робот Стэнли. — Вы прибыли, чтобы спросить о нем?
— Отчасти, — сказал Джейсон. — И кое о чем еще.
— У нас есть место, — сказал Стэнли, — где вы будете чувствовать себя гораздо удобнее, чем здесь, среди продуваемой всеми ветрами прерии. Пожалуйста, за мной.
По утоптанной тропинке они дошли до сооружения; отсюда вниз вел пандус. Оказалось, что над землей видна только часть сооружения, а его гладкие стены уходят в глубокую шахту. Пандус изгибался огромной спиралью вокруг гладкой черной стены.
— Нам пришлось копать глубоко вниз, чтобы поставить его на скальное основание, — сказал Стэнли.
— Вы называете это Проектом? — спросил Красное Облако.
Он заговорил впервые. Джейсон видел, как он оскорбленно выпрямился при виде сияющего робота, и на мгновение затаил дыхание, опасаясь слов, готовых вырваться у его старого друга. Однако он промолчал, и Джейсон ощутил прилив нежности и восхищения. Красное Облако бывал в их доме, между ним и Тэтчером установились отношения дружелюбия и уважительности, однако Тэтчер был единственным роботом, которого старый вождь во что-то ставил. Но этот широко шагающий, знающий себе цену, самоуверенный щеголь… При виде его у старика, должно быть, тошнота подступила к горлу.
— Так мы его называем, сэр, — отвечал Стэнли. — Это было предварительное название, но оно закрепилось. И оно вполне годится. У нас нет других проектов.
— А его назначение? Должен же он иметь назначение? — Было очевидно, что Красное Облако в этом сильно сомневается.
— Когда мы дойдем до удобного места, — сказал робот, — я расскажу вам все, что вы пожелаете услышать. У нас здесь нет секретов.
Навстречу им по пандусу поднимались другие роботы, но они не произносили слов приветствия и не останавливались. Вот почему, подумал Джейсон, мы в течение всех прошедших столетий встречали столько спешащих неведомо куда роботов — целеустремленные, поглощенные своей задачей, они расходились по всему свету в поисках необходимых для строительства материалов.
Наконец они дошли до конца пандуса; здесь окружность сооружения была значительно меньше, чем наверху, и на дне шахты расположилось нечто вроде дома без стен — крыша на толстых колоннах, а под ней столы с креслами, шкафы для хранения документов и какие-то весьма странные механизмы. Вероятно, решил Джейсон, командный пункт и конструкторский отдел одновременно.
— Джентльмены, — сказал Стэнли, — прошу садиться. Я готов выслушать ваши вопросы и постараюсь ответить на любой из них. Могу пригласить своих помощников…
— Хватит и вас, — резко оборвал Красное Облако.
— Я думаю, — произнес Джейсон, поспешив загладить неловкость, — нет нужды затруднять кого-либо. Насколько я понимаю, ты можешь говорить от имени всех.
— Я говорил вам, — сказал робот, — что у нас нет секретов. И мы все придерживаемся единого мнения, или почти единого. Если понадобится, я смогу позвать других. Я узнал вас всех, за исключением джентльмена, который прибыл со звезд. Ваша слава вас опережает. Вождя мы знаем и восхищаемся им, хотя нам известно о враждебности, которую он и его народ питают к нам. Мы понимаем истоки этого отношения и искренне о нем сожалеем. И делали все возможное, сэр, — обратился он к Красному Облаку, — чтобы никоим образом вам себя не навязывать.
— Говоришь ты уж больно красно, — ответил старый вождь, — но я признаю: вы не стояли у нас на дороге.
— Мистера Джейсона, — продолжал робот, — мы считали большим добрым другом, и мы чрезвычайно гордились Езекией и той работой, которую он проделал.
— Если так, почему же вы ни разу нас не навестили? — спросил Джейсон.
— Мы полагали, что это не вполне прилично. Понимаете ли вы, что мы пережили, когда вдруг не стало людей, которым мы служили, когда в мгновение ока мы лишились самой цели нашего существования.
— Но у нас целое море роботов, и мы им весьма благодарны, — сказал Джейсон. — Они очень заботливы.
— Это верно, — сказал Стэнли, — но больше не нужно. Мы не хотели вас беспокоить.
— Тогда, — проговорил Джон, — вы, видимо, были бы рады узнать, что Люди могут вернуться.
— Люди! — хрипло воскликнул робот, с которого разом слетела его спокойная самоуверенность. — Люди могут вернуться?
— Они жили на других планетах, — ответил Джон. — Они установили местонахождение Земли и послали разведывательный корабль. Очень скоро он может появиться у нас.
Стэнли пытался взять себя в руки, что явно давалось ему с трудом. Но когда он наконец заговорил, он снова стал самим собой.
— Вы в этом уверены? — спросил он.
— Совершенно уверен, — сказал Джон.
— Вы спрашиваете, были ли бы мы рады? Не думаю.
— Но ты говорил…
— Это было давно. Пять тысяч лет назад. За это время кое-что должно было измениться. Вы называете нас машинами, и, полагаю, это верно. Но за пять тысяч лет даже машина может измениться. Не структурно, конечно. Но вы дали нам разум, а он может претерпевать изменения. Могут меняться точки зрения, появляться новые ценности. Когда-то мы работали для людей; в этом было наше предназначение и наша жизнь. Имея возможность выбирать, мы не стали менять этого положения. Мы получали удовлетворение от рабства; мы были созданы, чтобы получать удовлетворение, живя в рабстве. Верность была той любовью, которую мы дарили человечеству, и мы не ставим этого себе в заслугу, ибо верность была заложена в нас изначально.
— Однако теперь, — сказал Езекия, — вы работаете для себя.
— Ты, Езекия, можешь это понять. Ты со своими товарищами работаешь для себя.
— Нет, — возразил Езекия. — Мы по-прежнему работаем для Человека.
Робот Стэнли не обратил внимания на его слова.
— Поначалу мы были сбиты с толку и растеряны, — продолжал он. — Каждый из нас, каждый в отдельности. Мы никогда не были единым народом, у нас не существовало понятия «мы»; каждый из нас сам по себе, выполнявший то, для чего он был предназначен, и находивший в этом свое счастье. У нас не было своей собственной жизни, и, думаю, именно это смутило нас, когда Люди исчезли. Ибо неожиданно, не мы, а каждый из нас в отдельности обнаружил, что у него есть все-таки своя собственная жизнь, что он может жить без своего хозяина-человека, что он по-прежнему может функционировать, если у него есть дело. Многие из нас какое-то время — иногда очень надолго — оставались в старых домах, занимаясь прежними делами, как если бы наши хозяева просто отправились в путешествие и должны были бы скоро вернуться. Хотя, полагаю, даже самые глупые из нас понимали, что не только наши хозяева, но все, абсолютно все куда-то делись, и это было в высшей степени странно, ибо не бывало, чтобы люди куда-то уезжали все разом. Я думаю, большинство из нас сразу поняли, что случилось, но продолжали делать вид, что со временем все Люди вернутся домой, и, в соответствии со своим назначением, мы продолжали выполнять задачи, которые превратились в бессмысленное движение. Со временем мы оставили притворство, не все сразу, сначала немногие, потом еще и еще и наконец все остальные. Мы скитались в поисках новых хозяев, в поисках задач, которые бы имели смысл. Мы не нашли Людей, но зато мы нашли самих себя, мы нашли друг друга. Мы разговаривали между собой; мы составляли свои мелкие, бессмысленные планы, советуясь с другими. Мы искали людей, пока наконец не поняли, что никому не нужны, — ибо у вас, мистер Джейсон, было столько роботов, сколько вам требовалось, а ваш народ, вождь Красное Облако, не желал нас принимать. И еще были люди на Западе, на побережье, которые боялись всего на свете, даже нас, когда мы пытались им помочь…
Красное Облако обратился к Джейсону:
— Это, видимо, племя, из которого пришел твой странник. Чего, он говорил, они боялись? Темного Ходуна, да?
— Поначалу они работали на земле, — сказал Джейсон. — Земледельцы, все время работавшие на полях, сея, выращивая, собирая урожай, погрязшие в нищете, кое-как сводившие концы с концами, они были так зависимы от земли, что сами, по сути своей, стали ею. У них, конечно, не было роботов. Если они и видели роботов, то только мельком и вдалеке, толком не понимали, что это такое.
— Они убегали от нас, — сказал Стэнли. — Мы пытались им объяснить, пытались заставить их понять. Но они убегали. В конце концов мы не захотели их пугать.
— Как ты думаешь, что они видели? — спросил Красное Облако. — Этот их Темный Ходун…
— Может быть, ничего, — ответил Джейсон. — У них, подозреваю, древний и богатый фольклор. Множество суеверий. Для таких людей суеверие являлось развлечением и, возможно, надеждой…
— Но они могли что-то видеть, — настаивал Красное Облако. — В ту ночь, когда это случилось. Тех, кто забрал Людей. У моего народа тоже было много преданий о том, что кто-то ступал по Земле, но мы, со своей нынешней умудренностью, слишком быстро сбрасываем их со счетов. Если жить так близко к сердцу Земли, как живем мы, начинаешь понимать, что в старых сказках могут быть зерна истины. Мы, например, знаем, что инопланетяне теперь посещают Землю, а кто возьмется утверждать, что раньше, до белого человека, их здесь не было?
Джейсон кивнул.
— Может быть, дружище, ты совершенно прав, — сказал он.
— Наконец настало время, — продолжал робот Стэнли, — когда мы поняли, что нет людей, которым мы могли бы служить, и мы остались не у дел. Но с течением веков нами овладевала мысль, что, если мы не можем работать на человека, мы могли бы работать на себя. Но что может робот сделать для себя или для других роботов? Построить цивилизацию? Она для нас не имела бы никакого смысла. Скопить богатство? Но откуда его взять и зачем оно нам? У нас нет стремления к выгоде, для нас не важно общественное положение. Мы могли бы заняться образованием и получить известное наслаждение, но это был тупик. Кроме сомнительного удовольствия, которое могло бы нам дать образование, оно нам было ни к чему. Для людей это способ самосовершенствования, способ заработать себе на жизнь, внести вклад в развитие общества, возможность понимать и наслаждаться искусством. Это была достойная цель для любого человека, но как усовершенствоваться роботу? С какой целью и с каким результатом? Ни один робот не в силах сделать себя лучше, чем он есть. Эти ограничения заложены в нем создателями. Его возможности предопределены материалами, из которых он изготовлен, и программой. С точки зрения выполнения тех задач, ради которых он был создан, он служит хорошо. Лучшего не требуется. Однако нам казалось, что можно построить более совершенного робота. Предела роботу нет. А что будет, спросили мы себя, если построить незавершенного робота?
— Ты хочешь сказать, что вы создали его? — спросил Джейсон.
— Именно это я и хотел сказать, — отвечал Стэнли.
— И какова же ваша конечная цель?
— Мы не знаем, — сказал Стэнли.
— Не знаете? Вы его строите…
— Уже нет. Теперь он взял управление на себя. Он говорит нам, что делать.
— Какой в нем прок? — спросил Красное Облако. — Он не может двигаться. Он ничего не может делать.
— У него есть цель, — упрямо возразил робот. — У него должна быть цель…
— Погоди-ка, — прервал Джейсон. — Ты хочешь сказать, что он управляет своим собственным строительством? Что он говорит вам, как его строить?
Стэнли кивнул:
— Это началось лет двадцать или больше назад. Мы с ним говорили.
— Говорили с ним? Как?
— С помощью распечатки. Как с древним компьютером.
— Значит, в действительности вы построили огромный компьютер.
— Нет, не компьютер. Это робот. Как мы, но с той лишь разницей, что из-за своих размеров он не может двигаться.
— Бессмысленный разговор, — произнес Красное Облако. — Робот — это только ходячий компьютер.
— Между ними существует различие, — мягко сказал Джейсон. — Именно это, Гораций, ты отказывался понимать. Ты считал робота машиной, но это биологическое понятие, выраженное механическими средствами…
— Ты играешь словами, — сказал Красное Облако.
— Не думаю, что мы к чему-нибудь придем даже в самом добродушном споре, — вмешался Джон. — В сущности, мы пришли не для того, чтобы узнать, что тут строится. Мы пришли, чтобы выяснить, как отнесутся роботы к возможному возвращению миллионов Людей на Землю.
— Я могу вам сказать, — ответил Стэнли. — С некоторым опасением. Люди заставили бы нас опять служить себе или же, что еще хуже, мы бы им вовсе не понадобились. Некоторые из нас, возможно, были бы рады снова оказаться в услужении, ибо все эти годы мы жили с ощущением, что никому не нужны. Некоторые из нас приветствовали бы старое рабство, ибо оно никогда не было настоящим рабством. Но я полагаю, что большинство все же чувствует, что мы вступили на путь, приближенный к судьбе человечества. По этой причине мы бы не хотели, чтобы Люди вернулись. Они стали бы вмешиваться, они не смогли бы не вмешаться; их разум так устроен, что они не могут не вмешаться, даже если дело касается их весьма отдаленно. Но решение мы не можем принять самостоятельно. Решение входит в компетенцию Проекта…
— Ты имеешь в виду монстра, которого вы построили, — проговорил Езекия.
Стэнли, который все это время стоял, медленно опустился в кресло. Он повернул голову и в упор посмотрел на Езекию.
— Ты не одобряешь? — спросил он. — Ты не понимаешь этого? Я-то думал, что ты поймешь скорее всех.
— Вы совершили святотатство, — сурово ответил Езекия. — Вы возвели здесь нечто отвратительное. Вы задумали возвыситься над своими создателями. Я провел много одиноких, страшных часов, размышляя, не совершаем ли мы, я и мои помощники, святотатство, посвящая свое время и все усилия задаче, которой должны были бы посвящать себя люди, но мы, по крайней мере, все же трудимся на благо человечества…
— Прошу вас, — сказал Джейсон, — давайте не будем сейчас обсуждать это. Кто вправе судить чьи-либо действия? Стэнли говорит, что решать будет Проект…
— Да, Проект, — сказал Стэнли. — Он обладает большим объемом знаний, чем любой из нас. Долгие годы мы собирали данные и вводили их в его память. Мы отдали ему все знания, которые нам посчастливилось добыть. Он знает историю, философию, естественные науки, искусство. А теперь он самостоятельно пополняет эти знания. Он беседует с чем-то, находящимся очень далеко в космосе.
Джон резко выпрямился.
— Как далеко? — спросил он.
— Мы точно не знаем, — ответил Стэнли. — Нечто, как мы полагаем, расположенное в центре Галактики.
Глава 21
Он ощутил острую тоску существа в лощине, отсутствие чего-то, к чему оно стремилось, и несказанную муку. Он остановился так резко, что шедшая за ним Вечерняя Звезда наткнулась на него.
— Что там? — прошептала она.
Он стоял неподвижно и молчал. Из лощины на него накатила волна чувств — безнадежность, сомнение, страстное желание. Деревья стояли неподвижно и молчаливо, и на мгновение в лесу все притихло — птицы, зверьки, насекомые. Ничто не шелохнется, ничто не зашуршит, словно вся природа затаила дыхание, прислушиваясь к существу в лощине…
— Что такое? — спросила Вечерняя Звезда.
— Оно страдает, — сказал он. — Разве ты не ощущаешь страдание?
— Нельзя ощутить чужое страдание, — проговорила она.
В ничем не нарушаемой тишине он медленно двинулся вперед, и обнаружил его: безобразный клубок червей, припавший к земле у валунов под склонившейся березой. Но не клубок червей он видел, а слышал крик отчаянной тоски; что-то в его мозгу перевернулось, и мысленно он настроился на неведомый зов.
Вечерняя Звезда отпрянула, наткнулась на корявый ствол дуба, росшего у тропинки, и сползла по нему вниз. Клубок червей продолжал шевелиться, черви ползли друг через друга, и он весь кипел каким-то непонятным, бессмысленным возбуждением. Потом из этой бурлящей массы донесся крик радости и облегчения — беззвучный крик, смешанный с чувством сострадания и силой, не имевшими никакого отношения к клубку червей. И надо всем этим расстилалось, словно покров надежды и понимания, то, что говорил — или пытался, но не мог сказать — огромный белый дуб; и в ее мозгу, подобно цветку, разбуженному солнцем, раскрылась вся Вселенная. На мгновение она ощутила (не увидела, не услышала, не поняла — все это оказалось за пределами простого зрительного восприятия и понимания) Вселенную целиком, от самого ее ядра до краев: ее механизм и цель существования, место всего, что несло в себе дыхание жизни.
Всего одно мгновение, кратчайший миг знания, а затем снова неведение; опять она стала сама собой, съежившейся у подножия дерева, ощущающей спиной грубую кору толстого дуба. А рядом на тропинке стоял Дэвид Хант, и извивающийся клубок червей излучал, казалось, божественный свет, такой яркий, и сверкающий, и невероятно красивый. В ее мозгу опять и опять звучал тот крик, но значения его она понять не могла.
— Дэвид, — вскрикнула она, — что произошло? Ибо произошло нечто великое, она это знала и была растеряна, хотя к ее растерянности примешивались счастье и изумление. Она сидела на корточках, прижавшись спиной к дереву, и над ней словно склонилась Вселенная, и она почувствовала твердое прикосновение рук, которые ее подняли, и она оказалась в объятиях Дэвида и прижалась к нему, как еще никогда в жизни ни к кому не прижималась, радуясь, что он рядом с ней в этот великий, она чувствовала, момент ее жизни, ощущая себя в безопасности в его сильных, крепких руках.
— Ты и я, — повторял он. — Мы с тобой вдвоем. Между нами двумя…
Он запнулся, и она поняла, что он испуган, и обвила его руками и прижала к себе.
Глава 22
Они ждали у реки, рядом с вытащенными на каменистый берег каноэ. Несколько гребцов сидели у маленького сложенного из плавника костерка и варили рыбу, остальные просто сидели и разговаривали, а один из них крепко спал на речной гальке — она показалась Джейсону чрезвычайно неудобной постелью. Река здесь была уже, чем у старого лагеря, течение быстрым; искрясь на послеполуденном солнце, вода бежала между высоких утесов, тянувшихся с обеих сторон.
Позади них высилось гигантское расширяющееся кверху сооружение, тонкий черный свиток металла, кажущийся огромным и в то же время настолько хрупким, что того и гляди его закачает под ветром.
— Мы вместе подумали об одном, — сказал Джон.
— С кем ведет беседы Проект?
— Именно. Ты думаешь, это возможно? Суперробот, или чрезвычайно сложный компьютер, вошел в контакт с Принципом?
— Не исключено, что он его слышит, может быть, получает от него какую-то информацию, но не разговаривает с ним.
— Это не обязательно Принцип, — сказал Джон. — Это может быть другая раса или несколько рас. Мы обнаружили их немало, но лишь с немногими из них общаемся, поскольку у нас нет основы для взаимопонимания. Хотя эта биолого-механическая штуковина способна создать что угодно. Его разум, если это можно назвать разумом, возможно, более гибок, чем наш. Бесспорно, по уровню и глубине понимания он равен человечеству. В течение столетий роботы накачивали его запоминающее устройство всеми человеческими знаниями. Вероятно, это наиболее образованное существо, когда-либо жившее на Земле. Он обладает эквивалентом нескольких сотен университетских образований. Объем знаний, который он сохранил в неприкосновенности, не забывая ничего, мог обеспечить ему кругозор более широкий, чем у любого из людей.
— С чем бы он там ни говорил, — сказал Джейсон, — одно очко в его пользу. Ведь мало разумных рас, с которыми мы смогли вступить хоть в какое-то общение, я уж не говорю об осмысленном контакте. А этот суперробот вышел на него, причем на более чем осмысленное.
— По двум причинам, — предположил Джон. — Во-первых, он, вероятно, способен расшифровывать символы языка…
— Функция хорошего компьютера, — заметил Джейсон.
— И во-вторых, хороший компьютер способен не просто на понимание, отличное от нашего, но может обладать более широким спектром понимания. Во многих случаях мы не можем вступить в контакт из-за своей неспособности постичь образ мыслей и систему ценностей, отличных от наших.
— Что-то уж больно долго мы ждем, — проговорил Красное Облако. — Как вы думаете, чудовище все еще не может ни на что решиться? Хотя я полагаю, не имеет значения, что он скажет. Сомневаюсь, чтобы он мог помочь нам.
— Это не чудовище, сэр, — возразил Езекия. — Это конструкция, созданная такими, как я. Хотя я должен прибавить, что ни за что не стал бы ее создавать. Пусть она умна, но это омерзительная вещь, детище греховной гордыни. И все же я уверен: если Проект примет решение, он может помочь нам.
— Это мы скоро узнаем, — сказал Джейсон. — Стэнли спускается по тропинке.
Они стоя ожидали сверкающего робота. Тот спустился, подошел к ним и остановился, вглядываясь в каждого из них.
— Новости плохие, — наконец проговорил он.
— Значит, не поможете, — сказал Джейсон.
— Мне искренне жаль, — ответил робот. — Моим личным желанием было бы сотрудничать с вами. Но мы построили Проект, он теперь главный среди нас, можно сказать, — робот склонил голову в сторону Горация Красное Облако, — он наш вождь, и потому мы подчиняемся его решению. Ибо какой смысл создавать вождя, если ты ему не доверяешь?
— На чем основано его решение? — спросил Джейсон. — Вы нам не доверяете? Или проблема, по вашему мнению, не так серьезна, как нам представляется?
Стэнли покачал головой.
— Ни то ни другое, — сказал он.
— Ты понимаешь, что если Люди вернутся, они могут подчинить вас? И Проект тоже.
— Ты обязан быть учтивым с этими джентльменами… — начал Езекия.
— Не вмешивайся, — резко оборвал его Стэнли.
— Буду, — в голосе Езекии зазвучал несвойственный ему гнев. — Это те, кто нас создал. Мы обязаны хранить верность. Даже ваш Проект должен быть верен им, так как вы использовали не только данный вам людьми разум, но и собирали по всему свету материалы, из которых строили Проект, знания, которые в него вводили.
— Мы теперь не ищем преданности, — проговорил Джейсон. — Иногда я думаю, что мы должны были бы извиниться за то, что построили вас. Мы не дали вам мира, к которому вы могли бы испытывать благодарность. Но если Люди вернутся и захватят планету, пострадаем мы все.
— Чего вы хотите? — спросил Стэнли.
— Вашей помощи. Коль скоро вы отказываете в ней, у нас есть право спросить почему.
— Это не утешит вас.
— Мы не утешения ищем.
— Хорошо, — сказал Стэнли, — раз вы настаиваете…
Он запустил руку в сумку, висевшую на поясе, достал оттуда сложенный лист бумаги, развернул его, разгладил.
— Это ответ, который дал нам Проект.
Он подал бумагу Джексону. На ней были напечатаны четыре строчки:
«Описанная ситуация для нас несущественна. Мы могли бы помочь человечеству, но нет причин делать это. Человечество — преходящее явление и не имеет к нам отношения».
Глава 23
Дядя Джейсон сказал, что начинать ей нужно с книг по истории. Это, сказал он, даст основу для понимания всего остального.
Сейчас, в библиотеке, когда ветер бормотал в карнизах, а от толстой свечи остался всего небольшой огарок, Вечерняя Звезда устало подумала о том, какой, собственно, прок в понимании. Понимание не разгладит складки озабоченности на лице дяди Джейсона. Оно не гарантирует, что, если вернутся Люди, останутся нетронутыми леса и прерии — земли, где живет ее народ. И оно не скажет ей, что случилось с Дэвидом Хантом.
Последнее соображение, призналась она себе, лично для нее самое важное. Он обнял и поцеловал ее в тот день, когда они обнаружили существо в лощине, и домой они вернулись вместе, держась за руки. Но больше она его не видела, никто его больше не видел. Она бродила по лесу в надежде найти его и даже была в монастыре. Роботы ничуть не обеспокоились: они были учтивы, но едва ли милы, и обратно она шла, чувствуя себя униженной, словно бы позволила взглянуть этим равнодушным мужчинам из металла на свое обнаженное тело.
Он бежал от меня, подумала она. Или тот день в лощине не столь важен, как ей виделось? Оба они были потрясены случившимся, и захлестнувшие их чувства могли найти выход таким неожиданным образом. Непохоже, сказала она себе, чтобы это было так. Она склонялась к мысли, что те события всего лишь дали толчок тому, что она чувствовала, но не осознавала полностью, — она любила этого бродягу с запада. Но что, если, думала она, он задал себе тот же вопрос и нашел иной ответ?
Он сбежал? Или, как и прежде, должен искать что-то? Может, он решил, что предмет его поисков не в этом доме и не в ней самой, и потому двинулся дальше, на восток?
Она отложила книгу и сидела в тишине погруженной в сумрак библиотеки, уставленной рядами книг, и на столе догорала, оплывая, свеча. Скоро придет зима, подумала она, и ему будет холодно. Она могла бы дать ему одеяла, теплую одежду. Но он не сказал ей, что собирается уйти. Она снова пережила в мыслях тот день. Все было так непонятно, и до сих пор она не могла собрать все воедино, сказать, что сначала произошло это событие, затем другое, а после него третье. Все словно бы случилось одновременно, без малейших промежутков, однако она знала, что существовала некая последовательность событий. Самое странное, что она не могла с уверенностью сказать, что делал Дэвид, а что — она, и в который раз задала себе вопрос, нужно ли было участие обоих?
Что с ней случилось? Девушка помнила лишь отдельные фрагменты, но была уверена, что произошедшее не дробилось, и запомнившиеся фрагменты не более чем разбитые кусочки некоего целого. Раскрылся весь мир, вся Вселенная — или то, о чем с тех пор она думала как о Вселенной, — обнажив все потайные уголки, явив все существующие знания, причины всех событий; Вселенная, из которой были вычеркнуты время и пространство, ибо из-за них никто не мог постичь ее целиком. Появилась на миг и исчезла, так быстро, что мозг не успел ничего зафиксировать, исчезла, не оставив о себе никаких определенных воспоминаний, никакого твердого знания — как лицо, увиденное при вспышке молнии и вновь погрузившееся во мрак.
Было ли это — могло ли быть — тем, о чем она пыталась рассказать Дедушке Дубу: что внутри нее происходит нечто, что грядет некое изменение, но она не знает, какое именно, и что она может снова уйти. Если это так, подумала она, если это новая способность, вроде путешествия к звездам, а не просто нечто ей привидевшееся, ей больше не придется никуда отправляться. Потому что она сама суть любое место.
Она впервые подумала об этой способности и испугалась. Не столько важности этой мысли, сколько того, что вообще об этом подумала, что, пусть подсознательно, позволила себе об этом думать. Она сидела, напряженно выпрямившись, в полутемной комнате, где мерцала, догорая, свеча, и ей опять послышались голоса и тихое движение призраков, что обитали в книгах, единственном на Земле месте, принадлежащем им.
Глава 24
Из записи в журнале от 29 ноября 5036 года:
…В последние несколько столетий произошло некоторое ухудшение моего физического состояния, и теперь бывают дни (как сегодня), когда я ощущаю на плечах тяжесть прожитых лет. Я чувствую усталость, которую нельзя отнести на счет обычных дел. Я никогда чрезмерно не утомлял себя делами, а в последние годы и подавно. Походка моя стала шаркающей, а рука утратила былую твердость и выводит в журнале дрожащие каракули. Случается, я пишу не то слово, что хотел написать — очень похожее, но не то. Бывает, я не могу сразу подыскать нужное слово, и подолгу сижу, роясь в памяти, что меня не столько раздражает, сколько печалит. Порой я пишу с ошибками, чего раньше никогда не бывало. Думаю, я стал похож на старого пса, который спит на солнышке, с той существенной разницей, что старый пес ничего от себя не требует.
Элисон, моя жена, скончалась пятьсот лет назад, и, хотя многое уже забылось, я помню, что смерть ее была тиха и спокойна. Полагаю, моя будет такой же. Мы умираем от старости, а не от разрушительного действия болезней, и именно в этом, по-моему, истинное счастье, которое нам даровано. Случается, я задумываюсь о том, в какой мере долгая жизнь — сказочно долгая жизнь — благо для человечества. Но подобные мысли, говорю я себе, — всего лишь мысли старого, со странностями, человека, и не стоит обращать на них внимание.
Одно я помню очень хорошо, и это меня преследует. Когда умерла Элисон, собралось много людей, издалека, со звезд. Мы отслужили по ней заупокойную, в доме и у могилы. Среди нас не было ни одного духовного лица, поэтому мой внук Джейсон читал тексты из Библии и произносил слова, которые полагалось произносить, и все было очень торжественно и достойно. Возле могилы стояли люди — огромная толпа, — а чуть поодаль роботы: отдельно от нас, по своему собственному желанию и в соответствии с древним обычаем.
Когда все закончилось, мы вернулись в дом; спустя некоторое время я прошел в библиотеку и сидел там в одиночестве. Никто меня не тревожил, понимая, что мне нужно побыть одному. Немного погодя раздался стук в дверь, и вошел Езекия из монастыря. Пришел сказать, что он со своими товарищами не присутствовал на похоронах, поскольку в это самое время они в монастыре отправляли заупокойную службу. Сообщив это, он вручил мне текст службы. Текст был написан чрезвычайно разборчиво и красиво, с красочно нарисованными заглавными буквами и украшениями на полях страниц — такая же аккуратная, безупречная рукопись, как сохранившиеся средневековые манускрипты. Откровенно говоря, я не знал, что ответить. Разумеется, с его стороны это была дерзость и, с моей точки зрения, дурной тон. Однако я не сомневался, что не было никакого дурного умысла, и сами роботы видели в этом не дерзость и не нарушение приличий, но поступок, продиктованный любовью и уважением. Я поблагодарил Езекию, хотя, боюсь, в выражении благодарности был краток, что он, я уверен, отметил. В то время я не описал этот визит в журнале и никому о нем не рассказывал. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь знал о визите робота ко мне. Все годы я с величайшей ответственностью относился к записи всего, что происходило. Я завел журнал для того, чтобы занести на бумагу правду о том, что случилось с человечеством, и таким образом воспрепятствовать появлению мифов и легенд. Думаю, тогда у меня не было никаких иных соображений и я не собирался продолжать свои записи в дальнейшем. Но к тому времени, когда закончил, я уже настолько усвоил привычку писать, что не отказался от своего занятия и стал записывать все наши, даже самые мелкие, события и свои мысли. Почему я не отметил того, что произошло между мной и Езекией, до сих пор понять не могу. Происшедшее не было страшным нарушением этикета, его не стоило скрывать. Поначалу я об этом забыл, а если случалось вспомнить, снова забывал. Но с недавних пор я думаю об этом постоянно.
За последние несколько лет я задал себе множество вопросов, касающихся того случая, ибо теперь острота происшедшего притупилась, и я могу быть объективным. Я подумывал о том, что мы могли бы попросить Езекию совершить богослужение во время похорон, чтобы он, а не Джейсон читал текст отпевания. Однако даже сейчас мысль эта вызывает у меня дрожь. И все же факт остается фактом: именно робот, а не человек, поддерживает существование не только христианства, но и самой идеи религии. Я понимаю, что народ Красного Облака имеет свои верования и свое отношение к действительности, которое следует назвать религией. Но согласно моему пониманию, она не формализована, она является глубоко личной — вероятно, это проще и разумнее, чем те пустые формы, в которые превратились другие религии. Но мне кажется, нам следовало либо придерживаться нашей религии, либо отказаться от нее полностью. Мы позволили ей умереть, она нас больше не заботила, и мы устали делать вид, что верим. Это относится не только к нескольким последним тысячелетиям. Еще до Исчезновения мы позволили вере умереть; в данном случае я употребляю слово «вера» в строго ограниченном смысле, относя его к организованной религии.
В последние годы я много об этом думал, сидя во внутреннем дворике и наблюдая, как сменяются времена года. Я внимательно изучал небо и знаю все облака, плывущие по нему; я твердо запомнил различные оттенки голубого цвета: линялая, почти невидимая голубизна жаркого летнего дня; мягкий, порой зеленоватый цвет позднего весеннего вечера; более темный, почти фиолетовый цвет осени. Я стал знатоком окраски осенних листьев и знаю все голоса и настроения леса, речной долины. Я обрел общность с природой и пошел таким образом по стопам Красного Облака и его народа; хотя, я уверен, им свойственно более глубокое понимание ее и более тонкие чувства, чем мне. Но я видел смену времен года, рождение и смерть листьев, блеск звезд в бессчетные ночи, и во всем этом я ощутил цель и порядок. Мне кажется, должен существовать какой-то всеобъемлющий, вселенский план, благодаря которому электроны вращаются вокруг ядер и медленнее, более величественно, вращаются галактики. Мне кажется, существует план, охватывающий всю Вселенную, но что он собой представляет и откуда появился, мой слабый разум постичь не может. Однако если и искать, к чему обратить нашу веру, — и нашу надежду, — то к этому плану. Я думаю, мы мало размышляли и слишком боялись…
Глава 25
Концерт завершился оглушительным финалом, и музыкальные деревья умолкли в свете осенней луны. Внизу, в речной долине, перекликались совы, и слабый ветерок прошелестел листьями. Джейсон пошевелился в кресле, оглянувшись на огромную, установленную на крыше антенну, и снова вернулся к прежней позе.
Марта поднялась.
— Я пойду внутрь, — сказала она. — Ты идешь, Джейсон?
— Пожалуй, я еще немного побуду. Осенью такие ночи выдаются нечасто — жалко упускать. Ты не знаешь, где Джон?
— Джон тяготится ожиданием, — ответила Марта. — В ближайшее время он опять отправится к звездам. Думаю, он решил, что здесь ему не место, Земля не стала его домом.
— Джон везде не дома, — проворчал Джейсон. — У него нет дома. Ему не нужен дом, он хочет скитаться. Он как и все остальные. Никого из них, ни единого, не беспокоит, что происходит с Землей.
— Они все сочувствуют, все, с кем я говорила. Если бы они что-то могли сделать, сказали они…
— Зная, что ничего не могут.
— Не принимай этого так близко к сердцу, Джейсон. Может, тебя тревожит то, чего никогда не произойдет.
— Я беспокоюсь не о нас, — сказал он, — а о народе Красного Облака. И о роботах. Да, даже о роботах, которые вроде бы нашли новый путь. У них должен быть свой шанс. Им не должны мешать.
— Но они отказались помочь нам.
— Они установили радио и луч.
— И никакой реальной помощи.
— Никакой реальной помощи, — согласился он. — Я не могу их понять.
— Наши собственные роботы…
— Наши собственные роботы другие. Они — часть нас. Они делают то, для чего были созданы, они не изменились. Езекия, например…
— Им пришлось измениться, — сказала Марта. — У них не было выбора. Они не могли сидеть сложа руки и ждать.
— Ты права, — ответил Джейсон.
— Я иду домой. Не сиди слишком долго. Скоро станет холодно…
— Где Вечерняя Звезда? Она тоже не вышла…
— Вечерняя Звезда тревожится об этом странном парне. Не понимаю, что она в нем нашла.
— Она не знает, что с ним? Куда он мог подеваться?
— Знала бы, не беспокоилась бы. Похоже, она думает, что он сбежал от нее.
— Ты говорила с ней?
— Не о нем.
— Он был странный, — сказал Джейсон.
— Я иду домой. Ты скоро придешь?
Он сидел и слушал, как Марта прошла через двор, как за ней захлопнулась дверь.
Непонятное что-то с этим парнем, подумал он. Почему он исчез? И инопланетянин в лощине исчез. Джейсон хотел его повидать и поговорить с ним, но не нашел никаких следов. Может быть, он устал ждать? А нет ли какой-то связи между исчезновением его и Дэвида Ханта? Но Дэвид не знал о существе в лощине. Парень рассказывал о Темном Ходуне, и он его боится. Не исключено, что он пересек материк, чтобы убежать от Ходуна, сбить его со следа. Он бежит от того, чего, по всей вероятности, вовсе не существует. Это неудивительно, сказал себе Джейсон. Не он первый бежит невесть от чего.
А что, если его собственный страх основывается на несуществующей посылке? Может быть, разведывательный корабль, несущий к Земле Людей, не таит в себе опасности? А даже если он и несет в себе семена перемен, кто он, Джейсон, чтобы утверждать, что они опасны? Нет, подумал он, любые перемены — не угроза тем, кто отправился к звездам; они порвали связи с Землей, и, что бы с ней ни произошло, их это никак не затронет. Эта мысль потрясла его, признался себе Джейсон. Все эти годы он лелеял мысль, что является для других якорем, что его дом — дом для всех, земная база человечества. Это самообман, который он бережно лелеял ради сохранения чувства собственной значимости. Что касается людей его дома, то, если Земля будет колонизирована, могут пострадать он да Марта. Но Люди, конечно, не станут вторгаться на территорию их дома и окружающих его нескольких акров, если дать им понять, что их присутствие нежелательно.
О ком действительно надо думать, сказал он себе, так это об индейцах, потомках древних аборигенов, которые когда-то называли материк своим домом. И о роботах. Культура и цивилизация были им навязаны; роботы, кроме того, не просили, чтобы им дали жизнь. В прошлом в отношении тех и других было совершено уже достаточно несправедливостей, нельзя, чтобы они опять стали жертвой. Они должны иметь свой шанс. А если придут Люди, никакого шанса у них не будет.
Что за болезнь несет его раса? Смертельную для всех, кто с ней соприкасается. Началось это, сказал себе Джейсон, когда первый человек вскопал землю, посадил в нее зернышко и должен был охранять ее. Началось с появления собственности: на землю, на природные ресурсы, на рабочую силу. И появилась необходимость в защите человека и его собственности от превратностей судьбы, стремление к материальному и общественному положению. Размышляя об этом, Джейсон не сомневался, что идея безопасности выросла в первую очередь из идеи собственности. Обе они шли от одного корня. Владевший собственностью был в безопасности.
Индейцы не имели ни единого фута собственной земли, к собственности они относились с презрением, ибо она означала бы, что они привязаны к тому, чем владеют. А роботы, подумал он, заложена ли в них идея собственности? Джейсон сильно в этом сомневался. Их общество должно быть еще более коммунистическим, чем у народа Красного Облака. Только его народ боготворил собственность, это-то и было его болезнью. Однако именно из этой болезни, именно на ее фундаменте с течением веков была построена чрезвычайно сложная общественная структура.
Эта общественная структура, однажды уже уничтоженная, теперь должна быть восстановлена на Земле, и что тут поделаешь? Что он, Джейсон Уитни, может сделать, чтобы предотвратить ее восстановление? Ответа на вопрос он найти не мог.
Роботы были для него загадкой. Стэнли говорил, что он и его товарищи глубоко озабочены, однако они безоговорочно приняли решение Проекта не оказывать помощи. Но они помогли в другом: доставили и смонтировали оборудование для приводного луча, радио и батареи, на которых все работало. Без них как связаться с Людьми, когда те прибудут? А очень важно, сказал себе Джейсон, чрезвычайно важно, чтобы он имел возможность с ними поговорить. Чего он сможет добиться, он не знал, но он должен иметь возможность поговорить с Людьми. Обнаружив в космосе приводной луч, они поймут, что есть кто-то на Земле.
Джейсон, сгорбившись, сидел в своем кресле. Он чувствовал себя одиноким и покинутым; он снова подумал, не ошибается ли он. Возможно, ошибается относительно себя, роботов, но не Красного Облака и его народа.
Он сознательно попытался выбросить все эти мысли из головы. Если ему удастся некоторое время ни о чем не думать, он сможет думать яснее, когда придет срок. Он уселся удобнее, чтобы отвлечься и расслабиться. Он видел, как лунный свет блестит на крышах монастырских зданий, как освещенные луной музыкальные деревья стоят подобно стройным белым призракам. Последнее время деревья музицировали гораздо лучше, подумал он. И случилось это, вспомнил он, вечером того дня, когда его брат Джон вернулся со звезд. Он заметил это и удивился, но было слишком много дел, слишком много забот и тревог, чтобы размышлять об этом. Вечером того дня, когда вернулся Джон, подумал он, однако то, что Джон вернулся, никак не могло повлиять на музыкальные деревья.
Джейсон услышал за спиной шаги и обернулся. К нему спешил Тэтчер.
— Мистер Джейсон, сэр, — проговорил робот, — там кто-то вызывает нас по радио. Я сказал ему, чтобы он подождал и что я позову вас.
Джейсон поднялся. Он почувствовал внезапную слабость в коленях, ощутил, как что-то опустилось внутри. Вот оно, подумал он. Он к этому не готов. И никогда не был бы готов.
— Спасибо, Тэтчер, — сказал он. — Я бы хотел, чтобы ты для меня кое-что сделал.
— Все что угодно, сэр.
Тэтчер был взволнован. Джейсон посмотрел на него с удивлением: никогда бы не подумал, что увидит взволнованного Тэтчера.
— Пошли, пожалуйста, одного из роботов в лагерь Красного Облака. Скажи ему, он мне нужен. Попроси его прийти.
— Сейчас, — сказал Тэтчер. — Я сам туда схожу.
— Замечательно. Я надеялся, что ты это сделаешь. Гораций тебя знает, но может возмутиться, если его поднимет с постели другой робот.
Тэтчер повернулся, чтобы уйти.
— Минутку, — остановил его Джейсон. — Еще попроси Красное Облако послать кого-нибудь за Стэнли. Ему тоже нужно быть здесь. И Езекии тоже.
Глава 26
Он убил того последнего медведя, хотя зверь был слишком близко, чтобы успеть выстрелить как следует. Точно так же он убил и всех остальных: один медведь — один коготь в его ожерелье. Убивали его стрелы, — прямые, прочные, хорошо оперенные стрелы, посланные мощным луком. Но теперь он в этом не был уверен.
Хотя он не только убивал. Он и исцелял.
Он убил медведей, но исцелил деревья. Теперь он был уверен в этом. Он почувствовал, что с ними что-то неладно, и помог, хотя на самом деле и не знал, что же с ними такое.
Между освещенных луной деревьев проковылял инопланетянин и припал к земле рядом с ним. Черви все шевелились и шевелились, ползли и ползли. Инопланетянин следовал за ним уже несколько дней, и Дэвид устал от него.
— Убирайся отсюда! — крикнул он. — Уходи!
Тот не тронулся с места, а черви все шевелились. Порой он испытывал искушение сделать с инопланетянином то же, что и с медведями, но говорил себе, что с инопланетянином так поступать нехорошо. Тот не представлял никакой опасности, по крайней мере он так не думал; но клубок червей ему надоедал.
Инопланетянин подобрался ближе.
— Я дал тебе то, что ты хотел, — закричал на него Дэвид Хант. — Я убрал боль. А теперь оставь меня в покое.
Инопланетянин попятился.
Дэвид присел на корточки у подножия могучего клена и стал думать. Хотя, в сущности, думать особенно не о чем. Все казалось достаточно ясным: он излечил деревья, излечил это странное существо, которое теперь следует за ним по пятам, вылечил сломанное крыло у птицы и больной зуб у старого медведя. А еще он очистил куст астр от какой-то ужасной штуки, которая высасывала из него жизнь. (Правда, он ощущал некоторую неуверенность: помогая астрам, он убил какую-то другую форму жизни — пусть низшего порядка, но все же нечто живое.) Из него словно бы изливался мощный поток сострадания, исцелявший всех страждущих, однако, как ни странно, в себе он не ощущал особого сострадания. Скорее неудобство от чьей-то боли или нездоровья, и должен был сделать что-то, чтобы его не беспокоили. Неужели мне придется жить, подумал он, воспринимая все, что есть неладного в мире? Все было в порядке, пока в тот вечер он не услышал музыкальные деревья, не ощутил их недуг. Может быть, дело в музыке? Или в роботе, который тогда стоял рядом с ним? И что, теперь он всю жизнь будет чувствовать все самые маленькие беды, все самые мелкие хвори, и не будет ему покоя, пока не излечит их все?
Краем глаза Дэвид Хант увидел, что инопланетянин подбирается ближе. Он взмахнул руками, словно отталкивая его прочь.
— Убирайся! — крикнул он.
Глава 27
Джейсон взял микрофон и нажал выключатель. А что говорить, подумал он. Как положено вести радиопереговоры? Этого он не знал.
Он сказал:
— Говорит Джейсон Уитни с планеты Земля. Вы слушаете?
Он подождал, и после короткой паузы раздался голос:
— Джейсон кто? Назовите себя, пожалуйста.
— Джейсон Уитни.
— Уитни. Вы человек? Или еще один робот?
— Я человек, — сказал Джейсон.
— Вас уполномочили говорить с нами?
— Я единственный, кто может это делать. Я здесь единственный человек…
— Единственный…
— Есть и другие люди. Их немного. В настоящий момент их здесь нет.
Голос, хотя и озадаченно, но произнес:
— Да, мы поняли. Нам говорили, что людей немного. Несколько человек и роботы.
Джейсон глубоко вздохнул, удерживая готовые сорваться с языка вопросы. Откуда вы знаете? Кто вам сказал, что здесь есть люди? Разумеется, не Джон. И если бы кто-то из остальных обнаружил Людей, он тут же примчался бы со своей новостью на Землю. Невозможно, чтобы кто-нибудь нашел Людей, потолковал с ними о том о сем, а потом отправился дальше, не известив Землю.
Стоит ли им говорить, подумал он, что мы ждали их прибытия? Сказать, что мы ждали их гораздо раньше. Это их ошеломит. Нет, сейчас им ничего нельзя говорить; если они не будут знать, это может пойти на пользу Земле.
— Мы не ожидали, — продолжал голос, — что найдем приводной луч и радио. Когда мы обнаружили луч…
— Наши роботы, — сказал Джейсон, — пользуются радио для переговоров друг с другом.
— Но луч…
— Я не вижу причин, почему мы с вами должны спорить, — ровным голосом проговорил Джейсон. — Тем более что я не знаю, кто вы.
— Но луч…
— Просто на всякий случай — вдруг кто-нибудь захочет посетить нас. Хлопот с ним немного. Теперь, пожалуйста, назовите себя. Скажите, кто вы.
— Мы когда-то жили на Земле, — ответил голос. — Очень давно мы были перенесены оттуда в другое место и теперь возвращаемся.
— Значит, — спокойно сказал Джейсон, — вы Люди. Все эти годы мы мучались вопросом, что с вами случилось.
— Люди?
— Так мы вас называли. Если вы те, кто исчез с Земли.
— Мы те самые.
— Что ж, добро пожаловать.
Джейсон улыбнулся про себя. Будто они пошли проведать друзей через дорогу и припозднились с возвращением. Вряд ли они ждали такой встречи. Скорее взрыва радости по поводу того, что они нашли дорогу к Земле и оставленные здесь бедняги воссоединятся наконец с остальным человечеством.
— Мы думали, что придется вас искать, — сказал голос. — Мы боялись, что не найдем вас.
— Теперь вы избавлены от этого страха, — со смешком ответил Джейсон. — Вы хотите повидать нас? Я не очень понимаю, как вам это удастся. У нас нет космодрома.
— Он нам не нужен. Мы вышлем шлюпку с двумя людьми. Она может приземлиться где угодно. Просто не убирайте луч, шлюпка пройдет по нему прямо к вам.
— Рядом с домом есть кукурузное поле, — сказал Джейсон. — Вы узнаете его по снопам. Сможете там сесть?
— Превосходнейшим образом.
— Когда вас ждать?
— На рассвете.
— В таком случае, — сказал Джейсон, — мы заколем тельца.
— Что вы сделаете? — В голосе прозвучала тревога.
— Да так, ничего, — отозвался Джейсон. — Это просто присловье. Ждем вас.
Глава 28
Дубовое полено наконец прогорело и разломилось надвое, и вверх взметнулся сноп искр. Ветер ворчал в дымоходе и завывал высоко-высоко в карнизах. Они втроем сидели у огня и ждали — Марта, Джон и Джейсон.
— Это меня беспокоит, — сказал Джейсон. — Откуда они знают, что здесь кто-то есть? Естественней было бы предположить, что с Земли были унесены все, что они возвращаются на необитаемую планету. Они могли допустить, что здесь остались роботы, предположить, что найдут цивилизацию роботов, но они не могли знать…
— Не волнуйся, — сказал Джон. — Мы скоро все узнаем. Ты говорил с ними совершенно правильно. Они теперь теряются в догадках, они глубоко озадачены. Твои реакции были нетипичны, и они забеспокоились. Сейчас, поди, пытаются тебя разгадать.
— Да и что бы ни было, — заметила Марта, — не стоит так переживать. Речь не идет о жизни и смерти.
— Для меня — да, — возразил Джейсон. — И для Красного Облака. Мы не можем позволить им погубить здесь все.
— Может, они и не погубят.
— Планета, которую они могут захватить. Ты думаешь, они упустят такую возможность?
— Но это планета с уже истощенными ресурсами, — проговорил Джон. — Они это знают, они сами их истощили.
— Полезные ископаемые — конечно, — ответил Джейсон. — Не осталось руд, почти не осталось угля и нефти. Но они, возможно, смогли бы извлечь много полезного из развалин — там еще не все проржавело. И города стали бы источником строительного камня. После Исчезновения снова выросли леса, они сейчас не хуже, чем в то время, когда на материк впервые пришли европейцы. То же можно сказать и обо всем остальном мире. Первобытный лес. Прекрасный, обильный лесоматериал. Земля обновилась, она опять плодородна. Водоемы полны рыбы.
— Мы можем с ними поторговаться, — сказала Марта.
— Нам не о чем торговаться, — с горечью ответил Джейсон. — Мы можем взывать к их милосердию, но на успех я не надеюсь.
В вестибюле послышались шаги. Джейсон поспешно вскочил.
— Это Езекия, — сказала Марта. — Тэтчер посылал за ним робота.
Езекия вошел в комнату.
— Не было никого, — проговорил он, — кто мог бы сообщить о моем приходе. Надеюсь, я не нарушил приличий.
— Конечно, нет, — ответила Марта. — Спасибо, что ты пришел. Садись, пожалуйста.
— Мне нет необходимости сидеть, — чопорно произнес Езекия.
— К черту, Езекия, кончай изображать смиренность, — сказал Джейсон. — В этом доме ты такой же, как все.
— Благодарю вас, мистер Джейсон, — ответил робот. Он опустился на кушетку. — Должен признаться, что я пристрастился к этому человеческому обычаю — сидеть. Мне он очень нравится, хотя я и подозреваю, что удовольствие мое греховно. Мне сказали, что вы получили известия от направляющихся к нам Людей. Хотя я понимаю, что с их прибытием возникнут проблемы, я с большим нетерпением ожидаю возможности получить некоторые сведения относительно развития их веры и религии. Было бы утешением…
— Не видать тебе никакого утешения, — сказал ему Джон. — И не надейся. У них на планете я не видел никаких свидетельств веры.
— Совсем никаких свидетельств, сэр?
— Никаких. Ни церквей, ни мест для сотворения молитв, ни желания это делать. Никаких священников. И не смотри удивленно. Общество вполне может обходиться без всякой веры; в сущности, еще до Исчезновения почти так и было. И на всякий случай могу добавить: нет никаких свидетельств в пользу того, что отсутствие веры имело какое-то отношение к Исчезновению.
— Мне все равно, во что они верят или не верят, — сказал Джейсон. — Давайте не уклоняться в сторону. Как Люди могли узнать, что здесь кто-то есть? Джон, ты случайно не…
— Нет, — ответил Джон. — Я уверен. Я очень старался не навести их на мысль, что я с Земли. Я абсолютно убежден, что ничего не говорил…
— Тогда как? Никто из наших там не бывал, иначе они бы сказали нам, непременно. Все эти годы мы думали о том, что случилось с Людьми.
— А если Люди услышали о нас от каких-то других разумных существ? Путешествуя по Галактике, мы не скрывали, откуда мы.
— Ты думаешь, они могут знать и о путешествиях среди звезд?
— Возможно, — сказал Джон. — Вспомни, Люди тоже летают меж звезд. У них есть корабли, они могли побывать на многих планетах. Они могли вступить в контакт с разумными существами, такими же, как мы.
— Наши контакты были не слишком успешны.
— Может быть, их — тоже. Но установи они контакт с теми, кто видел нас и говорил с нами, они бы узнали, что кто-то похожий на них уже посещал планету. Эти Люди не глупы, Джейсон.
— Но ты об этом ничего не слышал. Никаких намеков. За все время, что был на планете.
Джон покачал головой:
— Я узнал только, что они обнаружили местоположение Земли и выслали разведывательный корабль. Но у меня не было возможности проникнуть в их правительственные или научные круги. Я слышал только то, что знали простые люди.
— Ты полагаешь, правительство могло хранить это в тайне?
— Почему бы нет? Не знаю, к чему бы такая секретность, но это не исключено.
Кто-то мягко прошел через вестибюль к дверям комнаты.
— Это Красное Облако, — сказал Джейсон.
Он поднялся и встретил своего старого друга у порога.
— Прости, что поднял тебя с постели, Гораций, но утром они будут здесь.
— Я бы ни за что на свете не пропустил это бдение у гроба, — ответил Гораций Красное Облако.
— Бдение?
— Конечно. Обычай древних варваров из-за океана, не индейцев. И на этот раз покойник — планета и народ. Моя планета и мой народ.
— Они могли измениться, — проговорила Марта. — За тысячи лет у них могла появиться новая мораль, они могли повзрослеть. Может, теперь это совсем другая культура.
Красное Облако покачал головой:
— Судя по тому, что рассказывал Джон, это та же культура. Быть может, более умная, более хитрая. Машина что-то делает с человеком; она его ожесточает. Она служит буфером между ним и окружающим его миром, и это действует губительно, порождая жадность, которая лишает человека человечности.
— Я боюсь, — сказал Джейсон.
— Я послал вверх по реке каноэ, чтобы известить Стэнли, так, по-моему, его зовут, — произнес Красное Облако. — Хотя не понимаю, почему мы с ним носимся.
— Это касается нас всех. Он имеет право находиться здесь, если захочет прийти.
— Помнишь, что сказала та штуковина? Мы — преходящий фактор…
— Я полагаю, это так и есть, — сказал Джейсон. — Трилобиты были преходящим фактором. И динозавры. Роботы имеют право думать — и даже считать, что переживут нас всех.
— Если переживут, — ответил Красное Облако, — так им и надо.
Глава 29
Они прибыли на рассвете. Их маленький аппарат мягко приземлился на кукурузном поле. Он опрокинул и рассыпал один кукурузный сноп и раздавил три тыквы. Маленькая группа из четырех людей и одного робота ожидала их на краю поля. Джейсон знал, что остальные роботы прячутся неподалеку, с благоговением взирая на спустившуюся с неба машину. Открылся люк, из него вышли двое. Высокие, широкоплечие, в простых серых куртках и брюках, на голове маленькие шапочки.
Джейсон зашагал к ним, и они двинулись ему навстречу.
— Вы Джейсон Уитни, — сказал один из них. — Вы вчера вечером говорили с нами.
— Да, это я, — сказал Джейсон. — С возвращением вас на Землю.
— Я Рейнолдс, — сказал один из них, протягивая руку. — Моего спутника зовут Гаррисон.
Джейсон пожал обоим руки.
— У нас нет оружия, — сказал Гаррисон, — но мы защищены. — Фраза его звучала ритуально.
— Здесь вам не нужна защита, — ответил Джейсон. — Мы — цивилизованные люди, в нас нет ни грана жестокости.
— Заранее никогда не знаешь, — сказал Гаррисон. — Прошло несколько тысячелетий, время, достаточное для перемен. Вчера вечером, мистер Джейсон, вы пытались сбить нас с толку.
— Не понимаю, — сказал Джейсон.
— Вы рассчитывали заставить нас поверить, что не догадывались о нашем прибытии. Однако было очевидно, что вы знали о нем. Вы старательно не выказывали удивления, что вас и выдало. Вы пытались представить дело так, будто наше прибытие не имеет особого значения.
— А должно ли оно иметь большое значение? — спросил Джейсон.
— Мы многое можем предложить вам.
— Мы удовлетворены тем немногим, что имеем.
— Ваш приводной луч не случаен, — продолжал Гаррисон. — Вы знали, что в космосе кто-то есть. В этой части Галактики корабли появляются чрезвычайно редко.
— Вы, джентльмены, кажется, настолько уверены в своих выводах, что позволяете себе грубость, — проговорил Джейсон.
— Мы не хотим быть грубыми, — ответил Рейнолдс. — Вы пытались ввести нас в заблуждение, но вам это не удалось.
— Вы наши гости, — сказал Джейсон, — и я не собираюсь с вами пререкаться. Если вы считаете, что правы, я не в силах убедить вас в обратном и, честно говоря, не вижу в этом смысла.
— Мы были несколько удивлены, — небрежно проговорил Гаррисон, — узнав, что на Земле есть люди. Мы предполагали, что должны быть роботы, поскольку они их оставили.
— Они? — спросил Джейсон. — Значит, вы знаете, кто это сделал?
— Отнюдь, — ответил Гаррисон. — Возможно, я персонифицирую некую силу без всяких на то оснований. Мы надеялись, что знаете вы. Вы далеко путешествовали. Гораздо дальше нас.
Итак, они знают о путешествиях к звездам, печально подумал Джейсон.
— Не я, — сказал он. — Я никогда не покидал Землю. Я оставался дома.
— Но другие покидали.
— Да, — ответил Джейсон, — многие.
— И они общаются? Телепатически?
— Да, конечно.
Бесполезно отрицать — они знают все.
— Нам бы следовало соединиться раньше, — сказал Гаррисон.
— Я не понимаю вас, — произнес Джейсон.
— Ну, приятель, вы многого достигли. И мы тоже. Мы вместе…
— Прошу вас, — сказал Джейсон, — нас ждут. После того как вы познакомитесь со всеми, прошу к завтраку. Будет завтрак. Тэтчер печет блины.
Глава 30
Из записи в журнале от 23 августа 5152 года:
…Когда человек стареет (а я сейчас старею), он словно бы взбирается на гору, оставляя всех позади. Хотя позади остается он сам. Но моя ситуация несколько иная, коль скоро я и все наши остались далеко позади, три тысячи лет назад. Однако в нормальном человеческом обществе, до Исчезновения, жили старики. Их друзья умирали, уходили, спокойно и тихо, как летящие на ветру сухие листья, и долго никто не замечал их отсутствия. Разве что замечал их ровесник, сам старик (или старый лист), вдруг, с изумлением и печалью; и он мог бы спросить, что случилось, но, не получив ответа, больше не задавать вопросов. Хотя на самом деле стариков вообще-то мало что трогает; каким-то странным образом они самодостаточны, не нуждаясь ни в ком. Им нужно немногое, и немногое их волнует. Они взбираются на гору, которой никто не видит, и, по мере подъема, одна за другой отпадают когда-то очень дорогие им вещи; и чем выше они взбираются, тем больше пустеет их рюкзак, не становясь, впрочем, легче, и то немногое, что в нем остается, оказывается воистину необходимым, тем, что они набрали за долгую жизнь трудов и исканий. И они пребывают в чрезвычайном удивлении — если, правда, дадут себе труд задуматься, — почему же только со старостью уходит все лишнее. Достигнув вершины горы, они видят так далеко и с такой зоркостью, что могут только опечалиться — если их вообще что-нибудь трогает — тем, что вряд ли успеют воспользоваться новообретенной ясностью и, получается, в ней так мало проку теперь, тогда как она бы очень пригодилась в дни молодости.
Думая об этом, я нахожу, что не слишком увлекаюсь фантазированием. Мне кажется, уже теперь я вижу дальше и яснее, чем когда-либо, хотя, возможно, и не так далеко и не так отчетливо, как обнаружится в самом конце. Ибо пока еще я не могу различить того, что ищу, — пути и будущего человечества, которое знаю.
После Исчезновения мы пошли иной дорогой, нежели той, которой шло человечество на протяжении столетий. И ничто, в сущности, не могло быть прежним. Старый мир рухнул, и мало что осталось в нем. Поначалу мы решили, что всему конец, и так оно и было, если иметь в виду утрату той культуры, что мы старательно создавали многие годы. И все же со временем мы поняли, что утрата вовсе не плоха, если не сказать — благодетельна. Ибо мы утратили то, без чего жить стало гораздо лучше. Кроме того, у нас появилась возможность все начать сначала.
Должен признаться, меня все еще смущает это наше второе начало — вернее то, что это начало сделало с нами… То, чего мы достигли, достигнуто не сознательным усилием. Это произошло как бы само собой. Не со мной, но с остальными. Подозреваю, я уже был слишком стар, слишком укоренен в прежней жизни и оказался в стороне не по собственному желанию, а из-за отсутствия выбора.
Важно, я думаю, что путешествия к звездам и разговоры через всю Галактику (Марта, к примеру, уже полдня как сплетничает через расстояния в световые годы) были не более чем началом. Не исключено, что способность к путешествиям и телепатия — лишь толика того, что с нами случилось, только первые шаги, подобно тому как изготовление каменного топора было первым шагом в направлении будущей высокоразвитой технологии.
Что будет дальше, спрашиваю я себя, и не могу ответить. Мы еще слишком мало знаем, чтобы прогнозировать дальнейшее развитие. Доисторический человек, изготавливая каменное орудие, понятия не имел, почему камень раскалывается именно там, где ему нужно, если он ударит в правильном месте. Он узнал как, но не почему и, могу предположить, не слишком интересовался этим «почему». Но как впоследствии люди поняли механику расщепления камня, так и через несколько тысячелетий они постигнут природу парапсихических способностей.
А сейчас я могу только размышлять. Размышление — дело бесполезное, что я прекрасно осознаю, но почему бы мне отказывать себе в нем? И на своей вершине горы я напрягаю зрение, пытаясь заглянуть в будущее.
Придет ли однажды время, когда люди, подобные богам, смогут управлять самим устройством Вселенной? Смогут ли они изменять структуру атомов или энергии одним лишь усилием воли? Смогут ли прерывать естественное эволюционное развитие звезд? Смогут ли менять генетику живых форм, улучшая, совершенствуя ее? И, наконец самое, быть может, важное: смогут ли они освободить от цепей и оков живущие во Вселенной разумные существа, наделив их открытостью добру, состраданию и правильным действиям?
Мечтать хорошо, и можно надеяться, что именно человек в конечном счете привнесет во Вселенную упорядоченность и гармонию. Но я не вижу, как бы это могло произойти. Я вижу начало, вижу желаемый конец, но то, что между, посредине, от меня ускользает, ускользает форма необходимого развития. Разумеется, мы должны не только узнать, но и понять Вселенную, прежде чем управлять ею, и путь к этому не указан на карте. Наверняка это медленный путь, шаг за шагом.
С вершины моей старости я, быть может, различаю конец, ту грань, за которую мы не сможем или не захотим ступить. Или не посмеем. Впрочем, думаю, конца и не будет, как не было конца развитию технологии; было нечто, которое извне положило ей конец на планете зарождения. Человек бы не остановился, никогда. Он делает шаг, полагая его последним, но следом еще шаг и еще. Сегодня я способен заглянуть в будущее лишь так далеко, как позволяют мне мои сегодняшние представления, но там, за гранью, уже не доступной моему воображению, человек, владеющий новым знанием, пойдет дальше.
Если человек упорствует, его ничто не остановит. И вопрос, полагаю, не в том, достанет ли у него сил и терпения, а в том, имеет ли он на это право. Меня ужасает мысль, что человек, этот доисторический монстр, будет пытаться продолжать начатое во времени и в мире, в которых ему не место…
Глава 31
— Не знаю, — говорил Гаррисон Джейсону, — как мне вас убедить. Мы хотим прислать сюда маленькую группу людей, чтобы они смогли изучить парапсихические способности, взамен чего…
— Я уже сказал вам, — отвечал Джейсон, — мы не можем научить вас этим способностям. Но вы отказываетесь верить тому, что я вам говорю.
— Я думаю, вы блефуете. Ну хорошо, вы блефуете. Чего вы еще хотите? Скажите мне, чего вы хотите.
— У вас нет ничего, что нам нужно, — сказал Джейсон. — И в это вы тоже никак не хотите поверить. Давайте я вам разъясню еще раз. Либо вы обладаете парапсихическими способностями, либо нет. Либо вы имеете развитую технологию, либо нет. Нельзя иметь то и другое сразу. Это взаимоисключающие вещи. Технология не позволяет обрести парапсихические способности; если они появляются, технология становится не нужной. Мы не хотим, чтобы вы находились здесь под предлогом изучения того, что знаем или умеем мы, даже если вы считаете, что нуждаетесь в нашем знании или умении. Вы говорите, вас здесь будет совсем немного, но это только поначалу. Потом — все больше и больше, пока окончательно не осядете у нас. Такова схема технологии: ухватить и держать, затем ухватить побольше и снова держать.
— Если бы мы ничего не скрывали друг от друга… — проговорил Рейнолдс. — И мы не обманываем вас.
— Но если вы хотите обрести парапсихические способности, вам не нужно являться на Землю. Вам нужно только отказаться от всего, что вы имеете, причем на тысячи лет. В конце концов, не исключено, что вы достигнете желаемого, хотя ручаться я бы не стал. Нам было проще, мы не ведали, что происходит, пока не случилось то, что случилось. Вы домогаетесь желаемого осознанно, а это, возможно, нонсенс.
Причем если бы кто-то из ваших пришел наконец к искомому, вы бы решили, что добились своего, а это глубочайшая ошибка. Ибо человек, наделенный парапсихическими способностями, стал бы мыслить иначе, чем вы, и стал бы к вам относиться так, как мы относимся к вам.
Гаррисон медленно оглядел каждого из сидевших за столом.
— Ваше высокомерие потрясающе, — сказал он.
— Мы не высокомерны, — отозвалась Марта. — Мы далеки от этого…
— Отнюдь, — сказал Гаррисон. — Вы полагаете, что сейчас вы лучше, чем были раньше. Чем лучше, я не знаю, но лучше. Вы презираете технологию. Вы смотрите на нее с пренебрежением и, возможно, тревогой, забывая, что, если бы не развитие техники, мы бы все еще жили в пещерах.
— Может быть, и нет, — ответил Джейсон. — Если бы мы не загромождали нашу жизнь машинами…
— Но вы не можете этого знать.
— Конечно, — сказал Джейсон.
— Оставим пререкания, — проговорил Гаррисон. — Почему бы нам не…
— Мы разъяснили вам нашу позицию, — сказал Джейсон. — Научить парапсихическим способностям невозможно. Вы должны сами найти их в себе. И нам ни к чему развитие технологии. Мы, люди этого дома, в нем не нуждаемся. Индейцы тоже не принимают плоды вашей цивилизации, ибо они разрушили бы установленный ими жизненный порядок. Они живут с природой, а не за ее счет. Они берут то, что природа сама дает им, а не вырывают у нее силой и не грабят. Я не могу говорить за роботов, но подозреваю, что у них есть собственная технология.
— Один из них здесь, — сказал Рейнолдс.
— Тот, что здесь, — ответил Джейсон, — больше человек, чем робот. Он выполняет человеческую работу, самую трудную ее часть.
— Мы ищем истину, — проговорил Езекия. — Мы работаем во имя веры.
— Возможно, все это так, — сказал Рейнолдс Джейсону, не обратив внимания на Езекию, — но остается еще ваше нежелание видеть нас здесь. Земля, однако, не ваша личная собственность; вы просто не можете заявлять на нее права собственности.
— За исключением чувства отвращения при виде еще одной технологической угрозы Земле, — ответил Джейсон, — вряд ли мы с Мартой могли бы выдвинуть какое-то логически обоснованное возражение, а из людей этого дома в счет идем только мы двое. Остальные находятся среди звезд. Когда Марты и меня не станет, дом опустеет, и я знаю, что очень немногих это действительно опечалит. Земля вернулась к своему первобытному облику, и мне было бы непереносимо видеть ее вновь обобранной и разграбленной. Однажды это уже случилось, и одного раза довольно. Одно и то же преступление не должно совершиться дважды. Когда-то белые люди отобрали этот континент у индейцев. Мы, белые, убивали, грабили, загоняли в резервации, а те, кто избежал резерваций, были вынуждены жить в гетто. Теперь они создали новую жизнь, основанную на старой — лучше прежней, поскольку они переняли от нас кое-какие знания, — но все же свою жизнь, а не нашу. И по отношению к ним преступление тоже не должно совершиться дважды. Их нужно оставить в покое.
— Если бы мы согласились, — сказал Гаррисон, — оставить этот континент в неприкосновенности, селиться только на других…
— В старые времена, — сказал Джейсон, — мы заключали договоры с индейцами. Пока текут реки, пока дует ветер, говорили мы, договоры будут соблюдаться. И потом неизменно их нарушали. И то же будет с вашими так называемыми соглашениями. Пройдет всего несколько столетий, а скорее, даже меньше. Вы стали бы вмешиваться, нарушать старые соглашения и заключать новые, и индейцы получали бы все меньше и меньше. Технологическая цивилизация не знает чувства удовлетворения. Она основана на выгоде и прогрессе, своем собственном виде прогресса. Она должна распространяться вширь, иначе она погибает. Вы можете давать обещания и быть при этом искренни; вы можете хотеть сдержать их, однако вы их не сдержите.
— Мы будем сражаться, — сказал Красное Облако. — Нам бы не хотелось этого делать, но придется. Мы потерпим поражение, мы знаем это, но как только первый плуг вспашет землю, как только будет срублено первое дерево, как только первое колесо подомнет траву…
— Вы сошли с ума! — выкрикнул Гаррисон. — Вы все сумасшедшие. Сражаться с нами! Вы? С копьями и стрелами!
— Я сказал вам, — ответил Гораций Красное Облако, — мы знаем, что потерпим поражение.
— И вы запрещаете нам вход на планету, — мрачно проговорил Гаррисон, повернувшись к Джейсону. — Это не ваша планета, она в равной степени наша тоже.
— Вход на нее никому не воспрещен, — ответил Джейсон. — У нас нет никакого юридического, возможно, даже морального права противостоять вам. Но я вас прошу, из уважения к приличиям, оставить нас в покое. У вас есть другие планеты, вы можете занять новые…
— Но это наша планета, — сказал Рейнолдс. — Она ждала нас все эти годы. Вы не можете воспрепятствовать остальному человечеству взять то, что ему принадлежит. Нас отсюда забрали; мы этого не заслуживали. Все эти годы мы считали ее своим домом.
— Вы не заставите нас в это поверить, — сказал Джейсон. — Репатрианты радостно возвращаются к старым родным берегам? Разрешите, я скажу вам, что думаю.
— Да, пожалуйста, — сказал Рейнолдс.
— Я думаю, что вы, вероятно, уже давно знали о местонахождении Земли, но она вас не интересовала. Вы знали, что на ней не найти ничего, кроме места для жилья. А потом вы прослышали, что на Земле остались люди и что они могут путешествовать к звездам, оказываясь там в мгновение ока, что они могут телепатически общаться через огромные расстояния. Слухи множились. И вы подумали, что, если добавить нашу способность к вашей технологии, могущество ваше возрастет. И тогда вы задумались о возвращении на Землю.
— Я не совсем понимаю, к чему вы это говорите, — сказал Гаррисон. — Факт тот, что мы здесь.
— Вот к чему, — ответил Джейсон. — Не угрожайте нам тем, что завладеете Землей, и мы в конце концов сдадимся и отдадим вам то, что вы хотите, лишь бы вы не заселили Землю.
— А если мы все равно решим заселить Землю?
— Мы не можем вас остановить. Народ Красного Облака будет уничтожен. Мечте роботов может наступить конец. Две культуры, из которых что-то могло получиться, будут обрублены, и вы останетесь на бесполезной планете.
— Не бесполезной, — сказал Рейнолдс. — Учтите наши достижения. С тем, что у нас есть, Земля могла бы стать нашей базой, сельскохозяйственной базой.
Пламя свечей колыхнулось под налетевшим откуда-то сквозняком, и наступило молчание. Все, что можно было сказать, подумал Джейсон, уже сказано, и бесполезно говорить что-либо еще. Это конец. Двое сидевших по другую сторону стола мужчин не испытывали никакого сочувствия; быть может, они понимали, что поставлено на карту, но это холодное, жесткое понимание, которое они поставят себе в заслугу. Их послали работать, этих двоих и тех, что в космическом корабле на орбите. Для них не имеют значения последствия — это никогда не имело значения, ни сейчас, ни прежде. Уничтожались цивилизации, стирались с лица земли культуры, погибали люди и надежды, игнорировалось всякое приличие. Все приносилось в жертву прогрессу. А что такое прогресс, подумал он. Как его определить? Мощь или нечто еще?
Где-то хлопнула дверь, и докатилась волна холодного осеннего воздуха. В вестибюле послышались шаги, и через порог шагнул робот, поблескивавший при каждом шаге.
Джейсон поспешно поднялся.
— Стэнли, — сказал он, — я рад, что ты смог прийти, хотя боюсь, слишком поздно.
Стэнли указал на двоих, сидевших за столом.
— Это они? — спросил он.
— Да, действительно, — ответил Джейсон. — Я бы хотел представить тебе…
Робот отмахнулся от церемонии знакомства.
— Джентльмены, — сказал он, — у меня есть для вас сообщение.
Глава 32
Он спустился с утеса над рекой, шагая сквозь свежую, полную лунного света осеннюю ночь, и вышел к краю кукурузного поля, где снопы стояли подобно призрачным вигвамам. Позади, стараясь не отставать, преследуя его по пятам, ковыляло мяукающее существо. Откуда-то подал одинокий голос енот.
Дэвид Хант возвращался в огромный дом, стоявший над двумя сливающимися реками; теперь он мог вернуться, так как знал ответ. Вечерняя Звезда будет его ждать, по крайней мере он надеялся на это. Конечно, ему следовало предупредить ее о своем уходе, но почему-то он не смог найти нужных слов да и постеснялся бы говорить, даже зная, что сказать.
Он еще нес лук, колчан со стрелами висел у него за спиной, хотя теперь он знал, что носит их с собой по привычке; они ему больше не нужны. Интересно, подумал он, давно они ему не нужны?
Над макушками деревьев он видел верхние этажи и утыканную печными трубами крышу огромного дома — неясное темное пятно на фоне ночного неба, и, обогнув выдававшийся в поле маленький мысок леса, он увидел стоявший среди снопов блестящий металлический объект.
Он резко остановился и пригнулся к земле, словно тот мог таить неизвестную опасность, хотя он уже понял, что это: машина, которая доставила Людей со звезд. Вечерняя Звезда говорила ему об угрозе, которую несет Земле такой корабль. И вот он здесь; за то короткое время, что Дэвид отсутствовал, он прибыл. Он почувствовал, как в нем поднялась волна страха. Он различил укрывшийся за кораблем неясный силуэт.
Он отступил, и фигура выдвинулась из-за корабля, и было странно, как она могла скрываться за ним. Она была огромна, и, несмотря на смутные ее очертания, в ней чувствовалась жестокость. Он понял, что не сумел убежать. Убежать от этого невозможно, он знал. Не стоило и пытаться.
Темный Ходун сделал еще один тяжелый неуклюжий шаг, и Дэвид повернулся лицом к приближающемуся призраку-тени. Он знал, что если побежит сейчас, уже никогда не сможет остановиться. Он будет жить, готовый в любую минуту бежать прочь — как снова и снова убегал его народ.
Теперь, быть может, убегать нет нужды. Темный Ходун приблизился, и он смог разглядеть его: ноги как стволы деревьев, массивное туловище, крошечная головка, вытянутые руки с когтями.
И в это мгновение он из Темного Ходуна вдруг превратился в медведя гризли, поднявшегося из логова и нависшего над Дэвидом, близко, слишком близко, чтобы стрелять. Машинально он выхватил стрелу и поднял лук, а его мозг — или то, что скрывалось в его мозгу, некая сила в его мозгу — нанес сокрушительный удар.
Ходун не упал, как упал бы гризли. Он споткнулся, наклонился вперед, пытаясь дотянуться до Дэвида, а тот туго натянул тетиву лука, твердо удерживая стрелу. Ходун исчез, а стрела просвистела и со звоном ударилась в блестящий корпус корабля. Темного Ходуна больше не было.
Дэвид Хант опустил лук и стоял, весь дрожа. Он тяжело упал на колени и съежился, вздрагивая всем телом. К нему приблизился клубок червей, тесно прижался, выпустил щупальце и крепко его обнял, передавая не слышимые ухом слова утешения.
Глава 33
— Это кто такой? — спросил Рейнолдс Джейсона.
— Его зовут Стэнли. Это робот с Проекта. Мы говорили вам о Проекте, если помните…
— А, да, — сказал Гаррисон, — суперробот, которого строят его маленькие братишки.
— Я должен возразить против вашего тона, — резко сказал Езекия. — У вас нет причин проявлять высокомерие. То, что делает этот робот со своими товарищами, лежит в русле великой традиции вашей технологии: строить больше и лучше и с большим воображением…
— Прошу прощения, — сказал Гаррисон. — Но он ворвался сюда…
— Его пригласили, — холодно ответил Джейсон. — Он был далеко и только что прибыл.
— С сообщением?
— Оно от Проекта, — ответил Стэнли.
— Что за сообщение? — требовательно спросил Гаррисон.
— Я объясню, — сказал Стэнли. — Проект уже в течение нескольких лет общался с неким разумом центральной части Галактики.
— Да, — сказал Рейнолдс. — Нам об этом говорили.
— Сообщение, которое я принес, — продолжал Стэнли, — от этого разума.
— И оно имеет отношение к положению дел здесь? — спросил Рейнолдс. — Мне это кажется нелепым.
— Оно имеет отношение к вам, — сказал Стэнли.
— Но откуда ему знать о здешней ситуации? Огромный инопланетный разум, конечно, не станет заниматься…
— Сообщение, адресованное вам и остальной вашей экспедиции, таково: «Оставьте Землю в покое. Любое вмешательство запрещено. Она — часть эксперимента».
— Но я не понимаю, — рассерженно проговорил Гаррисон. — Какой эксперимент? О чем он говорит? Это совершенная бессмыслица.
Стэнли достал из сумки сложенный лист бумаги, перебросил его через стол Рейнолдсу.
— Это копия сообщения, с принтера. Рейнолдс поднял бумагу и взглянул.
— Но я не понимаю, к чему все это. Если вы снова пытаетесь блефовать…
— Это Принцип, — негромко проговорил Джейсон. — Мы задавались вопросами; теперь мы знаем. Проект разговаривал с Принципом.
— Принцип? — закричал Гаррисон. — Это еще что? Мы не знаем никакого Принципа.
Джон вздохнул:
— Да, действительно. Нам следовало бы рассказать об этом. Если вы готовы выслушать, я расскажу вам о Принципе.
— Еще одна сказка, — сердито сказал Гаррисон. — Липовое сообщение, а теперь сказочка. Вы, видно, считаете нас дураками…
— Теперь это неважно, — сказал Джейсон. — Не имеет значения, что вы думаете и что думаем мы.
Джон был прав в своем предположении, сказал себе Джейсон; над землянами был поставлен эксперимент. В том же духе, как если бы земной бактериолог или вирусолог стал экспериментировать с колонией бактерий или вирусов. А если это так, подумал он и был поражен своей мыслью, то люди в этом доме, и маленькое племя индейцев, и еще одна маленькая группка людей на западном побережье остались на Земле не случайно — их намеренно оставили здесь в качестве, например, контрольных групп.
Джон говорил: Принцип должен знать, что штамм человечества сохранил чистоту, но, хотя в массе своей человечество не изменилось, отдельные его фрагменты подверглись мутации. Ибо здесь есть три человеческих штамма: люди этого дома, индейцы и люди на побережье. Из них два мутировали успешно, а третий перестал развиваться. Хотя погоди-ка, сказал себе Джейсон, последнее заключение неверно, поскольку есть Дэвид Хант. Он вспомнил, как недели две назад музыкальные деревья вдруг восстановили былую тонкость и устойчивость исполнения, и еще тот невероятный слух, что сегодня днем принес Тэтчер. И как это роботам удается узнавать обо всем прежде всех?
И роботы. Не три различных штамма, а четыре. Одно очко не в пользу Принципа, развеселившись, подумал Джейсон. Он готов был поставить на что угодно (и нисколько не сомневался в выигрыше), что Принцип не принял в расчет роботов. Хотя роботы, если задуматься, внушают некоторый страх. Что за хитрое устройство являет собой эта штука, которая может разговаривать с Принципом и передавать его сообщения? И почему Принцип поручил Проекту выступать от его имени? Просто потому, что он оказался под рукой? Или же между ними существуют близость и понимание, невозможные между Принципом и человеком или любой другой биологической формой жизни? От этой мысли Джейсона пробрала дрожь.
— Помнишь, — обратился он к Стэнли, — сначала вы сказали, что не можете ничем нам помочь?
— Помню, — ответил робот.
— Однако в конце концов помогли.
— Я очень рад, — сказал Стэнли. — Я думаю, мы с вами имеем много общего.
— Искренне надеюсь, что это так, — сказал Джейсон, — и благодарю тебя от всего сердца.
Глава 34
Когда он вошел в комнату, она сидела у стола с разложенными на нем книгами. В первое мгновение она не поверила своим глазам.
— Дэвид!
Он стоял, молча глядя на нее, и она заметила, что у него нет ни лука, ни колчана со стрелами, ни ожерелья из медвежьих когтей. Глупо, подумала она, замечать такие вещи, когда важно только то, что он вернулся.
— Ожерелье… — начала она.
— Я его выбросил, — ответил он.
— Но, Дэвид…
— Я повстречал Ходуна. Лук мне не понадобился. Стрела его не поразила; она ударилась в корабль.
Девушка молчала.
— Ты думала, что Ходуна нет, что он не более чем тень…
— Да, — сказала она, — какой-то фольклорный персонаж. Из старого предания…
— Возможно. Я не знаю. Может быть, тень той великой расы строителей, которые когда-то здесь жили. Люди, не похожие на нас. На нас с тобой. Тень, которую они отбрасывали на землю и которая осталась на ней даже после того, как они исчезли.
— Призрак, — сказала она. — Привидение.
— Но теперь его больше нет.
Она обошла вокруг стола, и он быстро шагнул ей навстречу, обнял и крепко прижал к себе.
— Так странно, — сказал он, — я могу исправлять неправильное, излечивать больное. Ты способна увидеть все, что есть, и позволяешь мне увидеть то же.
Она не ответила. Он был слишком близко, был слишком реален — он вернулся.
Однако мысленно она сказала Дедушке Дубу: «Это то новое начало…»
— Скоро я вас покину, — сообщил Джон. — Но на этот раз не надолго.
— Ужасно жаль, — ответил Джейсон. — Возвращайся при первой возможности. Мы вместе росли…
— Хорошие были времена.
— Мы — братья, в этом есть нечто… особенное.
— Тревожиться теперь не о чем, — сказал Джон. — Земля в безопасности. Мы будем жить дальше, как жили. Индейцы и роботы могут выбирать любую дорогу. Люди могут не принять полностью идею Принципа, будут над ней размышлять, обдумывать, обсуждать. Решат, как Гаррисон, что это сказка. Гаррисон и его люди наверняка попробуют подступиться к Земле, я почти уверен, что они это сделают. Для них это кончится скверно.
Джейсон кивнул:
— Верно. Но есть еще Проект…
— Джейсон, ты говоришь загадками.
— Все решили, что Принцип использовал Проект как мальчика на посылках.
— А разве не так?.. Ты же не думаешь…
— Именно, — сказал Джейсон. — Не мальчик на побегушках, а его представитель. Они общались. Проект рассказал Принципу, что происходит, а Принцип сказал ему, что нужно делать.
— Возможно, ты прав, — проговорил Джон, — но ты вспомни, мы встречались с другими разумными существами, и успехи наши были чрезвычайно скромны…
— Ты не понимаешь одного, — сказал Джейсон. — Принцип — не просто инопланетный разум, одно из многих разумных существ, с которыми вы сталкиваетесь в космосе. Я думаю, он мог бы говорить с нами, с любым из нас, если бы захотел. Джон хмыкнул:
— Тогда встает вопрос, Джейсон. Разговаривают с себе подобными. Готов ли ты предположить, что Принцип — это… нет, не может быть. Он должен быть чем-то иным. Принцип — не машина, могу поклясться. Я многие дни жил рядом с ним.
— Суть не в этом, — сказал Джейсон. — К машине Принцип не имеет никакого отношения. Я думаю вот о чем: может, Проект уже не машина? Можно ли машину превратить в нечто иное? Как долго машина должна эволюционировать, чтобы стать чем-то другим — еще одной живой формой? Отличной от нас, разумеется, но не менее живой?
— Твое воображение уводит тебя слишком далеко, — сказал Джон. — Но все равно нам нечего бояться. Роботы наши друзья. Они должны быть нашими друзьями — мы же, черт возьми, их создали.
— Не думаю, что это только воображение. А что, если Принцип, чем бы он ни был, обнаружил в себе большую близость к Проекту, чем к человечеству? У меня мурашки бегут по спине.
— Даже если это так, какая разница? — сказал Джон. — Кроме вас с Мартой, мы все — среди звезд. Через несколько тысячелетий не будет никого, кого бы заботил Принцип или Земля. Мы совершенно свободны, можем отправляться куда хотим и делать что хотим. И эти путешествия, я уверен, только начало. В будущем в нас разовьются новые способности, не знаю какие, но они появятся.
— Возможно, я близорук, — признал Джейсон. — Я не вижу перспективы с той же ясностью, что и вы. К тому времени, когда Проект разовьется настолько, чтобы оказать заметное влияние, нас с Мартой давно уже не будет. А как насчет индейцев? Из нас всех они, возможно, самая важная часть человеческой расы.
Джон усмехнулся:
— У индейцев все будет прекрасно. Они слились с планетой, стали ее частью.
— Надеюсь, — сказал Джейсон, — что ты прав. Они посидели в молчании; в камине трепетали язычки пламени, в дымоходе что-то вздыхало. В карнизах гулял ветер, и в тишине и неподвижности ночи старый дом кряхтел под тяжестью лет. Наконец Джон проговорил:
— Я хочу знать одну вещь. Что там с твоим инопланетянином?
— Покинул планету. Он пробыл здесь дольше, чем собирался, но ему нужно было поблагодарить Дэвида. Правда, тот не услышал ни единого его слова. Поэтому он пришел и сказал мне.
— И ты передал Дэвиду благодарность? Джейсон помотал головой:
— Нет. Он к этому не готов, может испугаться и опять убежать. Я сказал двоим, тебе и Езекии.
Джон нахмурился.
— Стоило ли говорить Езекии?
— Я сомневался, но в конце концов рассказал. Мне показалось… ну, вроде как это по его части. Его так гнетут воображаемые тревоги и самообвинения. Пусть для разнообразия побеспокоится о чем-то реальном.
— Я, собственно, не об этом, — сказал Джон. — Меня беспокоит проблема души. Ты искренне полагаешь, что этот странный тип с запада мог дать инопланетянину душу?
— Так сказал инопланетянин.
— А ты как думаешь?
— Я думаю иногда, — ответил Джейсон, — что душа — это состояние ума.
Езекия, глубоко озабоченный, расхаживал по монастырскому саду.
Невозможно, говорил он себе, чтобы то, что сказал ему мистер Джейсон, было правдой. Мистер Джейсон, должно быть, неверно понял. Ему, Езекии, хотелось, чтобы инопланетянин был здесь. Хотя мистер Джейсон сказал, что поговорить с инопланетянином Езекии бы не удалось.
Ночь была тиха, и звезды очень далеки. По склону осеннего холма прокрался зимний ветер. От его прикосновения Езекия вздрогнул и тут же почувствовал отвращение к самому себе. Он не должен вздрагивать на ветру, он не должен его ощущать. Может быть, подумал он, я превращаюсь в человека? Может быть, я в самом деле ощущаю движение воздуха? И этой мысли он испугался еще больше.
Гордыня, подумал он, гордыня и тщеславие. Избавится ли он от них? А когда он избавится от сомнений?
И, задав себе этот вопрос, он уже не мог уйти от мысли, которую гнал от себя прочь, размышляя об инопланетянине и его душе.
Принцип!
— Нет! — закричал он, объятый неожиданным страхом. — Нет, этого не может быть! Это решительно невозможно. Даже думать об этом — святотатство.
Уж в чем в чем, яростно напомнил он себе, а в этом его ничто не поколеблет.
Бог навеки останется добрым старым джентльменом (человеком) с длинной седой бородой.
Зловещий кратер Тихо
Глава 1
Все было в порядке. Денег, правда, кот наплакал, но их много и не бывает — разве что подвернется удача, а она подворачивается не часто. Тем не менее дела шли, и синдикат пока не выражал недовольства. Не то чтобы они были в восторге от моих успехов, но рассуждали так: мол, дадим мальчишке шанс. Они до сих пор считают меня мальчишкой, хотя мне уже двадцать семь.
Пожалуй, насчет синдиката надо объяснить поподробнее. Звучит громко, а на деле — ничего особенного. Синдикатом именует себя теплая компания из моего родного городка Милвилла: они потратили часть своих сбережений, чтобы отправить в космос помешанного на Луне парня, который рос у них на глазах, — пускай попытает счастья. Разумеется, согласились они далеко не сразу, что вполне понятно: ведь жители провинциальных городков весьма консервативны. Банкир Мел Адамс, парикмахер Тони Джонс, владелец аптеки-закусочной Большой Дэн Олсон и добрый десяток других. По-моему, они в конце концов уступили только потому, что начали предвкушать, как будут хвастаться. Не каждый же может похвалиться тем, что вложил средства в освоение Луны.
Вот так я попал на Луну и катил сейчас на вездеходе, размышляя о тех, кто остался на Земле, и радовался про себя, что наконец-то, после четырех дней в Пустыне, направляюсь обратно к Енотовой Шкуре. Не спрашивайте, почему поселение назвали именно Енотовой Шкурой, а другое, у кратера Шомбергер, Клячей, а третье, в Архимеде, Трепотней. По идее, им следовало присвоить какие-нибудь красивые названия — нарекают же кратеры именами ученых — или, на худой конец, обозвать, скажем, Луноградом или там Селенополисом; в общем, подобрать названия, которые имели бы смысл. Впрочем, мне кажется, что удивляться тут нечему. Когда Луна была далеко, все изощрялись в придумывании названий попышнее, но стоило на ней высадиться людям, как в ход пошли наименования, которые напоминали о доме.
Я провел четыре дня в Пустыне к северо-западу от Тихо. Ну, доложу вам, и местечко: вся поверхность так и стоит дыбом. Прогулка оказалась более-менее успешной — в холодильнике вездехода валялся приличных размеров мешок, набитый под завязку лишайниками; я сделал анализ и убедился, что растения кишат микробами.
До Пиктета оставалось меньше часа, когда я заметил другой вездеход. В тени у подножия невысокого гребня с будто бы срезанной вершиной, по которому я спускался, вдруг что-то блеснуло. Я присмотрелся повнимательнее: мне пришло в голову, что там выходит на поверхность пласт вулканического стекла — в округе его довольно-таки много, и больше всего как раз в окрестностях Тихо.
Не знаю чем, но этот блеск привлек мое внимание. Прожив на Луне пару-тройку лет, человек приобретает некое чутье. Лунный пейзаж поначалу сводит с ума, но потом к нему привыкаешь, и в сознании отпечатывается что-то вроде подробного чертежа. В результате, и не догадываясь как и почему, сразу же замечаешь всякие несуразицы. На Земле такое чутье называется знанием леса, но здесь о лесе говорить не приходится.
Я развернул машину и погнал ее по гребню в том направлении, где засек блеск. Моя «собачка» Сьюзи выбралась из передатчика, где отдыхала или пряталась — или занималась кто-ее-разберет-чем, — уселась на руль и вся затрепетала от возбуждения. С нее посыпались искры. По крайней мере, такое было впечатление. Лучшего слова все равно не подберешь.
Корпус вездехода загудел: о него срикошетил метеорит. Я изрядно перетрухнул. Страх появляется всякий раз — пугает не столько звук, сколько мысль о том, что, будь метеорит побольше, от тебя осталось бы мокрое место. Этот, по счастью, оказался крохотным — возможно, около миллиметра в поперечнике; этакая приличных размеров песчинка, несущаяся со скоростью несколько миль в секунду. Удар получается что надо.
Съехав с гребня, я повел подпрыгивающий на камнях вездеход дальше. Теперь стало видно, что блеск исходит от застывшей в неподвижности машины, такой же, как моя собственная. Поблизости как будто никого не было. Машина стояла на солнце, хотя тень была почти рядом; тот, кто бросил ее тут, наверняка или свихнулся, или прилетел на Луну совсем недавно и еще не успел узнать основных правил поведения. Старожилов же учить ни к чему: если кому-то из них потребуется остановить вездеход, когда на дворе лунный день, он постарается припарковать его в тени.
Не верьте тому, кто станет утверждать, что на Луне холодно. На полюсах и впрямь попрохладнее, чем на экваторе, но все равно — температура днем поднимается до 250 градусов по Цельсию. Да, вездеходы оборудованы холодильными установками, однако те расходуют громадное количество энергии, а на Луне нет ничего дороже двух вещей — энергии и кислорода. Человек волей-неволей превращается в скрягу. Не потому, что энергии в обрез — с атомным двигателем о ней можно не беспокоиться. Но вот воды всегда не хватает, а она необходима, чтобы привести в действие паровую турбину.
Я подъехал поближе, заглушил двигатель, натянул на голову шлем, стукнул по нему, чтобы он сел поплотнее, и щелкнул застежками. Когда выбираешься наружу, даже в вездеходе, обязательно надеваешь скафандр. Если машину расплющит метеорит, а ты случайно останешься жив, или если в корпусе появится дыра, со скафандром у тебя есть возможность добраться до базы; хотя, по совести говоря, шансы невелики — ты оказываешься один-одинешенек неизвестно где и на помощь рассчитывать почти не приходится.
Я пролез в шлюз, закрыл за собой внутренний люк, потом распахнул наружный и, извиваясь, как червяк, который выбирается из яблока, высунулся из машины. Конечно, конструкторы вездехода могли бы придумать способ попристойнее, однако их заботила в первую очередь надежность модели, а не всякие там удобства; к тому же на Луне о чувстве собственного достоинства лучше вообще забыть.
Меня ослепил яркий свет. Я запамятовал опустить светофильтр. В кабине он не нужен, поскольку лобовое стекло поляризовано. Я выбранился, коря себя за забывчивость. С такой дырявой памятью долго здесь не протянешь.
Дотянуться до шлема я не мог, ибо снаружи торчала только голова, а все остальное было внутри. Тогда вперед, и пошустрее! Я крепко зажмурился, вывалился на поверхность и тут же опустил светофильтр.
Первое, что бросилось в глаза, — наружный люк чужого вездехода был распахнут настежь. Значит, водитель покинул машину. На мгновение мне стало стыдно за те тревожные мысли, которые роились в мозгу. Впрочем, я поступил так, как от меня ожидалось. Встречи в Пустыне происходят не очень часто, а потому приличия требуют остановиться и хотя бы поздороваться.
Я подошел к вездеходу и лишь теперь увидел в лобовом стекле аккуратную круглую дырочку.
— Есть кто живой? — спросил я, установив на максимальную громкость интерком скафандра.
Ответа не последовало. Сьюзи, которая выпорхнула из люка, затанцевала передо мной подобием крохотной радуги. Что бы о них ни говорили, порой «собачки» — отличная компания.
— Эй! — крикнул я. — Может, вам помочь?
Что за глупый вопрос! Метеорит, пробивший стекло, должно быть, врезался прямиком в панель управления, и вездеход превратился в бесполезную груду металла. В отверстии вполне уместилась бы десятицентовая монета; метеорит такой величины способен причинить немало неприятностей.
— Привет, — отозвался кто-то слабым голосом. — Помощь мне и вправду не помешает.
Странный, однако, голос. Похож на женский.
— Что, так плохо?
— К сожалению. Подождите, я сейчас вылезу. Я тут пытаюсь его наладить, но стало слишком жарко. Пришлось укрыться в тени.
Я прекрасно представлял, каково этому бедняге в кабине вездехода. Холодильные установки отключились, температура быстро повышается, солнце светит прямо в стекло, создавая в машине парниковый эффект.
— Могу дотащить вас до города, — предложил я. — Тут недалеко, час с небольшим.
— Не стоит. Мне необходимо отремонтировать вездеход. — Из-за сломанной машины появилась облаченная в скафандр человеческая фигура. — Меня зовут Амелия Томпсон. — Фигура протянула руку. Перчатки наших скафандров заскрежетали друг о друга.
— Женщина!
— Вы имеете что-нибудь против?
— Пожалуй, нет. Просто я не слышал, чтобы до сих пор какая-либо женщина отваживалась отправиться в Пустыню.
Лица Амелии видно не было — она опустила светофильтр шлема. На плече у нее восседала «собачка». Сьюзи подлетела к женщине, и две «собачки» принялись разбрасывать вокруг себя целые снопы искр.
— Может быть, — проговорила Амелия, — вы отбуксируете мою машину в тень, чтобы она немного остыла?
— Амелия, — ответил я, — меня зовут Крис Джексон. Я вовсе не добрый самаритянин, однако не могу оставить вас наедине с вездеходом, у которого повреждена панель управления. Вам ее не починить, вы разве что сумеете накоротко замкнуть провода, а это не приведет ни к чему хорошему. По-моему, вы сами себе роете яму.
— В город мне дороги нет, — сказала она.
— Тем не менее здесь я вас не оставлю. Вы сошли с ума, если хотя бы подумали о такой возможности.
Она показала на мой вездеход:
— Не возражаете? Мы могли бы продолжить разговор внутри.
— Разумеется, — отозвался я, совершенно, честно говоря, не представляя, о чем тут еще говорить.
Мы подошли к моему вездеходу. Амелия забралась в люк. Выждав около минуты, я залез следом, уселся в кресло, включил двигатель и направил машину в тень.
«Собачки» сидели рядом на панели и тихонько искрились.
Остановив вездеход, я обернулся. Амелия сняла шлем. Она улыбалась, однако доброжелательности в улыбке не чувствовалось. Прямые черные волосы, ровно подстриженные надо лбом, молочно-белая кожа, множество веснушек — она походила на школьницу, которая решила вдруг стать взрослой.
Я проявил гостеприимство: встал и направился к холодильнику, намереваясь достать из того фляжку с водой. Чтобы осуществить задуманное, мне пришлось протиснуться между Амелией и стенкой. Свободного пространства в кабине вездехода крайне мало, ведь он предназначен не для увеселительных прогулок.
Так, фляжка, два стакана. Амелии я налил побольше, чем себе, решив, что ей это необходимо. Проведя в скафандре несколько часов, на протяжении которых лишь изредка утоляешь жажду глотком теплой воды из трубки, положительно начинаешь мечтать о стакане ледяной влаги.
Амелия залпом осушила стакан и вернула его мне.
— Спасибо, — сказала она.
Я наполнил стакан по второму разу.
— Право, не стоит. Нельзя быть таким расточительным.
Я встряхнул фляжку. Вода в ней еще оставалась — почти на донышке.
— Нам хватит. До дома рукой подать.
Амелия поднесла стакан к губам. На сей раз она пила маленькими глоточками. Я догадывался, что она лишь усилием воли обуздывает желание выпить все сразу. Временами организм просто-напросто требует чего-нибудь холодного и мокрого.
Я поставил фляжку обратно в холодильник. Амелия заметила мешок с лишайниками.
— Удачная поездка.
— Похоже, что да. Они кишат микробами. Док страшно обрадуется. Ему вечно их не хватает.
— Вы продаете лишайники госпиталю?
— Вообще-то я ищу другое, а их собираю между делом.
— Другое? Что именно?
— Ничего особенного. Уран. Хромиты. Бриллианты. Все, что угодно. Я даже подбираю агаты. Кстати, в прошлую вылазку нашел пару-тройку вполне приличных образцов.
— Агаты! — Амелия рассмеялась коротким, гортанным смешком.
— Их коллекционирует один парень из Енотовой Шкуры. Гранит, полирует, те, которые ему нравятся, оставляет себе, а остальные переправляет на Землю. На камушки с Луны там постоянный спрос. Неважно, хорошие они или не очень, главное, что с Луны.
— Вряд ли он много вам платит.
— Ни цента. Он — мой друг и время от времени оказывает мне кое-какие услуги.
— Понятно. — Амелия, прищурясь, словно изучала меня. По-видимому, она что-то прикидывала.
Осушив стакан, она протянула его мне.
— Еще? — предложил я. Она покачала головой:
— Крис, может, вы вернетесь в город и забудете, что видели меня? Если вы оттащите мой вездеход в тень, дальше я справлюсь сама.
— Не пойдет. Вам что, не терпится умереть? Я вас не брошу.
— Я не могу появиться в Енотовой Шкуре…
— Оставаться здесь вы тоже не можете, — перебил я.
— Поймите, я проникла на Луну в обход закона. У меня нет лицензии.
— Вот оно что, — протянул я.
— Послушать вас, так это — тягчайшее преступление.
— Ни в коем случае. Вы всего лишь поступили неразумно. Ведь вам известно, для чего выдаются лицензии — чтобы служба контроля могла следить за прибывшими на Луну. Попади вы в аварию…
— Не попаду.
— Уже попали, — возразил я.
— Как попала, так и выберусь.
Мне захотелось стукнуть ее, чтобы она хоть немного образумилась.
Благодаря ей я очутился в немыслимом положении. Отпускать ее одну было нельзя, везти в город — тоже. Те, кто совершает вылазки в Пустыню, блюдут одно-единственное правило: по возможности держаться вместе. Ты помогаешь другому, чем только можешь, и ни в коем случае не доносишь на него.
Может статься, лет через сто с лишним наступит такое время, когда нас тут станет слишком много, и тогда мы начнем красть друг у друга, обманывать, грызться между собой — когда-нибудь, но не сейчас.
— Если хотите, я помогу вам починить панель, — сказал я, — но дело в том, что, положившись на нее, вы рискуете жизнью. Вездеходу требуется капитальный ремонт. Не забывайте вдобавок, что у вас дырка в лобовом стекле.
— Я ее заделаю.
Правильно, она ее заделает.
— Мне нужно попасть в Тихо. Нужно, и все!
— В Тихо?!
— Да, в кратер Тихо.
— Только не туда! — с дрожью в голосе воскликнул я.
— Знаю, знаю, — проговорила Амелия. — Слышала я эти россказни.
Она не понимала, о чем говорит! То были вовсе не россказни, а достоверные сведения, факты, занесенные к тому же в архивы колонии. В Енотовой Шкуре жили люди, которые прекрасно помнили, что произошло.
— Вы мне нравитесь, — сказала она. — Вы производите впечатление честного человека.
— К черту! — бросил я, сел в кресло и запустил двигатель.
— Что вы собираетесь делать?
— Я еду в Енотову Шкуру.
— Собираетесь сдать меня властям?
— Нет, — ответил я. — Не властям, а своему приятелю, о котором рассказывал. Тому, что коллекционирует агаты. Он вас пока спрячет, а там мы что-нибудь придумаем. Кстати, держитесь подальше от люка. Если попытаетесь выпрыгнуть, я вас поймаю и отшлепаю.
На мгновение мне показалось, что она сейчас то ли заплачет, то ли набросится на меня, словно дикая кошка. Впрочем, Амелия не сделала ни того ни другого.
— Подождите.
— Да?
— Вы слышали о Третьей лунной экспедиции?
Я кивнул. О ней слышали все. Два звездолета с одиннадцатью людьми на борту сгинули без следа, будто проглоченные Луной. Катастрофа произошла тридцать лет назад, а тела и корабли так и не были найдены.
— Я знаю, где она, — заявила Амелия.
— В Тихо?
Она утвердительно кивнула.
— Ну и что?
— Остались бумаги…
— Бумаги? — Внезапно меня как осенило. — Документы?
— Совершенно верно. Представляете, сколько они сегодня стоят?
— Плюс права на публикацию, — сказал я. — «Я нашла потерянную экспедицию» — чем не заголовок для статьи?
— Да, плюс права. Наверняка выйдут книга и фильм, не говоря уж о теленовостях.
— Быть может, правительство даже наградит вас медалькой.
— Все это будет после, а не до.
Я понимал, куда она клонит. Стоит только открыть рот, как тебя тут же отпихнут в сторону. Всем ведь плевать на какие-то там права, всем подавай славу.
Амелия Томпсон вновь окинула меня изучающим взглядом.
— Похоже, выхода нет. Пятьдесят процентов вас устроят?
— Разумеется, — отозвался я. — Все по справедливости. Две могилы вместо одной. Там хотели построить обсерваторию, хотели, но не построили.
Амелия молча оглядела маленькую кабину. Рассматривать там было особенно нечего.
— В какую сумму вам обошелся вездеход? — справилась она.
Я не стал скрывать: около сотни тысяч долларов.
— Рано или поздно синдикату надоест возиться с вами. И что тогда?
— Не думаю, что такое может случиться, — возразил я, вовсе не чувствуя, однако, той уверенности, какую постарался придать голосу. Перед моим мысленным взором возникла знакомая картина: члены синдиката попивают кофе в аптеке или, сняв пиджаки, садятся за стол в задней комнате банка, чтобы скоротать вечерок за покером. Им не составит труда пустыми разговорами сначала привести себя в раздражение, а потом повергнуть в панику.
— Сегодня, — продолжала Амелия, — вы едва сводите концы с концами. Я знаю, вы надеетесь на удачу. Но скажите, вам известны те, кому она улыбнулась?
— Таких не очень много, — пробормотал я.
— Ну так вот она, ваша удача. Ловите ее. Я беру вас в долю.
— Потому что нет выхода, — напомнил я.
— Не только, — Амелия криво усмехнулась. Я промолчал, ожидая, что последует дальше.
— Может быть, я предлагаю вам поехать со мной потому, что эта работа мне одной не по плечу. Честно говоря, мистер, пока не появились вы, я чуть не умерла со страха.
— А раньше полагали, что справитесь?
— Наверное, да. Понимаете, у меня был напарник. Был-был — и не стало.
— Постойте, постойте. Его звали Бадди Томпсон, верно? И где же наш Бадди сейчас?
Я вдруг вспомнил его. Он уехал из Енотовой Шкуры где-то с год тому назад. Прилетел с Земли, поболтался в городе месячишко-другой, а потом укатил в Пустыню. В этом не было ничего странного: старателям обычно не сидится на одном месте.
— Бадди мой брат. Ему не повезло. Он попал в радиационный шторм и оказался далеко от укрытия. Теперь он в Кляче, в госпитале.
— Действительно, не повезло. — Это были не пустые слова. Я знал, что такое может случиться с кем угодно, причем без всякого предупреждения. Вот почему на Луне не следует отдаляться от вездехода. Да даже и поблизости от него лучше держать ухо востро и всегда иметь на примете пещеру или расщелину, куда можно без промедления нырнуть.
— С ним все будет в порядке, — сказала Амелия, — но поправится он нескоро. Может быть, его даже отправят на Землю.
— Значит, вам понадобится куча денег.
— По крайней мере, больше, чем у нас есть.
— Так вы приехали из Клячи?
— Меня вместе с вездеходом доставили на ракете. Я истратила почти все, что оставалось в кошельке. Можно было бы, конечно, доехать самой, но это заняло бы гораздо больше времени.
— И было бы куда рискованней.
— Я все рассчитала. — Мне показалось, что расчеты Амелии, судя по ее тону, оказались не слишком точными. — Ракета прилунилась в порту. Я вывела вездеход, подъехала к административному корпусу и припарковалась в сторонке, а потом вошла в здание, направилась к стойке регистрации, но не дошла до нее — свернула в заведение. Я просидела там около часа, пока не совершил посадку рейсовый звездолет. Тогда я вышла и смешалась с толпой. Все были настолько заняты, что меня никто не заметил. В общем, я села в машину и уехала.
— Служба контроля Клячи поставит в известность…
— Разумеется, — перебила Амелия. — Но к тому времени будет уже поздно. Либо я получу то, чего желаю, либо на свете станет одной женщиной меньше.
Я призадумался. Меня поразила дерзость, с какой она улизнула из космопорта. Поскольку Амелия в данный момент находилась в зоне Енотовой Шкуры, она должна была бы иметь соответствующую лицензию, чтобы за ней могла наблюдать местная служба контроля. Ей пришлось бы представить маршрут вылазки и выходить на связь каждые двадцать часов. Не выйди она хоть раз, и в Пустыню немедленно вышлют спасательную команду. Да, подобный расклад наверняка смешал бы Амелии все карты.
Правда, прежде всего она не получила бы разрешения на вылазку в Тихо. Вероятно, произнеси она одно только слово, ее тут же посадили бы под замок. Соваться в Тихо — чистой воды безумие, и все об этом знают.
Итак, она вывела из ракеты вездеход, а затем направилась в административный корпус. Любой, кто заметил ее, скорее всего посчитал, что она идет за лицензией. А позже, когда девушка вышла из здания, те, кто, возможно, обратил на нее внимание, предположили, по-видимому, что вот шагает человек с лицензией в кармане, и просто-напросто вычеркнули Амелию из памяти.
Без лицензии, без утвержденного маршрута, отметившись лишь в Кляче, она имела полную свободу действий и могла ехать, куда ей заблагорассудится.
Ничего не скажешь, шикарный способ самоубийства.
— На внешнем склоне Тихо Бадди нашел человека, — проговорила Амелия.
— Кого?
— Человека из состава Третьей лунной экспедиции. Он каким-то образом выбрался из кратера, уцелел после катастрофы. Его звали Рой Ньюмен.
— Бадди следовало сообщить властям.
— Конечно. Мы знали, что так полагается. Но признайтесь, Крис, вы бы сами как поступили? Времени у нас было в обрез, денег тоже. Иногда приходится рисковать и даже играть в прятки с законом.
Она была права. Порой и впрямь приходится рисковать. Порой тебя охватывает отчаяние, и ты говоришь: «А пошли они к черту!» — и ставишь на кон все, что имеешь. И как правило, проигрываешь.
— У Ньюмена был при себе дневник. Он вел его не очень аккуратно, однако записал, что все члены экспедиции составили завещания и изложили на бумаге, что именно с ними стряслось…
— За этими документами вы и охотитесь? Она кивнула.
— Но вам не удастся сохранить их у себя. Когда все откроется, придется передать документы семьям погибших.
— Знаю, — ответила Амелия. — Однако мы можем фотокопировать бумаги; вдобавок у нас будут права на первую публикацию. К тому же там документы не только личного характера, а также различные научные приборы и сами корабли. Их два, один пассажирский, а другой грузовой. Можете себе представить, сколько они сегодня стоят?
— Но…
— Никаких «но», — возразила она. — Корабли — наша законная добыча. Я специально изучала закон. Они принадлежат тому, кто сумеет их обнаружить.
Я снова погрузился в размышления. Деньги, много денег. Пускай звездолеты простояли на поверхности Луны целых тридцать лет — если метеориты не понаделали в них дыр, они, вполне возможно, все еще в рабочем состоянии. А если нет, их можно продать на слом и выручить кругленькую сумму. Сталь ценилась на Луне чуть ли не на вес золота.
— Послушайте, — продолжала Амелия, — давайте рассуждать по-деловому. Вы можете оставить меня здесь, а какое-то время спустя вернуться с новой панелью. Вдвоем мы быстро ее установим. Вас в Енотовой Шкуре знают. Составьте маршрут вылазки на внешние склоны Тихо. Никто ничего не заподозрит, никто не будет за вами следить.
В самом деле, подумалось мне. Как будто все складывается неплохо, если не считать того, что меня вынуждают бессовестно нарушить правила. Отыскав экспедицию, мы превратимся в героев и, возможно, в придачу разбогатеем. А потерпим неудачу — так не все ли равно мертвецу?
Я вспомнил прожитую жизнь, прикинул, что ждет впереди, представил членов синдиката — вот они сидят в парикмахерской и щелкают подтяжками… Как будет здорово возвратиться в Милвилл, пройтись по знакомым улицам, слыша со всех сторон: «Смотри, Крис Джексон! Он поймал удачу на Луне!»
— Пятьдесят процентов, — добавила Амелия Томпсон.
— Думаю, остановимся на тридцати, — сказал я. — Не стоит забывать о Бадди.
В этом моя беда: порой я бываю сентиментален.
Глава 2
На все про все у нас было шесть дней светлой части лунных суток минус день на поездку в город и возвращение обратно. За пять дней можно успеть многое. От того места, где стоял вездеход Амелии, до склона Тихо было лишь несколько часов езды.
Вернуться же можно и в темноте — если мы, конечно, вернемся; а вот для работы необходимо, чтобы было светло.
Я механически вертел руль — и думал, думал, время от времени коря себя за то, какого свалял дурака, ввязавшись в подобную авантюру.
Мне было страшно. Чудовищно, невыразимо страшно.
Что бы там ни говорила Амелия, Тихо — весьма крепкий орешек, который не всякому по зубам. С такими вещами лучше не шутить. Никто из колонистов даже не пытался утверждать, будто знает наверняка, в чем состоит тайна кратера; домыслов же было не перечесть, и от некоторых из них волосы просто вставали дыбом.
Давным-давно, лет двадцать пять назад, когда Луну только начинали осваивать, на дне Тихо собирались построить астрономическую обсерваторию, однако после всего, что случилось, ее построили в кратере Кювье. В Тихо отправили группу геологов — провести съемку местности, — и эта группа бесследно исчезла. Тогда послали наземную спасательную команду, которая словно растворилась — разумеется, не в воздухе, а в пространстве. В небо взмыли звездолеты, которые кружили над кратером на протяжении доброго десятка часов. Ничего: ни малейшего признака жизни, ни единого движения, ни даже намека на что-либо более-менее похожее. Инструменты — пожалуйста, они стояли там, где их поставили геологи; рядом громоздились ящики с припасами и оборудованием. С кораблей, правда, засекли колею, которая вела на юг и обрывалась у стены кратера. Людей же так и не обнаружили.
Тем все и кончилось. Больше ни у кого не возникало желания ни забираться в кратер, ни даже приближаться к нему. Если кто-нибудь случайно оказывался в нескольких милях от Тихо, он вдруг начинал передвигаться как бы на цыпочках и огибал зловещее место по широкой дуге. А попытаться проникнуть внутрь — такое наверняка не приходило в голову ни одному человеку в здравом уме и твердой памяти.
У меня же, очевидно, слегка поехала крыша.
Ладно, хватит валять дурака, будем честными. Ни про кого из лунных старателей нельзя сказать, что вот он — в здравом рассудке. Те, кто наделен здравомыслием, отсиживаются в безопасности на Земле.
Сьюзи, которая сидела на панели управления, искрилась слабее обычного. Чувствовалось, что она чем-то расстроена. Непрерывно щелкал счетчик радиации, вездеход катился по дну выбеленного пылью распадка. Я торопился вернуться в город, поскольку оставил почти весь кислород Амелии и не мог терять времени. Стоит кислороду выйти — и поминай как звали, проживешь ровно столько, на сколько сумеешь задержать дыхание.
Вдобавок я беспокоился — не только насчет кислорода, но и насчет Амелии. Впрочем, мое беспокойство вряд ли было оправданным. Амелия казалась более-менее разумной девушкой. Кислорода у нее достаточно, вездеход стоит теперь в тени, которая никуда не денется до рассвета следующего лунного дня. Правда, она может замерзнуть, но, если не согреется благодаря термоэлементам скафандра, просто выйдет на солнце, на котором не страшен никакой холод. Дыру в лобовом стекле мы заделали, то есть кабина вездехода снова стала герметичной; воды у Амелии в избытке…
На юге показался западный склон Пиктета, увенчанный зазубренным гребнем, а дальше, на юго-западе, замаячил Тихо, белые пики которого вонзались в угольно-черное небо.
Дно распадка устилала пыль, что было не очень-то хорошо. Вездеход в любую секунду мог угодить в пылевую яму — может быть, совсем крохотную или же такую, в какой поместится добрая дюжина машин.
Однако мне было некогда рыскать по округе в поисках более безопасного пути, равно как и вести машину на небольшой скорости, чтобы в случае чего успеть затормозить и дать задний ход.
Если бы я знал, что в распадке лежит пыль, то ни за что бы в него не сунулся; но начало дороги не предвещало ничего подобного — сплошной камень, катись в свое удовольствие. Разумеется, я смотрел вперед, однако солнце сверкало так ярко, что определить на расстоянии, галька там или пыль, не представлялось возможным.
Когда ты впервые прилетаешь на Луну, тебя поражает одна вещь. Луна — черно-белая. Если не считать немногочисленных оттенков, какие присутствуют в скальных породах, других цветов здесь не существует. Солнце буквально выбеливает все, на что только падают его лучи. А когда солнце уходит, наступает кромешная тьма.
Итак, я вел вездеход по распадку, прокладывал колею по пыли, которую никогда еще не давили гусеницами; которую испещряли крошечные кратеры — следы примчавшегося из космоса мусора; которая копилась тут на протяжении столетий, отшелушивалась от каменных стен, не выдерживавших беспрерывных атак излучения, укусов песка, что передвигался со скоростью не одной мили в секунду, перепадов температуры — разница составляла сотни градусов.
Да, жизнь на Луне тяжелая и не слишком веселая, однако в самой суровости планеты таятся восторг и красота. Она ловит каждую ошибку, норовит прикончить тебя, не знает жалости, не дает пощады; но порой она являет собой зрелище, от которого захватывает дух, когда душа словно взмывает в черноту космоса и обретает умиротворение и понимание. А иногда Луна попросту лишает тебя слов.
Что-то похожее происходило со мной сейчас. Я застыл в кресле, в горле пересохло, на лбу выступил пот. Машина катилась по распадку, приближаясь, может статься, к ловушке, объехать которую не удастся.
Мне повезло. По-видимому, мой черед еще не наступил: старушка-Луна, должно быть, приберегала меня для другого раза.
Я выехал из распадка и очутился на широкой равнине, за которой виднелся Домашний проход, что вел внутрь Пиктета, прямиком к Енотовой Шкуре.
Под гусеницами вновь захрустела галька. Я посмотрел на датчик кислорода: стрелка находилась почти у самого левого края шкалы. Ничего, до города хватит. В крайнем случае воспользуюсь тем баллоном, который упакован в ранец скафандра. В общем, доберусь.
Главное — я целым и невредимым выбрался из засыпанного пылью распадка, а остальное в настоящий момент ерунда.
Вездеход взобрался на склон, и передо мной раскинулся Пиктет — амфитеатр, у северо-восточной стены которого притулилась колония. За городом сверкали на солнце здания космопорта, служившего промежуточным этапом на пути к другим планетам. На моих глазах на посадочную площадку опустился очередной звездолет, окутанный клубами дыма, весь в пламени, которое выплевывали дюзы. Наблюдать за ним было очень странно: тормозные двигатели работали на полную мощность, пламя било ослепительными струями — однако посадка проходила в полной тишине.
Первое, что поражает на Луне, — засилье черного и белого цветов; грозное же высокомерие тишины обрушивается не сразу, но затем сопровождает тебя каждую минуту. Тишина — то, во что трудно поверить, с чем нелегко свыкнуться и почти невозможно жить.
Я сбросил скорость, ибо проход изобиловал поворотами, которые требовали повышенного внимания. Стрелка на кислородной шкале опустилась ниже прежнего, но я знал, что мне уже ничто не угрожает.
Миновав проход, я съехал на дно кратера и свернул влево, обогнул выступ стены и направил машину к госпиталю, что примостился в укромном уголке между выступом и стеной.
Лунные поселения строятся особым способом: не на открытом месте, а у стен кратеров, у подножия гор, в долинах и распадках — то бишь там, где существуют естественные укрытия, которые позволяют прятаться от радиации и метеоритов. Правда, надежнее всего зарыться под землю, однако в человеческом естестве есть что-то такое, что восстает при одной только мысли о жизни в норах. Поэтому люди защищаются иным способом — возводят поселения вплотную к высоким стенам. Именно так, к примеру, построена Енотова Шкура. Город протянулся почти на три мили в длину; улиц в нем нет, а все дома прижимаются к северной стене кратера.
Я остановил вездеход у наружного шлюза госпиталя, надел шлем, взял мешок с лишайниками и выбрался из машины. Должно быть, меня заметили изнутри, поскольку шлюз начал открываться. Когда я подошел к нему, люк уже распахнулся настежь. Я вошел; люк закрылся, послышалось шипение подаваемого в шлюзовую камеру воздуха. Подождав, пока откроется внутренний люк, я снял шлем и двинулся к отверстию.
С той стороны меня поджидал док Уизерс. Увидев мешок, он усмехнулся в свои огромные, как у моржа, седые усы.
— Кэти! — позвал он, протянул руку к мешку, а другой похлопал меня по плечу. — Ты нас выручил. Запасы подходят к концу, а никто из добытчиков до сих пор не появился. Ты первый. — Док шумно вдохнул и столь же шумно выдохнул. — Знаешь, я все время боюсь, что вы рано или поздно встретите свою удачу, и тогда никому не станет дела до моих ненаглядных микробиков.
— Не переживайте по пустякам, док, — отозвался я. — Такое вряд ли случится.
Тут появилась Кэти — вечно хмурая старушенция с исхудалым лицом медсестры, которая переработала свой срок и, имея склонность помыкать людьми, со временем стала проявлять чрезмерное усердие в уходе за пациентами.
Док вручил ей мешок.
— Проверьте и взвесьте, — сказал он. — Я рад, что наши запасы слегка пополнились.
Кэти повернулась ко мне.
— Где вы пропадали? — холодно справилась она с таким видом, будто подозревала, что я нарочно не приезжал как можно дольше. — Мы чуть было не остались вообще без лекарств! — После чего повернулась и вышла в коридор.
— Давай вылезай из своей амуниции, и пойдем пропустим по стаканчику, — пригласил док. — Тебе все равно придется подождать, пока Кэти разберется с твоей добычей.
— Я, пожалуй, останусь в скафандре, иначе у вас тут все провоняет…
— Прими ванну, — предложил док.
— Спасибо, не стоит.
— Не забывай, я всю жизнь проработал в больницах, так что запахи меня не пугают.
— Я скоро буду дома, там и разденусь. А вот насчет выпить — с удовольствием.
Док провел меня в свой кабинет, крохотное, но весьма уютное помещение. Добиться уюта на Луне не так-то просто, ведь нужно каким-то образом смягчить впечатление от металлических стен, пола и потолка. На стены можно повесить картины, задрапировать или даже покрасить — как ни старайся, от металла никуда не денешься. Он будет чувствоваться, обоняться, осязаться; человек никогда не забудет его твердости и холода, а также того, почему кругом металл, а не что-либо иное.
Иллюзия уюта в кабинете дока достигалась за счет мягкой мебели, которой он обставил комнату. Там стояли кресла и кушетки, садясь на любую из которых ты словно падал на перину.
Док открыл дверцу буфета, достал бутылку и несколько стаканов. Оказалось, что у него есть и лед. Я знал, что он угостит меня чем-то вполне приличным. Дрянное спиртное на Луне — да и в космосе в целом — попросту не водится. Транспортные налоги настолько высоки, что в попытках сэкономить на качестве нет ни малейшего смысла.
— Как съездил? — спросил док.
— Почти никак. Набрал только лишайников, больше ничего.
— Я живу в постоянном страхе, что когда-нибудь мы сорвем последний лишайник, — признался Уизерс. — Мы пытались выращивать их в искусственных, теоретически идеальных условиях, и они попросту не пожелали расти. Мы пробовали пересаживать их в другие места здесь, на Луне, и все заканчивалось сравнительно благополучно, однако на Земле они так и не прижились. Похоже, они не выносят атмосферы. — Он принялся разливать спиртное по стаканам.
— Может, со временем обнаружится, что они растут не только здесь, — предположил я.
— Нет, — док покачал головой. — Лишайников нет нигде, за исключением окрестностей Тихо.
Сьюзи, которая впорхнула в кабинет следом за мной, уселась на бутылку. Не могу сказать, есть ли у нее задатки алкоголика, но сидеть на бутылках она обожает.
— Хитрюга, — проговорил док, кивнув Сьюзи, а затем протянул мне мой стакан. Я пригубил. Виски. Как раз то, что требовалось, чтобы промочить горло и прополоскать рот, в который будто набился песок.
— Знаете, док, — произнес я, сделав большой глоток, — «собачки» и лишайники как-то связаны друг с другом. Нашел одних, значит, жди других. Над лишайниками всегда висит пара-тройка «собачек» — этакие бабочки, что вьются над цветочной клумбой. У моей Сьюзи замечательный нюх, лучшего охотника я еще не встречал.
Продолжая потягивать виски, я задумался над тем, что объединяет между собой «собачек», лишайники и микробов. Любопытный, однако, расклад. «Собачки» находят лишайники, в лишайниках кишат микробы, за которыми-то, по сути, и охотится человек. Ему необходимы именно микробы.
Впрочем, дело не только в этом.
— Док, мы с вами друзья, верно?
— Пожалуй, да, — отозвался док. — Да, мой мальчик. Судя по всему, ты прав.
— У меня порой возникает странное чувство. Точнее, два чувства. Первое — что Сьюзи пытается поговорить со мной.
— Ничего странного, — заявил док. — Мы же знать не знаем, кто такие эти «собачки». Возможно, они разумны. Мне кажется, что так оно и есть. Внешне они представляются сгустками энергии, но где сказано, что разумом наделены лишь те существа, которые состоят из плоти и крови?
— А второе чувство, — продолжал я, — такое. Иногда мне чудится, что она изучает меня — не как отдельную личность, а как представителя человечества. Может, она намеренно увязалась за мной?
Док торжественно опустился в кресло, лицом ко мне.
— Да, мой мальчик, что-либо подобное можно открыть только настоящему другу, — проговорил он.
Я покачал головой, гадая, почему вдруг разоткровенничался. До сих пор я хранил все в тайне, ни разу не проронил ни словечка.
— Меня бы сочли сумасшедшим.
— Вряд ли, — возразил Уизерс. — Нет никого, совершенно никого, кто мог бы сказать, что знает Луну. Мы ведь едва прикоснулись к ее поверхности. Помню, когда я был мальчишкой, народ любил порассуждать, на кой нам вообще сдалась Луна. Она пуста и мертва, на ней нет ничего такого, из-за чего стоило бы лететь туда, а если и есть, то все равно не окупит затрат на космический полет. Говорили, что Луна всего-навсего кусок Земли, лишенный вдобавок атмосферы и какой бы то ни было жизни. Кто бы мог подумать, что на никуда не годной планете будет обнаружено то, чего так долго добивался человек — лекарство от душевных болезней!
Я кивнул. Если дока тянет поговорить, пускай себе разглагольствует. Дел у меня никаких, разве что вернуться к Амелии, которая осталась в сломанном вездеходе посреди Пустыни. К тому же я изрядно вымотался и способен, по большому счету, только слушать. Увидев, что мой стакан пуст, док вновь наполнил его. Я не стал отнекиваться.
— Нам необходимо расширить госпиталь, — сказал док. — Деньги не проблема. Их столько, что можно было бы отгрохать домину в три раза здоровее нынешней хибарки, но какой в том смысл? Лишайников катастрофически не хватает.
— Поднимите цену, — посоветовал я. — Ребята станут искать внимательнее, забудут про всякую ерунду вроде урана и бриллиантов…
— Ты, должно быть, шутишь, — произнес Уизерс, пристально поглядев на меня. — Но мне не до шуток, Крис.
— Лишайники наверняка растут не только поблизости от Тихо, — сказал я. — Ведь на Луне пока основано всего лишь пять поселений, три здесь и два на Северном полюсе. Иными словами, Луна еще не исследована. Конечно, ее фотографировали с ракет, организовывались наземные экспедиции; кое-что мы узнали, но гораздо больше не видели. На планете полным-полно мест, куда не ступала нога человека.
— По-моему, ты ошибаешься, — ответил док, качая головой. — С лишайниками все не так просто. Я много раздумывал над этим, даже во сне. На мой взгляд, не существует какой-либо явной причины, по которой они могут расти только в окрестностях Тихо. Правда…
— Что? — спросил я и прибавил, не дожидаясь ответа Уизера: — Правда, причина может заключаться в Тихо. Вы хотели сказать, что лишайники зародились в Тихо, а уж затем распространились по округе?
— Что такое Тихо, Крис? — справился док, не спуская с меня глаз. — Ты часто бываешь в тех краях. Что там внутри?
— Не знаю, не заглядывал.
— Когда-нибудь кто-то, у кого достанет мужества, сделает это. Кто-то, кто пошлет к чертям суеверия, спустится в кратер и узнает наконец, что же в нем творится.
В кабинет вошла Кэти. Она протянула доку листок бумаги, презрительно усмехнулась и удалилась.
— Получается сто семьдесят пять долларов, — сообщил Уизерс, поглядев на листок. — Правильно?
— Как скажете.
Дока можно было не проверять. Он играл по-честному, был из тех, кому верят на слово, платил столько, сколько следовало, вплоть до последнего цента.
Док извлек из заднего кармана брюк бумажник, отсчитал деньги и передал мне.
— Допивай и наливай еще, — предложил он.
— Некогда. Время поджимает. Слишком много дел.
— Ты снова уезжаешь? — Я кивнул. — Лишайники посмотришь?
— Конечно, о чем речь! Если бы можно было задержаться в Пустыне подольше, я бы привез вам целый вездеход. Жалко, что они хранятся не больше сотни часов. Мотаешься туда-сюда…
— Понимаю, — проговорил док. — Вот если бы мне удалось переправить лекарство в целости и сохранности на Землю! Быть может, когда-нибудь это случится. Здесь у меня шестьдесят пациентов — столько вмещает госпиталь, на стольких хватает препарата. А люди записываются и записываются, уже образовалась очередь на три года вперед. Они жаждут исцеления, которое сулит Луна.
— Может, кто-то синтезирует…
— Ты видел рисунки, изображающие молекулярную структуру лишайника? — спросил, криво усмехнувшись, док.
— Нет, — признался я.
— Ее невозможно воспроизвести.
Я сунул деньги в карман скафандра, поставил стакан на стол и поднялся.
— Спасибо за угощение.
Ко мне подлетела Сьюзи. Она заложила над моей головой пару виражей, а затем принялась разбрасывать искры.
Я попрощался с доком, прошел через шлюз и забрался в кабину вездехода.
Звездолет, за посадкой которого я наблюдал, замер на краю космодрома. Экипаж занимался разгрузкой: пассажиры, похоже, давно покинули корабль.
Я запустил двигатель и поехал к «Грязному Джо». Пускай название вас не обманывает, его заведение — вовсе не какая-нибудь забегаловка. Джо владеет чуть ли не единственным деловым зданием в Енотовой Шкуре; оно появилось вместе с городом. Джо открыл лавочку, когда строили космопорт. Он кормил строителей и давал им приют и пришелся им по душе, а поскольку они хотели, чтобы Луна как можно сильнее напоминала Землю, то назвали кабачок «У Грязного Джо». Со временем строители улетели, а название осталось.
Я притормозил у входа, припарковал вездеход, вылез из кабины и направился к зданию.
Мне показалось, будто я вернулся домой. Впрочем, так оно отчасти и было. Около десятка старателей вроде меня имели в заведении Джо личные номера, где коротали промежутки между вылазками. Выходить в город не было необходимости, поскольку Джо поставил дело на широкую ногу и прежний кабачок превратился в отель-бар-банк-универмаг, что называется, в одном лице.
Я вошел в холл и двинулся к стойке бара — не потому, что хотел чего-нибудь выпить, а чтобы посмотреть, кто сегодня заглянул на огонек.
Как выяснилось, никто вообще, если не считать бармена Табби и мужчины, который стоял у стойки и как раз поднес к губам стакан.
— Привет, Крис, — поздоровался Табби. — Тут тебя желают видеть.
Мужчина повернулся. Он был высок ростом и настолько широкоплеч, что плечи как бы клонились вперед, словно грозя вот-вот рухнуть на пол. Скуластое лицо, льдисто-голубые глаза, седые баки — не борода, а именно бакенбарды. Вид у него был весьма внушительный.
— Вы Джексон? — требовательно спросил он. Я не стал отрицать.
— Он прилетел на том корабле, что сел меньше часа назад, — сообщил Табби.
— Меня зовут Чандлер Брилл, — сказал мужчина. — Из университета Джонса Хопкинса. Я ваш новый хозяин, прошу любить и жаловать.
Он протянул руку, которая была больше моей, хотя я не успел еще снять перчатку.
Мы обменялись рукопожатием. У меня по спине побежали мурашки.
— Вы хотите сказать, что купили…
— Нет, ничего подобного, — перебил Брилл. — Я просто нанял вас и вашу машину. Между прочим, милвиллская публика заломила несусветную цену. — Он сунул руку в карман и достал оттуда конверт. — Вам от них письмо.
Я взял конверт, сложил пополам и запихнул в карман скафандра.
— Должно быть, вам понадобится некоторое время, чтобы пообвыкнуть?
— Ничуть, — ответил Брилл. — Выезжаем, как только вы будете готовы.
— Что будем искать?
— Что попадется. Я ученый широкого профиля.
— Держи, Крис, — проговорил Табби.
Я приблизился к стойке, принял стакан; перед глазами у меня с жужжанием бешено вращались тысячи разноцветных колес.
Нужно как-то обвести его вокруг пальца. Да, сначала одурачить этого Брилла, а затем поспешить к Амелии, которая дожидается меня в Пустыне. Пускай она всего лишь взбалмошная девчонка, я не могу бросить ее на произвол судьбы. И потом, нам предстоит вылазка в Тихо. Каких-нибудь двадцать часов назад я бы ни за что не согласился на такую авантюру — не набрался бы мужества. Как там выразился док? Однажды найдется кто-то, кто наплюет на глупые суеверия и вздорные истории. Вовсе они, впрочем, не глупые и не вздорные: сколько людей исчезло в утробе Тихо!
— Оборудования у вас много? — справился я у Брилла.
— Почти никакого. Я приучился обходиться без него еще на Земле.
— Значит, все будет в порядке, — подытожил я, одобрительно кивнув. На мгновение мне пришла в голову шальная мысль запугать его: мол, на вездеход ничего толком не погрузишь, так что лучше никуда не соваться; но я быстро сообразил, что с ним такое не пройдет. Брилл резко отличался от всех ученых, с какими я до сих пор сталкивался. Сказать по правде, он сильнее всего смахивал на бандита с большой дороги. — А почему Мел Адамс не отправил радиограмму?
— Дело в том, — объяснил Брилл, — что я вылетел практически сразу после того, как завершились наши переговоры. Адамс передал мне письмо для вас. Он умеет считать деньги.
— Да уж, — пробормотал я.
— Поскольку я все равно отправлялся на Луну, он решил не тратиться на радиограмму. Сказал, что вы должно быть, в Пустыне.
— Ребята из космопорта нашли бы меня, и я бы успел вернуться, чтобы встретить вас у трапа.
— Предлагаю закончить обсуждение, — произнес Брилл. — Насколько я понимаю, никто никого не обидел. Может, перекусим?
— Мне нужно принять ванну и переодеться. Как только управлюсь, спущусь.
— Буду ждать, — пообещал Брилл.
— Табби, — сказал я, — дай-ка мне бутылку. Бармен исполнил мою просьбу. Я стиснул бутылку в кулаке и двинулся к двери.
— Эй! — воскликнул Табби. — Ты забыл стакан!
— Он мне ни к чему, — отозвался я.
Бывает, что человеку хочется назюзюкаться до полной отключки. Именно таким было мое желание.
Глава 3
Я наполнил ванну почти до краев. В городе насчет воды особенно волноваться не приходилось. Ее было вполне достаточно. Под Пиктетом находились залежи — кубические мили — льда, который добывали в специальноо пробитой шахте. Вот одна из причин, по которым Енотову Шкуру построили не где-нибудь, а в Пиктете. Еще в начале освоения планеты какая-то из геологических партий пробурила почву у северной стены кратера — и наткнулась на лед.
Разумеется, в Пустыне с водой обращаются иначе, поскольку, как ни старайся, в вездеход много не запихнешь. Но здесь, в городе, можно плескаться в свое удовольствие.
Я выбрался из скафандра, повесил тот на крючок в шлюзовой камере и открыл наружный люк, чтобы мои доспехи как следует проветрились. Точнее, прокосмичились. После чего налил в ванну воды, положил на край кусок мыла, поставил рядом бутылку и принялся отмокать.
За четыре дня в скафандре можно сойти с ума. Человек уже не в силах выносить самого себя: он весь в грязи и чем только не пропах.
Я лежал в ванне и глядел в потолок, который здесь, как и в других городских домах, был стальным и выкрашенным в серый цвет. Что за гнусная жизнь! Ни глотка свежего воздуха, ни травинки, ни цветка, ни розового рассвета и ни пламенеющего заката, ни дождя, ни росы — словом, ничего, что могло бы хоть чуть-чуть скрасить наше существование.
Чувствуя, что пора немного приободриться, я приложил к губам бутылку и как следует глотнул, однако решил, что напиваться, пожалуй, не стоит: слишком многое предстоит сделать, а времени в обрез.
В ванную залетела Сьюзи; она уселась на кран, из которого лилась горячая вода. Признаться, я не стал бы утверждать, что она села: просто было похоже, что Сьюзи сидит. И не спрашивайте, почему я отнес ее к самкам. Такие, как она, не имеют пола. Хотя…
Я предложил ей выпить. Она приняла форму вопросительного знака, одним концом по-прежнему упираясь в кран, а другим, с которого сыпались искры, заглянув в бутылку, после чего снова взгромоздилась на кран. Около минуты, пока не потухли искры, бутылка представляла собой восхитительное зрелище. Признаться, пить было страшновато, однако, как оказалось, искры не причинили спиртному ни малейшего вреда.
Тут я вспомнил, что забыл кое-кому позвонить. Я вылез из ванны, подошел к телефону и набрал номер Герби Грейла.
Герби был тот самый парень, которому я привозил из Пустыни агаты. Он торговал в центральном магазине, где ему выделили уголок под прилавок и мастерскую. У него была алмазная пила, обрезной станок, шлифовальный станок, точильный круг и множество других инструментов. Герби ничего не стоило взять в руки обычный камень и сделать из того маленькое чудо, от которого невозможно отвести взгляд.
Он жил в трейлере, припаркованном под выступом стены; это было одно из безопаснейших мест во всем городе. Каждую неделю Герби приглашал кого-нибудь из приятелей перекинуться в покер. Он был холостяком — единственным, по-моему, из холостяков Енотовой Шкуры, кто жил в трейлере. Все остальные обитатели трейлеров являлись женатыми людьми, у некоторых даже были дети.
Вот и рассуждай после этого о никудышных условиях для подрастающего поколения!
Герби оказался дома.
— Мне нужна твоя помощь, — сказал я.
— Выкладывай.
— Синдикат прислал клиента. Придется пару дней потаскать его по Пустыне.
— Турист?
— Нет. Говорит, ученый.
— По-видимому, тебе нужен мой трейлер?
— Если не возражаешь. Поживи пока у меня. За номер заплачено вперед.
— Конечно, не возражаю, — отозвался Герби. — На нем кого только не возили.
— Спасибо, Герби.
— Не за что.
— Понимаешь, вдвоем в кабине слишком тесно. Разговаривая с Грейлом, я прикидывал, как завезу Брилла подальше от города, отцеплю трейлер и скажу, что должен отлучиться — ненадолго, на пару часиков. Возможно, ему придется просидеть в трейлере денек-другой, но ничего, переживет, а я в случае чего сочиню какую-нибудь историю насчет собственного невезения. Вероятно, он мне не поверит, но это его трудности. Главное — у меня будет прикрытие, которое собьет с толку службу контроля. Воды, воздуха и пищи в избытке; а если и впрямь случится что-нибудь этакое и я не вернусь, служба контроля организует поиски и трейлер быстро обнаружат.
— Когда он тебе нужен, Крис? — справился Герби.
— Я не хочу тебя подгонять.
— Ерунда.
— Тогда, скажем, через двенадцать часов. Я думаю поспать.
— Хорошо. Я пока соберу все, что мне понадобится, а остальное оставлю, идет?
— Еще раз спасибо, Герби.
— Не за что, — повторил Грейл. — Вспомни, сколько камней ты мне привез.
Я повесил трубку и направился обратно в ванную. Внезапно мое внимание привлек валявшийся на столе конверт, который я достал из кармана скафандра перед тем, как отправить тот проветриваться.
Я взял конверт, забрался в воду, почувствовал, что вновь начинаю отмокать, и распечатал письмо. Оно гласило:
«Дорогой Крис! Мы не хотим, чтобы у тебя сложилось впечатление, будто мы вмешиваемся в твои дела, согласившись на предложение доктора Брилла нанять твой вездеход вместе с водителем. Однако, учитывая, что тебе до сих пор не удалось добиться того ошеломляющего успеха, на какой ты рассчитывал, мы пришли к единодушному мнению, что ты, наверное, не откажешься от возможности подзаработать денег. Мы навели справки о докторе Брилле. Он — профессор в университете Джонса Хопкинса и пользуется большим уважением в научных кругах. Не сомневайся, мы все по-прежнему верим в тебя и надеемся, что когда-нибудь ты все же преуспеешь на избранном тобою поприще.
С наилучшими пожеланиями Мел Адамс».Я уронил письмо на пол. Мне стало слегка не по себе, поскольку я прочел между строк внешне вполне дружелюбного послания, что в души милвиллцев наконец-то закралось сомнение.
Нужен успех, и чем раньше, тем лучше.
Я угодил в ловушку, из которой, похоже, не выбраться.
Как ни крути, теперь мне придется совершить вылазку в Тихо, попытать счастья, положившись на слова Амелии о сокровищах, которые там якобы лежат, и попробовать вернуться целым и невредимым.
Обстоятельства вынуждали действовать. Месяц-другой спустя синдикат отступится, на планету начнут прибывать кредиторы, и я потеряю Луну навсегда.
Я представил себе, как брожу по улицам Милвилла: пресловутый неудачник, готовый на любую работу — еще один из тех, кто проиграл на Луне.
Вылезя из ванны, я оделся и принялся составлять в уме план действий. Сначала поесть и переговорить с Бриллом, затем поспать, после чего заполнить и сдать маршрутную карту, прицепить к вездеходу трейлер, усадить туда ученого — и в путь-дорогу. Времени всего ничего.
С маршрутной картой могут возникнуть кое-какие осложнения, ибо в ней будут упомянуты внешние склоны Тихо. Таким образом я отошлю последнее сообщение с самого гребня кратера, и в моем распоряжении окажется двадцать часов до следующего выхода на связь.
А за это время мы с Амелией отыщем то, что разыскиваем, или же, как и другие до нас, исчезнем без следа.
Я приложился напоследок к бутылке и спустился вниз, следом за Сьюзи, которая порхала перед моим лицом.
Брилл ждал меня, как и обещал. Мы прошли в столовую и сели за свободный столик. Сьюзи примостилась на сахарнице.
— Любопытный у вас дружок, — проговорил Брилл, указав на «собачку» рукой.
— Подружка, — поправил я. — Сьюзи ищет лишайники. Когда находит, она исполняет нечто вроде танца, а я подхожу и срываю их со скалы.
— Специально тренировали?
— Ничего подобного. «Собачки» каким-то диковинным образом связаны с лишайниками. Если вам встретились «собачки» — разумеется, дикие, — значит, где-то поблизости лишайники.
— Но ваша Сьюзи… Вы купили ее или…
— Нет, она просто прибилась ко мне в первой моей вылазке в Пустыню. Прибилась и осталась.
— А другие старатели? У них тоже?..
— Да, у каждого, но только в здешних краях. Вы, должно быть, знаете, что жизнь на Луне была обнаружена лишь тут.
— Потому-то я и прилетел сюда, — заявил Брилл. — Я хочу, чтобы вы доставили меня туда, где бы я мог изучать лишайники и наблюдать за «собачками».
— На склоны Тихо.
— Бармен наговорил мне всяких ужасов, — продолжал Брилл, утвердительно кивнув. — Похоже, он считает, что в кратере водятся привидения.
— В самом кратере, — уточнил я. — На склонах вы в безопасности.
— Вы верите в эту ерунду? — Брилл пристально поглядел на меня.
— Конечно.
Встав из-за стола и пожелав Бриллу спокойной ночи, я отправился на поиски Грязного Джо и нашел того в его кабинете, в котором царил жуткий беспорядок. Джо словно стремился оправдать свое прозвище: на галстуке у него виднелось пятно — два месяца назад он уронил на себя яйцо.
Джо сообщил, что на мой счет и вправду поступили кое-какие деньги. Синдикат несколько часов назад перевел мне десять тысяч долларов.
— Оплата за услуги, которые ты должен оказать какому-то Чандлеру Бриллу, — сказал Джо. — Кажется, я его уже видел.
Я пояснил, что мы с Бриллом успели познакомиться.
— За такие деньги, — хмыкнул Джо, — я бы на твоем месте опекал его как заботливая мамаша.
Я пообещал, что так и поступлю, после чего заказал кислород, изрядное количество воды и кое-что еще, в том числе запасную панель для вездехода Амелии. Джо решил, что я попросту сорю деньгами, и попытался отговорить от покупки, но я заявил, что меня давно беспокоит моя панель — дескать, ее того и гляди выведет из строя какой-нибудь шальной метеорит. Джо расхохотался, однако я продолжал гнуть свое: мол, я слышал об одном таком случае, который произошел у Северного полюса. Водителю пришлось пройти пешком сорок миль, и ему повезло, что он был так близко от базы. Прогулка пешком по Луне, смею вас уверить, не большое удовольствие, даже при пониженной гравитации.
Джо сказал, что парень свалял дурака. Надо было просто подождать, пока до него доберется спасательная команда. Я заметил, что тогда его оштрафовали бы на тысячу баксов за то, что он угодил в передрягу, которая требует посылки спасателей. Джо признал мою правоту, пробурчал, что за тысячу долларов можно пройти и сто сорок миль, и заверил, что погрузит заказ в трейлер Герби.
Он вытащил бутылку, и мы с ним пропустили по стаканчику, после чего я попрощался с Джо и отправился спать.
Глава 4
Я перевалил через гребень и увидел, что за те восемнадцать часов, на протяжении которых я отсутствовал, тень немного продвинулась вперед. У противоположного гребня виднелась гусеничная колея: ее оставил мой вездеход, когда я съехал вниз, к машине Амелии.
Значит, все правильно. На Луне очень трудно определить, туда ли вы попали, куда хотели. С одной стороны, тут множество запоминающихся ориентиров, а с другой — полным-полно мест, которые точь-в-точь похожи друг на друга. Местность настолько однообразна, что как бы утрачиваешь способность ориентироваться.
Однако на сей раз я ничуть не сомневался, ибо знал окрестности Тихо как свои пять пальцев. Наверно, я даже мог добраться сюда с закрытыми глазами. И потом, вот ведь они, следы от гусениц!
Я повел вездеход дальше, ожидая, что вот-вот замечу неяркий блеск металла. Машина Амелии стояла в тени, которая, вдобавок, за время моего отсутствия слегка переместилась вперед. Однако тень была не слишком густой: от залитой солнечными лучами поверхности отражалось достаточно света, чтобы тень выглядела скорее дымчато-серой, чем черной.
Однако металл так и не блеснул, сколько я ни вглядывался в призрачную дымку, которая на довольно значительном удалении от границы света и тени переходила в кромешную тьму. Над дымкой, подобно увенчанной иглами спине некоего доисторического чудовища, возвышался зазубренный скалистый гребень.
Я проехал мимо того места, где, как был уверен, стоял вездеход Амелии — и не увидел ничего хотя бы смутно похожего на машину. Тогда я включил прожектор и направил его в тень, но луч света не показал мне чего-либо примечательного: нагромождение гальки, голыши величиной с горошину, вездесущая пыль, которая кое-где, наэлектризованная солнечной радиацией, бурлила, вскидывалась и вспухала волнами, точно скопище блох на сковородке.
На Луне не было атмосферы, которая могла бы преломить или рассеять луч, поэтому не стоило обольщаться надеждой, будто он не осветил какого-то участка у подножия гребня. В столь ослепительном сиянии, которое как бы превращало ночь в день, не сумел бы остаться незамеченным даже кролик. Я повел прожектором из стороны в сторону. Ничего!
Мало-помалу мне стало ясно, что Амелии тут нет. Почему-то это не особенно меня удивило. Я сгорбился в кресле, чувствуя, как зреет внутри холодная ярость; а на лбу от страха выступил пот.
Вот и все, подумалось мне. Теперь я свободен от каких бы то ни было обязательств. Если она решила удрать, едва я повернусь к ней спиной, так тому и быть.
Что ж, пожалуй, надо вернуться туда, где я оставил трейлер с Бриллом, сказать, что нашел удобный подъезд к кратеру, и браться за работу.
Брилл оказался не очень сговорчивым. Я заявил, что должен разведать дорогу, а ему придется подождать в трейлере. Это была откровенная ложь, и он, похоже, о том догадывался, однако в конце концов согласился. Я объяснил, что трейлер пройдет далеко не везде и что мы сбережем время и избежим возможных неприятностей, если позаботимся узнать, что впереди.
В общем, он поддался на мои уговоры. Я отцепил трейлер и покатил навстречу Амелии.
А она обманула меня. Сбежала. Ладно, пускай себе едет, куда ей заблагорассудится.
Я выключил прожектор, развернул вездеход и медленно повел машину вдоль границы света и тени в направлении южного конца гребня.
Я злился на Амелию и имел на то полное право. Эта дуреха на скорую руку починила панель и рванула к Тихо, не вняв моим предупреждениям, что такой фокус может стоить ей жизни.
Достигнув конца гребня, я остановил вездеход и задумался. Она могла избрать один-единственный маршрут, поскольку других более-менее приличных дорог отсюда в Тихо не вело.
Отпускать ее одну никак нельзя. Если я сейчас уеду, то не прощу себе этого поступка до гробовой доски. И потом, на Земле, в городе Милвилл, живут банкир, парикмахер и аптекарь, которые вот-вот лишат меня средств к существованию.
Я повел машину на юго-запад, выжимая из нее все, на что она была способна, в полной уверенности, что настигну Амелию еще до того, как беглянка поднимется на гребень кратера. Девушка не могла намного опередить меня: ей нужно было отремонтировать панель и к тому же хоть чуть-чуть поспать.
Мои расчеты оказались точными. Я догнал Амелию через какой-то десяток миль, у подножия массивного утеса, что возвышается над кучкой крохотных кратеров. От утеса начинался длинный склон, выводивший к самому гребню Тихо.
Амелия вытаскивала из углубления в стене утеса какое-то снаряжение. Когда я вылетел из-за поворота, она уже вытащила кислородные баллоны и сражалась с большой канистрой воды.
По тому, как она вскинула голову — и выронила канистру, — я понял, что девушка испугалась. Она не слышала, как я подъехал, поскольку на Луне всегда тихо; а характер местности не позволил ей заметить вездеход издали.
Я остановил машину и выбрался наружу — так быстро, как только смог. Мне хватило одного взгляда, чтобы разобраться, что к чему.
— Тайник.
— Его устроил мой брат, — отозвалась Амелия тонким, испуганным голоском, — когда обшаривал окрестности Тихо.
— Полагаю, — продолжал я, — там среди всякой всячины имеется и запасная панель?
— Она мне не нужна. Я починила свою, — твердо заявила девушка.
— Леди, а вы подумали о том, что может случиться, если она сломается снова?
— Почему вы меня преследуете?! — раздраженно воскликнула Амелия. — Вас никто не принуждал ехать за мной!
— Вы уже справились со страхом?
— Не совсем, но вам-то какая разница?
Я вернулся к своему вездеходу, забрался внутрь и вытащил панель.
— Давайте займемся делом. И перестаньте вилять, у меня и без того достаточно забот, чтобы еще валандаться с вами.
Я рассказал ей о Брилле и прибавил, что нам надо каким-то образом отвязаться от него — скажем, бросить на склоне: пусть себе копается в лишайниках и таращится на «собачек», а мы двинемся в кратер.
— Прошу прощения, — сказала Амелия, — но почему бы вам не выйти из игры? Вы же можете потерять свою лицензию.
— Если нам повезет, я ничего не потеряю — наоборот, приобрету.
Мы установили панель на место. Я заметил, что отверстие в лобовом стекле надежно заделано.
— Вы уверены насчет Тихо?
— Мой брат нашел человека, который выбрался из кратера. И потом, дневник…
— О чем конкретно говорилось в дневнике?
— Радиопередатчики вышли из строя задолго до посадки. Связь стала односторонней: экспедицию никто не слышал. Прилунившись, они попытались исправить поломку, но не сумели. Что-то словно мешало им связаться с Землей. Какое-то время спустя они чего-то испугались и решили улететь, однако выяснилось, что двигатели ракет — в нерабочем состоянии. Потом произошло нечто ужасное…
— Что именно?
— Не знаю. Хозяин дневника просто написал «Нужно убираться отсюда. Я больше не в силах этого выносить». Вот и все.
— Должно быть, он взобрался по стене, понимая, что обречен, — заметил я, одновременно спрашивая себя, от чего он бежал. — Значит, в кратере остались корабли и все остальные участники экспедиции?
— Не знаю, — повторила Амелия, во взгляде которой читался страх.
Заменив панель, мы погрузили в вездеход Амелии Томпсон кислородные баллоны и воду. Часть пришлось взгромоздить на крышу, поскольку кабина оказалась забитой до предела.
— Дальше сами справитесь? — спросил я.
— Конечно. Я знаю машину как свои пять пальцев.
— Хорошо. Договоримся так. Когда все отладите, поезжайте к кратеру. Ждите меня за гребнем. Кстати, можете поспать. После будет не до сна.
Она протянула руку, и мы обменялись рукопожатием.
— Больше никаких шуточек.
— Разумеется. Я буду ждать вас сразу за гребнем.
Я выполз из вездехода Амелии и забрался в свой собственный, помахал девушке рукой — она ответила тем же — и повел машину обратно, опять-таки на максимальной скорости, спеша вернуться к трейлеру, в котором маялся Брилл. Мое отсутствие несколько затянулось, и он наверняка начал нервничать.
По-видимому, он высматривал меня, ибо когда я проник в трейлер, то увидел на столе бутылку бренди, а на плитке — готовый вот-вот закипеть кофейник.
— Где вы пропадали?… — поинтересовался Брилл.
— Пару раз угодил в тупик. Пока развернулся, пока нашел другую дорогу…
— Тем не менее все в порядке? — Я кивнул. Брилл разлил по чашкам кофе и добавил в каждую по приличной порции бренди. — Мне хотелось бы кое о чем с вами поговорить.
Вот оно, подумалось мне. Сейчас он скажет, что догадался, что я что-то затеваю. Ладно, попробуем выпутаться.
— Валяйте, — отозвался я с притворным безразличием в голосе.
— Вы показались мне человеком, который нечасто празднует труса.
— На Луне таких людей нет. Кого ни спросите, все признаются, что им страшно…
— Я разумел, что вы наделены известным мужеством.
— Мне страшно, но я не трус. Трусы тут не водятся.
— Вдобавок вы не слишком щепетильны.
— Откровенно говоря…
— Во всяком случае не прочь заработать лишний доллар.
— Естественно.
Брилл взял свою чашку и сделал большой глоток, после которого жидкости в той осталось разве что на дне.
— За какую сумму вы согласились бы доставить меня в Тихо?
Я поперхнулся кофе. Напиток выплеснулся из чашки на стол.
— Вы хотите попасть в Тихо?
— С давних пор. У меня сложилась одна теория…
— Какая же?
— Вы, наверное, и сами над этим задумывались. «Собачки» и лишайники… — неожиданно он замолчал. Я не сводил с него глаз. — Вы получите столько, сколько запросите, — прибавил Брилл после паузы. — Разумеется, синдикату незачем знать о нашей сделке. Пускай о ней будет известно только вам и мне.
Я отодвинул от себя чашку, положил руки на стол, уронил на них голову — и расхохотался. Мне казалось, я буду смеяться до конца своих дней.
Глава 5
Взобравшись на гребень, вы смотрите вниз и видите перед собой Тихо, словно огромную карту. Зрелище достаточно неприятное, даже жуткое, как будто этот лунный кратер — врата в преисподнюю. Его дно испещрено многочисленными метеоритными воронками, которые порой располагаются настолько близко друг от друга, что как бы перетекают одна в другую. Тут и там виднеются причудливой формы возвышенности, сверкает на равнине между ними пыль, а посредине возвышается зазубренный пик, который отбрасывает кривобокую, иссиня-черную тень.
Вы смотрите вниз и видите, каким образом должны спускаться в кратер, и готовы поклясться, что это невозможно, однако вас останавливает память: в Тихо уже спускались, и неоднократно. Вам бросаются в глаза колеи, оставленные вездеходами двадцать лет назад. Они будто перечеркивают склоны и ничуть не изменились за прошедшее время, если не считать крошечных отметин — следов метеоритов — и в некоторых местах наслоений пыли, что вьется над поверхностью планеты. Пылинки подпрыгивают точно горошины, их подхватывает и роняет солнечный ветер.
Раз существует колея, по которой когда-то прошли машины, значит, опасаться особенно нечего. Двадцать лет для Луны — не более чем секунда, ибо здесь нет ни обычного ветра, ни осадков, а эрозия минимальна: она происходит под воздействием метеоритов, солнечного ветра и перепадов температуры, из-за которых от какой-нибудь скалы отваливается однажды в столетие крохотный кусочек.
Нас трое, подумалось мне, и каждый хочет попасть в кратер по собственной причине; правда, меня с Амелией все же что-то объединяет.
Брилл рвется в Тихо, поскольку одержим безумной идеей, что обнаружит там ответ на загадку лишайников и «собачек» — единственных форм жизни, найденных на Луне. Возможно, его идея не слишком безумна: ведь «собачки» и лишайники почему-то встречаются исключительно в окрестностях Тихо. Вполне вероятно, что они обитают внутри кратера, а те, которые попадаются на внешних склонах, просто перебрались через гребень.
Амелия надеется отыскать в кратере сокровище. По сути, она — как бы продолжение своего брата, который не в состоянии присоединиться к ней, которому необходимы деньги, чтобы возвратиться на Землю, где его излечат от лучевой болезни.
Что касается меня… Я тоже разыскиваю сокровище — и кое-что еще, хотя что именно, мне сейчас определить затруднительно.
И все мы нарушаем закон.
Несколько минут назад я вышел на связь со службой контроля Енотовой Шкуры, и теперь в нашем распоряжении двадцать часов, по истечении которых от меня будут ожидать очередного сигнала. Интересно, что с нами за это время произойдет?
Я оглянулся на вездеход Амелии, который стоял сзади, и сказал Бриллу:
— Ну, поехали. С Богом и по-хорошему!
Вездеход медленно пополз вперед. Нос машины то задирался, то опускался — дорога как будто состояла из одних ухабов.
Мне приходилось нелегко. Повороты, крутые подъемы и не менее крутые спуски; порой машина еле вписывалась в промежуток между двумя каменными стенами. Гусеницы давили пыль, вниз по склону скользили мелкие камешки.
Я вцепился в руль. Мои ладони взмокли от пота. Шла суровая, жестокая гонка со временем. Мы проехали около тысячи футов, остается еще одиннадцать тысяч.
Так, две тысячи; значит, осталось всего десять. Глупость, конечно. Мне стало стыдно за себя, и я попытался обуздать рассудок, но у меня ничего не вышло.
Мы спускались, стараясь не смотреть вниз, стараясь не думать о том, что может случиться, если машина вдруг рыскнет в сторону. Внезапно мне в голову пришла шальная мысль. А что, если дорога впереди обрывается? Такое на Луне не то чтобы невозможно. Что мы будем делать, если обнаружим рассекающую дорогу расщелину, которую не сможем преодолеть? Какая ужасная это будет ловушка! Возвращаться задним ходом… Я невольно содрогнулся.
На полпути вниз Брилл дернул меня за руку.
— Что такое? — справился я, раздраженный его приставаниями.
— Вон там, — возбужденно проговорил он, показывая пальцем.
Я посигналил габаритными огнями Амелии, заглушил двигатель и осторожно надавил на тормоз. Вездеход остановился. Я посмотрел назад. Машина Амелии застыла в неподвижности футах в пятидесяти от нас; сквозь лобовое стекло виднелась облаченная в скафандр фигура.
— Вон там, — повторил Брилл. — Рядом с горой.
Я посмотрел в ту сторону — и увидел нечто.
— Что это такое? — требовательно спросил Брилл. — Облако? Или свет?
— Может быть и то и другое. Однако облаков на Луне нет, равно как и природных источников света.
Нечто, привлекшее наше внимание, было достаточно большим, иначе мы бы вряд ли его заметили, поскольку оно находилось в дальнем конце кратера, за возвышавшейся посредине горой. Оно клубилось и сверкало на фоне каменной стены, то превращалось в этакое кудрявое облако, то мерцало и переливалось огнями, то внезапно становилось черным, а затем вновь начинало сверкать, словно чудовищный алмаз, который оказался в лучах солнца.
— Выходит, все, что рассказывали, правда, — проговорил, с присвистом втянув в себя воздух, Брилл. — Выходит, тут и впрямь что-то есть.
— Я никогда не видел ничего подобного.
— Зато теперь увидели.
— Да уж, — подтвердил я.
Меня пронизал ледяной холод, ибо я испугался гораздо сильнее, чем когда мы перевалили через гребень. — До него далеко? — осведомился Брилл.
— Порядочно, — ответил я. — Похоже, оно держится у дальней стены. Значит, миль пятьдесят или даже больше.
Я помахал рукой Амелии и показал ей на диковинное явление. Она повернулась в том направлении и поначалу, похоже, ничего не увидела, однако затем всплеснула руками и закрыла ими лицо, как если бы пришла в ужас.
Мы сидели и наблюдали за облаком — или чем там оно было. То не двигалось, оставалось на месте и продолжало сверкать, темнеть и клубиться.
— Сигнал, — предположил Брилл.
— Кому?
— Понятия не имею.
Я убрал ногу с тормоза, выжал сцепление, и вездеход вновь пополз вперед.
У меня сложилось впечатление, что спуск затянулся на несколько часов. К тому времени, когда мы наконец достигли дна кратера, я весь извелся от нервного напряжения. Скажете, заячья душа? Естественно. Попробовали бы сами, поглядел бы я на вас.
Я развернул вездеход, обернулся и мысленно поблагодарил того человека, который проложил дорогу в Тихо.
— Облако исчезло, — сказал Брилл, — пару минут назад. Я не стал вас отвлекать.
Я встал, подошел к холодильнику, достал оттуда фляжку с водой, выпил, а затем протянул ее Бриллу. Конечно же, это было с моей стороны не слишком красиво, однако мне вода была нужнее, чем ему.
Брилл сделал пару глотков и вернул фляжку.
Мне понравилось, как он поступил. Далеко не все земляшки понимают, что на Луне, в Пустыне, воду не хлещут. Мы всегда пьем чуть меньше, нежели нам требуется.
Я надел шлем и выбрался из машины. Минуту спустя ко мне присоединилась Амелия.
— Что это было, Крис? — спросила она, махнув рукой.
— Не знаю.
Брилл вывалился из люка, точно пачка сигарет из торгового автомата. Да, тут необходима привычка — как, впрочем, почти во всем, чем занимаются люди на Луне.
Он поднялся и принялся отряхиваться. Смешно, право! Там, куда он упал, не было и крупицы пыли.
Зато справа, на громадном оползне, ее имелось в избытке: самая настоящая каменная пыль, отслоившаяся и осыпавшаяся со скал за многие миллионы лет.
Брилл подошел к нам.
— Что ж, мы добились своего, — раскатился в наушниках его зычный голос. — Что теперь?
Скалы над оползнем испещряли темные пятна — лишайники. У каменной стены резвилось несколько «собачек».
К Сьюзи, которая сидела на моем плече и весело искрилась, подлетела «собачка» Амелии, и они устроили игру в догонялки.
— Вам туда, — сообщил я Бриллу, указывая на скалы.
— Лишайников тут полным-полно, — в голосе Амелии слышалось нетерпение.
— У вас есть план действий?
— Где-то здесь должна быть площадка, на которой собирались построить обсерваторию. Если мы ее найдем…
— Верно, — я утвердительно кивнул. — Разметка наверняка сохранилась. Быть может, мы отыщем колеи…
— Прошу прощения, — перебил Брилл. — Вы говорите о пропавших геологах?
— Да.
— Однако мне казалось, что вы разыскиваете звездолеты.
— По-моему, колея приведет нас прямиком к кораблям.
— После чего мы тоже сгинем.
— Может быть.
— А по пути вы предлагаете мне изучать лишайники и «собачек».
— Вы ведь затем сюда и приехали.
— Конечно, конечно.
Мы расселись по машинам и поехали вдоль стены. Вскоре нам попалась колея, которая уводила на запад.
Если бы не пыль, в которой отпечатались следы гусениц, мы бы вряд ли ее обнаружили.
Я повел свой вездеход по колее. Амелия двинулась следом.
Наконец мы добрались до площадки. Тут и там виднелись вбитые в почву колья с безвольно обвисшими красными флажками, повсюду валялись инструменты и ящики с оборудованием и припасами. От площадки в разные стороны расходились многочисленные колеи.
Она располагалась в углублении, которое вырезали в каменной стене. Над ней вздымались громадные черные утесы. Жуткое местечко. От такого зрелища сами собой начинают стучать зубы. Вообще на Луне хватает мест, при виде которых тебя пробирает страх.
Колеи в большинстве своем вели на юг, в направлении горы, что торчала посреди кратера.
Мы развернули машины и покатили к ней. Дно кратера было ровным, поэтому мы ехали на приличной скорости. Время от времени попадались воронки, которые приходилось объезжать, потом дорогу преградила расщелина; ее мы обогнули по широкой дуге.
Я твердил себе, что совершаю непростительную ошибку. Кто же отправляется в путь на ночь глядя? Следовало подождать до утра; тогда у нас в запасе было бы четырнадцать земных дней. Времени более чем достаточно. Однако все осложнялось присутствием Амелии. Она незаконно проникла на Луну, и даже если бы мне удалось спрятать ее в Енотовой Шкуре, девушка по-прежнему находилась бы в опасности. Рано или поздно служба контроля установит, что кто-то сумел проскользнуть на планету незамеченным, и организует поиски.
Мы мчались по равнине, окруженной высокими стенами и зазубренными пиками, над которыми сверкало солнце, слепившее глаза и сквозь светофильтры лобовых стекол; предостерегающе пощелкивал счетчик радиации, Сьюзи, восседавшая на передатчике, то и дело сыпала снопиками искр. Казалось, равнине, как и времени, нет ни конца, ни края. Вокруг раскинулась вечность — ослепительный свет, густая тень, ощущение полной безжизненности и абсолютной стерильности.
Чары рассеял Брилл, который схватил меня за плечо.
— Смотрите! — воскликнул он. — Смотрите!
Увидев, на что он показывает, я резко надавил на тормоз. Амелия, которая слегка отстала, остановилась секундой позже.
В пыли распростерся человек. Он лежал, вытянув вперед руку; на шлеме играли солнечные блики.
Я заглушил двигатель, встал и направился к люку, понимая, впрочем, что торопиться некуда. Ведь с момента пропажи экспедиции минуло двадцать лет.
Глава 6
Человек лежал лицом вниз. Умирая, он нашел в себе силы вытянуть руку и нацарапать в пыли несколько фраз.
Если бы ему повезло, сообщение сохранилось бы на века, причем прочесть его не составило бы никакого труда. Однако надпись почти стерлась: ее засыпало пылью, которую нес на своих крыльях ветер далекого светила.
Почти, но не совсем.
Остались два слова:
«Не алмаз».
Ниже виднелись буквы — должно быть, остаток еще одного слова: «да». И все.
— Бедняга, — проговорил Брилл, глядя на мертвеца. Я встал на колено и хотел было прикоснуться к трупу, но Амелия сказала:
— Не трогайте его. Пускай лежит.
Она была права. Сделать мы все равно ничего не можем. Помощь ему уже не требуется.
Он мертв. Так зачем заглядывать в лицо мертвецу? Тем более что оно наверняка, как и все тело, высохло и сморщилось. Человек превратился в мумию. Луна высосала из него всю влагу, до последней капли; не помог даже скафандр.
— Должно быть, он из спасателей, — произнес я. — Из тех, кого послали на выручку геологам.
Иначе кто-нибудь нашел бы его, подобрал и перенес поближе к площадке. А так он явно лежал на том самом месте, где упал, чтобы уже никогда не подняться. Точнее, он, вероятно, окончательно отказался от борьбы, не в силах совладать с той безжалостной тварью, которая ему противостояла. Да, нацарапал свое сообщение и замер в неподвижности, окутанный безмолвием, ничуть не тронутым его отчаянными усилиями.
Я встал и спрятался от палящего зноя в тени вездеходов. Амелия и Брилл присоединились ко мне. Мы стояли и смотрели на бездыханное тело.
— Странная надпись, — заметил Брилл. — Чтобы человек перед смертью написал такое… «Не алмаз»… Когда умирают, думают обычно не об алмазах.
— А что, если это предупреждение? — предположила Амелия. — Предупреждение тем, до кого дошли слухи о здешних сокровищах? Мол, алмазов нет, и не ищите, и дальше идти незачем.
— Подобных слухов на Земле не возникало, — возразил я, недоуменно покачав головой. — Во всяком случае, я ничего такого не слышал, а мне известен, думаю, каждый слух, какой когда-либо распространялся среди старателей. Их было великое множество, но насчет алмазов, которые якобы находятся в Тихо, — ни единого.
— Допустим, что алмазы существуют, — сказал Брилл. — Разве можно быть настолько уверенным? Он вряд ли исследовал весь кратер. Ему просто не хватило бы времени.
— Откуда нам знать? — проговорил я. — Мы понятия не имеем, сколько он тут пролежал.
— А остальное? — прошептала Амелия. — Те две буквы…
— «Когда». — отозвался Брилл. — «Вода», «еда» — что угодно. На «да» оканчивается очень много слов.
— Может, это не конец, а начало, — не согласился я. — Скажем, «датировано».
— Не думаю, — ответил Брилл. — Не забывайте, он знал, что умирает, а потому старался писать как можно яснее и короче. У него не было ни времени, ни, вполне возможно, сил. К тому же он, может статься, потихоньку сходил с ума.
Я вышел из тени и вновь приблизился к облаченному в скафандр трупу. Нагнулся, чтобы повнимательнее рассмотреть сообщение, но ничего нового, ничего сколько-нибудь примечательного не обнаружил. Другие буквы и слова исчезли без следа. Лунный ластик поработал на славу.
Пожалуй, с горечью подумал я, было бы гораздо лучше, чтобы надпись не сохранилась вообще. То, что уцелело, только раздражало. В пыли было нацарапано сообщение — наверняка очень важное. По крайней мере, таким его полагал умирающий, раз потрудился написать — в надежде, что когда-нибудь эти слова прочтет кто-то другой.
Мне казалось, что в сообщении заключается некий символический смысл. То было проявление человеческой уверенности в завтрашнем дне, высокомерной убежденности в том, что жизнь продолжается; даже на пороге смерти человек пытался что-то передать своим собратьям, даже здесь, на зловещей, пустынной и враждебной планете, исполненной первобытной ненависти ко всему живому, терпеливо ожидавшей его смерти, он был уверен, что рано или поздно сюда придут другие и прочтут надпись, презирая это нечто, грозившее ему гибелью, и не сомневался, что люди в конце концов победят неведомое зло.
Я повернулся и направился к вездеходам.
Амелия и Брилл смотрели на небо.
— Они снова взялись за свое, — сказал Брилл, когда я оказался рядом.
На небосводе и впрямь появилось давешнее облако, клубившееся и сверкавшее, точно маяк, или сигнальный огонь, или лампа в окне.
Меня вновь обуял страх. Облако пугало сильнее, чем безмолвие, чем ослепительная белизна в сочетании с кромешной тьмой, чем великое и безразличное Ничто.
Интересно, почему Брилл сказал «они»? С чем или с кем связывал он это облако? Или всего лишь хотел, персонализируя ужас, сделать тот более привычным?
Я раскрыл было рот, чтобы спросить, но передумал. Задать такой вопрос означало бы залезть грязной лапой в чужую душу, чтобы извлечь на свет то, что не предназначено для всеобщего обозрения.
Постояв и посмотрев на облако, я отвернулся.
— Пора перекусить и подремать, а там снова в путь. Да, снова в путь. Впереди — решающий бросок.
Глава 7
Каменные стены, что возносились над поверхностью на добрую тысячу футов, образовывали нечто вроде ворот, в которые уводила колея. Точнее, колеи — их было много, и они четко отпечатались в пыли и там, где гусеницы вездеходов раскрошили гальку. Множество машин проехало через ворота, чтобы не вернуться назад.
Я остановил вездеход и подождал, пока к нам подъедет Амелия.
Все настойчиво твердило о ловушке. Глупости, какая может быть ловушка на Луне? Кому ее тут устраивать? Разве что она — творение самой планеты, этого наидиковиннейшего образчика сверхъестественного. Да, на Луне водятся «собачки» и растут лишайники, однако последние всего-навсего особый сорт растений, кишащих вдобавок особого рода микробами, а первые — кто они такие? Сгустки живой энергии? Разумные болотные огоньки? Наделенные сознанием римские свечи? Одному Богу известно, что они собой представляют и какую преследуют цель. А также почему и как живут и с какой стати привязываются к людям и притворяются домашними животными.
Я вновь окинул взглядом стены — черные, поскольку они находились в тени, и неизмеримо громадные, этакие резные монолиты, от вершин которых отражались лучи солнца.
Я посмотрел на Амелию. Она помахала рукой, давая знать, что у нее все в порядке и можно двигаться дальше.
Выжав сцепление, я направил вездеход к воротам. Что за странное место: совершенно стерильное, голые стены и усыпанная галькой поверхность.
Коридор вел прямо вперед. Интересно, какие геологические катаклизмы способствовали его появлению, какие силы рассекли скалы и проделали этот проход? На Земле подобные ущелья обычно пробивает вода, однако на Луне воды нет и никогда не было — во всяком случае, в таком количестве, чтобы прорубить в толще камня столь грандиозный каньон. Может, лунотрясение или некое фантастическое стечение обстоятельств — скажем, тот гигантский метеор, благодаря которому и возник Тихо?
Коридор слегка забрал вправо, затем круто свернул влево, и, когда мы обогнули скалистый выступ, мне в глаза ударило солнце. Светофильтры были опущены, однако после более-менее долгой дороги в темноте солнечный свет показался ослепительно ярким, и прошло некоторое время, прежде чем я сумел определить, где мы находимся.
Мы очутились в амфитеатре, похожем на кратер внутри кратера; правда, стена, что опоясывала амфитеатр, была слишком уж ровной. Никаких склонов, одна стена, перпендикулярная поверхности, гладкой, что пол в гостиной. Пейзаж дополняли типичные для Луны детали — причудливые, зазубренные пики, смахивавшие на огарки свечей, многочисленные крохотные воронки, жутковатого вида холмы и перекрещивающиеся трещины. Стена образовывала полукруг и смыкалась со стеной, скажем так, большого кратера, которая была уже не ровной, а покатой. Разглядывая ее, я понял, что смотрю на южный склон Тихо, что мы пересекли кратер из конца в конец.
Но это было еще не все.
Посреди малого кратера стояли два космических корабля — красные корпуса, увенчанные серыми куполами, по четыре опоры на каждый. А вокруг, сверкая на солнце, замерли вездеходы.
Повсюду валялись ящики и какие-то бесформенные тюки.
Впрочем, звездолеты, вездеходы и все остальное я воспринял поначалу как нечто, имеющее мало общего с действительностью. Первое, о чем я подумал, — что Амелия оказалась права. Откровенно говоря, до последнего момента я не очень-то верил, что мы на деле отыщем корабли Третьей лунной экспедиции. Практически даже не задумывался — не то чтобы принимал или отвергал, а именно не задумывался. Наша вылазка до сих пор напоминала поиски Эльдорадо: погоня за великолепным блуждающим огоньком по запретной территории.
Неужели, размышлял я, глядя на корабли, меня погнала в путь неудовлетворенность собственным положением, неужели мое участие в этой бредовой затее — лишь попытка освободиться от оков Луны? Человек способен ненавидеть Луну, он приходит к ненависти, не замечая, куда идет.
Только теперь я сообразил — хотя, должно быть, смутно догадывался, что к чему, с самого начала, — что бесформенные тюки не что иное, как скафандры. Передо мной лежали все те, кто бесследно исчез в Тихо.
Почти все. Двоим удалось выбраться — тому, кто нацарапал сообщение в пыли, и тому, на кого натолкнулся на внешнем склоне кратера брат Амелии.
Тут присутствовала опасность, ощущалась некая угроза, таилась смерть. Место, казалось, пропитано ощущением и запахом опасности.
С моих губ сорвался предостерегающий возглас, и я повернул руль, намереваясь развернуть вездеход, направить его в ворота и как можно скорее убраться отсюда.
В тот же миг последовала вспышка — столь мимолетная, что я ее не столько увидел, сколько почувствовал, столь яркая, что на мгновение все вокруг словно померкло, — и вездеход застыл в неподвижности.
Брилл упал на пол. Он сидел в комичной позе, заслонясь ладонью от света, который давным-давно погас. Над панелью управления вился дымок, пахло обугленной изоляцией и расплавленным металлом.
Сьюзи висела посреди кабины и возбужденно подрагивала.
— Живо наружу! — гаркнул я.
Натянув на голову Брилла шлем, я подтащил ученого к люку. Он на ощупь забрался в шлюз, я прыгнул следом.
Вездеход Амелии стоял футах в двадцати от моего. Я побежал к нему, крикнув Бриллу, чтобы он не отставал.
Наши надежды не оправдались.
Амелия выбралась из люка нам навстречу. Сквозь лобовое стекло машины можно было различить, что над панелью — совершенно новой, установленной несколько часов назад — клубится дым.
Мы молча переглянулись.
Трое людей у дальней стены кратера Тихо, из которого они вряд ли сумеют выкарабкаться. Разве что пойдут пешком.
Хотя мы видели, что сталось с человеком, который попытался совершить такой подвиг.
— Смотрите, — сказал Брилл, показывая куда-то вверх.
Мы подняли головы.
Над нами зависло облако — то самое, что сопровождало нас по пути через кратер. Это было вовсе не облако.
В небе кружились и сверкали миллионы миллионов «собачек».
Глава 8
Они прилунились, и на первых порах все было в порядке. Над горизонтом, как и сейчас, стояла Земля. Они добились громадного успеха — стали вторыми людьми на Луне. Первая лунная экспедиция провела на планете всего лишь неделю, тогда как звездолет Второй взорвался в космосе, не преодолев и половины расстояния от Земли до Луны.
Участники же Третьей экспедиции прилетели, чтобы основать колонию. Они намеревались задержаться здесь как можно дольше. Через месяц-другой должны были прибыть корабли с пополнением и припасами.
Да, Третья экспедиция прилетела, чтобы остаться. Так, к сожалению, и произошло. Они остались навсегда.
В тот момент, когда люди радовались своему успеху, случилось нечто ужасное. Электрические цепи звездолетов задымились и вышли из строя, и внутренности чудесных кораблей, которые доставили их сюда и которым было уже не взлететь без полной замены проводки, оказались заполнены расплавленными проводами протяженностью в несколько миль. Чинить звездолеты было некому; вдобавок у экспедиции не имелось ни средств, ни времени.
Итак, корабли прикованы к поверхности планеты, радиопередатчики молчат; возможно, они попытались связаться с Землей посредством переносных раций — мы нашли эти приборы, — но ничего не добились. Горстка людей очутилась словно на необитаемом космическом острове. Вскидывая головы, они видели в небе Землю — и догадывались, что никогда на нее не вернутся.
Гибель двух экспедиций при одной относительной удаче побудила землян к осторожности. Прошло почти десять лет, прежде чем снарядили Четвертую экспедицию, которую оснастили лучшей на те дни техникой и посадили на считавшиеся весьма надежными корабли. И техника не подвела: именно с Четвертой экспедиции наконец-то началась колонизация Луны.
Но что же уничтожило электрические цепи звездолетов и вездеходов тех, кто добрался до кратера по поверхности, а также наших собственных?
Происшествие представлялось совершенно бессмысленным, тогда как до сих пор все, что случалось на Луне, имело какой-никакой смысл. Луна была жестокой, бесплодной, пустынной планетой, однако в ее безразличии к человеку все же присутствовал смысл. Она не играла краплеными картами, не прятала ничего в рукаве; была суровой старой девой, но вела себя по-честному.
Я поднялся с корточек и выпрямился во весь рост в тени вездехода. День был в разгаре, солнце припекало, поэтому поневоле приходилось время от времени прятаться от его палящих лучей.
Скоро нам понадобится разработать план действий. Ждать больше нельзя. Мы испробовали почти все возможности и остались, что называется, при своих. Проводка в звездолетах и вездеходах выгорела начисто, так что заменить провода в наших машинах было нечем. Да даже если бы мы их и заменили, еще неизвестно, привело бы это к чему-нибудь или нет. Ведь невидимый противник вполне мог сжечь цепи снова.
Короче говоря, нас окружало изобилие техники, совершенно в настоящий момент бесполезной.
Мы обнаружили не только технику.
Стену малого кратера снизу доверху покрывали лишайники. О таком их количестве я в жизни не слышал. Лишайников было столько, что хватило бы на весь госпиталь дока, даже если бы он понастроил новых палат, понабрал пациентов и пичкал тех своим лекарством целую тысячу лет.
Кроме того, в кораблях нашлись документы — полная история экспедиции, — равно как и оборудование и прочие весьма ценные принадлежности.
То было настоящее сокровище, поистине царская добыча. Требовалось только вытащить ее из кратера. Однако нас заботило в первую очередь то, как выбраться самим.
Куда ни посмотри, всюду лежали мертвецы — древние мертвецы, обретшие вечный покой в гробницах своих скафандров. Впрочем, мы были избавлены от необходимости засвидетельствовать насилие или агонию. О насилии не шло и речи, а признаки агонии скрывались внутри объемистых скафандров, за опущенными светофильтрами. Казалось, люди умерли с достоинством римлян, которое замечательно подходило к суровости обстоятельств.
Пышные словеса, конечно, сущая белиберда, но, признаться, успокаивают.
Над малым кратером по-прежнему кружили «собачки», сверкающие, искрящиеся глупыши, от которых не было никакого проку.
Из-за корпуса звездолета показался Брилл. Он подошел ко мне и остановился, глядя прямо в глаза.
— Нужно что-то предпринять, — сказал он. — Сколько можно сидеть и… — Ученый махнул рукой.
Я понял, к чему он клонит. Все было ясно без слов. Брилл здорово нервничал, как и мы с Амелией, и, похоже, готов был вот-вот сорваться.
— Потерпите, — ответил я. — Мы подождем, пока солнце опустится пониже, а затем двинемся в путь. Вы же видели того человека в кратере. Он попытал счастья днем.
— Но в темноте…
— Темнота — понятие относительное. Нам будет светить Земля, а она здесь светит гораздо ярче, чем Луна на Земле. К тому же будет прохладно, может быть, даже холодно. Наши скафандры оборудованы нагревателями, так что с холодом справиться легче, нежели с жарой.
— Джексон, скажите правду, каковы наши шансы?
— Пройти предстоит семьдесят миль. Вдобавок придется подниматься по склону. Задачка не из простых. — Брилл обескураженно покачал головой. Я продолжил: — Необходимо поспать, чтобы набраться сил. Надо будет захватить с собой столько кислорода, сколько унесем. Опустевшие баллоны будем выбрасывать, чтобы избавиться от лишнего веса.
— Как насчет воды?
— Рассчитывайте только на ту, которая у вас в скафандре. Но мы пойдем по холоду, поэтому нам понадобится меньше воды, чем если бы мы шли по жаре.
— Вы не уверены, что мы дойдем, — проговорил Брилл, пристально поглядев на меня. Глаза его заблестели.
— Еще никто не проходил семьдесят миль в скафандре, — отозвался я.
— Может, нас подберут? Сейчас наверняка уже известно, что мы пропали. Служба контроля организует поиски. Им известен наш маршрут. Они засекут трейлер на гребне кратера.
— Возможно.
— Вы на это не особенно рассчитываете?
Я покачал головой.
— Сколько осталось до выхода?
— Десять или двенадцать часов. Нужно, чтобы поверхность начала остывать. Времени хватит на все: и чтобы поспать, и чтобы как следует изучить лишайники.
— Спасибо, нагляделся, — пробурчал Брилл. — На них и на «собачек» тоже. Джексон, признайтесь, вы когда-нибудь чувствовали себя окончательно сбитым с толку? У вас не возникало ощущения, что происходящее полностью лишено смысла?
— Много раз. Сейчас, например, я совершенно ничего не понимаю.
— Все началось с лишайников и «собачек», — заявил Брилл. — Я убежден, что Тихо — их дом. Но почему? Чем он отличается от других кратеров?
— Думаю, что особо ничем, но взгляните на эти стены.
— Что в них такого?
— Они очень гладкие, практически симметричные, как будто вытесанные руками. На Луне все вкривь и вкось, а тут…
— Вы хотите сказать, что их кто-то построил?
— Возможно.
Брилл отрешенно кивнул и придвинулся поближе. Он понизил голос до заговорщицкого шепота, словно боялся, что его подслушают:
— Мне кажется, лишайники — то, что осталось от чьего-то огорода. Уцелели только они.
— Похоже, мы думаем об одном и том же.
— Инопланетяне, — заявил он. — Побывали на Луне в давние времена, может статься, миллион лет назад.
— А «собачки»?
— Господи, ну откуда мне знать? Может, домашние животные, которых забыли взять с собой. Предоставленные самим себе, они начали размножаться, и…
— Или наблюдатели.
— Логично, — отозвался он. Его взгляд выражал смятение и тревогу. — Логично, но бездоказательно.
— Естественно, — согласился я.
— Меня кое-что беспокоит, — признался Брилл, — как ученого. — Чувствовалось, что он и впрямь сильно озабочен.
— Кое-что? По-моему, поводов для беспокойства гораздо больше.
— Я разумею неполадки с электричеством. Тут что-то не так.
— Да?
— Судите сами. Проводка перегорела в вездеходах, но осталась целой и невредимой в скафандрах. Электрические цепи звездолетов уничтожены, однако в некоторых переносных рациях они в полной сохранности. Недаром участники экспедиции пытались связаться с Землей именно по рации. Иными словами, удары наносились выборочно, повреждались отнюдь не все цепи.
— Это означает присутствие разума.
— Совершенно верно.
Мне почудилось, будто подул холодный ветер, однако на Луне ветра нет.
Если допустить, что в кратере присутствует разум, придется признать, что он не желает отпускать нас, хочет, чтобы мы, как и те, кто появился здесь раньше нашего, остались тут навсегда.
— Понимаете, — продолжал Брилл, — гипотеза, что те формы жизни, с какими мы имеем дело, зародились на Луне, не выдерживает критики. Жизнь если и возникает, то сразу во многих местах, а тут получается, что она появилась в одном-единственном кратере.
— Как насчет молекулярной преджизни?
— Разумеется, такие молекулы были обнаружены, но не более того. Развитие вело в тупик. Луна была стерильной уже в начале времен. Условия на ее поверхности никак не способствовали возникновению жизни. Она…
Внезапно в наушниках раздался звонкий голос Амелии:
— Крис, скорее сюда! Крис! Крис!
В ее голосе слышался не испуг, а возбуждение. Я обернулся и увидел Амелию, стоявшую у дальней стены.
Мы побежали к ней — я впереди, Брилл за мной по пятам. И вдруг я увидел то, что, должно быть, и привело девушку в такой восторг.
В углублении стены сверкал и переливался мириадами огоньков, излучая ослепительно белый свет, некий предмет величиной с весьма приличных размеров валун. Ошибиться было невозможно.
— Алмаз! — прорыдала Амелия. — Тот человек заблуждался!
Она была права. Бедняга, чей труп лежал на дне большого кратера, допустил очевидную ошибку.
Перед нами находился, судя по всему, огромнейший на свете алмаз весом не в одну тонну!
Впрочем, с алмазом что-то явно было не так.
Он казался обработанным — ограненным и отшлифованным. Свет исходил буквально от каждой его грани.
Вдобавок мы успели изучить кратер вдоль и поперек — прошлись по окружности стены, обследовали звездолеты и вездеходы в тщетной надежде отыскать хоть что-нибудь, что могло бы нам помочь.
Но никакого алмаза не видели, а ведь он просто не мог не попасться кому-либо из нас на глаза.
В кратере творилось что-то непонятное, что-то очень и очень странное. Алмаз смахивал на наживку, схватив которую мы окажемся в дьявольской мышеловке.
Брилл шагнул вперед.
— Назад, идиот! — крикнул я, хватая его за локоть.
Мне вдруг стало ясно, что написал мертвец, которого мы обнаружили недалеко от каменных ворот. «Не алмаз, а…» Все верно. Пыль засыпала окончание фразы, однако начиналась та, вне сомнения, со слов: «Не алмаз, а…»
Неожиданно алмаз как бы раскололся.
От него один за другим стали откалываться многочисленные кристаллы, каждый размерами с человеческий кулак. Они отделялись медленно и методично, едва ли не с математической упорядоченностью, и наконец громадный алмаз превратился в облако кристаллов, которые плавали перед нами, то и дело сталкиваясь между собой, испуская лучи света, что слепили глаза.
Мы попятились. Кристаллы неторопливо двинулись вдоль стены, достигли прохода, выводившего в большой кратер, и замерли, образовав нечто вроде двери или завесы, которая пульсировала будто в напряженном ожидании. Впечатление было такое, словно они смотрят на нас.
Вот почему никому из людей не удалось сбежать отсюда — никому, кроме того человека, которого нашли мы, и того, которого обнаружил брат Амелии.
— Что ж, — проговорил я, — ловушка захлопнулась.
Мне не следовало этого говорить. Не знаю, что мною руководило. Впрочем, вывод представлялся настолько логичным, что слова как бы сами собой сорвались с языка — стоило им возникнуть в сознании, как они тут же вырвались на волю.
Услышав их, Брилл вскрикнул и побежал — без оглядки, опустив голову и сгорбившись, будто изображал из себя игрока в американский футбол, который твердо вознамерился пересечь линию. Из-под его ног летела в разные стороны галька. Он бежал прямиком к воротам, стремился на свободу, вон из западни, подгоняемый безумным отчаянием.
От сверкающей завесы отделились два кристалла. Продолжая мерцать, они двинулись навстречу Бриллу. Удар, рикошет… Кристаллы взвились по спирали вверх, а Брилл споткнулся, упал, прополз чуть вперед — и замер очередной бесформенной кучей.
Завеса засияла ярче прежнего. К упавшему Бриллу, словно стервятники, слетелись «собачки». Их было так много, что скафандр Брилла мгновенно исчез из виду. На том месте, где лежал ученый, теперь поблескивали мириады искр.
Я отвернулся — и столкнулся с Амелией.
В широко раскрытых глазах девушки читался страх, лицо было мертвенно-бледным.
— Спаси нас, Господи, — пробормотала она.
Глава 9
Выходит, врагов у нас трое, кем бы они ни были: алмаз, «собачки» и лишайники.
— Во всем виновата я, — проговорила Амелия.
— Вам не пришлось меня уговаривать. Я ведь согласился чуть ли не сразу.
Так оно и было. Мне не хотелось упускать, возможно, последний шанс чего-то добиться, тем более что речь шла о настоящем сокровище. Такие шансы представляются не часто, и потому за них обычно хватаются обеими руками.
И потом, я рассчитывал кое-что доказать членам синдиката, которые посиживают в милвиллской парикмахерской и щелкают подтяжками. Не забывайте и про Брилла, спросившего, за какую сумму я доставлю его в Тихо, когда мои мысли были заняты тем, как бы отвязаться от него и рвануть в кратер. Вдобавок нужно было обезопасить себя от участи бродяги, что шатается по улицам Милвилла, готовый взяться за любую работу, какую только предложат.
Хотя, говоря откровенно, это всего лишь отговорки, наполовину выдуманные причины. Меня привело в Тихо в первую очередь желание увидеть собственными глазами легендарный кратер, о котором ходит столько слухов, передаваемых разве что шепотом. Тихо — этакий дом с привидениями, а среди людей хватает таких, кого неудержимо влекут к себе подобные дома. Очевидно, я принадлежу к их числу.
В кабине вездехода было жарко, однако скоро машина окажется в тени от стены и постепенно остынет, и тогда можно будет отдохнуть от жары и снять шлем, который мало-помалу начинал уже действовать на нервы. Человек не в состоянии слишком долго находиться, скажем так, взаперти.
— Нам отсюда не выбраться, — произнесла Амелия. — Вы ведь не думаете, что у нас получится?
— Я еще не сдался. Тот, кто сдается, все равно что умирает. Возможно, выход есть, просто мы его не видим.
— Я выкинула старую панель, — сказала Амелия. — Наверно, следовало ее сохранить. Но в кабине так мало места…
— Ничего страшного, — отозвался я. — Дело не в панели, а в проводке. Панели можно менять сколько угодно, замена ни к чему хорошему не приведет. К тому же даже будь у нас старая панель и сумей мы починить проводку, ничто не помешало бы им пережечь цепи по новой.
Им? Кому? Или чему?
Должно быть, проблема в алмазе. А он по-прежнему здесь. Я видел его сквозь лобовое стекло. Он вновь собрался воедино и горделиво возлежал в своем углублении, прекрасный и несколько вульгарный: красота плохо сочетается с громадными размерами. Лежал и наблюдал. Гарнизон, оставленный охранять заброшенный форпост некой империи, о существовании которой человек в своей провинциальности и не догадывался. Древний легион, оборонявший крепость и забытый в круговороте космических событий, забытый, но верный присяге.
Хотя, может, и не забытый; как знать — возможно, что в других местах, не более привлекательных, чем это, стоит множество подобных гарнизонов.
Продолжая размышлять, я вдруг поймал себя на том, что мыслю слишком уж по-человечески. Луна, безусловно, негостеприимна по отношению к людям, однако иным существам может казаться едва ли не родным домом. К примеру, кристаллам вроде тех, какие образуют алмаз. Или сгусткам энергии вроде «собачек». Или диковинному симбиозу растения и бактерий вроде лишайников.
Для них негостеприимной будет уже Земля. Вода и воздух наверняка воспримутся ими как настоящая отрава.
— Мне очень жаль, Крис, — сказала Амелия.
— Чего?
— Что мы не можем вернуться. А ведь мы могли бы выпить и пообедать вместе, могли бы даже…
— Да, пожалуй, могли бы.
Мы глубокомысленно уставились друг на друга.
— Поцелуй меня, Крис.
Я охотно исполнил ее просьбу. Правда, целоваться в скафандре не то чтобы удобно; тем не менее мне понравилось.
— Ты замечательный парень, Крис.
— Спасибо на добром слове.
Брилл по-прежнему лежал у каменных ворот. Мы вовсе не собирались убирать его оттуда. В конце концов, он попал в неплохую компанию. Когда «собачки» улетели, я вылез из вездехода и прогулялся к воротам. Кристаллы угодили ученому точно в шлем, в стекле которого зияли две аккуратные дырочки. От них расходились крохотные трещины. Этих дырочек оказалось вполне достаточно, чтобы кислород вырвался наружу. Брилл умер быстро. Выглядел он весьма непривлекательно.
Интересно, почему Брилл побежал? Что повергло его в панику? Он не походил на человека, который способен запаниковать, и все же… Скорее всего, исполненные академического достоинства манеры были лишь маской, за которой постепенно нарастал страх. Когда он увидел, что перекрыт последний путь на волю, то, должно быть, решил прорваться силой. Глупо, конечно. Так не поступил бы никто из старателей. Однако Брилл не был старателем, он совсем недавно прилетел с Земли. А Луне ничего не стоит изрядно напугать того, кто еще не успел привыкнуть к ее выкрутасам.
Минуточку… О чем я думал мгновение назад? Какая у меня мелькнула мысль, за которую следовало бы ухватиться? Что-то насчет того, что Луна — родной дом для одних существ, а Земля — для других…
Я напряг память. Наверно, мне надо было запрыгать от восторга, но я просто сидел и думал. Рискованно? Разумеется, риск чрезвычайно велик. Если ничего не выйдет, мы лишь приблизим свой конец. Но смерти все равно не миновать, пока алмаз сторожит ворота, так что какая разница? Вдобавок времени в обрез. Если мы хотим спастись, нужно поторопиться.
Я встал, подошел к шкафчику, порылся в ящиках, нашел старый консервный нож и сунул его в карман.
— Пошли, Амелия. Пора двигаться домой.
Она удивленно посмотрела на меня, но спорить не стала. Судя по всему, ей уже не хотелось знать, каким образом мы спасем свои шкуры.
Следом за Амелией я выбрался наружу.
На крыше ее вездехода лежали кислородные баллоны и канистры с водой. Мы спустили четыре баллона и связали их веревками, а потом закинули на плечи и подтащили настолько близко к воротам, насколько осмелились, стараясь не возбудить любопытство наблюдавшего за нами алмаза. Все прошло гладко. Алмаз не пошевелился — только продолжал наблюдать за нашими действиями тысячью сверкающих глаз.
Мы вернулись и заменили баллоны в скафандрах, чтобы иметь на дорогу, которая нам, возможно, предстояла, полный запас кислорода.
После чего сняли с крыши канистры. Я достал консервный нож и взялся за дело. До чего же все-таки неуклюжая штука скафандр! Он явно не предназначен для того, чтобы в нем можно было работать консервным ножом.
Наконец мне удалось открыть две канистры. На поверхность Луны пролилось некоторое количество воды, которая мгновенно впиталась в почву. От нее осталось лишь темное пятно. Признаться, у меня чуть не случился разрыв сердца. Так бессовестно разбазаривать драгоценную жидкость!
Я выпрямился и сунул нож обратно в карман скафандра.
— Крис, что ты задумал?
— Есть такая винтовка, называется двустволка. Можно сказать, у нас два патрона.
— Кислород и вода.
— Верно. Не одно, так другое может напугать алмаз, он отвлечется, и мы попытаемся прорваться.
Мы взяли по канистре и подняли вдвоем баллон. На сей раз мы подошли к алмазу чуть ли не вплотную. Он глядел на нас, гадая, быть может, что все это значит, но, по-видимому, ни капельки не беспокоился. С какой стати ему было волноваться? Он не впервые сталкивался с людьми и усвоил, что тех опасаться нечего. Они — слабые и очень, очень глупые существа, которые не в силах причинить твердому алмазу какой-либо вред.
Я поставил канистру, развернул баллон вентилем к сверкающему камню, широко расставил ноги, положил руку на кран, стиснул тот пальцами — и резко повернул. Баллон затрясся, ударил меня в плечо. Кислород вырвался наружу.
Некоторое время ничего не происходило, разве что струя газа подняла облачко пыли. Алмаз не шевелился. Внезапно он начал распадаться на кристаллы — судя по всему, решил, что с него достаточно. Сейчас он покажет этим вздорным людишкам, которые посмели потревожить его покой!
— Амелия! — крикнул я.
Девушка выплеснула на алмаз целых пять галлонов отличной питьевой воды.
Секунда как будто растянулась на вечность. Неожиданно изнутри алмаза повалил пар. Очертания камня сделались размытыми. Он таял на глазах! Весь покрылся белыми полосками соли и постепенно утратил свою совершенную форму!
Я уронил баллон. В том еще оставался газ, поэтому он принялся елозить по поверхности, выписывая затейливые кренделя. Я схватил вторую канистру, но воду выливать не стал — не успел. Необходимость в добавке отпала сама собой.
Алмаз превратился в кучу серого порошка, над которой вился пар.
Первая пуля угодила в «молоко», зато вторая попала точно в цель. Кислород оказался бесполезен, а вот вода пришлась как нельзя кстати.
— Мы изгнали беса, — сообщил я сам себе.
Да, изгнали, пусть даже не святой, а обыкновенной водой.
Отправили в ничто посредством чужеродной, враждебной, смертоносной субстанции, без которой не можем жить.
Между нами и этими чужеродными существами лежит непреодолимая пропасть: ни одна раса не знает, что жизненно необходимо другой.
Я оглянулся. Лучи солнца тронули зазубренные пики, что венчали стену кратера.
— Амелия, пора идти.
Мы подобрали кислородные баллоны, взвалили их на плечи и зашагали по проходу, выводившему в большой кратер.
Впереди, далеко-далеко, белел гребень Тихо.
Вокруг сгущались сумерки. Скоро станет прохладно, а затем и холодно, однако дорогу нам будет освещать старушка Земля.
Мы нашли свое сокровище. Если мы доберемся до Енотовой Шкуры, то сразу сделаемся богачами.
Шли мы довольно быстро. Скафандр — не слишком подходящий наряд для прогулки пешком, но стоит только приноровиться и поймать шаг, как ты словно воспаряешь над поверхностью. Особенно на Луне, где сила тяжести меньше земной.
— Крис, я догадалась, что там было за слово.
— Какое слово?
— В пыли. Помнишь, оно оканчивалось на «да».
— Помню.
— Тот человек написал «вода».
— Может быть.
Я был уверен, что Амелия ошибается. Слово могло быть каким угодно. Почему обязательно «вода»?
Зря она заговорила об этом. Воспоминания наводили на нехорошие мысли. Положение ведь у нас еще то…
Я остановился и обернулся, чтобы бросить последний взгляд на заросшие лишайником стены, что ревностно оберегали тайну Тихо.
И тут я увидел, что следом за нами по проходу этаким переливчатым вымпелом движется стая «собачек».
Лишь теперь я заметил, что куда-то подевалась и Сьюзи, и «собачка» Амелии. Они бросили нас и присоединились к своим товаркам, которые, похоже, устремились в погоню.
Глава 10
Я выкопал углубление в невысоком склоне, уложил в него Амелию и засыпал девушку пылью, оставив торчать наружу только шлем. Поверхность, которую целый день напролет жарили лучи солнца, была еще более-менее теплой; пыль же с успехом послужит изоляцией.
Луна остывала. Солнце скрылось несколько часов назад, тепло улетучилось в космос; сохранилась лишь малая толика, накопившаяся в залежах пыли у подножий крутых склонов. Термоэлементы скафандров не справлялись с холодом. Пока человек двигался, все было в порядке — скафандр удерживал тепло, которое исходило от тела. Однако остановиться отдохнуть без дополнительной изоляции, без того, чтобы зарыться в нагретую за день лунную пыль, означало записаться в самоубийцы.
Я разгладил слой пыли поверх скафандра Амелии и кое-как выпрямился. Мышцы настойчиво требовали отдыха. Так продолжалось не один час, однако мы не осмеливались останавливаться до тех пор, пока не достигли этого места, где громоздились кучи пыли.
Медленно расправив плечи, я обернулся и посмотрел на равнину, по которой мы прошли пятьдесят миль, причем как бы на едином дыхании, позволив себе лишь две короткие передышки. О сне не могло быть и речи. Сейчас подобное казалось невозможным; я знал, что нам удалось преодолеть это расстояние до того, как похолодало и наступила ночь, только потому, что идти было сравнительно легко. Дно кратера было ровным; попадались, конечно, воронки, которые приходилось обходить, встречались холмы и фантастические каменные шпили, которые следовало огибать, но в общем и целом равнина резко отличалась от того нагромождения камней, какое представляет собой по большей части Пустыня.
«Собачки» по-прежнему висели над нами огромным искрящимся облаком. Они сопровождали нас всю дорогу. Мы шли словно под конвоем.
Я наклонился к Амелии и увидел сквозь стекло шлема, что она спит. Хорошо, сон ей необходим. Последние миль пять она преодолела исключительно благодаря остаткам своего мужества — и моим окрикам. По тому, как я с ней разговаривал, не будет ничего удивительного, если она, когда проснется, не пожелает иметь со мной дела.
Я встал на колени и принялся выкапывать нору, в которую намеревался забраться сам. Так я смогу отдохнуть, не боясь, что замерзну, но вот засыпать мне никак нельзя. Я должен бодрствовать, ибо задержись мы хотя бы чуточку дольше чем следует, вполне вероятно, останемся тут навсегда. Пыль мало-помалу остынет, станет холодной, как поверхность планеты, и тогда мы превратимся в сосульки.
Я лег, набросал на себя пыли и уставился на утесы над головой.
Двенадцать тысяч футов. Когда они останутся позади, все наши неприятности кончатся. На гребне стоит трейлер, укрывшись в котором мы окажемся в безопасности.
Быть может, там нас поджидают спасатели. Если и нет, ничего страшного. Главное — добраться до трейлера.
Я мельком подивился тому, что спасатели — они наверняка разыскивают нас — не сообразили спуститься в кратер. Впрочем, все понятно. Тому две весьма убедительные причины.
Они должны были заметить колею, которая вела вниз, однако вряд ли сумели определить, старая она или новая. На Луне не существует способа установить, давно ли проложена колея: и старая, и новая выглядят одинаково свежими. Вдобавок к тому времени, когда спасатели поднялись на гребень кратера, в колею скорее всего угодило несколько понаделавших воронок метеоритов; к тому же в некоторых местах ее, возможно, присыпало пылью. А потому отличить, где наша колея, а где та, какую проложили двадцать лет назад, попросту немыслимо.
Кроме того, кто-то из спасателей должен был сказать: «Крису Джексону опыта не занимать. Он не настолько глуп, чтобы сунуться в Тихо».
Так что они, очевидно, будут искать нас на внешних склонах кратера.
Я лежал, чувствуя, как слипаются глаза, и добрый десяток раз спохватывался в самый последний момент, когда уже был готов погрузиться в сон.
«Собачки» кружили надо мной, образовав нечто вроде светящегося колеса. Ни дать ни взять стая стервятников. Мне показалось, что они опустились ниже. Походило на то, что им хочется удовлетворить свое любопытство.
Мерцание мириадов искр буквально зачаровывало, поэтому я отвел взгляд, а когда снова посмотрел на них, обнаружил, что они находятся чуть ли не над моей головой.
Одна «собачка» села мне на шлем, расположилась прямо перед глазами, и я догадался, что вижу Сьюзи. Не спрашивайте как — догадался, и все. Она слегка подрагивала, словно от радости, что вновь нашла меня. Затем к ней присоединились другие, я потерял Сьюзи из виду; куда ни посмотри, всюду сверкали огоньки. Они как будто проникали в мой мозг.
Обретя на миг способность рассуждать здраво, я вдруг вспомнил, что точно так же они облепили умирающего Брилла.
Но я-то жив!
Я даже не думаю умирать!
Скоро надо будет подниматься. Растолкаю Амелию, и мы с ней двинемся к трейлеру, от которого нас отделяет склон протяженностью двенадцать тысяч футов. После пятидесяти миль эта цифра представлялась не слишком внушительной, но я не обманывал себя. Двенадцать тысяч футов почти наверняка окажутся столь же трудными, как и те пятьдесят миль.
По всей вероятности, у нас ничего не получится. Лучше закрыть глаза и заснуть, потому что мы в жизни не одолеем такой подъем.
Правда, где-то в стае «собачек» находится Сьюзи. Она стучит в стекло шлема — или мне чудится? Она пытается заговорить со мной, как пыталась уже не один раз.
Кто-то на самом деле говорил со мной — может статься, не Сьюзи, но факт оставался фактом. Кто-то говорил на тысяче языков, на миллионе диалектов. Казалось, ко мне обращается толпа, в которой все говорят одновременно и каждый о своем.
Я знал, что не сплю, не брежу и не схожу с ума. Бывалый старатель вроде меня не ведает, что такое безумие. Иначе все мы, обитатели Луны, давным-давно бы спятили.
— Привет, дружок, — сказал тот, кто говорил со мной.
Тут появился некто другой, взял меня за руку и повел по берегу диковинной реки, по руслу которой текла не вода, а ярко-голубой жидкий кислород. Под ногами что-то непрерывно хрустело; посмотрев вниз, я увидел, что мы шагаем по своего рода ковру из шаров, похожих на те, какими украшают рождественские елки.
Третье существо увлекло меня в место, которое выглядело более, что ли, домашним, нежели окрестности ярко-голубой реки, однако дома и деревья производили весьма странное впечатление; к тому же между ними сновали жуки размерами с лошадей.
Кто-то объяснялся со мной математическими терминами, и, как ни удивительно, я все понимал. Кто-то говорил на звонком языке кристаллов; я опять же вполне сносно улавливал смысл сказанного и слышал множество других голосов. Это было не то чтобы сборище приятелей или шумное застолье, однако где-то близко. Невидимые существа рассказывали друг другу свои истории; я разбирал отдельные слова и фразы, но услышанного оказалось достаточно, чтобы сообразить, что все истории повествуют о давно — неизмеримо давно — минувших днях.
Внезапно послышался еще один голос:
— Крис, очнись! Тебе нужно вернуться в Енотову Шкуру. Ты должен предупредить товарищей.
Очнуться меня заставили не слова, а именно голос. Я узнал его! Со мной говорил Брилл, мертвец, которого мы оставили лежать в малом кратере!
Не знаю, как я сумел так быстро разгрести пыль и в мгновение ока вскочить на ноги. Поднявшись, я замахал руками, словно человек, который отбивается от пчел. «Собачки», похоже, не сразу поверили в то, что их прогоняют, однако в конце концов все же разлетелись в разные стороны, после чего взмыли в небо и зависли там сверкающим облаком. Все возвратилось на круги своя.
Я вытащил Амелию из пыли, поставил прямо и принялся трясти:
— Проснись, Амелия. Выпей воды. Надо убираться отсюда.
— Подожди, — пробормотала она. — Подожди.
— Да просыпайся ты, кукла!
Я развернул девушку лицом к склону, подтолкнул и двинулся следом. Последние двенадцать тысяч футов.
Мне было страшно, невыразимо страшно. Кому охота общаться с призраками? «Собачки» же, как выяснилось, были не чем иным, как шайкой призраков.
Я как будто лишился тела, превратился в пару с трудом переставляемых ног, каждая из которых при очередном шаге едва отрывала от поверхности башмак, весивший теперь словно добрую тысячу фунтов. Впрочем, ноги принадлежали не мне, а кому-то еще. Мое собственное «я» как бы стояло в сторонке и плевать хотело на ноги, что, кстати, и побуждало те двигаться.
Подъем продолжался. Где было можно, мы шли, а где нельзя, карабкались на четвереньках.
Но не останавливались. Порой мы съезжали вниз, но поднимались и шагали — или ползли — дальше.
Мне в голову пришла безумная мысль: если мы доберемся до гребня, «собачки» оставят нас в покое.
Амелия время от времени ударялась в слезы, однако я упорно гнал ее вперед. Она умоляла остановиться, но я не желал ничего слушать. Когда она упала, я рывком поставил девушку на ноги и пихнул в спину.
Я догадывался, что она возненавидела меня. Немного спустя Амелия сказала об этом вслух.
Мне было начхать. Лишь бы шла, а говорить может все что угодно.
Я потерял счет времени, утратил всякую ориентировку. Казалось, склон никогда не кончится.
Поэтому я несказанно изумился — испытал не радость, не облегчение, не восторг, а изумление, — когда колея вдруг оборвалась и склон, вместо того чтобы идти вверх, пошел вниз.
Мне смутно подумалось, что мы достигли цели, добрались туда, куда так стремились попасть, и очутились в безопасности.
Амелия рухнула наземь, а я стоял, покачиваясь из стороны в сторону, и, глядя на девушку, которая скорчилась у моих ног, размышлял, хватит ли у меня сил, чтобы дотащить ее до трейлера.
Что-то было не так, чудовищно не так. Мысли путались, потому я не сразу сообразил, в чем, собственно, дело. Наконец до меня дошло.
На гребне не было никакого трейлера.
Мы оставили его вон там. Ошибки быть не может. Значит, кто-то наткнулся на трейлер и отбуксировал нашу надежду в Енотову Шкуру.
Вот и все, подумал я. Сколько сил потрачено впустую! С тем же успехом можно было не выбираться из пыли. Спали бы себе и спали. Какая разница, где умирать?
Быть может, мы и пройдем те мили, которые отделяют нас от города, но кислорода точно не хватит.
Мы обречены, сомневаться не приходится.
Я тяжело сел рядом с Амелией, протянул руку и похлопал ее по плечу:
— Извини, подружка. Ничего не вышло. Трейлера нигде нет.
Она привстала. Я привлек ее к себе. Она обняла меня. Звучит романтично, а в действительности… Попробуйте-ка пообниматься в скафандре.
— Мне все равно, — проговорила она.
Я понимал Амелию. Сейчас жизнь представлялась чем-то таким, ради чего не стоит и стараться. Зачем куда-то шагать, зачем лишать себя сна, зачем тратить последние силы?
Я поднял голову. «Собачки» висели в небе, дожидаясь, когда можно будет спуститься.
— Ладно, вы, сволочи. Мы готовы. Давайте спускайтесь.
Быть может, все не так плохо. Будет с кем потолковать и кого послушать; среди «собачек» наверняка немало любопытных личностей. Возможно, в конце концов нам понравится. Вернее, не нам, а нашим «я» — естеству, душе, называйте, как хотите. Возможно, души, оказавшись заключенными — вероятно навсегда — в оболочку чистой энергии, останутся в итоге довольны.
Разумеется, это не по-христиански и даже не по-язычески, словом не по-земному. Но разве те существа, что кружат в небе, имеют какое-нибудь отношение к Земле?
Вдобавок мы очутимся в компании землян — того же Брилла, участников Третьей лунной экспедиции, геологов и тех спасателей, которых послали на выручку геологам.
А остальные? С каких они планет? И как попали сюда?
Славные ребята Вселенной? Орды из дальнего космоса? Галактические джентльмены удачи?
Как бы то ни было, они не брезгуют вербовкой, не прочь, когда представляется возможность, пополнить свои ряды. Ясно, что именно они захватили Третью экспедицию, заманили к себе геологов и поймали в западню спасателей. До сих пор им без труда удавалось скрывать свое логово от пролетавших мимо Луны кораблей: они просто собирались в облако, которое зависало над кратером и служило чем-то вроде экрана.
Все дело в них, подумал я. Они — тот самый разум, который стоит за всем, что случилось. Алмаз — не более чем полезное приспособление, прихваченное, может статься, с какой-либо неведомой планеты в системе некой недостижимой звезды. Что касается лишайников, неужели эти растения — ловушка, расставленная на людей, которые охотились за ними; ловушка, подстроенная теми, кто догадывался, что люди рано или поздно доберутся до места, где полным-полно лишайников, чтобы стать очередными жертвами?
— Тоже мне Робины Гуды, — пробормотал я.
— Что ты сказал, Крис?
— Так, ничего особенного. Вспомнил книжку, которую читал в детстве.
Облако опускалось. Я сказал себе, что пора кончать с размышлениями. Через некоторое время мы сможем задавать какие угодно вопросы и получим все требуемые ответы.
Я покрепче обнял Амелию. Она что-то пробормотала, что именно — я не разобрал. «Собачки», похожие на золотистый дождь, продолжали снижаться.
Облако почти коснулось нас, когда ночной сумрак прорезал ослепительный луч света, вынырнувший откуда-то снизу.
Я медленно поднялся и различил очертания ползущего по склону вездехода.
— За нами кто-то едет! — воскликнул я, ставя Амелию на ноги. Впрочем, мой возглас был не громче хриплого, еле слышного шепота.
Вездеход взобрался на гребень и повернулся к нам бортом. Мы подковыляли к люку. Я затолкнул Амелию внутрь и, давая ей время проползти в кабину, поглядел на «собачек». Те вновь кружили над склоном.
— До следующего раза, — я помахал призракам рукой и втиснулся в люк.
Очутившись в кабине, я упал на колени, сорвал с себя шлем и жадно вдохнул свежий воздух. Тот был настолько хорош, что у меня перехватило дыхание.
— Вы! — только и выдавил я, увидев глупо ухмылявшегося дока Уизерса, который опирался на панель управления.
— Ты нашел их? — требовательно спросил он, одарив меня усмешкой подвыпившего эльфа. — Нашел лишайники?
— Спрашиваете, — отозвался я. — Их там столько, что хоть завались.
— Народ утверждал, что в Тихо тебе делать нечего, что ты слишком умен, чтобы соваться туда. Но я знал! После нашего с тобой разговора я понял, куда ты поедешь за лишайниками!
— Послушайте, док, — ухитрился произнести я, — мы не…
— Я ждал тебя на гребне, — продолжал Уизерс, — а все остальные обшаривали склоны. Ждал, пока не стало поздно, а потом поехал домой. Но по дороге меня замучила совесть. Что, если я укатил чересчур рано? Что, если Крис появился через десять минут после моего отъезда? Такие вот мне приходили в голову мысли. В общем, я развернулся и рванул обратно, проверить, не свалял ли дурака.
— Спасибо вам, док, — поблагодарил я.
— А кто эта дама? — справился док с игривым лукавством, которое ему совершенно не шло.
Я посмотрел на Амелию. Она тоже сняла шлем, и лишь теперь мне бросилось в глаза, как она красива.
— Быть может, самый богатый человек на Луне. Самый смелый и самый очаровательный.
Амелия улыбнулась.
Рассказы
Мираж
Они вынырнули из марсианской ночи — шестеро жалких крошечных существ, истомленных поисками седьмого.
Они возникли на краю круга света, отбрасываемого костром, и замерли, поглядывая на троих землян своими совиными глазами.
И земляне застыли, захваченные врасплох.
— Спокойно, — выдохнул Уомпус Смит уголком бородатого рта. — Если мы не шелохнемся, они подойдут поближе.
Издалека донесся чей-то слабый, тягучий стон — он проплыл над песчаной пустыней, над остроконечными гребнями скал, над исполинским каменным стрельбищем.
Шестеро стояли на самой границе света. Пламя расцвечивало их мех красными и синими бликами, и они будто переливались на фоне ночной пустыни.
— «Древние», — бросил Ларс Нелсон Ричарду Уэббу, сидящему по другую сторону костра.
Уэбб поперхнулся, у него перехватило дыхание. Перед ним были существа, которых не надеялся увидеть не только он сам, но и никто из людей, — шестеро марсианских «древних», вынырнувшие вдруг из пустыни, из глубин тьмы, и замершие в свете костра. Многие — это он знал наверняка — провозглашали расу «древних» вымершей, затравленной, погибшей в ловушках, истребленной алчными охотниками-песковиками.
Сначала все шестеро казались одинаковыми, неотличимыми друг от друга. Потом, когда Уэбб присмотрелся, он заметил мелкие различия в строении тел, выдающие своеобразие каждого. «Шестеро, — подумал он, — а ведь должно быть семь…»
«Древние» медленно двинулись вперед, все глубже вступая в освещенный круг у костра. И один за другим опустились на песок, лицом к лицу с людьми. Никто не проронил ни слова, и молчание в круге огня становилось все напряженнее, лишь откуда-то с севера по-прежнему доносились стенания, словно острый тонкий нож взрезал безмолвную ночь.
— Люди рады, — произнес наконец Уомпус Смит, переходя на жаргон пустыни. — Люди долго вас ждали.
Одно из существ заговорило в ответ. Слова у него получались полуанглийскими, полумарсианскими — чистая тарабарщина для непривычного слуха.
— Мы умираем, — сказало оно. — Люди долго вредили. Люди могут немного помочь. Теперь, когда мы умираем, люди помогут?
— Люди огорчены, — ответил Уомпус, но даже в тот миг, когда он старался напустить на себя печаль, в голосе у него проскользнула радостная дрожь, какое-то неудержимое рвение, как у собаки, взявшей горячий след.
— Нас тут шесть, — сказало существо. — Шесть — мало. Нужен еще один. Не найдем Седьмого — умрем. Все «древние» умрут без возврата.
— Ну не все, — откликнулся Уомпус.
— Все, — настойчиво повторил «древний». — Есть другие шестерки. Седьмого нет нигде.
— Чем же мы можем вам помочь?
— Люди знают, где Седьмой. Люди прячут Седьмого.
Уомпус затряс головой:
— Где же мы его прячем?
— В клетке. На Земле. Чтобы другие люди смотрели.
Уомпус снова качнул головой:
— На Земле нет Седьмого.
— Был один, — тихо вставил Уэбб. — В зоопарке.
— В зоопарке, — повторило существо, будто пробуя незнакомое слово на вкус. — Так мы и думали. В клетке.
— Он умер, — сказал Уэбб. — Много лет назад.
— Люди прячут Седьмого, — настаивало существо. — Здесь, на этой планете. Сильно прячут. Хотят продать.
— Не понимаю, — выговорил Уомпус, но по тому, как он это произнес, Уэбб догадался, что тот прекрасно все понял.
— Найдите Седьмого. Не убивайте его. Спрячьте. Запомните — мы придем за ним. Запомните — мы заплатим.
— Заплатите? Чем?
— Мы покажем вам город, — ответило существо. — Древний город.
— Это он про ваш город, — пояснил Уэббу Нелсон. — Про руины, которые вы ищете.
— Как жаль, что у нас в самом деле нет Седьмого, — произнес Уомпус. — Мы бы отдали его им, а они отвели бы нас к руинам.
— Люди долго вредили, — сказало существо. — Люди убили всех Седьмых. У Седьмых хороший мех. Женщины носят этот мех. Дорого платят за мех Седьмых.
— Что верно, то верно, — откликнулся Нелсон. — Пятьдесят тысяч за шкурку на любой фактории. А в Нью-Йорке за пелеринку из четырех шкурок — полмиллиона чистоганом…
Уэббу стало дурно от самой мысли о такой торговле, а еще более от небрежности, с какой Нелсон помянул о ней. Теперь она, разумеется, была объявлена вне закона, но закон пришел на выручку слишком поздно — «древних» уже нельзя было спасти. Хотя, если разобраться, зачем вообще понадобился этот закон? Разве может человек, разумное существо, охотиться на другое разумное существо и убивать его ради шкурки, ради того, чтобы получить пятьдесят тысяч долларов?
— Мы не прячем Седьмого, — уверял Уомпус. — Закон говорит, что мы вам друзья. Никто не смеет вредить Седьмому. Никто не смеет его прятать.
— Закон далеко, — возразило существо. — Здесь люди сами себе закон.
— Кроме нас, — ответил Уомпус. — Мы с законом не шутим.
«И не смеется», — подумал Уэбб.
— Вы поможете? — спросило существо.
— Попробовать можно, — уклончиво сказал Уомпус. — Хотя что толку. Вы не можете найти. Люди тоже не найдут.
— Найдите. Покажем город.
— Мы поищем, — пообещал Уомпус. — Хорошо поищем. Найдем Седьмого — приведем. Где вы будете ждать?
— В ущелье.
— Ладно, — произнес Уомпус. — Значит, уговор?
— Уговор.
Шестеро не спеша поднялись на ноги и вновь повернулись лицом к ночи. На краю освещенного круга они приостановились. Тот, что говорил, обернулся к людям.
— До свидания, — сказал он.
— Всего, — ответил Уомпус.
И они ушли обратно к себе, в пустыню.
А трое людей еще долго сидели, прислушиваясь непонятно к чему, выцеживая из тишины мельчайший шорох, пытаясь уловить в нем отголоски жизни, кишащей вокруг костра.
«На Марсе, — подумал Уэбб, — мы все время прислушиваемся. Такова плата за право выжить. Надо прислушиваться, надо всматриваться, замирать и не шевелиться. И быть безжалостным. Надо наносить удар, не дожидаясь, пока его нанесет другой. Успеть увидеть опасность, услышать опасность, быть постоянно в готовности встретить ее и опередить хотя бы на полсекунды. А главное — надо распознать опасность, едва завидев, едва заслышав ее…»
В конце концов Нелсон вернулся к занятию, которое прервал при появлении шестерых, — править нож на карманном оселке, доводя его до остроты бритвы. Тихое, равномерное дзиньканье стали по камню звучало как сердцебиение, как пульс, рожденный далеко за костром, пришедший из тьмы, как мелодия самой пустыни.
Молчание нарушил Уомпус:
— Чертовски жаль, Ларс, что мы не знаем, где найти Седьмого.
— Угу, — ответил тот.
— Могло бы получиться неплохое дельце, — продолжал Уомпус. — В этом древнем городе — клад на кладе. Так все говорят.
— Просто врут, — проворчал Нелсон.
— Камушки, — продолжал Уомпус. — Такие крупные и блестящие, что глаза лопаются. Целые мешки камушков. С ног свалишься, пока перетаскаешь.
— Да больше одного мешка и не понадобилось бы, — поддержал Нелсон. — Один мешок — и на всю жизнь хватит.
Тут Уэбб заметил, что оба они пристально смотрят на него, щурясь при свете костра. Он произнес почти сердито:
— Я про клады ровно ничего не знаю.
— Но вы же слышали, что говорят, — бросил Уомпус.
Уэбб ответил кивком:
— Можно сказать и по-другому — клады меня не интересуют. Я не рассчитываю ни на какой клад.
— Но и не откажетесь, если подвернется, — вставил Ларс.
— Это не играет роли, — отрезал Уэбб. — Что так, что иначе — мне все равно.
— Что вам известно про древний город? — требовательно спросил Уомпус, и даже младенцу стало бы ясно, что вопрос задан неспроста, вернее, не без тайных надежд. — Ходите кругом да около, роняете разные намеки, нет чтоб открыться и выложить все начистоту…
Секунду-другую Уэбб молча глядел на Уомпуса, потом проговорил с расстановкой:
— Известно одно. Я прикинул, где мог стоять этот город — исходя из географических и геологических данных и из определенных представлений об истоках культур. Я прикинул, где могла течь вода, где могли расти леса и травы, когда Марс был цветущим и юным. Я попробовал установить теоретически самое вероятное место зарождения цивилизации. Только и всего.
— И вы никогда не задумывались ни о каких кладах?
— Я думал о том, чтобы разгадать загадку марсианской культуры, — ответил Уэбб. — Как она развивалась, почему погибла и на что была похожа?
Уомпус сплюнул.
— Вы даже не уверены, что город вообще существует, — буркнул он возмущенно.
— До недавних пор действительно не был, — отозвался Уэбб. — Теперь уверен.
— Потому что о нем заговорили эти зверушки?
— Именно поэтому. Вы угадали.
Уомпус хмыкнул и умолк. Уэбб не сводил глаз со своих спутников, вглядываясь в их лица сквозь пламя костра.
«Они считают, что я "с приветом", — подумал он. — И презирают меня за то, что я "с приветом". Они не колеблясь бросили бы меня на произвол судьбы, а то и пырнули ножом, если бы им это понадобилось, если бы у меня нашлось что-нибудь, чем они захотели бы завладеть…»
Но он отдавал себе отчет, что выбора у него, в сущности, не было. Он не мог уйти в пустыню один — попытайся он путешествовать на свой страх и риск, он, наверное, не прожил бы и двух дней. Чтобы выжить здесь, нужны специальные знания и навыки, да и особый склад ума. Чтобы на Марсе рискнуть выйти за пределы поселений, надо развить в себе особую способность к выживанию.
А поселения теперь остались далеко-далеко. Где-то там, на востоке.
— Завтра, — произнес Уомпус, — мы меняем маршрут. Мы пойдем на север, а не на запад.
Уэбб ничего не ответил. Лишь рука скользнула к поясу и нащупала пистолет — захотелось убедиться, что пистолет на месте.
Он сознавал, конечно, что нанимать этих двоих не следовало. Но и другие, вероятно, оказались бы не лучше. Они все были одной породы — закаленные и ожесточившиеся, они скитались по пустыне, охотясь, расставляя капканы, копая шурфы, подбирая все, что попадется. Просто в ту минуту, когда Уэбб явился на факторию, Уомпус и Нелсон оставались там в единственном числе. Остальные песковики ушли за неделю до его прибытия, разбрелись по своим охотничьим угодьям.
Поначалу эти двое держались почтительно, чуть ли не подобострастно. Но дни шли за днями, проводники обретали все большую уверенность в себе и понемногу наглели. Теперь-то Уэбб догадался, что его попросту обвели вокруг пальца. Теперь-то он смекнул, что эти двое застряли на фактории по одной причине: у них не было снаряжения, и никто не хотел поверить им в долг. Пока не подвернулся он со своей затеей. Он дал им все, что только могло понадобиться им в пустыне. А теперь, когда дал, превратился в обузу.
— Я сказал, — повторил Уомпус, — что завтра мы пойдем на север. — Уэбб по-прежнему хранил молчание. Уомпус повысил голос: — Вы меня слышали?..
— Еще в первый раз, — отозвался Уэбб.
— Мы пойдем на север, — повторил Уомпус, — и мы будем спешить.
— Вы что, припрятали там на севере Седьмого?
Ларс хихикнул:
— Подумать только, какая чертова канитель! Требуется целых семеро там, где у нас вполне хватает одного мужчины и одной женщины.
— Я спрашиваю, — повторил Уэбб, адресуясь к Уомпусу. — Вы что, загодя заперли Седьмого в клетку?
— Нет, — ответил Уомпус. — Просто пойдем на север, и все.
— Я нанял вас, чтобы вы шли со мной на запад.
— Так я и думал, — проворчал Уомпус, — что вы заявите что-нибудь в таком роде. Мне не терпелось узнать, что вы на этот счет думаете.
— Вы решили бросить меня на произвол судьбы, — сказал Уэбб. — Вы заграбастали мои денежки и вызвались быть моими проводниками. Теперь вам взбрело на ум что-то новенькое. Одно из двух: или у вас есть Седьмой, или вам кажется, что вы знаете, где его найти. А если я тоже узнаю об этом и проболтаюсь, вам несдобровать. Так что остается самая малость — придумать, как со мной поступить. Можно прикончить меня на месте, а можно просто бросить, и пусть кто-нибудь или что-нибудь прикончит меня за вас…
— Но мы хоть предоставляем вам выбор, не правда ли? — осклабился Ларс.
Уэбб перевел взгляд на Уомпуса, и тот кивнул:
— Выбирайте, Уэбб.
Разумеется, он успел бы выхватить пистолет. Успел бы, по всей вероятности, прихлопнуть одного из них, прежде чем другой прихлопнет его самого. Но чего бы он этим добился? Он был бы все равно мертвец — такой же мертвец, как если бы его застрелили без предупреждения. И коль на то пошло, он уже и сейчас мертвец: ведь между ним и поселениями пролегли сотни миль, и даже если бы он каким-то чудом одолел эти мили, где гарантия, что он сумеет найти поселения?
— Мы выезжаем без промедления, — сказал Уомпус. — Не очень-то удобная штука путешествовать в темноте, да нам не привыкать. Через день-другой будем уже далеко на севере…
Ларс добавил:
— А когда вернемся на факторию, Уэбб, непременно выпьем за упокой вашей души.
Уомпус решил поддержать настроение:
— Выпьем чего-нибудь поприличнее, Уэбб. Уж тогда-то мы сможем позволить себе приличную выпивку.
Уэбб не промолвил ни слова, даже не шелохнулся. Он сидел на песке неподвижно, почти расслабленно. «Вот это, — сказал он себе, — пожалуй, и есть самое страшное. Что я могу сидеть, отлично зная, что сейчас произойдет, и вести себя так, словно это меня вовсе не касается…»
Наверное, тому виной были пройденные мили — мили суровой, изрезанной пустыни, где человека на каждом шагу подстерегают хищники, жестокие и кровожадные, алчущие добычи, всегда готовые подкрасться, напасть и убить. Жизнь в пустыне сведена к самым примитивным потребностям, и новичок быстро усваивает, что от смерти ее отделяет в лучшем случае тонкая-тонкая нить…
— Ну так что, — произнес наконец Уомпус, — что же вы выбираете, Уэбб?
— Предпочитаю, — ответил Уэбб угрюмо, — рискнуть и попробовать выжить.
Ларс пощелкал языком.
— Плохо дело, — сказал он. — Мы надеялись, что вы предпочтете иной выход. Тогда мы могли бы забрать себе все добро. А так придется вам кое-что оставить.
— Вы же всегда успеете вернуться, — ответил Уэбб, — и пристрелить меня, как крольчонка. Это будет легче легкого.
— Хм, — откликнулся Уомпус, — стоящая идея!
— Отдайте-ка мне свою пушку, Уэбб, — сказал Ларс. — Я швырну вам ее обратно, когда будем уезжать. К чему рисковать, что вы продырявите нас, пока мы собираемся…
Уэбб вытащил пистолет из кобуры и беспрекословно отдал Нелсону. А затем сидел, не меняя позы, и следил, как они пакуют снаряжение и складывают в нутро пескохода. Сборы были недолгими.
— Мы оставляем вам достаточно, чтобы продержаться, — объявил Уомпус. — Более чем достаточно.
— Наверное, вы прикинули, — ответил Уэбб, — что я долго не протяну.
— На вашем месте, — сказал Уомпус, — я бы предпочел легкий и быстрый конец.
Уэбб еще долго сидел без движения, прислушиваясь к мотору пескохода, пока звук не затих вдали, а потом поджидая внезапный выстрел, который бросит его вниз лицом прямо в яркое пламя костра. Прошло немало минут, прежде чем он поверил, что выстрела не будет. Тогда он подбавил в костер топлива и залез в спальный мешок.
Утром он направился на восток — назад по следам пескохода. Он знал: следы будут заметны в течение недели, может, даже чуть дольше, но рано или поздно исчезнут, вытертые сыпучими песками и слабеньким подвывающим ветерком, который нет-нет да и пронесется над унылой и неприютной пустыней.
Но по крайней мере, пока он идет по следам, он будет знать, что идет в нужную сторону. И более чем вероятно, что ему суждено погибнуть куда раньше, чем исчезнут следы: пустыня щедра на внезапную смерть, и никто не посмеет поручиться, что не расстанется с жизнью буквально мгновение спустя.
Уэбб шел, сжимая в руке пистолет, поминутно оглядываясь по сторонам, останавливаясь на гребнях дюн и изучая лежащую впереди местность, прежде чем спуститься в ложбину.
Непривычная ноша — неумело скатанный спальный мешок — наливалась тяжестью с каждым часом, стирая плечи до крови. День выдался теплым — настолько же теплым, как ночь была холодна, — и в горле комом вставала мучительная жажда. Уэбб бережно отмерял по капельке воду из оставленного ему скудного запаса.
Он понимал, что никогда не вернется к людям. Где-то между дюнами, среди которых он брел сейчас, и линией поселений он умрет от недостатка воды, или от укуса насекомого, или от клыков какого-нибудь свирепого зверя, или просто от изнеможения.
Подумать толком — так не стоило и пробовать добраться к людям, на успех у него не оставалось и одного шанса из тысячи. Но Уэбб даже не сбавил шага, чтобы подсчитать свои шансы, — он шел и шел на восток, по следам пескохода.
Потому что в нем жила чисто человеческая черта — пытаться, несмотря ни на что; он должен двигаться, пока не иссякнут силы, должен избегать смерти так упорно, как только сможет. И он шел, напрягая волю и силы и упорно избегая смерти.
Он приметил колонию муравьев как раз вовремя, чтоб обойти ее стороной, но обход получился слишком близким, и насекомые, почуяв пищу, устремились за ним следом. Пришлось бежать, и он бежал целую милю, прежде чем оторвался от преследователей.
Он разглядел припавшую к песку, окрашенную под цвет песка тварь, поджидающую, чтоб он подошел поближе, и уложил ее на месте. Немного позже из-за россыпи камней выскочило другое чудище, но пуля угодила чудищу точно между глаз, прежде чем оно покрыло половину разделявшего их расстояния.
Добрый час, не меньше, он просидел не шевелясь на песке, пока гигантское насекомое — по виду шмель, но вовсе не шмель, — кружило над той точкой, где только что кого-то видело. Но так как шмель умел распознавать добычу только в движении, то в конце концов отступился и улетел. Тем не менее Уэбб сидел неподвижно еще с полчаса на случай, если враг не улетел насовсем, а прячется где-то неподалеку в надежде вновь уловить движение и возобновить охоту.
Четыре раза ему удалось обмануть смерть, но он понимал — пробьет час, когда он не заметит опасности или, заметив, не среагирует достаточно быстро, чтоб остановить ее.
Его одолевали миражи, отвлекая внимание от всего другого, за чем надлежало следить неустанно. Миражи мерцали в небе, как бы вырастая из почвы, рисуя мучительные картины, каких на Марсе не было и быть не могло, а если и были, то давным-давно, в незапамятные времена.
Картины широких медленных рек с косым парусом на середине. Картины зеленых лесов, взбегающих по холмам, — такие ясные, такие близкие, что среди деревьев можно было без труда различить пятнышки диких цветов. А иногда вдалеке чудилось что-то наподобие увенчанных снежными шапками гор — это в мире, не ведавшем, что такое горы.
Продвигаясь вперед, он не забывал высматривать, где бы разжиться топливом, — а вдруг из-под песка выступит краешек «законсервированного» ствола, уцелевшего от той смутной поры, когда окрестные холмы и долины были покрыты зеленью, кусочек дерева, избегнувший ножей времени и застрявший высохшей мумией в безводье пустыни.
Однако топлива не находилось, и он отдал себе отчет, что, скорее всего, ему предстоит провести ночь без огня. Заночевать без огня на открытом воздухе было бы полнейшим безумием. Не пройдет и часа после наступления сумерек, как его попросту сожрут. Значит, надо искать убежища в одной из пещер, что в изобилии встречались среди диких скал, раскиданных по пустыне. Надо найти подходящую пещеру, очистить ее от зверья, которое может там гнездиться, завалить вход камнями и тогда уж прилечь, не выпуская пистолета из рук.
На первый взгляд задача была несложная — пещер попадалось много, и тем не менее приходилось отвергать их одну за другой: на поверку входы пещер оказывались чересчур широкими, завалить их не представлялось возможным. А пещера с незаваленным входом — это было известно даже ему — в мгновение ока превращалась в ловушку.
До заката оставалось меньше часа, когда Уэбб наконец выбрал пещеру, которая, казалось, удовлетворяла всем требованиям. Пещера располагалась среди скал на склоне крутого холма. Уэбб провел несколько долгих минут, стоя у подножия холма и оглядывая склон. Никакого движения. Нигде не возникало никаких подозрительных цветных бликов.
Тогда он не торопясь начал подъем, глубоко увязая в сыпучем песке откоса, с трудом завоевывая каждый фут, надолго замирая, чтобы перевести дух и обследовать склон впереди снова, снова и снова.
Одолев откос, он осторожно двинулся к пещере с пистолетом на изготовку: кто знает, не выпрыгнет ли оттуда какая-нибудь нечисть? И вообще, что теперь делать: посветить в пещеру фонариком в надежде разглядеть, кто там? Или, не долго думая, вскинуть пистолет и полить все внутреннее пространство смертоносным огнем?
«Церемониться тут нечего, — убеждал он себя. — Лучше ухлопать безобидную тварь, чем пренебречь возможной опасностью…»
Он не слышал ни звука, пока когти хищника не заскрежетали по камню у него за спиной. Бросив быстрый взгляд через плечо, он убедился, что зверь совсем рядом, успел заметить разверстую пасть, убийственные клыки и крохотные глазки, пылающие холодной жестокостью.
Оборачиваться и стрелять было уже поздно. Было поздно предпринимать что бы то ни было, разве что…
Ноги Уэбба распрямились с силой, как рычаги, швырнув его тело вперед, в пещеру. Задев плечом об острый камень у входа, он распорол куртку и ободрал руку, зато очутился внутри, где стало просторнее, и покатился куда-то. Что-то задело его по лицу, потом он перекатился через кого-то, кто издал протестующий визг. В дальнем углу пещеры съежился какой-то тихо мяукающий комок.
Став на колени, Уэбб перекинул пистолет из руки в руку, повернулся ко входу лицом и увидел массивную голову и плечи зверя, который продолжал атаку, пытаясь втиснуться внутрь. Потом голова и плечи оттянулись назад, и на смену им пришла гигантская лапа, начавшая шарить по пещере в поисках укрывшейся там добычи.
Вокруг поднялся шум — Уэбб различил не менее десятка голосов, бормочущих на жаргоне пустыни:
— Человек, человек, убей, убей, убей…
Пистолет Уэбба изрыгнул огонь, лапа обмякла и нехотя выползла из пещеры. Большое серое тело отпрянуло, потеряло опору, и было слышно, как оно ударилось внизу о склон и покатилось по осыпи.
— Спасибо, человек, — шелестели голоса. — Спасибо…
Уэбб медленно сел, пристроив пистолет на колене.
Теперь он расслышал, как вокруг со всех сторон шевелится жизнь.
Пот выступил у него на лбу, побежал ручейками по спине.
Что таилось в пещере? Кто был тут вместе с ним? То, что они заговорили, не означало ровным счетом ничего. Половина так называемых животных Марса умела изъясняться на жаргоне пустыни, состоящем из двухсот-трехсот слов частично земного, частично марсианского, а частично бог весть какого происхождения. Ведь многие из этих животных были на самом деле отнюдь не животными, а выродившимися потомками тех, кто некогда создал сложную цивилизацию. Среди них «древние» достигали в прошлом наивысшего развития — недаром они до сих пор сумели в какой-то степени сохранить облик двуногих, — но существовали, видимо, и другие расы, стоявшие на более низких ступенях культуры и выжившие лишь благодаря миролюбию и терпимости «древних».
— Ты в безопасности, — услышал он голос. — Не бойся. Закон пещеры.
— Закон пещеры?
— Убивать в пещере нельзя. Снаружи — можно. А в пещере нельзя.
— Я не стану убивать, — откликнулся Уэбб. — Закон пещеры — хороший закон.
— Человек знает закон пещеры?
— Человек не нарушит закон пещеры.
— Хорошо, — произнес тот же голос. — Тогда все хорошо.
Уэбб с облегчением спрятал пистолет в кобуру и снял со спины спальный мешок, расстелил его рядом с собой и потер свои натруженные, в ссадинах и волдырях, плечи.
«В это можно поверить, — сказал он себе. — Такое стихийное и простое установление, как закон пещеры, нетрудно понять и принять. Ведь этот закон исходит из элементарной жизненной потребности — потребности слабейших с приходом ночи забыть взаимные распри, перестать гоняться друг за другом и найти общее убежище от более сильных и свирепых убийц, от тех, что выходят на охоту после заката…»
Другой голос произнес:
— Придет утро. Человек захочет убить.
И еще голос:
— Человек соблюдает закон ночью. Утром закон ему надоест. Утром он начнет убивать.
— Человек не будет убивать утром, — заверил Уэбб.
— Все люди убивают, — объявило одно из существ. — Убивают ради меха. Убивают ради мяса. Мы — мех. Мы — мясо.
— Этот человек не будет убивать, — повторил Уэбб. — Этот человек — друг.
— Друг? — переспросил голос. — Мы не знаем, что такое «друг». Объясни.
Объяснять Уэбб не стал. Он понимал: объяснять бесполезно. Они все равно не осознают нового слова — оно чуждо этой пустыне. В конце концов он спросил:
— Камни тут есть?
И какой-то голос откликнулся:
— Камни в пещере есть. Человеку нужны камни?
— Завалить вход в пещеру, — пояснил Уэбб. — Чтобы хищники не могли сюда попасть.
Они не сразу уловили суть предложения, но наконец один из них решил:
— Камни — это хорошо.
Они принялись таскать камни и камушки и с помощью Уэбба плотно запечатали вход в пещеру.
Было слишком темно для того, чтобы что-нибудь толком разглядеть, но во время работы существа невольно задевали его, и одни были мягкими и пушистыми, а другие — чешуйчатыми, как крокодилы, и их чешуя обдирала кожу. Встретилось и существо, которое казалось не просто мягким, а рыхлым до отвращения.
Уэбб устроился в углу пещеры, прислонив спальный мешок к стене. Он с удовольствием забрался бы внутрь, но для этого пришлось бы сначала вынуть из мешка все припасы, а если он вынет их, то, ясное дело, к утру от них не останется даже воспоминания.
«Быть может, — обнадеживал он себя, — теплота тел существ, сбившихся на ночь в пещере, не позволит ей слишком сильно остыть. Она, конечно, остынет все равно, но, быть может, не настолько, чтобы холод стал опасным для жизни. Рискованно, да что ж поделаешь…»
Проводить ночи в дружбе, убивать друг друга и спасаться друг от друга с приходом зари… Они назвали это законом. Законом пещеры. Вот о чем бы книги писать, вот на что нет и намека во всех толстенных томах, которые он когда-либо прочел.
А прочел он их множество. Какими-то безмолвными чарами Марс всегда привораживал Уэбба, приводил его в восторг. Таинственность и отдаленность, пустота и упадок дразнили его воображение и в конце концов заманили сюда, чтоб он попытался хотя бы приподнять завесу таинственности, попытался нащупать причину упадка и, пусть приблизительно, измерить былое величие культуры, в незапамятные времена потерпевшей крах.
В марсианской археологии насчитывалось немало незаурядных работ. Аксельсон с его дотошными исследованиями символики водяных кувшинов, наивные подчас потуги Мейсона проследить пути великих переселений. Потом еще Смит, который годами бродил по этому пустынному миру, записывая смутные истории о древнем величии, о золотом веке, те истории, что нашептывали друг другу маленькие вырождающиеся существа. Разумеется, в большинстве своем это мифы, но где-то, в каком-то из мифов кроется и ответ на волнующие Уэбба вопросы. Фольклор никогда не бывает чистой выдумкой, в основе его обязательно лежит факт; потом к одному факту прибавляется другой, два факта искажаются до неузнаваемости, и рождается миф. Но в конечном счете за любыми напластованиями непременно прячется изначальная основа — факт.
Точно так обстоит, так должно обстоять дело и с тем мифом, где говорится о великом, блистающем городе, который возвышался над всем на Марсе и был известен до самых дальних его пределов. Средоточие культуры — так объяснял себе это Уэбб, — точка, где сходились все достижения, все мечты и стремления эпохи былого величия. И тем не менее за сто с лишним лет поисков и раскопок археологи с Земли не нашли и следа самого завалящего города, не говоря уж о Городе всех городов. Черепки, захоронения, жалкие лачуги, где в относительно недавние времена ютились уцелевшие наследники великого народа, — такого было хоть отбавляй. Но мифического города не было и в помине.
А ведь должен быть! Уэбб ощущал уверенность, что миф не может лгать: этот миф рассказывали слишком часто в слишком отдаленных друг от друга точках, рассказывали слишком многие и слишком разные звери, все, что некогда назывались людьми.
«Марс приворожил меня, — подумал Уэбб, — и все еще привораживает. Но теперь я знаю, что это смерть моя: только смерть способна так приворожить. Смерть на следующем переходе, уже занявшая свой рубеж. А то и смерть прямо здесь, в пещере: кто помешает им убить меня, едва забрезжит рассвет, просто ради того, чтоб я не убил их? Кто помешает им продлить свое ночное перемирие ровно на столько секунд, сколько понадобится, чтобы прикончить меня?..»
И что такое закон пещеры? Отголосок минувших дней, некое напоминание о давно утраченном братстве? Или, напротив, нововведение, вызванное к жизни веком зла, который пришел братству на смену?
Он откинул голову на камень, закрыл глаза и подумал:
«Если они убьют меня — пусть убьют, я их убивать не стану. И без меня люди уже убивали на Марсе сверх всякой меры. Я по крайней мере верну хоть часть долга. Я не стану убивать тех, кто приютил меня».
И тут он вспомнил, как подкрадывался к пещере, обсуждая с самим собой вопрос: заглянуть туда сначала или без долгих слов взять пещеру на мушку и выжечь в ней все и вся — простейший способ увериться, что там не осталось никого и ничего вредоносного…
— Но я не знал! — воскликнул он. — Я же не знал!
Мягкое пушистое тельце коснулось его руки, и он услышал голосок:
— Друг — значит не обидит? Друг — значит не убьет?
— Не обидит, — подтвердил Уэбб. — Не убьет.
— Ты видел шестерых? — осведомился голосок. Уэбб вздрогнул, отпрянул от стены и оцепенел. Голосок повторил настойчиво: — Ты видел шестерых?
— Я видел шестерых, — ответил Уэбб.
— Давно?
— Одно солнце назад.
— Где шестеро?
— В ущелье, — ответил Уэбб. — Ждут в ущелье.
— Ты охотишься на Седьмого?
— Нет, — ответил Уэбб. — Я иду домой.
— А другие люди?
— Они ушли на север. Охотятся на Седьмого на севере.
— Они убьют Седьмого?
— Поймают Седьмого. Отведут его к шестерым. Чтоб увидеть город.
— Шестеро обещали?
— Шестеро обещали, — ответил Уэбб.
— Ты хороший человек. Ты человек-друг. Ты не убьешь Седьмого?
— Не убью, — подтвердил Уэбб.
— Все люди убивают. А Седьмых прежде всего. У Седьмых хороший мех. Дорого стоит. Много Седьмых погибли от рук людей.
— Закон говорит — нельзя убивать, — провозгласил Уэбб. — Закон людей говорит, что Седьмой — друг. Нельзя убивать друга.
— Закон? Как закон пещеры?
— Как закон пещеры, — подтвердил Уэбб.
— Ты Седьмому друг?
— Я друг вам всем.
— Я Седьмой, — произнес голосок.
Уэбб сидел неподвижно, выжидая, чтобы мозг стряхнул с себя оцепенение.
— Слушай, Седьмой, — сказал он наконец. — Иди в ущелье. Найди шестерых. Они ждут. Человек-друг рад за тебя.
— Человек-друг хотел увидеть город, — откликнулось существо. — Седьмой — друг человеку. Человек нашел Седьмого. Человек увидит город. Шестеро обещали.
Уэбб едва сдержался, чтобы не разразиться горьким хохотом. Вот ему и выпал случай, на который он почти не надеялся. Вот и свершилось то, чего он так страстно желал, то, зачем он вообще прилетел на Марс. А он не может принять дар, который ему предлагают. Физически не в силах принять.
— Человек не дойдет, — сказал он. — Человек умрет. Нет еды. Нет воды. Человеку смерть.
— Мы позаботимся о тебе, — ответил Седьмой. — У нас никогда не было человека-друга. Люди убивали нас, мы убивали людей. Но пришел человек-друг. Мы позаботимся о таком человеке.
Уэбб немного помедлил, размышляя, потом спросил:
— Вы дадите человеку еду? Вы найдете для человека воду?
— Мы позаботимся, — был ответ.
— Как Седьмой узнал, что я видел шестерых?
— Человек сказал. Человек подумал. Седьмой узнал.
Вот оно что — телепатия… След былого могущества, остаток величественной культуры, еще не совсем позабытой. Интересно, многие ли другие существа в пещере наделены тем же даром?
— Человек пойдет вместе с Седьмым? — спросил Седьмой.
— Человек пойдет, — решил Уэбб.
«В самом деле, почему бы и нет?» — сказал он себе. Идти на восток, в сторону поселений — это не решение. У него не хватит пищи. У него не хватит воды. Его подстережет и сожрет какой-нибудь хищник. У него нет ни малейшей надежды выжить.
Но если он пойдет за крошечным существом, что встало рядом с ним во мраке пещеры, надежда, быть может, забрезжит опять. Пусть не слишком твердая, но все-таки надежда. Появится пища и вода — или по крайней мере надежда на пищу и воду. Появится спутник, который поможет ему уберечься от внезапной смерти, странствующей по пустыне, который предостережет его и подскажет, как опознать опасность.
— Человеку холодно, — произнес Седьмой.
— Холодно, — согласился Уэбб.
— Одному холодно, — объявил Седьмой. — Двоим тепло.
Пушистое создание залезло к нему на грудь, обняло за шею. Спустя мгновение Уэбб осмелился прижать существо к себе.
— Спи, — произнес Седьмой. — Тепло. Спи…
Уэбб доел остатки своих припасов, и тогда семеро «древних» вновь сказали ему:
— Мы позаботимся…
— Человек умрет, — настойчиво повторял Уэбб. — Нет еды. Человеку смерть.
— Мы позаботимся, — твердили семь маленьких существ, выстроившись полукругом. — Позаботимся позже…
Он понял их так, что сейчас еды для него нет, но позже она должна появиться. Они снова двинулись в путь.
Пути, казалось, не будет конца. Уэбб падал с ног и кричал во сне. Он дрожал мелкой дрожью даже тогда, когда удавалось отыскать древесину и они сидели, скорчившись у костра. День за днем только песок да скалы — ползком вверх на крутой гребень, кубарем вниз с другой стороны или шаг за шагом по жаркой равнине, по морскому дну давно минувших эпох.
Путь превратился в монотонную мелодию, в примитивный ритм, в попевку из трех звенящих нот, заунывную, нескончаемую, которая звенит в висках весь день и еще многие часы после того, как настала ночь и путники остановились на отдых. Стучит до головокружения, пока мозг не отупеет от стука, пока глаза не откажутся четко видеть мир и мушку пистолета — надо встретить огнем нападающего, подползающего или пикирующего врага, вдруг возникающего ниоткуда, а она превращается в расплывчатый шарик.
И повсюду их подстерегали миражи, вечные марсианские миражи, которые, казалось, вплотную граничат с реальностью. В небе вспыхивали мерцающие картины: вода и деревья, и неоглядные зеленые степные дали, каких Марс не видел на протяжении бессчетных столетий. Словно, как говорил себе Уэбб, минувшее крадется за ними по пятам, словно оно по-прежнему существует и пытается нагнать тех, кто ушел вперед, оставив былое позади против его воли.
Он потерял счет дням, заставляя себя не думать о том, сколько еще таких дней до цели; в конце концов ему стало мерещиться, что так будет продолжаться вовеки, что они не остановятся никогда и это их пожизненный удел — встречать утро в голой пустыне и брести по пескам вплоть до прихода ночи.
Он допил остатки воды и напомнил семерым, что не сможет жить без нее.
— Позже, — ответили они. — Вода позже.
И действительно, в тот же день они вышли к городу, и там в туннеле, глубоко под лежащими на поверхности руинами, была вода — капля за каплей, мучительно медленно, она сочилась из разбитой трубы. Но все равно — вода, даже еле капающая, на Марсе была чудом из чудес.
Семеро пили сдержанно: они столетиями приучали себя обходиться почти совсем без питья, приспособились к безводью и не страдали от жажды. А Уэбб лежал у разбитой трубы часами, подставляя под капли ладони, стараясь накопить хоть немного воды, прежде чем выпить ее одним глотком, а то и просто отдыхая в прохладе, что было само по себе блаженством.
Потом он заснул, проснулся и выпил еще немного. Теперь он отдохнул и жажды больше не чувствовал, но тело кричало криком, требуя еды. А еды не было, и не было никого, кто мог бы ее принести. Маленькие существа куда-то скрылись.
«Они вернутся, — успокаивал он себя. — Они ушли ненадолго и скоро вернутся. Они ушли, чтобы достать мне еды, и вернутся, как только достанут…»
Все его мысли о семерых были именно такими, добрыми мыслями.
Не без труда Уэбб выбрался наверх тем же туннелем, который привел его к воде, и наконец очутился подле развалин. Развалины лежали на холме, господствующем над окружающей пустыней; с вершины холма открывался вид на многие мили, и в каком направлении ни взгляни, местность шла под уклон.
По правде говоря, от развалин почти ничего не осталось. Легче легкого было бы пройти мимо холма и не заметить никаких следов города. Тысячелетия кряду здания осыпались, обрушивались, а то и крошились в пыль; в проемы просачивался песок, покрывая остатки стен, заполняя пространство между ними, пока руины не стали просто-напросто частью холма.
То здесь, то там Уэбб натыкался на осколки камня со следами обработки, на керамические черепки, но сам понимал, что, не ищи он их специально, он спокойно мог бы пройти мимо, приняв эти осколки и черепки за обычные обломки породы, без счета разбросанные по поверхности планеты.
Туннель вел в недра погибшего города, в усыпальницу рухнувшего величия и померкшей славы народа, потомки которого ныне бродили, как звери, по древней пустыне, еле-еле сохранив диалект — жалкое воспоминание о культуре, процветавшей во время оно в городе на холме. Уэбб нашел в туннеле свидетелей тех далеких дней — большие глыбы обработанного камня, сломанные колонны, плиты мостовой и даже нечто, бывшее некогда, по-видимому, прекрасной статуей.
В глубине туннеля он подставил ладони под трубу и снова напился, потом вернулся на поверхность и сел возле входа в туннель, меряя взглядом пустынные марсианские просторы.
Нужны силы и инструменты — силы многих людей, чтобы перекопать и просеять песок и открыть город миру. Понадобятся годы кропотливого, упорного труда — а у него нет даже обыкновенной лопатки. А еще того хуже — нет и времени. Если семеро не вернутся с едой, ему не останется ничего другого, как спуститься вновь в темноту туннеля, чтоб его человеческий прах с течением лет смешался с древней пылью чужого мира.
«А ведь была лопатка, — вдруг припомнил он. — Уомпус и Ларс, когда бросили меня, оставили мне лопатку. Вот уж воистину редкая предусмотрительность…» Но из снаряжения, что он унес тем памятным утром от потухшего костра, сохранились лишь два предмета: спальный мешок и пистолет у пояса. Без всего остального можно было обойтись, эти два предмета были абсолютно необходимы.
«Эх ты, археолог, — подумал он. — Археолог, натолкнувшийся на величайшую находку за всю историю археологии и не способный предпринять по этому поводу ровным счетом ничего…»
Уомпус и Ларс подозревали, что здесь зарыты сокровища. Только зря: не было тут никакого определенного сокровища, которое можно откопать и взять в руки. Он подумал о славе — но и славы тут не было. Подумал о знаниях — но без лопатки и какого-то запаса времени знаний не было тоже. Если не считать знанием тот голый факт, что он оказался прав и город действительно существовал.
Впрочем, кое-какие знания ему все же удалось приобрести. Например, он узнал, что семь разновидностей «древних» еще не вымерли и, следовательно, их раса может продолжать себя, невзирая на выстрелы и капканы, невзирая на жадность и вероломство песковиков, затеявших охоту на Седьмых ради пятидесятитысячедолларовых шубок.
Семь крошечных существ семи различных полов. И все семь необходимы для продолжения рода. Шестеро безуспешно искали Седьмого, а он, Уэбб, нашел. И поскольку он нашел Седьмого, поскольку выступил в роли посредника, раса «древних» продлит себя по крайней мере еще на одно поколение.
«Но что за смысл, — спросил он себя, — продлевать дни расы, утратившей свое назначение?..»
Он покачал головой.
«Усмири гордыню, — сказал себе Уэбб. — Кто дал тебе право судить? Или смысл есть во всем на свете, или смысла нет ни в чем, и не тебе это решать. Есть смысл в том, что я добрался до города, или нет? Есть смысл в том, что я, очевидно, здесь и умру? Или моя смерть среди руин — не более чем случайное отклонение в великой цепи вероятностей, которая движет планеты по их орбитам и приводит человека под вечер к порогу родного дома?..»
И еще он приобрел четкое представление о безграничных просторах и о жестоком одиночестве, которые вместе взятые и есть марсианская пустыня. Представление о пустыне и о странной, почти нечеловеческой отрешенности, какой она наполняет душу.
«Да, это урок», — подумал он.
Урок, что человек сам по себе — лишь мельчайшая помарка на полотне вечности. Урок, что одна жизнь относительно несущественна, если сравнивать ее с ошеломляющей истиной — чудом всего живого.
Он поднялся и встал в полный рост — и осознал с пронзительной ясностью свою ничтожность и свое смирение перед лицом необжитых далей, убегающих во все стороны, и перед аркой неба, изогнувшейся над головой от горизонта к горизонту, и перед мертвой тишиной, царящей над планетой и над просторами неба.
Умирать от голода — занятие нудное и непривлекательное.
Некоторые виды смерти быстры и опрятны. Смерть от голода не принадлежит к их числу.
Семеро не вернулись. Однако Уэбб по-прежнему ждал их и, поскольку все еще испытывал к ним симпатию, искал оправдания их поведению. «Они не понимают, — убеждал он себя, — как недолго человек может протянуть без еды. Странная физиология, — доказывал он себе, — требующая участия семи личностей, приводит, вероятно, к тому, что зарождение потомства превращается в сложный и длительный процесс, немилосердно долгий с человеческой точки зрения. А может, с ними что-нибудь случилось, может, у них какие-нибудь свои заботы. Как только они справятся с этими заботами, они вернутся и принесут мне еду…»
Он умирал от голода, преисполненный добрых мыслей и терпения, куда большего, чем мог бы ожидать от себя даже в более приятных обстоятельствах. И вдруг обнаружил, что, несмотря на слабость от недоедания, проникающую в каждую мышцу и в каждую косточку, несмотря на изматывающий страх, пришедший на смену острым мукам голода и не стихающий ни на мгновение даже во сне, — несмотря на все это, разум оказался не подвластен демонам, разрушающим тело; напротив, разум как бы обострился от недостатка пищи, как бы отделился от истерзанного тела и стал самостоятельной сущностью, которая впитала в себя все его способности и сплела их в тугой узел, почти не подверженный воздействию извне.
Уэбб часами сидел на гладком камне, некогда составлявшем, по-видимому, часть горделивого города, а ныне валяющемся в нескольких ярдах от входа в туннель, и неотрывно глядел на умытую солнцем пустыню — миля за милей она стелилась до недосягаемого горизонта. Своим обостренным умом, проникающим, казалось, до самых корней бытия и истоков случайности, он искал смысла в череде произвольных факторов, скрытых под мнимой упорядоченностью Вселенной, искал хоть какого-то подобия системы, доступной пониманию. Зачастую ему мерещилось даже, что он вот-вот нащупает такую систему, но всякий раз она в последний момент ускользала от него, как ускользает ртуть из-под пальцев.
Тем не менее он понимал: если Человеку суждено когда-либо найти искомое, это может произойти лишь в местах, подобных марсианской пустыне, где ничто не отвлекает внимания, где есть перспектива и нагота, необходимые для сурового обезличивания, которое одно оттеняет и сводит на нет непоследовательность человеческого мышления. Ведь достаточно размышляющему подумать о себе как о чем-то безотносительном к масштабу исследуемых фактов — и условия задачи будут искажены, а уравнение, если это уравнение, никогда не придет к решению.
Сперва Уэбб пытался охотиться, чтобы раздобыть себе пищу, но странное дело: в то время как пустыня кишмя кишела хищными тварями, подстерегающими других, нехищных, зона вокруг города оставалась практически безжизненной, словно некто очертил ее магическим меловым кругом. На второй день охоты Уэбб подстрелил зверушку, которая на Земле могла бы сойти за мышь. Он развел костер и зажарил свою добычу, а позже разыскал высушенную солнцем шкурку и без конца жевал и высасывал ее в надежде, что в ней сохранилась хотя бы капля питательности. Но кроме этой зверушки, он не убил никого — убивать было некого.
И пришел день, когда он понял, что семеро не вернутся, что они и не собирались возвращаться, а бросили его точно так же, как до них его бросили люди. Он понял, что его оставили в дураках, и не один раз — дважды.
Уж если он тронулся в путь, то и должен был идти на восток, только на восток. Не следовало поворачивать вслед за Седьмым, чтобы присоединиться к шестерым, поджидающим Седьмого в ущелье.
«А может, я и добрался бы до поселений, — говорил он себе теперь. — Вот взял бы и добрался. Разве это исключено, что добрался бы?..»
На восток! На восток, в сторону поселений!
Вся история человечества — погоня за невозможным, и притом нередко успешная. Тут нет никакой логики: если бы человек неизменно слушался логики, то до сих пор жил бы в пещерах и не оторвался бы от Земли.
«Пробуй!» — сказал себе Уэбб, впрочем, не вполне понимая, что говорит.
Он опять спустился с холма и побрел по пустыне, двигаясь на восток. Здесь, на холме, надежды не оставалось; там, на востоке, теплилась надежда.
Пройдя примерно милю от подножия холма, он упал. Потом протащился, падая и поднимаясь, еще милю. Потом прополз сто ярдов. Именно тогда его и отыскали семеро «древних».
— Дайте мне есть! — крикнул он им и почувствовал, что хотел крикнуть в полный голос, а не издал ни звука. — Есть! Пить!..
— Мы позаботимся, — отвечали семеро и, приподняв Уэбба за плечи, заставили сесть.
— Жизнь, — обратился к нему Седьмой, — обтянута множеством оболочек. Словно набор полых кубиков, точно вмещающихся один в другом. Внешняя оболочка прожита, но сбрось ее — и там внутри окажется новая жизнь…
— Ложь! — воскликнул Уэбб. — Ты не умеешь так связно говорить. Ты не умеешь так стройно мыслить. Тут какая-то ложь…
— Внутри каждого человека скрыт другой, — продолжал Седьмой. — Много других…
— Ты про подсознание? — догадался Уэбб, но, задав свой вопрос в уме, мгновенно понял, что губами не произнес ни слова, ни звука. И еще понял наконец, что Седьмой тоже не произносил ни звука — потому только и возникали слова, каких не могло быть в жаргоне пустыни: они отражали мысли и знания, совершенно чуждые боязливым существам, прячущимся в самой дальней марсианской глуши.
— Сбрось с себя старую жизнь и вступишь в новую, прекрасную жизнь, — заявил Седьмой, — только надо знать как. Есть строго определенные приемы и определенные приготовления. Нельзя браться за дело, не ведая ни того ни другого, — только все испортишь.
— Приготовления? — переспросил Уэбб. — Какие приготовления? Я никогда и не слышал об этом…
— Ты уже подготовлен, — заявил Седьмой. — Раньше не был, а теперь подготовлен.
— Я много думал, — отозвался Уэбб.
— Ты много думал, — подхватил Седьмой, — и нашел частичный ответ. Сытый, самодовольный, самонадеянный землянин ответа не нашел бы. Ты познал себя.
— Но я и приемов не знаю, — возразил Уэбб.
— Мы знаем приемы, — заявил Седьмой. — Мы позаботимся.
Вершина холма, где лежал мертвый город, вдруг замерцала, и над ней вознесся мираж. Из могильников, полных запустения, поднялись городские башни и шпили, пилоны и висячие мосты, сияющие всеми оттенками радуги; из песка возникли роскошные сады, цветочные клумбы и тенистые аллеи, и над всем этим великолепием заструилась музыка, летящая с изящных колоколен.
Вместо песка, пылающего зноем марсианского полудня, под ногами росла трава. А вверх по террасам, навстречу чудесному городу на холме, бежала тропинка. Издалека донесся смех: там под деревьями, на улицах и садовых дорожках, виднелись движущиеся цветные пятнышки…
Уэбб стремительно обернулся — семерых и след простыл. И пустыню как ветром сдуло. Местность, раскинувшаяся во все стороны, отнюдь не была пустыней — дух захватывало от ее красоты, от живописных рощ и дорог и неторопливых водных потоков.
Он опять повернулся в сторону города и присмотрелся к мельканию цветных пятнышек.
— Люди!.. — удивился он.
И откуда-то, неизвестно откуда, послышался голос Седьмого:
— Да, люди. Люди с разных планет. И люди из далей более дальних, чем планеты. Среди них ты встретишь и представителей своего племени. Потому что из землян ты здесь тоже не первый…
Исполненный изумления, Уэбб зашагал по тропинке вверх. Изумление быстро гасло и, прежде чем он достиг городских стен, угасло безвозвратно.
Уомпус Смит и Ларс Нелсон вышли к тому же холму много дней спустя. Они шли пешком — пескоход давно сломался. У них не осталось еды, кроме того скудного пропитания, что удавалось добыть по дороге, и во флягах у них плескались последние капли воды, — а воды взять было негде.
Неподалеку от подножия холма они наткнулись на высушенное солнцем тело. Человек лежал на песке лицом вниз, и только перевернув его, они увидели, кто это.
Уомпус уставился на Ларса, замершего над телом, и прокаркал:
— Откуда он здесь взялся?
— Понятия не имею, — ответил Ларс. — Без знания местности, пешком ему бы сюда вовек не добраться. А потом это было ему просто не по пути. Он должен был идти на восток, туда, где поселения…
Они обшарили его карманы и ничего не нашли. Тогда они забрали у него пистолет — их собственные были уже почти разряжены.
— Какой в этом толк! — бросил Ларс. — Мы все равно не дойдем.
— Можем попробовать, — откликнулся Уомпус.
Над холмом замерцал мираж — город с блистающими башнями и головокружительными шпилями, с рядами деревьев и фонтанами, брызжущими искристой водой. Слуха людей коснулся — им померещилось, что коснулся, — перезвон колокольчиков. Уомпус сплюнул, хоть губы растрескались и пересохли и слюны давно не осталось:
— Проклятые миражи! От них того и гляди рехнешься…
— Кажется, до них рукой подать, — заметил Ларс. — Подойди и тронь. Словно они отделены от нас занавеской и не могут сквозь нее прорваться…
Уомпус снова сплюнул и сказал:
— Ну ладно, пошли…
Оба разом отвернулись и побрели на восток, оставляя за собой в марсианских песках неровные цепочки следов.
Сосед
Места у нас в Енотовой долине — краше не сыщешь. Но не стану отрицать, что лежит она в стороне от больших дорог и не сулит легкого богатства: фермы здесь мелкие, да и земли не слишком плодородные. Пахать можно только в низинах, а склоны холмов годны разве что для пастьбы, и ведут к ним пыльные проселки, непроходимые в иное время года.
Понятное дело, старожилам вроде Берта Смита, Джинго Гарриса или меня самого выбирать не приходится: мы в этих краях выросли и давно распрощались с надеждой разбогатеть. По правде говоря, мы чувствуем себя не в своей тарелке, едва высунемся за пределы долины. Но попадаются порой и другие, слабохарактерные: чуть приехали, года не прожили — и уже разочаровались, снялись и улепетнули. Так что по соседству у нас непременно найдется ферма, а то и две на продажу.
Люди мы простые и бесхитростные. Ворочаемся себе в одиночку в грязи, не помышляя ни о сложных машинах, ни о племенном скоте, а впрочем, что ж тут особенного: обыкновенные фермеры, каких немало в любом конце Соединенных Штатов. И раз уж мы живем обособленно и кое-кто по многу лет, то, пожалуй, можно сказать, что мы теперь стали как бы одной семьей. Хотя из этого вовсе не следует, что мы чураемся посторонних, — просто живем мы вместе так давно, что научились понимать и любить друг друга и принимать вещи такими, каковы они есть.
Мы, конечно, слушаем радио — музыку и последние известия, а некоторые даже выписывают газеты, но, боюсь, по натуре мы все-таки бирюки — уж очень трудно расшевелить нас какими-нибудь мировыми событиями. Все наши интересы — здесь, в долине, и нам если говорить откровенно, недосуг беспокоиться о том, что творится за тридевять земель. Чего доброго, вы решите, что мы к тому же еще и консерваторы: голосуем мы обычно за республиканцев, даже не утруждая себя вопросом «почему», и сколько ни ищите, не найдется среди нас такого, у кого хватило бы времени отвечать на адресованные фермерам правительственные анкеты и тому подобную дребедень.
И всегда, сколько я себя помню, в долине у нас все шло хорошо. Я сейчас не про землю, я про людей говорю. Нам всегда везло на соседей. Новички появляются что ни год, а вот поди ж ты: ни одного подонка среди них не попалось, а это для нас куда как важно.
Но, признаться, мы всякий раз тревожимся, когда кто-нибудь из нетерпеливых снимается с места и уезжает, и гадаем промеж себя, что за люди купят или арендуют опустевшую ферму.
Ферма, где жил когда-то старый Льюис, была заброшена так давно, что все постройки обветшали и порушились, а поля заросли травой. Правда, года три или четыре подряд ее арендовал зубодер из Гопкинс-Корнерс. Держал там кой-какую скотину, а сам наведывался только по субботам. А мы в своем кругу все думали, захочет ли там еще кто-нибудь пахать, но в конце концов даже думать перестали: ферма пришла в такое запустение, что мы решили — охотников на нее больше не сыщется. И вот однажды я заглянул в Гопкинс-Корнерс к тамошнему банкиру, представлявшему интересы владельцев, и заявил, что если зубодер не станет продлевать аренду, то я, пожалуй, не против. Но банкир ответил, что хозяева фермы, проживающие где-то в Чикаго, желали бы не сдавать ее, а продать совсем. Хотя лично он ни на что подобное не надеется: кто же ее в таком виде купит!
Однако смотрим — весной на ферме объявились новые люди. А спустя какой-то срок узнаем, что ее все-таки продали и нового владельца зовут Хит, Реджинальд Хит. И Берт Смит сказал мне:
— Реджинальд, подумать только! Ну и имечко у нового фермера!..
Больше он, правда, ничего не сказал. А Джинго Гаррис, возвращаясь как-то из города, увидел, что Хит вышел во двор, и завернул к нему на часок. Сами знаете, такое меж добрыми соседями водится, и Хит вроде обрадовался, что Джинго завернул к нему, только тот все равно нашел, что новичок мало похож на фермера.
— Иностранец он, вот кто, — втолковывал мне Джинго. — С лица весь темный. Вроде как испанец или из какой другой южной страны. И откуда он только выкопал имя Реджинальд! Имя английское, а он никакой не англичанин…
Позже мы услышали, что Хит и не испанец даже, а откуда-то с самого края света. Но англичане, испанцы или кто там еще, а только он и его домашние показали себя работягами всем на зависть. Их было всего-то трое: он, жена да дочка лет четырнадцати, зато все трое трудились от темна до темна — умело, старательно, ни к кому попусту не приставая. И мы стали их за это уважать, хотя наши дорожки пересекались не так уж часто. Не то чтобы мы того не хотели или они нас отваживали. Просто в таких общинах, как наша, новых соседей признают не сразу, а постепенно: они вроде как должны сами врасти в нашу жизнь.
У Хита был старый-престарый, латанный-перелатанный трактор, весь подвязанный проволочками, а уж тарахтел этот трактор — не приведи бог! Но едва земля подсохла достаточно, чтобы пахать, сосед принялся поднимать поля, совсем заросшие за долгие годы. Я частенько диву давался — уж не пашет ли он всю ночь напролет, потому что не раз слышал тарахтенье и тогда, когда уже собирался ко сну. Хоть это было не так поздно, как, может, покажется горожанину: мы здесь, в долине, ложимся рано, зато и встаем ни свет ни заря.
И вот как-то вечером пришлось мне выйти из дому в поисках двух пропавших телок — из тех неуемных, кому любой забор нипочем. Только представьте себе: время позднее, человек пришел с работы усталый, да еще и дождик моросит, и на дворе темно — хоть глаз выколи, а тут выясняется, что эти две телки опять куда-то запропастились, и хочешь не хочешь, а надо подниматься и идти их искать. И на какие только хитрости я с ними ни пускался, а все без толку. Если уж телка пошла выкидывать номера, то хоть тресни, а ничего с ней не поделаешь.
Засветил я фонарь и отправился на поиски. Промучился часа два, а телки как сквозь землю провалились. Я было совсем отчаялся и решил возвращаться домой, как вдруг понял, что нахожусь чуть выше западной межи прежнего Льюисова поля. Теперь, чтобы попасть домой, мне короче всего было идти вдоль поля, а значит, можно и подождать чуток, пока трактор воротится с дальнего конца борозды, и заодно спросить Хита, не видал ли он этих чертовых телок.
Ночь выдалась темная, звезды попрятались за облаками, в верхушках деревьев шумел ветер, и в воздухе пахло дождем. Я еще сказал себе, что, наверное, Хит решил поработать сегодня лишний часок, чтобы закончить вспашку до дождя. Хотя нет, я уже тогда подумал, что он, пожалуй, усердствует через край. Он и так успел обогнать с пахотой всех остальных в долине.
Ну вот, спустился я с крутого склона и перешел ручеек, благо знал, где мелко. Но пока я искал это мелкое место, трактор сделал полную ходку и ушел. Я поискал глазами, не мелькнет ли где свет от фар, но ничего не разглядел и рассудил, что света, должно быть, не видать за деревьями.
Потом я добрался до поля, пролез меж жердями ограды и зашагал через борозды трактору наперерез. Было слышно, как он повернул в конце поля и затарахтел обратно в мою сторону. Но странно: шум я слышал явственно, а света по-прежнему не было и в помине.
Я нашел последнюю свежую борозду и встал, поджидая, — и не то чтобы сразу встревожился, но все же подивился, как это Хит умудряется держать борозду, не зажигая огней. Помнится, я еще подумал тогда, что, может, у него глаза как у кошки и он умеет видеть в темноте. Теперь-то, когда вспоминаю про это, мне и самому смешно становится: с чего я, в самом деле, взял, что у Хита глаза как у кошки, — но тогда мне было не до смеха.
Трактор тарахтел все сильнее, все ближе с каждой секундой — и вдруг как выскочит из темноты прямо на меня! Я испугался, как бы не попасть под колеса, и отпрыгнул ярда на два, если не на три. Да что там испугался — душа в пятки ушла, а только мог бы и не прыгать: стой я столбом, я тоже не оказался бы на дороге.
Трактор прошел мимо, и тогда я замахал фонарем и крикнул Хиту, чтобы притормозил. Но когда я махал фонарем, то поневоле осветил кабину — и обнаружил, что она пуста.
Сотня разных предположений пронеслась у меня в голове, но запала одна ужасная мысль: не иначе как Хит сверзился с трактора и лежит где-нибудь в поле, истекая кровью.
Я помчался вдогонку за трактором, чтоб успеть заглушить его прежде, чем он сойдет с борозды и врежется в дерево или еще куда-нибудь, да только чуточку припоздал, и он достиг поворота раньше меня. И что бы вы думали — пошел на поворот сам собой, и так точно, словно вокруг был ясный день и за рулем сидел тракторист.
Вскочив на заднюю тягу, я уцепился за сиденье и кое-как влез наверх. Потом протянул руку и взялся за рычаг газа, хотел было заглушить двигатель, но, едва рука коснулась рычага, передумал. Трактор уже завершил поворот и сам собой пошел по новой борозде — но дело было не только в этом.
Возьмите вы любой старый трактор, который чихает, кашляет и гремит на ходу, угрожая развалиться на части, и полезайте в кабину — да у вас зубы тут же сведет от вибрации! Этот трактор тоже чихал и кашлял честь по чести, а никакой вибрации не возникало. Он катился вперед плавно, как дорогой лимузин, и лишь слегка подрагивал, когда колеса наезжали на бугор или попадали в рытвину.
Так я и стоял, одной рукой придерживая свой фонарь, а другой сжимая рычаг газа — и не предпринимая больше ничего. А когда доехал до места, где трактор нацелился на новый разворот, то просто спрыгнул на землю и отправился домой. Искать соседа, лежащего бездыханным на поле, я не стал, потому что понял: Хита на поле не было и нет.
Мне бы сразу задаться вопросом, как же это все получается, только я не позволил себе тогда мучиться в поисках ответа. Должно быть, поначалу я был слишком ошарашен. Можно волноваться сколько влезет обо всяких пустяках, если они идут не так, как надо, но, когда напорешься на что-то по-настоящему большое и непонятное, вроде этого трактора без тракториста, лучше уж сразу, без долгих слов поднять руки вверх: все равно тебе с твоим умишком с такой загадкой не совладать, на это нет ни единого шанса из тысячи. Пройдет какое-то время — ты и вовсе позабудешь про встречу с загадкой. Раз ее нельзя решить, остается только выкинуть ее из головы.
Я вернулся домой и еще постоял немного на дворе, прислушиваясь. Ветер разошелся не на шутку, и снова стал накрапывать дождь, но как только ветер чуть-чуть стихал, до меня по-прежнему доносилось тарахтенье трактора.
Когда я вошел в дом, Элен с ребятами уже крепко спали, так что я не мог никому ничего рассказать. А на следующий день, обдумав все хорошенько, и подавно не стал ничего рассказывать. Как сам теперь понимаю, главным образом потому, что мне все равно никто бы не поверил и я только навлек бы на себя кучу насмешек — уж соседи не упустили бы случая проехаться насчет автоматических тракторов.
Хит закончил пахоту, а затем и сев гораздо раньше всех остальных в долине. Всходы появились дружно, погода выдалась как по заказу. Правда, в июне вдруг зачастили дожди, и никак не удавалось прополоть кукурузу — разве выйдешь в поле, когда земля вся насквозь сырая! Мы слонялись по своим усадьбам, подправляли заборы, занимались разной другой ерундой, поносили погоду и бессильно смотрели, как зарастают сорняками непрополотые поля.
То есть слонялись все, кроме Хита. У него кукуруза была как на выставке — сорняки разве что в лупу и углядишь. Джинго не утерпел, завернул к нему и полюбопытствовал, как это у него получается, а Хит только усмехнулся в ответ тихой такой, беззлобной усмешечкой и заговорил о другом.
Наконец подошло время яблочных пирогов — яблоки хоть и были еще зеленые, но на пироги в самый раз, — а надо сказать, во всей долине никто не печет их лучше, чем Элен. Она у меня что ни год берет за свои выпечки призы на окружной ярмарке и очень этим гордится.
И вот как-то раз напекла она пирогов, завернула их в полотенце и отправилась к Хитам. У нас в долине так заведено — женщины частенько отправляются к соседям в гости со своей стряпней. Каждая со своим фирменным блюдом — такую они завели особенную, но в общем-то безобидную манеру хвастовства.
Вышло все как нельзя лучше, словно она с Хитами век была знакома. Даже домой припоздала, и мне пришлось самому собирать к ужину, а то ребятня уже крик подняла: «Мы голодные! Дадут нам когда-нибудь поесть?» — и всякое такое. Тут только она и заявилась.
Разговоров у нее теперь было — не остановишь. И про то, как Хиты обновили дом: кто бы мог подумать, что можно так прибраться в такой развалюхе, и про то, какой они завели огород. Особенно про огород. Большой огород, рассказывала Элен, и прекрасно ухоженный, а главное — полный овощей, каких она в жизни не видела. Уж такие диковинные, рассказывала Элен, совсем не похожи на наши.
Мы поговорили про эти овощи еще чуть-чуть: наверное, мол, Хиты привезли семена оттуда, откуда сами приехали. Хотя, насколько мне известно, овощи есть овощи, где бы вы ни жили. Огородники выращивают одно и то же что в Испании, что в Аргентине, что в Тимбукту. То же самое, что и мы здесь. Да и вообще меня начали одолевать сомнения насчет новых соседей — кто они и откуда взялись.
Но на серьезные раздумья у меня тогда не хватило времени, даром что по округе уже поползли разные слухи. Подошел сенокос, потом поспел ячмень, и работы было по горло. Травы поднялись хорошо, и ячмень не подкачал, зато с видами на кукурузу, похоже, предстояло проститься. Началась засуха. Так уж оно случается, как нарочно: слишком много дождей в июне, слишком мало в августе.
Мы грустили, глядя на посевы, и вздыхали, глядя на небо, и с надеждой встречали любое облачко, только проку ни от одного из них не дождались. Бывают годы, когда Бог словно отворачивается от фермеров.
И тут в одно прекрасное утро заявляется ко мне Джинго Гаррис — и ну болтать о том о сем. Переминается с ноги на ногу, а от меня ни на шаг. Я себе работаю — чиню изношенную сноповязалку. Хоть и не похоже было, что она мне в этом году понадобится, а починить все равно не мешало.
— Джинго, — спросил я наконец, дав ему помаяться часок или чуть побольше, — признавайся, что у тебя на уме?
Тут-то он мне и выложил:
— А у Хита ночью выпал дождь.
— Как так? — откликнулся я. — Ни у кого другого дождя не было.
— Ты прав, — подтвердил Джинго. — Ни у кого не было, только у него одного…
А вышло так: возвращался он от Берта Смита, куда ходил одолжить бечевки для снопов, и решил махнуть напрямик через северное кукурузное поле Хита. Пролез сквозь ограду, глядь — а поле-то мокрое, как после сильного дождя.
«Ночью он, что ли, прошел?» — спросил себя Джинго. Подумал, что тут что-то не так, но в конце концов дождь мог пролиться и узкой полосой поперек долины, хоть обычно дожди движутся у нас снизу вверх или сверху вниз, а уж никак не поперек. Но когда Джинго, пройдя поле краем, перелез через ограду на другой стороне, то увидел, что там тоже не было никакого дождя. Тогда он повернул и обошел все поле вокруг — и что бы вы думали? — дождь выпал лишь на самом поле и больше нигде. На поле — пожалуйста, а за оградой — ни-ни.
Обогнув все поле по меже, он присел на моток бечевки и стал гадать, что бы это значило. Но сколько ни гадай, тут все равно не было ни малейшего смысла, да что там — в такую минуту собственным глазам не поверишь.
Джинго у нас человек дотошный. Прежде чем делать выводы, он любит взвесить все «за» и «против» и вообще узнать все, что можно узнать. Он не стал пороть горячку, а отправился на другой участок, где Хит высеял кукурузу. Этот участок — на западной стороне долины, но и там тоже прошел дождь. То есть на самом участке прошел, а вокруг и не подумал.
— Ну и что ты на это скажешь? — спросил Джинго, и я ответил: не знаю, мол, что и сказать. Чуть было не сболтнул ему про трактор без тракториста, да вовремя удержался. Сами посудите: что за выгода переполошить всю округу? Но только Джинго за ворота, я завел свою колымагу — и к Хиту, попросить на день-другой копалку для лунок. Нет, конечно, копать лунки я и в мыслях не держал, но должен же найтись какой-то предлог, чтобы наведаться к соседу без приглашения…
Говоря по правде, мне так и не привелось спросить про эту копалку. Когда я приехал к Хитам, я про нее и не вспомнил.
Хит сидел на крыльце, на ступеньках, и вроде бы очень обрадовался, завидев меня. Подошел прямо к машине, протянул мне руку и сказал:
— Рад тебя видеть, Кэлвин.
Сказал таким тоном, что я сразу почувствовал его дружеское расположение и свою значительность, что ли. Ведь он назвал меня Кэлвин, а все в долине зовут меня попросту — Кэл. Если честно, я не очень-то уверен, что кто-нибудь, кроме Хита, помнит мое полное имя.
— Пойдем, покажу тебе, что мы тут понаделали, — пригласил он. — Подлатали кое-что слегка…
«Подлатали» — явно не то слово. Все на ферме блестело и сверкало. Ну совсем как на тех фермах в Пенсильвании или Коннектикуте, про которые пишут в журналах. Раньше дом и все надворные постройки были старые, облезлые, того и гляди рухнут. А теперь они выглядели солидно, прочно, так и лоснились от свежей краски. Разумеется, они не стали новыми, но приобрели такой вид, будто за ними всегда ухаживали на совесть и красили каждый год. Заборы были выправлены и выкрашены, сорняки выполоты, а безобразные кучи мусора расчищены или сожжены. Хит ухитрился даже собрать со всей фермы лом — бросовые ржавые железки — и рассортировать их.
— Работы была пропасть, — похвалился он, — но дело того стоило. Я привык к порядку. Люблю, чтоб везде была чистота…
Так-то оно, может, и так, но ведь он успел все это меньше чем за полгода! Приехал к нам в начале марта, а сейчас еще август не кончился, и за это время он не только засеял несколько сотен акров и выполнил на них все работы, но и обновил ферму. Ей-ей, говорил я себе, такого не бывает. Одному человеку такое просто не под силу, даже с помощью жены и дочки, даже если вкалывать двадцать четыре часа в сутки, не прерываясь ни на обед, ни на ужин. Разве что он научился растягивать время, чтобы каждый час стал равен трем или четырем.
Я плелся за Хитом, а сам все думал про то, как бы тоже научиться растягивать время, и мне чертовски нравилось думать про это — а согласитесь, не часто случается, что глупые мимолетные мыслишки доставляют удовольствие. Ну, во-первых, думалось мне, с такими-то талантами можно любой день растянуть настолько, чтобы переделать всю работу, какая только найдется. А во-вторых, если время можно растягивать, то, верно, можно его и сжимать, и тогда визит к зубному врачу, например, пролетит в одно мгновение.
Хит повел меня в огород — и точно, Элен не соврала. Были там, конечно, и обыкновенные овощи — капуста, помидоры, кабачки и все остальные, какие есть в любом огороде, — но в придачу к ним было столько же других, каких я до того не видывал. Хит говорил мне, как они называются, и тогда эти названия были мне в диковинку. Теперь-то странно и предположить, что они были нам в диковинку. Теперь эти овощи растут у каждого фермера в долине, и нам сдается, что они росли здесь всегда.
Мы ходили по огороду, а Хит выдергивал и срывал свои диковинные овощи и складывал их в корзинку, которую таскал с собой.
— Постепенно ты их все перепробуешь, — говорил он. — Одни тебе сперва, наверное, придутся не по вкусу, зато другие понравятся сразу. Вот эту штуку едят в сыром виде, нарезав ломтиками, как помидор. А эту лучше сварить, хотя можно и запечь…
Мне хотелось спросить, где он раскопал эти овощи и откуда они родом, только он не давал мне и рта раскрыть: все говорил и говорил про то, как их готовить и какие можно держать всю зиму, а какие консервировать. А потом он дал мне погрызть какой-то корешок сырым, и вкус у корешка оказался отменный.
Мы дошли до самого конца огорода и повернули назад, и тут из-за угла дома выбежала жена Хита. Меня она, видимо, сначала не заметила или позабыла обо мне, потому что назвала мужа не Реджинальд и не Реджи, а каким-то другим, совсем иностранным именем. Я даже и пытаться не стану вспоминать, все равно не смогу — я и тогда-то не сумел бы повторить это имя, хоть оно и прозвучало всего секунду назад. Оно было просто ни на что не похоже.
Тут женщина заметила меня, перешла на шаг и перевела дыхание, а потом сказала, что сию минуту услышала по телефону ужасную новость: младшая дочка Берта Смита, Энн, очень тяжко больна.
— Они позвонили доктору, — сказала она, — а он уехал по вызовам и теперь нипочем не успеет вовремя. Понимаешь, Реджинальд, симптомы напоминают…
И она произнесла еще одно слово, какого я никогда не слышал и, наверное, больше не услышу.
Я смотрел на Хита — и, клянусь, лицо у него побелело, даром что кожа была с оливковым оттенком.
— Скорее! — крикнул он, и — хвать меня за руку. Мы побежали — он к своей древней, видавшей виды машине, я следом. Корзинку с овощами Хит швырнул на заднее сиденье, а сам прыгнул за руль. Я уселся рядом и хотел закрыть дверцу, только она не закрывалась. Замок отщелкивался, хоть плачь, и пришлось придерживать дверцу, чтоб не гремела.
Машина выскочила за ворота, словно ее кто наскипидарил, а уж шума она издавала столько, что впору оглохнуть. Как я ни тянул дверцу к себе, она упорно лязгала, и крылья дребезжали, и вообще я различал все шумы, каких можно ждать от древнего драндулета, и еще какие-то совершенно непонятные.
Меня опять подмывало задать соседу вопрос — теперь о том, что он собирается предпринять, — но никак не удавалось найти нужные слова. А если бы и удалось, то сомневаюсь, расслышал ли бы он мой вопрос за грохотом и дребезжаньем машины. Так что оставалось лишь цепляться за сиденье, а другой рукой пытаться удержать дверцу. И признаюсь, мне вдруг стало сдаваться, что машина громыхает сильнее, чем должна бы. В точности как старый расхлябанный трактор Хита — тот тоже тарахтит сильнее, чем положено любому трактору. Ну разве может издавать столько шума машина, обладающая таким ходом? Как на тракторе, так и здесь я не ощущал никакой вибрации от мотора, и, несмотря на грохот и лязг, мчались мы дай боже. Я уже упоминал, что дороги у нас в долине — далеко не сахар, и все же ручаюсь, что временами Хит выжимал не меньше семидесяти миль в час. При такой скорости мы должны были бы, говоря по чести, вылететь в кювет на первом же крутом повороте, а машина вроде бы только приседала и крепче вжималась в дорогу, и нас ни разу даже не занесло.
Мы затормозили перед домом Берта. Хит выскочил из машины и бросился бегом по дорожке, я за ним.
Эми Смит вышла нам навстречу, и было заметно, что она недавно плакала, а вообще-то она сильно удивилась при виде нас.
Какой-то миг мы стояли на крылечке молча, потом Хит заговорил — и странная вещь: на нем были обтрепанные джинсы и ковбойка в пятнах пота, вместо шляпы — колтун нечесаных волос, и тем не менее мне вдруг почудилось, что он одет в дорогой костюм и, приподняв шляпу, отвешивает Эми поклон.
— Мне передали, — сказал он, — что ваша девочка заболела. Не могу ли я ей помочь?
Уж не знаю, почудилось ли Эми то же, что и мне, только она отворила дверь и посторонилась, чтобы мы прошли.
— Сюда, пожалуйста.
— Благодарю вас, мадам, — ответил Хит и вошел в комнату.
Я остался с Эми, она повернулась ко мне, и на глаза у нее опять набежали слезы.
— Знаешь, Кэл, ей очень-очень плохо, — сказала она.
Я печально кивнул. Чары рассеялись, здравый смысл начал возвращаться ко мне, и я поразился безумию фермера, возомнившего, будто он может помочь маленькой девочке, которой очень-очень плохо. И своему безумию тоже — почему я застрял на крыльце и даже не вошел в комнату вслед за ним?
Но тут Хит снова вышел на порог и тихонько прикрыл за собой дверь.
— Она заснула, — обратился он к Эми. — Теперь все будет в порядке.
И, не прибавив больше ни слова, зашагал прочь. Я поколебался, глядя на Эми и не представляя себе, что предпринять. Потом до меня дошло, что я не в силах ничего предпринять. И я решил уйти вместе с Хитом.
Обратно мы ехали с умеренной скоростью, но машина все равно бренчала и громыхала, как прежде.
— А бегает вполне прилично, — крикнул я, стараясь перекрыть грохот.
Он слегка улыбнулся и крикнул в ответ:
— Два дня вожусь — день езжу…
Когда мы добрались до фермы Хита, я вылез из его машины и пересел в свою.
— Погоди, ты забыл овощи, — бросил он мне вдогонку.
Пришлось вернуться за овощами.
— Большое спасибо.
— Не за что.
Тогда я поглядел ему прямо в глаза и сказал:
— Знаешь, было бы очень здорово, если бы нам сейчас дождаться дождя. Для нас это было бы просто спасение. Один хороший дождь — и кукуруза уцелеет…
— Заходи еще, — пригласил он. — Очень рад был потолковать с тобой.
И в ту же ночь над всей долиной прошел дождь, хороший проливной дождь, и кукуруза уцелела. А маленькая Энн выздоровела.
Доктор, когда он наконец доехал до фермы Берта, объявил, что кризис миновал и дело идет на поправку. Какая-то вирусная инфекция, сообщил он. Столько их теперь развелось! Не то что в старые добрые времена, когда люди еще не баловались со всякими чудотворными снадобьями и вирусы не наловчились поминутно перерождаться. Раньше врачи по крайней мере знали, от чего они лечат, а теперь сплошь и рядом — черта с два…
Не известно, говорили ли Берт и Эми доктору про Хита, только, по-моему, вряд ли. С какой стати признаваться, что вашего ребенка вылечил сосед? Не дай бог, сыщется какой-нибудь умник, который выдвинет против Хита обвинение в незаконной медицинской практике, хотя такое обвинение всегда чертовски трудно доказать. Но разговорчики по долине поползли все равно. Мне, например, рассказывали по секрету, что Хит, до того как осесть у нас, был известнейшим врачом в Вене. Разумеется, я ни во что подобное не верю. Да, наверное, и тот, кто придумал эту версию, сам в нее не верил, но так уж у нас в провинции ведется, ничего не попишешь.
На время эти россказни взбудоражили всю долину, а потом все улеглось. И само собой получилось, что Хиты стали для нас своими, словно жили рядом испокон веков. Берт взял за правило беседовать с Хитом на разные темы, а женщины принялись что ни день вызывать миссис Хит к телефону, чтоб она могла вставить словечко в круговой разговор, каким вечно заняты провода у нас в долине: чешут языки с утра до ночи, так что, если приспичило вызвать кого-нибудь по делу, сначала надо еще отогнать от аппарата этих балаболок. Осенью мы позвали Хита охотиться на енотов, а кое-кто из молодых парней стал помаленьку приударять за его дочкой. Все пошло так, как если бы Хиты и вправду были здесь сторожилами.
Я уже говорил — нам всегда везло на соседей.
А когда все хорошо, то и время течет незаметно, и в конце концов его вообще перестаешь ощущать. Именно так и случилось у нас в долине. Год шел за годом, а мы не обращали на них внимания. На хорошее никогда не обращаешь внимания, принимаешь его как нечто само собой разумеющееся. Нужно, чтобы настали другие, скверные времена — вот тогда оглянешься и поймешь, что раньше-то все было хорошо на удивление.
Но вот однажды, примерно год назад или, может, чуть больше, только-только я покончил с утренней дойкой, откуда ни возьмись у ворот — машина с нью-йоркским номером. В наших краях дальний номер встретишь нечасто, так я на первых порах подумал, что кто-то заблудился и притормозил спросить дорогу. Смотрю — на переднем сиденье мужчина и женщина, а сзади трое детишек и пес, и машина новехонькая, блестит как на картинке.
Я как раз нес молоко из коровника и, когда хозяин выбрался из-за баранки, поставил ведра наземь и подождал, пока он подойдет.
Он был моложавый, с виду интеллигентный и держал себя как полагается. Сказал, что его фамилия Рикард и что он газетчик из Нью-Йорка, что сейчас он в отпуске, а к нам в долину завернул по пути на запад с целью кое-что уточнить.
Насколько мне помнится, газеты до сих пор никогда не проявляли к нам интереса. Так я ему и ответил. И еще добавил: у нас, мол, никогда и не случалось ничего такого, о чем стоило бы сообщить в газете.
— Да нет, я не ищу скандалов, — заверил меня Рикард, — если вы этого испугались, то зря. Просто меня занимает статистика.
Признаться, со мной частенько бывает, что я соображаю туже, чем следовало бы. Человек я по природе, пожалуй, неторопливый, но тут, едва он произнес «статистика», я сразу почувствовал, что дело табак.
— Я недавно работал над статьями о положении фермеров, — пояснил Рикард, — и в поисках материала копался в правительственных статистических сводках. Ну и скучища — в жизни, кажется, так не уставал…
— И что же? — спросил я, а у самого сердце оборвалось.
— А то, что я узнал занятные вещи об этой вашей долине, — продолжал он. — Сначала я чуть было не проморгал самого главного. Прошел мимо цифр и, в общем-то, не понял их смысла. Потом все-таки вернулся вспять, перепроверил цифры и взглянул на них новыми глазами. Никаких подробностей в сводке, разумеется, нет, просто намек на что-то непонятное. Пришлось покопаться еще и выяснить кое-какие факты.
Я попробовал отшутиться, только он мне не позволил.
— Начнем с погоды, — сказал он. — Вы отдаете себе отчет, что на протяжении последних десяти лет у вас стояла идеальная погода?
— Да, погода была что надо, — согласился я.
— А ведь раньше было не так. Я проверял.
— Ваша правда, — опять согласился я. — За последнее время погода улучшилась.
— И урожаи у вас десять лет подряд самые высокие во всем штате.
— Высеваем кондиционные семена. Используем лучшие агротехнические приемы.
Он усмехнулся.
— Ну это вы бросьте. Агротехника у вас не менялась по меньшей мере четверть века.
Спору нет, тут он меня припер к стенке.
— Два года назад весь штат пострадал от нашествия ратных червей, — продолжал он. — Весь штат, кроме вас. Вас и эта напасть обошла стороной.
— Нам повезло. Помню, в тот год мы сами удивлялись, как нам повезло.
— Я заглянул в медицинскую статистику, — не унимался он. — Та же история. Десять лет подряд. Никаких болезней — ни кори, ни ветрянки, ни воспаления легких. Вообще ничего. За десять лет один-единственный случай смерти, и то по причине весьма преклонного возраста.
— Дедушка Паркс, — отозвался я. — Ему вот-вот стукнуло бы девяносто. Почтенный был старикан.
— Сами видите, — сказал Рикард.
Спорить не приходилось. У него в руках были точные данные. Мы не сознавали толком своей удачи, а он проследил все до истоков — и поймал нас с поличным.
— Ну и чего же вы от меня хотите? — спросил я.
— Хочу, чтобы вы рассказали мне про одного из ваших соседей.
— Я не сплетничаю про соседей. Если вас интересует кто-то из них, почему бы вам не обратиться к нему самому?
— Я и собирался, да не застал его дома. На ферме, что ниже по дороге, мне сказали, будто он уехал в город. Укатил со всей семьей.
— Реджинальд Хит, — сказал я. Играть дальше в молчанку было бессмысленно: Рикард и без меня был достаточно осведомлен.
— Он самый. Я беседовал кое с кем в городе. И оказалось, что он ни разу не ремонтировал ни одну из своих машин: ни трактор, ни прицепные орудия, ни автомобиль. Так и пользуется ими с тех самых пор, как поселился на ферме. А ведь они и тогда были уже не новыми.
— Ухаживает за ними на совесть, — ответил я. — Сам латает, сам смазывает.
— Еще одно обстоятельство. С самого своего приезда сюда он не купил ни капли бензина.
Все остальное я, конечно, знал и без Рикарда, хоть никогда не давал себе труда задуматься над этим. А вот про бензин даже не догадывался. Видно, я не сумел скрыть удивления, потому что приезжий усмехнулся.
— Чего вы хотите? — повторил я.
— Чтобы вы рассказали мне, что вам известно.
— Поговорите с Хитом. Ничем не могу быть вам полезен.
И в тот же миг, как я произнес эти слова, пришло облегчение. Должно быть, я инстинктивно верил, что Хит выкрутится: уж он-то сообразит, как тут поступить.
Но после завтрака я нипочем не мог взяться за работу. Я собирался подрезать деревья в саду — я и так откладывал это дело чуть не два года, и дольше оно терпеть не могло. А вместо подрезки я принялся размышлять о том, почему это Хит не покупает бензина, и вспомнил ту ночь, когда встретил трактор без тракториста. И еще мне вспомнилось, как необычайно ровно движутся трактор и машина Хита, невзирая на немыслимый шум, какой они издают.
В общем, отложил я ножницы и припустил прямиком через поля. Я же знал, что Хит со всем семейством подался в город, — впрочем, не думаю, что сумел бы остановиться, даже будь они дома. Нет, я все равно не усидел бы на месте. Потому что наконец-то понял, что этот самый трактор не давал мне покоя целых десять лет. Пришла пора разобраться, что к чему.
Трактор стоял на месте, в гараже, и я вдруг забеспокоился: а как залезть к нему в нутро? Но задача оказалась легче легкого. Я снял захваты и приподнял капот. И увидел, в сущности, то, что и ожидал увидеть, хотя, по правде сказать, не представлял толком, что именно откроется мне под капотом.
Там лежал брусок блестящего металла, чем-то напоминающий, пожалуй, куб из тяжелого стекла. Брусок был не слишком велик, но выглядел массивно, и поднять его было бы, наверное, очень не просто.
Видны были и отверстия от болтов, которыми прежде крепился обычный двигатель внутреннего сгорания, а чтобы установить новый движок, поперек рамы была наварена прочная металлическая полоса. Поверх блестящего куба громоздился еще какой-то аппаратик. Я не стал тратить время и разбираться, как именно он работает, однако приметил, что он соединен с выхлопной трубой, и понял, что эта штука служит для маскировки. Знаете, как на ярмарочных аттракционах переделывают электрические вагончики под древние локомотивы, чтоб они пыхтели и выбрасывали клубы пара? Вот и это устройство было того же рода. Оно выбрасывало колечки дыма и тарахтело, как положено трактору.
Оставалось только диву даваться: если Хит придумал движок, работающий лучше, чем двигатель внутреннего сгорания, зачем же пускаться во все тяжкие, чтобы скрыть от людей свое изобретение? Да если бы у меня вдруг родилась такая идея, уж я бы своего не упустил! Нашел бы кого-то, кто согласился бы меня финансировать, наладил бы производство таких движков и в два счета разбогател бы до одури. Что мешало Хиту поступить точно так же? Да ничто не мешало. А вместо этого он маскирует свой трактор, чтобы тот выглядел и тарахтел как самый обыкновенный, и машину свою нарочно заставляет шуметь и греметь, чтобы никто не заметил мотора нового типа. Только он, честно говоря, перестарался. И машина и трактор у него гремят куда больше, чем надо. И самую существенную промашку он сделал, что не покупал бензина. На месте Хита я бы непременно покупал горючее, как простые смертные, а потом сливал бы его на помойку или сжигал…
Мне уже стало казаться, что Хит и вправду все время что-то скрывает, намеренно держится в тени. Словно он действительно сбежал из какой-то другой страны — или откуда-нибудь еще.
Я опустил капот и застегнул захваты, а выйдя из гаража, старательно прикрыл за собой ворота.
Вернувшись домой, я снова принялся за подрезку, а между делом обдумывал то, что увидел. И вдруг до меня дошло, что помаленьку я думал об этом с того самого вечера, как встретил трактор без тракториста. Правда, думал я урывками, не стараясь сосредоточиться, и потому ни до чего особенного не додумывался. А теперь додумался, и, если начистоту, мне бы обмереть от страха.
Но я не обмер. Реджинальд Хит был мой сосед — и хороший сосед. Мы вместе ходили на охоту и на рыбалку и помогали друг другу в пору сенокоса и молотьбы, и мне он нравился, по крайней мере ничуть не меньше, чем многие другие. Да, конечно, он немного отличался от остальных, у него был странный трактор и странная машина, он вроде бы даже умел растягивать время — и с тех пор, как он поселился у нас в долине, нам везло на погоду и болезни обходили нас стороной. Все точно, но чего тут бояться? Если хорошенько знаешь человека, бояться нечего.
Ни с того ни с сего вдруг вспомнилось, как года два-три назад я однажды заехал к Хитам летним вечером. Было жарко, и вся семья вынесла стулья на лужайку — там казалось чуть-чуть прохладнее. Мне тоже предложили стул, и мы сидели и болтали ни о чем, вернее, обо всем, что приходило в голову.
Луна еще не взошла, зато звезд высыпало видимо-невидимо, и такие они были в тот вечер красивые, просто как никогда. Я показал Хиту на звезды и от нечего делать выложил ему все, что знал из астрономии.
— Они так далеко, — говорил я, — так далеко, что свет от них идет до нас годами. И каждая — солнце, совсем как наше. А многие даже больше, чем наше солнце…
На этом мои познания о звездах заканчивались. Хит задумчиво кивнул.
— Есть одна звездочка, — сказал он, — на которую я часто поглядываю. Вон та, голубая. Ну вроде как голубая, видишь? Видишь, как она мерцает? Словно подмигивает нам с тобой. Славная звездочка, дружелюбная…
Я сделал вид, будто понимаю, о какой звездочке речь, хотя на самом деле ничуть не был в этом уверен: их была на небе тьма-тьмущая, и почти все мерцали.
Тут мы заговорили о чем-то еще и забыли про звезды. По крайней мере, я начисто забыл.
После ужина ко мне заявился Берт Смит и рассказал, что Рикард наведывался к нему и задавал всякие каверзные вопросы, и к Джинго тоже наведывался, а теперь намерен встретиться с Хитом, как только тот вернется из города. Берт от всего этого слегка расстроился, и я постарался его утешить.
— Горожане всегда нервничают по пустякам, — высказался я. — Не стоит беспокоиться.
Сам я если и беспокоился, то не слишком — чувствовал, что Хит как-нибудь осилит такую задачу. Даже если Рикард и тиснет статейку в нью-йоркских газетах, нам от этого особой беды не будет Енотовая долина от Нью-Йорка куда как далеко.
Я, признаться, считал, что больше мы Рикарда не увидим и не услышим. Только никогда я так жестоко не ошибался.
Около полуночи я проснулся оттого, что Элен трясла меня за плечо.
— Там кто-то стучится. Пойди узнай, что ему надо.
Пришлось натянуть штаны и надеть туфли, зажечь лампу и спуститься вниз. Пока я одевался, в дверь еще стукнули два-три раза, но, как только я зажег свет, утихомирились.
Я подошел к двери и отомкнул засов. На крыльце стоял Рикард и держался он теперь отнюдь не так самоуверенно, как поутру.
— Извините, что разбудил, — сказал он, — но я, кажется, заблудился.
— Тут нельзя заблудиться! — отвечал я. — В долине одна-единственная дорога. Одним концом она упирается в шоссе номер шестьдесят, другим — в шоссе номер восемьдесят пять. Езжайте по дороге, и она выведет вас на то или другое шоссе.
— Но я еду уже четыре часа, — сказал он, — и не могу найти ни того шоссе, ни другого!
— Послушайте, — отвечал я, — все, что от вас требуется, — это ехать прямо в любую сторону. Здесь просто некуда свернуть. Четверть часа — и вы на шоссе…
Я не скрывал своего раздражения — уж очень все это глупо звучало. И кроме того, я не люблю, когда меня среди ночи вытаскивают из постели.
— Поверьте, я действительно заблудился, — воскликнул он с отчаянием. Пожалуй даже, он был на грани паники. — Жена перепугана до смерти, дети просто падают с ног…
— Ладно, — отвечал я, — дайте только надеть рубаху и завязать шнурки. Так и быть, провожу вас.
Он сказал, что предпочитает попасть на шоссе номер шестьдесят. Я вывел свою колымагу из гаража и велел ему ехать за мной. Может, я и был раздражен, но все-таки рассудил, что надо ему помочь. Он нам взбаламутил всю долину, и чем скорее он уберется восвояси, тем лучше.
Прошло, наверное, полчаса, прежде чем я начал догадываться, что дело и впрямь нечисто. Полчаса — это вдвое дольше, чем требуется, чтобы выбраться на шоссе. Но дорога выглядела как обычно, и вообще кругом не было ничего подозрительного — если не смотреть на часы. Я поехал дальше. И через сорок пять минут очутился у порога собственного дома.
Как это получилось, я и сам не мог взять в толк, хоть убей. Я вылез из-за баранки и подошел к машине Рикарда.
— Теперь вы поняли, что я имел в виду? — спросил он.
— Мы, похоже, нечаянно повернули назад, — отвечал я.
Жена Рикарда, казалось, вот-вот забьется в истерике.
— Что происходит? — повторяла она пронзительным, визгливым голосом. — Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?..
— Попробуем еще раз, — предложил я. — Поедем медленнее, чтобы не сделать снова ту же ошибку.
Я поехал медленнее. На этот раз мне потребовался час — и тем не менее я вернулся к воротам собственной фермы. Потом мы попытались выехать на шоссе номер восемьдесят пять — и через сорок минут были там же, откуда тронулись в путь.
— Сдаюсь, — сказал я Рикардам. — Вылезайте и заходите в дом. Сейчас сообразим, где вам постелить. Вы переночуете, а с рассветом, глядишь, и дорога отыщется…
Я сварил кофе и нашел разной снеди для сандвичей, а Элен тем временем приготовила постели на пятерых.
— Пес пусть ночует на кухне, — распорядилась она.
Я достал картонный ящик из-под яблок и уложил в него подстилку.
Пес был жесткошерстный фокстерьер, чистенький, маленький и очень забавный, а дети — такие же славные, как любые другие дети. Миссис Рикард, правда, опять было сорвалась на истерику, но Элен заставила ее выпить кофе, а я просто не позволил продолжать разговор о том, почему им не выбраться из долины.
— При дневном свете, — уверял я их, — от ваших страхов и следа не останется…
И действительно, после завтрака гости совершенно успокоились и как будто уже не сомневались в том, что сумеют отыскать шоссе номер шестьдесят. Они уехали без провожатых — и через час вернулись. Тогда я снова сел в машину и двинулся впереди них, и не стыжусь признаться, что по спине у меня бегали мурашки.
Я внимательно следил за дорогой и внезапно понял, что мы едем не к шоссе, а от шоссе обратно в долину. Я, конечно, тут же затормозил, мы развернулись и покатили в правильную сторону. Но минут через десять поняли, что нас опять развернуло. Сделали еще одну попытку — теперь мы буквально ползли, пытаясь заметить ту точку, где нас разворачивает. Напрасный труд — мы ничегошеньки не заметили.
Когда мы вернулись на ферму, я позвонил Берту и Джинго и попросил их подъехать ко мне. Они в свою очередь пробовали вызволить Рикарда, сначала порознь, потом оба вместе, но добились не большего, чем я. Тогда я попытался выбраться сам, без журналиста, следующего за мной по пятам, и — что бы вы думали? — выбрался без всяких приключений. Смотался на шоссе номер шестьдесят и обратно за полчаса. Я решил, что лед сломан, и сделал новую попытку вывести машину Рикарда, но не тут-то было…
К полудню мы установили все с полной точностью. Любой из старожилов мог преспокойно выехать из долины — любой, только не Рикард.
Элен уложила миссис Рикард в постель и дала ей успокоительного, а я отправился к Хиту. Он обрадовался мне и выслушал меня, но вот ведь незадача: пока я говорил, мне все вспоминалась догадка, что он умеет растягивать и сжимать время. Когда я закончил, он помолчал минутку, словно взвешивал, верное ли решение принял.
— Странная это история, Кэлвин, — сказал он наконец. — Вроде бы и несправедливо, что Рикарды заперты в нашей долине помимо собственной воли. А если разобраться, для нас самих это удача. Рикард собирался написать про нас в газетах, и, если бы он исполнил свое намерение, мы сразу оказались бы в центре внимания. Сюда набежала бы куча народу — другие газетчики, чиновники, умники из университетов и просто любопытные. Они исковеркали бы всю нашу жизнь, а то еще стали бы предлагать нам за наши фермы большие деньги — много больше того, что они стоят на самом деле, — и погубили бы нашу долину. Не знаю, как тебе, а мне долина нравится как она есть. Она напоминает мне… ну, в общем, дорогое для меня место.
— Рикард может передать свою статью по телефону, — возразил я, — или переслать почтой. К чему задерживать его здесь, если статью все равно напечатают?
— Думаю, что не напечатают, — ответил он. — Да нет, я совершенно уверен, что он не станет ни передавать статью по телефону, ни посылать по почте.
Я ехал к Хиту, чтоб, если понадобится, замолвить за Рикарда словечко, но поразмыслил хорошенько над тем, что услышал, и не стал ничего говорить.
В самом деле, если существует некий принцип или некая сила, которые поддерживают жителей долины в добром здравии, гарантируют им хорошую погоду и вообще облегчают жизнь, то, разумеется, все остальные на белом свете ничего не пожалеют, лишь бы заполучить такое чудо в свое распоряжение. Пусть это эгоизм, но я не верю, что подобный принцип или силу можно распределить так, чтобы хватило на всех. И если кому-то суждено использовать эту силу в своих интересах, то лучше уж пусть она останется на веки вечные здесь, в долине, где проявила себя впервые.
И еще одно: если мир услышит, что мы владеем такой силой либо принципом и не можем или не хотим ими поделиться, все затаят на нас злобу, да что там злобу, просто возненавидят нас, как лютых врагов.
Вернувшись домой, я поговорил с Рикардом и даже не пытался скрыть от него правду. Он вскипел и хотел было тут же двинуться к Хиту выяснять отношения, но я ему отсоветовал. Ведь у него не будет никаких доказательств, и он окажется в идиотском положении: Хит, вероятно, станет вести себя так, словно вообще не понимает, о чем речь. Рикард сначала ерепенился, спорил, но в конце концов согласился, что я прав.
Заезжее семейство прожило у меня на ферме дней пять, и от случая к случаю мы с Рикардом делали пробные выезды, просто чтобы попытать счастья, но все было по-прежнему. Убедившись в этом, мы снова позвали Берта и Джинго и держали военный совет. К тому времени миссис Рикард немного оправилась от потрясения, дети вошли во вкус жизни на вольном воздухе, а что касается пса, тот определенно поставил себе целью загнать и облаять каждого кролика, сколько бы их ни нашлось в долине.
— Чуть повыше на склоне есть бывшая ферма Чендлера, — додумался Джинго. — Там давненько никто не живет, но она в приличном состоянии. Можно кое-что подновить, и будет очень удобно.
— Но я не хочу оставаться здесь! — запротестовал Рикард. — Не могу же я в самом деле переселиться сюда!
— Кто сказал «переселиться»? — вмешался Берт. — Вам просто надо немного переждать. Придет день, обстоятельства переменятся, и вы свободно уедете, куда захотите.
— Но моя работа!.. — воскликнул Рикард.
И тут слово взяла миссис Рикард. Нетрудно было догадаться, что происходящее нравится ей ничуть не больше, чем мужу, но в ней внезапно проснулся тот практический здравый смысл, каким подчас отличаются женщины. Она усвоила, что им суждено на время оставаться в долине, и постаралась выискать в таком повороте событий свои преимущества.
— А книга, которой ты вечно угрожал разродиться? — сказала она — Вот тебе самый подходящий случай…
Это и решило дело.
Рикард послонялся еще немного, вроде бы собираясь с духом, хотя, право же, все было ясно и так. Потом он начал поговаривать о том, как хорошо у нас в долине: мир, тишина и никакой суеты, здесь, мол, только книги и писать…
Соседи сообща подновили ферму Чендлера, а Рикард позвонил в свою газету и под каким-то предлогом попросил отпуск. Еще он послал письмо в свой банк, чтоб ему перевели его сбережения, и засел за книгу.
Очевидно, ни в телефонных разговорах, ни в письмах он не позволил себе и намека на истинную причину, почему остался в долине, — и то сказать, это было бы попросту глупо. Так или иначе, никто не поднял вокруг его исчезновения ни малейшего шума.
А долина вернулась к обычным повседневным заботам, и после всех треволнений это было куда как приятно. Соседи делали за Рикардов все покупки, привозили им из города крупы, сахар и всякую всячину, а иногда глава семьи садился в машину и предпринимал очередную попытку выбраться на шоссе.
Но обычно он сидел за столом и писал и год спустя успешно продал свою первую книгу. Вы, возможно, даже читали ее — она называется «Прислушайтесь к тишине». Принесла ему немалые денежки. Правда, его нью-йоркские издатели чуть не рехнулись — никак не могли взять в толк, отчего он упорно отказывается высунуть нос из долины. Отказывается от лекционных турне, отвергает приглашения на званые вечера и обеды, короче, не принимает никаких почестей, вроде бы положенных автору нашумевшей книги.
И вообще успех не вскружил ему голову. К той поре, как книгу напечатали, Рикарда у нас знали и любили все от мала до велика. И он жаловал всех, кроме, пожалуй, Хита. С Хитом он держался подчеркнуто холодно. Что ни день он подолгу бродил по округе — уверял, что ради моциона, но мне сдается, что именно во время прогулок он сочинил большую часть своей книги. А то остановится у ограды и заведет с хозяином разговор о жизни — так с ним, собственно, все в долине и познакомились. Охотнее всего он рассуждал о тех временах, когда сумеет наконец вырваться из заточения, и мы, случалось, тоже подумывали, что, не ровен час, Рикарды нас и вправду покинут. Думали мы об этом с горечью, потому что из них получились хорошие соседи. Наверное, в нашей долине действительно есть что-то особенное, раз она заставляет людей поворачиваться к другим лучшей своей стороной. Я уже говорил — нам спокон века не попадались скверные соседи, а многие ли сегодня могут похвастаться тем же?
Как-то раз, по пути из города, заглянул я на минутку к Хиту поболтать, и, пока мы с ним стояли, на дороге показался Рикард. По нему было сразу видно, что никуда он особенно не торопится, а просто гуляет. Он тоже остановился, мы потолковали на разные темы, а потом он возьми да и скажи:
— А знаете, мы решили никуда отсюда не уезжать.
— Ну что ж, прекрасно, — отозвался Хит.
— Вчера вечером, — продолжал Рикард, — мы с Грейс стали, как обычно, обсуждать, что будем делать, когда уедем отсюда. И вдруг запнулись, переглянулись и поняли, что вовсе не хотим никуда уезжать. Здесь такой покой, и ребятишкам здешняя школа нравится гораздо больше, чем в городе, и люди вокруг такие славные, что об отъезде и думать противно…
— Рад слышать это от вас, — отозвался Хит. — Только зря вы, право, сидите здесь неотлучно, надо бы и встряхнуться. Свозите жену и детишек в город, в кино…
Вот и вся недолга. Легко и просто.
Жизнь течет у нас по-прежнему хорошо, быть может, даже лучше, чем прежде. В долине все здоровы. Обыкновенный насморк и тот теперь, кажется, обходит нас стороной. Когда нам нужен дождь, идет дождь, а когда нужно солнце, то, естественно, светит солнце. Мы не разбогатели — разве разбогатеешь, когда Вашингтон то и дело вмешивается в фермерские дела, — но живем мы, грех пожаловаться, сносно. Рикард работает над своей второй книгой, а я время от времени выхожу вечерами на крыльцо и пытаюсь отыскать на небе ту звездочку, которую Хит показывал мне однажды много лет назад.
И все-таки мы не в силах полностью избежать огласки. Вчера вечером слушал я по радио своего любимого комментатора, а он вдруг ни с того ни с сего решил потешить публику на наш счет.
«Да полно, есть ли на свете эта Енотовая долина? — спросил он, и за его вопросом явно слышался ехидный смешок. — Если да, правительству не мешало бы в этом удостовериться. Географические карты настаивают, что такая долина есть на самом деле, статистика утверждает, что там идеальный климат и нет ни болезней, ни неурожаев — прямо-таки молочные реки и кисельные берега. И окрестные жители уверены, что долина существует, но, едва кто-нибудь из официальных лиц решит расследовать факты на месте, она исчезает, ее не удается найти. Пытались звонить по номерам, которые числятся за обитателями долины, — телефонные звонки не проходят. Пытались писать — письма возвращаются к отправителям под тем или иным предлогом, изобретенным в недрах почтового ведомства. А если те, кто ведет расследование, выжидают в соседних торговых центрах, люди из Енотовой долины отсиживаются дома и не делают покупок. Допустим на минуту, что статистика не врет; тогда властям, право же, не грешно бы изучить факторы, отличающие эту долину, и распространить их воздействие на все другие районы. Пока что мы не знаем даже, доходят ли до долины наши передачи, способны ли радиоволны проникнуть туда, куда не проникают ни письма, ни звонки, ни должностные лица. Но если да, если есть на свете Енотовая долина и кто-нибудь из ее обитателей слушает нас сейчас, быть может, он не откажется подать голос?..»
Комментатор еще раз хмыкнул и перешел к свежим политическим сплетням.
Я выключил радио и сидел, покачиваясь в кресле, а сам все думал о том, почему же это иногда ни один из нас по три-четыре дня подряд не может добраться до города, а в другие дни телефоны вдруг смолкают разом без всякой на то причины. Честно сказать, мы не раз обсуждали такие случаи между собой и советовались, не поговорить ли нам про это с Хитом, но каждый раз решали, что лучше не надо. Он наверняка соображает, что делает, и нам остается только надеяться на его здравый смысл.
Наше положение причиняет нам, конечно, известные неудобства, зато имеет и свои преимущества. Вот уже добрых лет десять у нас в долине не бывало ни зазывал, навязывающих подписку на дешевенькие журнальчики, ни страховых агентов.
Кто там, в толще скал?
1
Он бродил по холмам, вызнавая, что видели эти холмы в каждую из геологических эр. Он слушал звезды и записывал, что они говорили. Он обнаружил существо, замурованное в толще скал. Он взбирался на дерево, на которое до того взбирались только дикие кошки, когда возвращались домой в пещеру, высеченную временем и непогодой в суровой крутизне утеса. Он жил в одиночестве на заброшенной ферме, взгромоздившейся на высокий и узкий гребень над слиянием двух рек. А его ближайший сосед — хватило же совести — отправился за тридцать миль в окружной городишко и донес шерифу, что он, читающий тайны холмов и внимающий звездам, ворует кур.
Примерно через неделю шериф заехал на ферму и, перейдя двор, заметил человека, который сидел на веранде в кресле-качалке лицом к заречным холмам. Шериф остановился у подножия лесенки, ведущей на веранду, и представился:
— Шериф Харли Шеперд. Завернул к вам по дороге. Лет пять, наверное, не заглядывал в этот медвежий угол. Вы ведь здесь новосел, так?
Человек поднялся на ноги и, показав жестом на кресло рядом со своим, ответил:
— Я здесь уже три года. Зовут меня Уоллес Дэниельс. Поднимайтесь сюда, посидим, потолкуем.
Шериф вскарабкался по лесенке, они обменялись рукопожатием и опустились в кресла.
— Вы, я смотрю, совсем не обрабатываете землю, — сказал шериф.
Заросшие сорняками поля подступали вплотную к опоясывающей двор ограде. Дэниельс покачал головой:
— На жизнь хватает, а большего мне и не надо. Держу кур, чтоб несли яйца. Парочку коров, чтоб давали молоко и масло. Свиней на мясо — правда, забивать их сам не могу, приходится звать на помощь. Ну и еще огород — вот, пожалуй, и все.
— И того довольно, — поддержал шериф. — Ферма-то уже ни на что другое не годна. Старый Эймос Уильямс разорил тут все вконец. Хозяин он был прямо-таки никудышный…
— Зато земля отдыхает, — отвечал Дэниельс. — Дайте ей десять лет, а еще лучше двадцать, и она будет родить опять. А сейчас она годится разве что для кроликов и сурков да мышей-полевок. Ну и птиц тут, ясное дело, не счесть. Перепелок такая прорва, какой я в жизни не видел.
— Белкам тут всегда было раздолье, — подхватил шериф. — И енотам тоже. Думаю, еноты у вас и сейчас есть. Вы не охотник, мистер Дэниельс?
— У меня и ружья-то нет, — отвечал Дэниельс. Шериф глубоко откинулся в кресле, слегка покачиваясь.
— Красивые здесь места, — объявил он. — Особенно перед листопадом. Листья словно кто специально раскрасил. Но изрезано тут у вас просто черт знает как. То и дело вверх-вниз… Зато красиво.
— Здесь все сохранилось, как было встарь, — сказал Дэниельс. — Море отступило отсюда в последний раз четыреста миллионов лет назад. С тех пор, с конца силурийского периода, здесь суша. Если не забираться на север, к самому Канадскому щиту, то немного сыщется в нашей стране уголков, не изменявшихся с таких давних времен.
— Вы геолог, мистер Дэниельс?
— Куда мне! Интересуюсь, и только. По правде сказать, я дилетант. Нужно же как-нибудь убить время, вот и брожу по холмам, лазаю вверх да вниз. А на холмах хочешь не хочешь столкнешься с геологией лицом к лицу. Мало-помалу заинтересовался. Нашел однажды окаменевших брахиоподов, решил про них разузнать. Выписал себе книжек, начал читать. Одно потянуло за собой другое, ну и…
— Брахиоподы — это как динозавры, что ли? В жизни не слыхивал, чтобы здесь водились динозавры.
— Нет, это не динозавры, — отвечал Дэниельс. — Те, каких я нашел, жили много раньше динозавров. Они совсем маленькие, вроде моллюсков или устриц. Только раковины закручены по-другому. Мои брахиоподы очень древние, вымершие миллионы лет назад. Но есть и виды, уцелевшие до наших дней. Правда, таких немного.
— Должно быть, интересное дело.
— На мой взгляд, да, — отвечал Дэниельс.
— Вы знавали старого Эймоса Уильямса?
— Нет, он умер раньше, чем я сюда перебрался. Я купил землю через банк, который распоряжался его имуществом.
— Старый дурак, — заявил шериф. — Перессорился со всеми соседями. Особенно с Беном Адамсом. Они с Беном вели тут форменную междоусобную войну. Бен утверждал, что Эймос не желает чинить ограду. А Эймос обвинял Бена, что тот нарочно валит ее, чтобы запустить свой скот — вроде по чистой случайности — на сенокосные угодья Эймоса. Между прочим, как вы с Беном ладите?
— Да ничего, — отвечал Дэниельс. — Пожаловаться не на что. Я его почти и не знаю.
— Бен тоже в общем-то не фермер, — сказал шериф. — Охотится, рыбачит, ищет женьшень, зимой не брезгует браконьерством. А то вдруг заведется и затеет поиски минералов…
— Здесь под холмами и в самом деле кое-что припрятано, — отвечал Дэниельс. — Свинец и цинк. Но добывать их невыгодно: истратишь больше, чем заработаешь. При нынешних-то ценах…
— И все-то Бену неймется, — продолжал шериф. — Хлебом его не корми, только бы завести склоку. Только бы с кем-нибудь схлестнуться, что-нибудь пронюхать, к кому-нибудь пристать. Не дай бог враждовать с таким.
На днях пожаловал ко мне с кляузой, что недосчитался нескольких кур. А у вас куры часом не пропадали? Дэниельс усмехнулся:
— Тут неподалеку живет лиса, и она иной раз взимает с моего курятника определенную дань. Но я на нее не сержусь.
— Странная вещь, — заявил шериф. — Кажется, нет на свете ничего, что взъярило бы фермера больше, чем пропажа цыпленка. Не спорю, цыпленок тоже денег стоит, но не столько же, чтобы впадать в ярость…
— Если Бен недосчитывается кур, — отвечал Дэниельс, — то похоже, что виновница — моя лиса.
— Ваша? Вы говорите о ней так, будто она ваша собственная…
— Нет, конечно. Лиса ничья. Но она живет здесь на холмах, как и я. Я считаю, что мы с ней соседи. Изредка я встречаю ее и наблюдаю за ней. Может, это и значит, что отчасти она теперь моя. Хотя не удивлюсь, если она наблюдает за мной куда чаще, чем я за ней. Она ведь проворней меня.
Шериф грузно поднялся с кресла.
— До чего же не хочется уходить, — сказал он. — Поверьте, я с большим удовольствием посидел с вами, потолковал, поглядел на ваши холмы. Вы, наверное, часто на них глядите.
— Очень часто, — отвечал Дэниельс.
Он сидел на веранде и смотрел вслед машине шерифа. Вот она одолела подъем на дальнюю гряду и скрылась из виду.
«Что все это значило?» — спросил он себя. Шериф не просто «завернул по дороге». Шериф был здесь по делу. Вся эта праздная, дружелюбная болтовня преследовала какую-то цель, и шериф, болтая, ухитрился задать Дэниельсу кучу вопросов.
Быть может, неожиданный визит как-то связан с Беном Адамсом? В чем же, спрашивается, провинился этот Бен — разве в том, что он лентяй до мозга костей? Нагловатый, подловатый, но лентяй. Может, шериф прослышал, что Адамс помаленьку варит самогон, и решил навестить соседей в надежде, что кто-нибудь проговорится? Напрасный труд — никто, конечно, не проболтается: чихать соседям на самогон, от самогона никому никакого вреда. Сколько там Бен наварит — разве можно принимать это всерьез? Бен слишком ленив, и не стоит принимать его всерьез, что бы он ни затеял.
Снизу, от подножия холмов, донеслось позвякиванье колокольчиков. Две коровы Дэниельса решили сами вернуться домой. Выходит, сейчас уже гораздо позже, чем он предполагал. Не то чтобы точное время имело для Дэниельса какое-либо значение. Вот уже несколько месяцев он не следил за временем — с тех пор как разбил часы, сорвавшись с утеса. И даже не удосужился отдать их в починку. Он не испытывал нужды в часах. На кухне, правда, стоял старый колченогий будильник, но это был сумасбродный механизм, не заслуживающий доверия. Дэниельс, как правило, и не вспоминал про будильник.
«Посижу еще чуточку, — подумал он, — и придется взять себя в руки и заняться хозяйством. Подоить коров, накормить свиней и кур, собрать яйца…» С той поры как на огороде поспели овощи, у него почти не осталось забот. На днях, конечно, надо будет снести тыквы в подвал, а потом выбрать три-четыре самые большие и выдолбить для соседских ребятишек, чтобы понаделали себе страшилищ на праздники. Интересно, что лучше: самому вырезать на тыквах рожи или предоставить ребятне сделать это по своему усмотрению?..
Но колокольчики звякали еще далеко; в его распоряжении было пока что немало времени. Дэниельс откинулся в кресле и замер, вглядываясь в холмистую даль.
И холмы сдвинулись с мест и стали меняться у него на глазах.
Когда такое произошло впервые, он испугался до одури. Теперь-то он уже немного привык.
Он смотрел — а холмы меняли свои очертания. На холмах появлялась иная растительность, диковинная жизнь.
На этот раз он увидел динозавров. Целое стадо динозавров, впрочем не слишком крупных. По всей вероятности, середина триасового периода. Но главное — на этот раз он лишь смотрел на них издали, и не больше. Смотрел с безопасного расстояния, на что походило давнее прошлое, а не ворвался в самую гущу событий прошлого, как нередко случалось.
И хорошо, что не ворвался, — ведь его ждали домашние дела.
Разглядывая прошлое, Дэниельс вновь и вновь терялся в догадках: на что же еще он способен теперь? Он ощущал беспокойство — но беспокоили его не динозавры, и не более ранние земноводные, и не прочие твари, жившие на холмах во время оно. По-настоящему его тревожило лишь существо, погребенное в глубине под пластами известняка.
Надо, непременно надо рассказать об этом существе людям. Подобное знание не может, не должно угаснуть. Тогда в грядущие годы — допустим лет через сто, если земная наука достигнет таких высот, чтобы справиться с задачей, — можно будет попытаться понять, а то и освободить обитателя каменных толщ.
Разумеется, надо оставить записи, подробные записи. Кому, как не ему, Дэниельсу, позаботиться об этом? Именно так он и делал — день за днем, неделя за неделей отчитывался о том, что видел, слышал и узнавал. Три толстые конторские книги уже были заполнены аккуратным почерком от корки до корки, и начата четвертая. В книгах все изложено со всей полнотой, тщательностью и объективностью, на какие он только способен.
Однако кто поверит тому, что там написано? Еще важнее — кто вообще заглянет в эти записи? Более чем вероятно, что им суждено пылиться где-нибудь на дальней полке до скончания веков и ничья рука даже не коснется их. И если даже кто-нибудь когда-нибудь снимет книги с полки и не поленится, стряхнув скопившуюся пыль, перелистать страницы, то разве мыслимо, чтоб он или она поверили тому, что прочтут?
Ясно как день — надо сначала убедить кого-то в своей правоте. Самые искренние слова, если они принадлежат умершему, к тому же умершему в безвестности, нетрудно объявить игрой больного воображения. Другое дело, если кто-то из ученых с солидной репутацией выслушает Дэниельса и засвидетельствует, что записи заслуживают доверия: тогда и только тогда все записанное — и о том, что происходило в древности на холмах, и о том, что скрыто в их недрах, — обретет силу факта и привлечет серьезное внимание будущих поколений.
К кому обратиться — к биологу? К невропатологу? К психиатру? К палеонтологу?
Пожалуй, не играет роли, какую отрасль знаний будет представлять этот ученый. Только бы он выслушал, а не высмеял. Это главное — чтобы выслушал, а не высмеял.
Сидя у себя на веранде и разглядывая динозавров, щиплющих травку на холмах, человек, умеющий слушать звезды, вспомнил, как однажды рискнул прийти к палеонтологу.
— Бен, — сказал шериф, — что-то тебя не туда занесло. Не станет этот Дэниельс красть у тебя кур. У него своих хватает.
— Вопрос только в том, — откликнулся Адамс, — откуда он их берет.
— Ерунда, — сказал шериф. — Он джентльмен. Это сразу видно, едва заговоришь с ним. Образованный джентльмен.
— Если он джентльмен, — спросил Адамс, — тогда чего ему надо в нашей глуши? Здесь джентльменам не место. Как переехал сюда два не то три года назад, с тех самых пор пальцем о палец не ударил. Только и знает, что шляться вверх да вниз по холмам…
— Он геолог, — сказал шериф. — Или, по крайней мере, интересуется геологией. Такое у него увлечение. Говорит, что ищет окаменелости.
Адамс насторожился, как пес, приметивший кролика.
— Ах, вот оно что, — произнес он. — Держу пари, никакие он не окаменелости ищет.
— Брось, — сказал шериф.
— Он минералы ищет, — продолжал Адамс. — Полезные ископаемые разведывает, вот что он делает. В этих холмах минералов невпроворот. Надо только знать, где искать.
— Ты же сам потратил на поиски уйму времени, — заметил шериф.
— Я не геолог. Геолог даст мне сто очков вперед. Он знает породы и всякое такое.
— Не похоже, чтобы Дэниельс занимался разведкой. Интересуется геологией, вот и все. Откопал каких-то окаменелых моллюсков.
— А может, он ищет клады, — предположил Адамс. — Может, у него карта есть или какой-нибудь план?
— Да черт тебя возьми, — вскипел шериф, — ты же сам знаешь, что кладов здесь нет и в помине!
— Должны быть, — настаивал Адамс. — Здесь когда-то проходили французы и испанцы. А уж они понимали толк в кладах, что французы, что испанцы. Отыскивали золотоносные жилы. Закапывали сокровища в пещерах. Неспроста в той пещере за рекой нашелся скелет в испанских латах, а рядом скелет медведя и ржавый меч, воткнутый точнехонько туда, где у медведя была печенка…
— Болтовня, — сказал шериф брезгливо. — Какой-то дурень раззвонил, а ты поверил. Из университета приезжали, хотели этот скелет найти. И выяснилось, что все это чушь собачья.
— А Дэниельс все равно лазает по пещерам, — возразил Адамс. — Своими глазами видел. Сколько часов он провел в пещере, которую мы зовем Кошачьей берлогой! Чтобы попасть туда, надо забираться на дерево.
— Ты что, следил за ним?
— Конечно, следил. Он что-то задумал, и я хочу знать что.
— Смотри, как бы он тебя не застукал за этим занятием, — сказал шериф.
Адамс предпочел пропустить замечание мимо ушей.
— Все равно, — заявил он, — если у нас тут и нет кладов, то полным-полно свинца и цинка. Тот, кто отыщет залежь, заработает миллион.
— Сперва отыщи капитал, чтоб открыть дело, — заметил шериф.
Адамс ковырнул землю каблуком.
— Так, стало быть, он, по-вашему, ни в чем не замешан?
— Он мне говорил, что у него у самого пропадали куры. Их, верно, утащила лиса. Очень даже похоже, что с твоими приключилось то же самое.
— Если лиса таскает у него кур, — спросил Адамс, — почему же он ее не застрелит?
— А это его не волнует. Он вроде бы считает, что лиса имеет право на добычу. Да у него и ружья-то нет.
— Ну, если у него нет ружья и душа не лежит к охоте, почему бы не разрешить поохотиться другим? А он, как увидел у меня с ребятами ружьишко, так даже не пустил к себе на участок. И вывесок понавешал: «Охота воспрещена». Разве это по-соседски? Как тут прикажете с ним ладить? Мы испокон веку охотились на этой земле. Уж на что старый Эймос был не из уживчивых, и то не возражал, чтобы мы там постреляли немного. Мы всегда охотились, где хотели, и никто не возражал. Мне вообще сдается, что на охоту не должно быть ограничений. Человек вправе охотиться там, где пожелает…
Шериф присел на скамеечку, врытую в истоптанный грунт перед ветхим домишком, и огляделся. По двору, апатично поклевывая, бродили куры; тощий пес, вздремнувший в тени, подергивал шеей, отгоняя редких осенних мух; старая веревка, протянутая меж двумя деревьями, провисла под тяжестью мокрой одежды и полотенец, а к стенке дома была небрежно прислонена большая лохань. «Господи, — подумал шериф, — ну неужели человеку лень купить себе пристойную бельевую веревку вместо этой мочалки!..»
— Бен, — сказал он, — ты просто затеваешь свару. Тебе не нравится, что Дэниельс живет на ферме, не возделывая полей, ты обижен, что он не дает тебе охотиться на своей земле. Но он имеет право жить, где ему заблагорассудится, и имеет право не разрешать охоту. На твоем месте я бы оставил его в покое. Никто не заставляет тебя любить его, можешь, если не хочешь, вовсе с ним не знаться — но не возводи на него напраслину. За это тебя недолго и к суду привлечь.
2
…Войдя в кабинет палеонтолога, Дэниельс не сразу даже разглядел человека, сидящего в глубине комнаты у захламленного стола. И вся комната была захламлена. Повсюду длинные стенды, а на стендах куски пород с вросшими в них окаменелостями. Там и сям кипы бумаг. Большая, плохо освещенная комната производила неприятное, гнетущее впечатление.
— Доктор! — позвал Дэниельс. — Вы — доктор Торн?
Человек встал, воткнув трубку в полную до краев пепельницу. Высокий и плотный, седеющие волосы взъерошены, лицо обветренное, в морщинах. Он двинулся навстречу гостю, волоча ноги, как медведь.
— Вы, должно быть, Дэниельс, — сказал он. — Да, должно быть, так. У меня на календаре помечено, что вы придете в три. Хорошо, что не передумали.
Рука Дэниельса утонула в его лапище. Он указал на кресло подле себя, сел сам и, высвободив трубку из пластов пепла, принялся набивать ее табаком из большой коробки, занимающей центр стола.
— Вы писали, что хотите видеть меня по важному делу, — продолжал он. — Впрочем, все так пишут. Но в вашем письме было, должно быть, что-то особенное — настоятельность, искренность, не знаю что. Понимаете, у меня нет времени принимать каждого, кто мне пишет. И все до одного, понимаете, что-нибудь нашли. Что же такое нашли вы, мистер Дэниельс?
Дэниельс ответил:
— Право, доктор, не знаю, как и начать. Пожалуй, лучше сперва сказать, что у меня случилось что-то странное с головой…
Торн раскуривал трубку. Не вынимая ее изо рта, проворчал:
— В таком случае я, наверное, не тот, к кому вам следовало бы обратиться. Есть много других…
— Да нет, вы меня неправильно поняли, — перебил Дэниельс. — Я не собираюсь просить о помощи. Я совершенно здоров и телом и душой. Правда, лет пять назад я попал в автомобильную катастрофу. Жена и дочь погибли, а меня тяжело ранило…
— Мои соболезнования, мистер Дэниельс.
— Спасибо. Но это уже в прошлом. Мне выпали трудные дни, однако я кое-как выкарабкался. К вам меня привело другое. Я уже упоминал, что был тяжело ранен…
— Мозг затронут?
— Незначительно. По крайней мере, врачи утверждали, что совсем незначительно. Небольшое сотрясение, только и всего. Хуже было с раздавленной грудью и пробитым легким…
— А сейчас вы вполне здоровы?
— Будто и не болел никогда. Но разум мой со дня катастрофы стал иным. Словно у меня появились новые органы чувств. Я теперь вижу и воспринимаю вещи, казалось бы, совершенно немыслимые…
— Галлюцинации?
— Да нет. Уверен, это не галлюцинации. Я вижу прошлое.
— Как это понимать — видите прошлое?
— Позвольте, я попробую объяснить, — сказал Дэниельс, — с чего все началось. Три года назад я купил заброшенную ферму в юго-западной части Висконсина. Выбрал место, где можно укрыться, спрятаться от людей. С тех пор как не стало жены и дочери, я испытывал отвращение ко всем на свете. Первую острую боль потери я пережил, но мне нужна была нора, чтобы зализать свои раны. Не думайте, что я себя оправдываю, — просто стараюсь объективно разобраться, почему я поступил так, а не иначе, почему купил ферму.
— Да, я понимаю вас, — откликнулся Торн. — Хоть и не убежден, что прятаться — наилучший выход из положения.
— Может, и нет, но тогда мне казалось, что это выход. И случилось то, на что я надеялся. Я влюбился в окрестные края. Эта часть Висконсина — древняя суша. Море не подступало сюда четыреста миллионов лет. И ледники в плейстоцене почему-то сюда тоже не добрались. Что-то изменялось, конечно, но только в результате выветривания. Весь район не знал ни смещения пластов, ни резких эрозионных процессов — никаких катаклизмов…
— Мистер Дэниельс, — произнес Торн раздраженно, — я что-то не совсем понимаю, в какой мере это касается…
— Прошу прощения. Я как раз и пытаюсь подвести разговор к тому, с чем пришел к вам. Начиналось все не сразу, а постепенно, и я, признаться, думал, что сошел с ума, что мне мерещится, что мозг поврежден сильнее, чем предполагали, и я в конце концов рехнулся. Понимаете, я много ходил пешком по холмам. Местность там дикая, изрезанная и красивая, будто нарочно для этого созданная. Устанешь от ходьбы — тогда ночью удается заснуть. Но по временам холмы менялись. Сперва чуть-чуть. Потом больше и больше — и наконец на их месте стали появляться пейзажи, каких я никогда не видел, каких никто никогда не видел.
Торн нахмурился:
— Вы хотите уверить меня, что пейзажи становились такими, как были в прошлом?
Дэниельс кивнул:
— Необычная растительность, странной формы деревья. В более ранние эпохи, разумеется, никакой травы. Подлесок — папоротники и стелющиеся хвощи. Странные животные, странные твари в небе. Саблезубые тигры и мастодонты, птерозавры, пещерные носороги…
— Все одновременно? — не стерпев, перебил Торн. — Все вперемешку?
— Ничего подобного. Все, что я вижу, каждый раз относится к строго определенному периоду. Никаких несоответствий. Сперва я этого не знал, но когда мне удалось убедить себя, что мои видения — не бред, я выписал нужные книги и проштудировал их. Конечно, мне никогда не стать специалистом — ни геологом, ни палеонтологом, — но я нахватался достаточно, чтобы отличать один период от другого и до какой-то степени разбираться в том, что я вижу.
Торн вынул трубку изо рта и водрузил на пепельницу. Провел тяжелой рукой по взъерошенным волосам.
— Это невероятно, — сказал он. — Такого просто не может быть. Вы говорите, эти явления начинались у вас постепенно?
— Вначале я видел все как в тумане — прошлое, смутным контуром наложенное на настоящее. Потом настоящее потихоньку бледнело, а прошлое проступало отчетливее и резче. Теперь не так. Иногда настоящее, прежде чем уступить место прошлому, словно бы мигнет раз-другой, но по большей части перемена внезапна, как молния. Настоящее вдруг исчезает, и я попадаю в прошлое. Прошлое окружает меня со всех сторон. От настоящего не остается и следа.
— Но ведь на самом-то деле вы не можете перенестись в прошлое? Я подразумеваю — физически…
— В отдельных случаях я ощущаю себя вне прошлого. Я нахожусь в настоящем, а меняются лишь дальние холмы или речная долина. Но обычно меняется все вокруг, хотя самое смешное в том, что вы совершенно правы — на самом деле я в прошлое отнюдь не переселяюсь. Я вижу его, и оно представляется мне достаточно реальным, чтобы двигаться, не покидая его пределов. Я могу подойти к дереву, протянуть руку и ощупать пальцами ствол. Но воздействовать на прошлое я не могу. Как если бы меня там вовсе не было. Звери меня не замечают. Я проходил буквально в двух шагах от динозавров. Они меня не видят, не слышат и не обоняют. Если бы не это, я бы уже сто раз погиб. А так я словно на сеансе в стереокино. Сперва я очень беспокоился о возможных несовпадениях рельефа. Ночами просыпался в холодном поту: мне снилось, что я перенесся в прошлое и тут же ушел в землю по самые плечи — за последующие века эту землю сдуло и смыло. Но в действительности ничего подобного не происходит. Я живу в настоящем, а спустя секунду оказываюсь в прошлом. Словно между ними есть дверь и я просто переступаю порог.
Я уже говорил вам, что физически я в прошлое не попадаю — но ведь и в настоящем тоже не остаюсь! Я пытался раздобыть доказательства. Брал с собой фотоаппарат и делал снимки. А когда проявлял пленку, то вынимал ее из бачка пустой. Никакого прошлого — однако, что еще важнее, и настоящего тоже! Если бы я бредил наяву, фотоаппарат запечатлевал бы сегодняшний день. Но, очевидно, вокруг меня просто не было ничего, что могло бы запечатлеться на пленке. Ну а если, думалось мне, аппарат неисправен или пленка неподходящая? Тогда я перепробовал несколько камер и разные типы пленок — с тем же результатом. Снимков не получалось.
Я пытался принести что-нибудь из прошлого. Рвал цветы, благо цветов там пропасть. Рвать их удавалось без труда, но назад в настоящее я возвращался с пустыми руками. Делал я и попытки другого рода. Думал, нельзя перенести только живую материю, например цветы, а неорганические вещества можно. Пробовал собирать камни, но донести их домой тоже не сумел…
— А брать с собой блокнот и делать зарисовки вы не пытались?
— Думал было, но пытаться не стал. Я не силен в рисовании — и, кроме того, рассудил я, что толку? Блокнот все равно останется чистым.
— Но вы же не пробовали!
— Нет, — признался Дэниельс, — не пробовал. Время от времени я делаю зарисовки задним числом, когда возвращаюсь в настоящее. Не каждый раз, но время от времени. По памяти. Но я уже говорил вам — в рисовании я не силен.
— Не знаю, что и ответить, — проронил Торн. — Право, не знаю. Звучит ваш рассказ совершенно неправдоподобно. Но если вдруг тут все-таки что-то есть… Послушайте, и вы нисколько не боялись? Сейчас вы говорите об этом самым спокойным, обыденным тоном. Но сначала-то вы должны были испугаться!
— Сначала, — подтвердил Дэниельс, — я окаменел от ужаса. Я не просто ощутил страх за свою жизнь, не просто испугался, что попал куда-то, откуда нет возврата, — я ужаснулся, что сошел с ума. А потом еще и чувство непередаваемого одиночества…
— Одиночества?..
— Может, это не точное слово. Может, правильнее сказать — неуместности. Я находился там, где находиться не имел никакого права. Там, где человек еще не появлялся и не появится в течение миллионов лет. Мир вокруг был таким непередаваемо чужим, что хотелось съежиться и забиться в укромный угол. На самом-то деле это не мир был чужим, а я был чужим в том мире. Меня и в дальнейшем нет-нет да и охватывало такое чувство. И хоть оно теперь для меня не внове и я вроде бы научился давать ему отпор, иной раз такая тоска накатит… В те далекие времена самый воздух был иным, самый свет, — впрочем, это, наверное, игра воображения…
— Почему же, не обязательно, — отозвался Торн.
— Но главный страх теперь прошел, совсем прошел. Страх, что я сошел с ума. Теперь я уверен, что рассудок мне не изменил.
— Как уверены? Как может человек быть в этом уверен?
— Звери. Существа, которых я там видел.
— Ну да, вы же потом узнавали их на иллюстрациях в книгах, которые прочли.
— Нет, нет, соль не в этом. Не только в этом. Разумеется, картинки мне помогли. Но в действительности все наоборот. Соль не в сходстве, а в отличиях. Понимаете, ни одно из этих существ не повторяет свое изображение в книгах. А иные так и вовсе не походят на изображения — на те рисунки, что сделаны палеонтологами. Если бы звери оказались точь-в-точь такими, как на рисунках, я мог бы по-прежнему считать, что это галлюцинации, повторяющие то, что я прочел либо увидел в книгах. Мол, воображение питается накопленным знанием. Но если обнаруживаются отличия, то логика требует допустить, что мои видения реальны.
Как иначе мог бы я узнать, что у тираннозавра подгрудок окрашен во все цвета радуги? Как мог бы догадаться, что у некоторых разновидностей саблезубых были кисточки на ушах? Какое воображение способно подсказать, что у гигантов, живших в эоцене, шкуры были пятнистые, как у жирафов?
— Мистер Дэниельс, — обратился к нему Торн. — Мне трудно безоговорочно поверить в то, что вы рассказали. Все, чему меня когда-либо учили, восстает против этого. И я не могу отделаться от мысли, что не стоит тратить время на такую нелепицу. Но несомненно, что сами вы верите в свой рассказ. Вы производите впечатление честного человека. Скажите, вы беседовали на эту тему с кем-нибудь еще? С другими палеонтологами? Или с геологами? Или, может быть, с психиатром?
— Нет, — ответил Дэниельс. — Вы первый специалист, первый человек, которому я об этом рассказал. Да и то далеко не все. Честно признаться, это было только вступление.
— Мой Бог, как прикажете вас понимать? Только вступление?..
— Да, вступление. Понимаете, я еще слушаю звезды. Торн вскочил на ноги и принялся сгребать в кучу бумажки, разбросанные по столу. Он схватил из пепельницы потухшую трубку и стиснул ее зубами. Когда он заговорил снова, голос его звучал сухо и безучастно:
— Спасибо за визит. Беседа с вами была весьма поучительной.
3
«И надо же было, — клял себя Дэниельс, — так оплошать. Надо же было заикнуться про звезды!..» До этих слов все шло хорошо. Торн, конечно же, не поверил, но был заинтригован и согласен слушать дальше и, не исключено, мог бы даже провести небольшое расследование, хотя, без сомнения, втайне ото всех и крайне осторожно.
«Вся беда, — размышлял Дэниельс, — в навязчивой идее насчет существа, замурованного в толще скал. Прошлое — пустяки: куда важнее рассказать про существо в скалах… Но чтобы рассказать, чтобы объяснить, как ты дознался про это существо, волей-неволей приходится помянуть и про звезды».
«Надо было живей шевелить мозгами, — попрекал себя Дэниельс. — И попридержать язык. Ну не глупо ли: в кои-то веки нашелся человек, который, пусть не без колебаний, готов был тебя выслушать, а не просто поднять на смех. И вот ты из чувства благодарности к нему сболтнул лишнее…»
Из-под плохо пригнанных рам в комнату проникали юркие сквознячки и, взобравшись на кухонный стол, играли пламенем керосиновой лампы. Вечером, едва Дэниельс успел подоить коров, поднялся ветер, и теперь весь дом содрогался под штормовыми ударами. В дальнем углу комнаты в печи пылали дрова, от огня по полу бежали светлые дрожащие блики, а в дымоходе, когда ветер задувал в трубу, клокотало и хлюпало.
Дэниельсу вспомнилось, как Торн недвусмысленно намекал на психиатра. Может, и правда, следовало бы сначала обратиться к специалисту такого рода. Может, прежде чем пытаться заинтересовать других тем, что он видит и слышит, следовало бы выяснить, как и почему он видит и слышит неведомое другим. Только человек, глубоко знающий строение мозга и работу сознания, в состоянии ответить на эти вопросы — если ответ вообще можно найти.
Неужели травма при катастрофе так изменила, так переиначила мыслительные процессы, что мозг приобрел какие-то новые, невиданные свойства? Возможно ли, чтобы сотрясение и нервное расстройство вызвали к жизни некие дремлющие силы, которым в грядущие тысячелетия суждено развиваться естественным, эволюционным путем? Выходит, повреждение мозга как бы замкнуло эволюцию накоротко и дало ему — одному ему — способности и чувства, чуть не на миллион лет обогнавшие свою эпоху?
Это казалось ну если не безупречным, то единственно приемлемым объяснением. Однако у специалиста наверняка найдется какая-нибудь другая теория.
Оттолкнув табуретку, он встал от стола и подошел к печке. Дверцу совсем перекосило, она не открывалась, пока Дэниельс не поддел ее кочергой. Дрова в печи прогорели до угольков. Наклонившись, он достал из ларя у стенки полено, кинул в топку, потом добавил второе полено, поменьше, и закрыл печку. «Хочешь не хочешь, — сказал он себе, — на днях придется заняться этой дверцей и навесить ее как следует».
Он вышел за дверь и постоял на веранде, глядя в сторону заречных холмов. Ветер налетал с севера, со свистом огибал постройки и обрушивался в глубокие овраги, сбегающие к реке, но небо оставалось ясным — сурово ясным, будто его вытерли дочиста ветром и сбрызнули капельками звезд, и светлые эти капельки дрожали в бушующей атмосфере.
Окинув звезды взглядом, он не удержался и спросил себя: «О чем-то они говорят сегодня?» — но вслушиваться не стал. Чтобы слушать звезды, надо было сделать усилие и сосредоточиться. Помнится, впервые он прислушался к звездам в такую же ясную ночь, выйдя на веранду и вдруг задумавшись: о чем они говорят, беседуют ли между собой? Глупая, праздная мыслишка, дикое, химерическое намерение — но, раз уж взбрело такое в голову, он и в самом деле начал вслушиваться, сознавая, что это глупость, и в то же время упиваясь ею, повторяя себе: какой же я счастливец, что могу в своей праздности дойти до того, чтобы слушать звезды, словно ребенок, верящий в Санта-Клауса или в доброго пасхального кролика. И он вслушивался, вслушивался — и услышал. Как ни удивительно, однако не подлежало сомнению: где-то там, далеко-далеко, какие-то иные существа переговаривались друг с другом. Он словно подключился к исполинскому телефонному кабелю, несущему одновременно миллионы, а то и миллиарды дальних переговоров. Конечно, эти переговоры велись не словами, но каким-то кодом (возможно, мыслями), не менее понятным, чем слова. А если и не вполне понятным — по правде говоря, часто вовсе не понятным, — то, видимо, потому, что у него не хватало пока подготовки, не хватало знаний, чтобы понять. Он сравнил себя с дикарем, который прислушивается к дискуссии физиков-ядерщиков, обсуждающих проблемы своей науки.
И вот вскоре после той ночи, забравшись в неглубокую пещеру — в ту самую, что прозвали Кошачьей берлогой, — он впервые ощутил присутствие существа, замурованного в толще скал. «Наверное, — подумал он, — если б я не слушал звезды, если бы не обострил восприятие, слушая звезды, я б и не заподозрил, что оно погребено под слоями известняка».
Он стоял на веранде, глядя на звезды и слыша только ветер, а потом за рекой по дороге, что вилась по дальним холмам, промелькнул слабый отблеск фар — там в ночи шла машина. Ветер на мгновение стих, будто набирая силу для того, чтобы задуть еще свирепее, и в ту крошечную долю секунды, которая выдалась перед новым порывом, Дэниельсу почудился еще один звук — звук топора, вгрызающегося в дерево. Он прислушался — звук донесся снова, но с какой стороны, не понять: все перекрыл ветер.
«Должно быть, я все-таки ошибся, — решил Дэниельс. — Кто же выйдет рубить дрова в такую ночь?..» Впрочем, не исключено, что это охотники за енотами. Охотники подчас не останавливаются перед тем, чтобы свалить дерево, если не могут отыскать тщательно замаскированную нору. Не слишком честный прием, достойный разве что Бена Адамса с его придурковатыми сыновьями-переростками. Но такая бурная ночь просто не годится для охоты на енотов. Ветер смешает все запахи, и собаки не возьмут след. Для охоты на енотов хороши только тихие ночи. И кто, если он в своем уме, станет валить деревья в такую бурю — того и гляди, ветер развернет падающий ствол и обрушит на самих дровосеков.
Он еще прислушался, пытаясь уловить непонятный звук, но ветер, передохнув, засвистал сильнее, чем прежде, и различить что бы то ни было, кроме свиста, стало никак нельзя.
Утро пришло тихое, серое, ветер сник до легкого шепотка. Проснувшись среди ночи, Дэниельс слышал, как ветер барабанит по окнам, колотит по крыше, горестно завывает в крутобоких оврагах над рекой. А когда проснулся снова, все успокоилось, и в окнах серел тусклый рассвет. Он оделся и вышел из дому — вокруг тишь, облака затянули небо, не оставив и намека на солнце, воздух свеж, словно только что выстиран, и тяжел от влажной седины, укутавшей землю. И блеск одевшей холмы осенней листвы кажется ослепительнее, чем в самый солнечный день.
Отделавшись от хозяйственных забот и позавтракав, Дэниельс отправился бродить по холмам. Когда спускался под уклон к ближайшему из оврагов, то поймал себя на мысли: «Пусть сегодняшний день обойдется без сдвигов во времени…» Как ни парадоксально, сдвиги подстерегали его не каждый день, и не удавалось найти никаких причин, которые бы их предопределяли. Время от времени от пробовал доискаться причин хотя бы приблизительно: записывал со всеми подробностями, какие ощущения испытывал с утра, что предпринимал и даже какой маршрут выбирал, выйдя на прогулку, — но закономерности так и не обнаружил. Закономерность пряталась, конечно же, где-то в глубине мозга — что-то задевало какую-то струну и включало новые способности. Но явление это оставалось неожиданным и непроизвольным. Дэниельс был не в силах управлять им, по крайней мере управлять сознательно. Изредка он пробовал сдвинуть время по своей воле, намеренно оживить прошлое — и всякий раз терпел неудачу. Одно из двух: или он не знал, как обращаться с собственным даром, или этот дар был действительно неподконтрольным.
Сегодня ему искренне хотелось, чтоб удивительные способности не просыпались. Хотелось побродить по холмам, пока они не утратили одного из самых заманчивых своих обличий, пока исполнены легкой грусти: все резкие линии смягчены висящей в воздухе сединой, деревья застыли и молча поджидают его прихода будто старые верные друзья, а палая листва и мох под ногами глушат звуки, и шаги становятся не слышны.
Он спустился в лощину и присел на поваленный ствол у щедрого родничка, от которого брал начало ручей, с журчанием бегущий вниз по каменистому руслу. В мае заводь у родничка была усыпана мелкими болотными цветами, а склоны холмов подернуты нежными красками трав. Сейчас здесь не видно было ни трав, ни цветов. Леса цепенели, готовясь к зиме. Летние и осенние растения умерли или умирали, и листья слой за слоем ложились на грунт, заботливо укрывая корни деревьев от льда и снега.
«В таких местах словно смешаны приметы всех времен года сразу…» — подумал он. Миллион лет, а может, и больше здесь все выглядело точно так же, как сейчас. Но не всегда: в давным-давно минувшие тысячелетия эти холмы, да и весь мир грелись в лучах вечной весны. А чуть более десяти тысяч лет назад на севере, совсем неподалеку, вздыбилась стена льда высотой в добрую милю. С гребня, на котором расположена ферма, наверное, тогда различалась на горизонте синеватая линия — верхняя кромка ледника. Однако в эру ледников, какой бы она ни была студеной, уже существовала не только зима, но и другие времена года.
Поднявшись на ноги, Дэниельс вновь двинулся по узкой тропе, что петляла по склону. Это была коровья тропа, пробитая в ту пору, когда в здешних лесах паслись не две его коровенки, а целые стада; шагая по тропе, Дэниельс вновь — в который раз — поразился тонкости чутья, присущего коровам. Протаптывая свои тропы, они безошибочно выбирают самый пологий уклон.
На мгновение он задержался под раскидистым белым дубом, вставшим на повороте тропы, и полюбовался гигантским растением — ариземой, которой не уставал любоваться все эти годы. Растение уже готовилось к зиме: зеленая с пурпуром шапка листвы полностью облетела, обнажив алую гроздь ягод, — в предстоящие голодные месяцы они пойдут на корм птицам.
Тропа вилась дальше, глубже врезаясь в холмы, и тишина звенела все напряженнее, а седина сгущалась, пока Дэниельсу не показалось, что мир вокруг стал его безраздельной собственностью.
И вот она, на той стороне ручья, Кошачья берлога. Ее желтая пасть зияет сквозь искривленные, уродливые кедровые ветви. Весной под кедром играют лисята. Издалека, с заводей в речной долине, сюда доносится глуховатое кряканье уток. А наверху, на самой крутизне, — берлога, высеченная в отвесной стене временем и непогодой.
Только сегодня что-то здесь было не так.
Дэниельс застыл на тропе, глядя на противоположный склон и ощущая какую-то неточность, но сперва не понимая, в чем она. Перед ним открывалась большая часть скалы — и все-таки чего-то не хватало. Внезапно он сообразил, что не хватает дерева, того самого, по которому годами взбирались дикие кошки, возвращаясь домой с ночной охоты, а потом и люди, если им, как ему, приспичило осмотреть берлогу. Кошек там, разумеется, теперь не было и в помине. Еще в дни первых переселенцев их вывели в этих краях почти начисто — ведь кошки порой оказывались столь неблагоразумны, что давили ягнят. Но следы кошачьего житья до сих пор различались без труда. В глубине пещеры, в дальних ее уголках, дно было усыпано косточками и раздробленными черепами мелких зверушек: хозяева берлоги таскали их когда-то на обед своему потомству.
Дерево, старое и увечное, простояло здесь, вероятно, не одно столетие, и рубить его не было никакого смысла, поскольку корявая древесина не имела ни малейшей ценности. Да и вытащить срубленный кедр из лощины — дело совершенно немыслимое. И все же прошлой ночью, выйдя на веранду, Дэниельс в минуту затишья различил вдали стук топора, а сегодня дерево исчезло.
Не веря глазам своим, он стал карабкаться по склону быстро, как мог. Первозданный склон местами вздымался под углом почти в сорок пять градусов — приходилось падать на четвереньки, подтягиваться вверх на руках, повинуясь безотчетному страху, за которым скрывалось нечто большее, чем недоумение, куда же девалось дерево. Ведь именно здесь и только здесь, в Кошачьей берлоге, можно было услышать существо, погребенное в толще скал.
Дэниельс навсегда запомнил день, когда впервые расслышал таинственное существо. Он тогда не поверил собственным ощущениям, решил, что ловит шорохи, рожденные воображением, навеянным прогулками среди динозавров, попытками вникнуть в переговоры звезд. В конце концов, ему и раньше случалось взбираться на дерево и залезать в пещеру-берлогу. Он бывал там не раз — и даже находил какое-то извращенное удовольствие в том, что открыл для себя столь необычное убежище. Он любил сидеть у края уступа перед входом в пещеру и глядеть поверх крон, одевших вершину холма за оврагом, — над листвою различался отблеск заводей на заречных лугах. Но самой реки он отсюда увидеть не мог: чтоб увидеть реку, надо было бы подняться по склону еще выше.
Он любил берлогу и уступ перед ней, потому что находил здесь уединение, как бы отрезал себя от мира: забравшись в берлогу, он по-прежнему видел какую-то, пусть ограниченную, часть мира, а его не видел никто. «Я как те дикие кошки, — повторял он себе, — им тоже нравилось чувствовать себя отрезанными от мира…» Впрочем, кошки искали тут не просто уединения, а безопасности — для себя и, главное, для своих котят.
А к берлоге не подступиться, сюда вел только один путь — по ветвям старого дерева.
Впервые Дэниельс услышал существо, когда однажды заполз в самую глубину пещеры и, конечно, опять наткнулся на россыпь костей, остатки вековой давности пиршеств, когда котята грызли добычу, припадая к земле и урча. Припав ко дну пещеры, совсем как котята, он вдруг ощутил чье-то присутствие — ощущение шло снизу, просачивалось из дальних каменных толщ. Вначале это было не более чем ощущение, не более чем догадка — там внизу есть что-то живое. Естественно, он и сам поначалу отнесся к своей догадке скептически, а поверил в нее гораздо позже. Понадобилось немало времени, чтобы вера переросла в твердое убеждение.
Он, конечно же, не мог передать услышанное словами, потому что на деле не слышал ни слова. Но чей-то разум, чье-то сознание исподволь проникли в мозг через пальцы, ощупывающие каменное дно пещеры, через прижатые к камню колени. Он впитывал эти токи, слушал их без помощи слуха и, чем дольше впитывал, тем сильнее убеждался, что где-то там, глубоко в пластах известняка, находится погребенное заживо разумное существо. И наконец настал день, когда он сумел уловить обрывки каких-то мыслей — несомненные отзвуки работы интеллекта, запертого в толще скал.
Он не понял того, что услышал. И это непонимание было само по себе знаменательно. Если бы он все понял, то со спокойной совестью посчитал бы свое открытие игрой воображения. А непонимание свидетельствовало, что у него просто нет опыта, опираясь на который можно бы воспринять необычные представления. Он уловил некую схему сложных жизненных отношений, казалось бы, не имевшую никакого смысла, — ее нельзя было постичь, она распадалась на крохотные и бессвязные кусочки информации, настолько чуждой (хотя и простой), что его человеческий мозг наотрез отказывался в ней разбираться. И еще он волей-неволей получил представление о расстояниях столь протяженных, что разум буксовал, едва соприкоснувшись с теми пустынями пространства, в каких подобные расстояния только и могли существовать. Даже вслушиваясь в переговоры звезд, он никогда не испытывал таких обескураживающих столкновений с иными представлениями о пространстве-времени.
В потоке информации встречались и крупинки иных сведений, обрывки иных фактов — смутно чувствовалось, что они могли бы пригодиться в системе человеческих знаний. Но ни единая крупинка не прорисовывалась достаточно четко для того, чтобы поставить ее в системе знаний на принадлежащее ей место. А большая часть того, что доносилось к нему, лежала попросту за пределами его понимания, да, наверное, и за пределами человеческих возможностей вообще. Тем не менее мозг улавливал и удерживал эту информацию во всей ее невоспринимаемости, и она вспухала и ныла на фоне привычных, повседневных мыслей.
Дэниельс отдавал себе отчет, что они (или оно) отнюдь не пытаются вести с ним беседу, напротив, они (или оно) и понятия не имеют о существовании рода человеческого, не говоря уж о нем лично. Однако что именно происходит там, в толще скал: то ли оно (или они — употреблять множественное число почему-то казалось проще) размышляет, то ли в своем неизбывном одиночестве разговаривает с собой, то ли пробует связаться с какой-либо иной, отличной от себя сущностью, — в этом Дэниельс при всем желании разобраться не мог.
Обдумывая свое открытие, часами сидя на уступе перед входом в берлогу, он пытался привести факты в соответствие с логикой, дать присутствию существа в толще скал наилучшее объяснение. И, отнюдь не будучи в том уверенным, — точнее, не располагая никакими фактами в подкрепление своей мысли, — пришел к выводу, что в отдаленную геологическую эру, когда здесь плескалось мелководное море, из космических далей на Землю упал корабль, упал и увяз в донной грязи, которую последующие миллионы лет уплотнили в известняк. Корабль угодил в ловушку и застрял в ней на веки вечные. Дэниельс и сам понимал, что в цепи его рассуждений есть слабые звенья — ну, к примеру, давления, при которых только и возможно формирование горных пород, должны быть настолько велики, что сомнут и расплющат любой корабль, разве что он сделан из материалов, далеко превосходящих лучшие достижения человеческой техники.
«Случайность, — спрашивал он себя, — или намеренный акт? Попало существо в ловушку или спряталось?..» Как ответить однозначно, если любые умозрительные рассуждения просто смешны: все они по необходимости построены на догадках, а те в свою очередь лишены оснований.
Карабкаясь по склону, он подобрался вплотную к скале и убедился, что дерево действительно срубили. Кедр свалился вниз и, прежде чем затормозить, скользил футов тридцать под откос, пока ветви не уперлись в грунт и не запутались среди других деревьев. Пень еще не утратил свежести, белизна среза кричала на фоне серого дня. С той стороны пня, что смотрела под гору, виднелась глубокая засечка, а довершили дело пилой. Подле пня лежали кучки желтоватых опилок. Пила, как он заметил по срезу, была двуручная.
От площадки, где теперь стоял Дэниельс, склон круто падал вниз, зато чуть выше, как раз под самым пнем, крутизну прерывала странная насыпь. Скорее всего, когда-то давно с отвесной скалы обрушилась каменная лавина и задержалась здесь, а потом эти камни замаскировал лесной сор и постепенно на них наросла почва. На насыпи поселилась семейка берез, и их белые, словно припудренные стволы по сравнению с другими, сумрачными деревьями казались невесомыми, как привидения.
«Срубить дерево, — повторил он про себя, — ну что может быть бессмысленнее?..» Дерево не представляло собой ни малейшей ценности, служило одной-единственной цели — чтобы забираться по его ветвям в берлогу. Выходит, кто-то проведал, что кедр служит Дэниельсу мостом в берлогу, и разрушил мост по злому умыслу? А может, кто-нибудь спрятал что-либо в пещере и срубил дерево, перерезав тем самым дорогу к тайнику?
Но кто, спрашивается, мог набраться такой злобы, чтобы срубить дерево среди ночи, в бурю, работая при свете фонаря на крутизне и невольно рискуя сломать себе шею? Кто? Бен Адамс? Конечно, Бен разозлился оттого, что Дэниельс не позволил охотиться на своей земле, но разве это причина для сведения счетов, к тому же столь трудоемким способом?
Другое предположение: дерево срубили после того, как в пещере что-то спрятали, — представлялось, пожалуй, более правдоподобным. Хотя само уничтожение дерева лишь привлекало к тайнику внимание.
Дэниельс стоял на склоне озадаченный, недоуменно качая головой. Потом его вдруг осенило, как дознаться до истины. День едва начался, а делать было все равно больше нечего.
Он двинулся по тропе обратно. В сарае, надо думать, сыщется какая-нибудь веревка.
4
В пещере было пусто. Она оставалась точно такой же, как раньше. Лишь десяток-другой осенних листьев занесло ветром в глухие ее уголки, да несколько каменных крошек осыпалось с козырька над входом — крохотные улики, свидетельствующие, что бесконечный процесс выветривания, образовавший некогда эту пещеру, способен со временем и разрушить ее без следа.
Вернувшись на узкий уступ перед входом в пещеру, Дэниельс бросил взгляд на другую сторону оврага и удивился: как изменился весь пейзаж от того, что срубили одно-единственное дерево! Сместилось все — самые холмы и те стали другими. Но, всмотревшись пристальнее в их контуры, он в конце концов удостоверился, что не изменилось ничего, кроме раскрывающейся перед ним перспективы. Теперь отсюда, с уступа, были видны контуры и силуэты, которые прежде скрывались за кедровыми ветвями.
Веревка спускалась с каменного козырька, нависшего над головой и переходящего в свод пещеры. Она слегка покачивалась на ветру, и, подметив это, Дэниельс сказал себе: «А ведь с утра никакого ветра не было…» Зато сейчас ветер задул снова, сильный, западный. Деревья внизу так и кланялись под его ударами.
Повернувшись лицом на запад, Дэниельс ощутил щекой холодок. Дыхание ветра встревожило его, будто подняв со дна души смутные страхи, уцелевшие с тех времен, когда люди не знали одежды и бродили ордами, беспокойно вслушиваясь, вот как он сейчас, в подступающую непогоду. Ветер мог означать только одно: погода меняется, пора вылезать по веревке наверх и возвращаться домой, на ферму.
Но уходить, как ни странно, не хотелось. Такое, по совести говоря, случалось и раньше. Кошачья берлога давала ему своего рода убежище, здесь он оказывался отгороженным от мира — та малая часть мира, что оставалась с ним, словно бы меняла свой характер, была существеннее, милее и проще, чем тот жестокий мир, от которого он бежал.
Выводок диких уток поднялся с одной из речных заводей, стремительно пронесся над лесом, взмыл вверх, преодолевая исполинский изгиб утеса, и, преодолев, плавно повернул обратно к реке. Дэниельс следил за утками, пока те не скрылись за деревьями, окаймляющими реку-невидимку.
И все-таки пришла пора уходить. Чего еще ждать? С самого начала это была никудышная затея: кто же в здравом уме хоть на минуту позволит себе уверовать, что в пещере что-то спрятано!..
Дэниельс обернулся к веревке — ее как не бывало.
Секунду-другую он тупо пялился в ту точку, откуда только что свисала веревка, чуть подрагивающая на ветру. Потом принялся искать глазами, не осталось ли от нее какого-либо следа, хоть искать было в общем-то негде. Конечно, веревка могла немного соскользнуть, сдвинуться вдоль нависшей над головой каменной плиты — но не настолько же, чтобы совсем исчезнуть из виду!
Веревка была новая, прочная, и он своими руками привязал ее к дереву на вершине утеса — крепко затянул узел да еще и подергал, желая убедиться, что она не развяжется.
И тем не менее веревку как ветром сдуло. Тут не обошлось без чьего-то вмешательства. Кто-то проходил мимо, заметил веревку, тихо вытянул ее, а теперь притаился наверху и ждет: когда же хозяин веревки поймет, что попал впросак, и поднимет испуганный крик? Любому из тех, кто живет по соседству, именно такая грубая шутка должна представляться вершиной юмора. Самое остроумное, бесспорно, — оставить выходку без внимания и молча выждать, пока она не обернется против самого шутника.
Придя к такому выводу, Дэниельс опустился на корточки и принялся выжидать. «Десять минут, — говорил он себе, — самое большее четверть часа, и терпение шутника истощится. Веревка благополучно вернется на место, я выкарабкаюсь наверх и отправлюсь домой. А может даже — смотря кем окажется шутник — приглашу его к себе, налью ему стаканчик, мы посидим на кухне и вместе посмеемся над приключением…»
Тут Дэниельс неожиданно для себя обнаружил, что горбится, защищаясь от ветра, который, похоже, стал еще пронзительнее, чем в первые минуты. Ветер менялся с западного на северный, и это было не к добру.
Присев на краю уступа, он обратил внимание, что на рукава куртки налипли капельки влаги — не от дождя, дождя в сущности не было, а от оседающего тумана. Если температура упадет еще на градус-другой, погода станет пренеприятной…
Он выжидал, скорчившись, вылавливая из тишины хоть какой-нибудь звук — шуршание листьев под ногами, треск надломленной ветки, — который выдал бы присутствие человека на вершине утеса. Но в мире не осталось звуков. День был совершенно беззвучный. Даже ветви деревьев на склоне ниже уступа, качающиеся на ветру, качались без обычных поскрипываний и стонов.
Четверть часа, по-видимому, давно миновала, а с вершины утеса по-прежнему не доносилось ни малейшего шума. Ветер, пожалуй, еще усилился, и когда Дэниельс выворачивал голову в тщетных попытках заглянуть за каменный козырек, то щекой чувствовал, как шевелятся на ветру мягкие пряди тумана.
Дольше сдерживать себя в надежде переупрямить шутника он уже не мог. Он ощутил острый приступ страха и понял наконец, что время не терпит.
— Эй, кто там наверху! — крикнул он и подождал ответа.
Ответа не было.
Он крикнул снова, на этот раз еще громче.
В обычный день скала по ту сторону оврага отозвалась бы на крик эхом. Сегодня эха не было, и самый крик казался приглушенным, словно Дэниельса окружила серая, поглощающая звук стена.
Он крикнул еще раз — туман подхватил его голос и проглотил. Снизу донеслось какое-то шуршание, и он понял, что это шуршат обледеневшие ветки. Туман, оседая меж порывами ветра, превращался в наледь.
Дэниельс прошелся вдоль уступа перед пещерой — от силы двадцать футов в длину, и никакого пути к спасению. Уступ выдавался над пропастью и обрывался отвесно. Над головой нависала гладкая каменная глыба Поймали его ловко, ничего не скажешь.
Он снова укрылся в пещере и присел на корточки. Здесь он был по крайней мере защищен от ветра и, несмотря на вновь подкравшийся страх, чувствовал себя относительно уютно. Пещера еще не остыла. Но температура, видимо, падала, и притом довольно быстро, иначе туман не оседал бы наледью. А на плечах у Дэниельса была лишь легкая куртка, и он не мог развести костер. Он не курил и не носил при себе спичек.
Только теперь он впервые по-настоящему осознал серьезность положения. Пройдут многие дни, прежде чем кто-нибудь задастся вопросом, куда же он запропастился. Навещали его редко, — собственно, никому до него не было дела. Да если даже и обнаружат, что он пропал, и будет объявлен розыск, велики ли шансы, что его найдут? Кто додумается заглянуть в эту пещеру? И долго ли человек способен прожить в такую погоду без огня и без пищи?
А если он не выберется отсюда, и скоро, что станется со скотиной? Коровы вернутся с пастбища, подгоняемые непогодой, и некому будет впустить их в хлев. Если они постоят недоенными день-другой, разбухшее вымя начнет причинять им страдания. Свиньям и курам никто не задаст корма. «Человек, — мелькнула мысль, — просто не вправе рисковать собой так безрассудно, когда от него зависит жизнь стольких беззащитных существ…»
Дэниельс заполз поглубже в пещеру и распластался ничком, втиснув плечи в самую дальнюю нишу и прижавшись ухом к каменному ее дну.
Таинственное существо было по-прежнему там, — разумеется там, куда же ему деться, если его поймали еще надежнее, чем Дэниельса. Оно томилось под слоем камня толщиной, вероятно, в триста-четыреста футов, который природа наращивала не спеша, на протяжении многих миллионов лет…
Существо опять предавалось воспоминаниям. Оно мысленно перенеслось в какие-то иные места — что-то в потоке его памяти казалось зыбким и смазанным, что-то виделось кристально четко. Исполинская темная каменная равнина, цельная каменная плита, уходящая к далекому горизонту; над горизонтом встает багровый шар солнца, а на фоне восходящего солнца угадывается некое сооружение — неровность горизонта допускает лишь такое объяснение. Не то замок, не то город, не то гигантский обрыв с жилыми пещерами — трудно истолковать, что именно, трудно даже признать, что увиденное вообще поддается истолкованию.
Быть может, это родина загадочного существа? Быть может, черное каменное пространство — космический порт его родной планеты? Или не родина, а какие-то края, которые существо посетило перед прилетом на Землю? Быть может, пейзаж показался столь фантастическим, что врезался в память?
Затем к воспоминаниям стали примешиваться иные явления, иные чувственные символы, относящиеся, по-видимому, к каким-то формам жизни, индивидуальностям, запахам, вкусам. Конечно, Дэниельс понимал, что, приписывая существу, замурованному в толще скал, человеческую систему восприятия, легко и ошибиться; но другой системы, кроме человеческой, он просто не ведал.
И тут, прислушавшись к воспоминаниям о черной каменной равнине, представив себе восходящее солнце и на фоне солнца на горизонте очертания гигантского сооружения, Дэниельс сделал то, чего никогда не Делал раньше. Он попытался заговорить с существом — узником скал, попытался дать ему знать, что есть человек, который слушал и услышал, и что существо не так одиноко, не так отчуждено от всех, как, по всей вероятности, полагало.
Естественно, он не стал говорить вслух — это было бы бессмысленно. Звук никогда не пробьется сквозь толщу камня. Дэниельс заговорил про себя, в уме.
— Эй, кто там внизу? — сказал он. — Говорит твой друг. Я слушаю тебя уже очень, очень давно и надеюсь, что ты меня тоже слышишь. Если слышишь, давай побеседуем. Разреши, я попробую дать тебе представление о себе и о мире, в котором живу, а ты расскажешь мне о себе и о мире, в котором жил прежде, и о том, как ты попал сюда, в толщу скал, и могу ли я хоть что-нибудь для тебя сделать, хоть чем-то тебе помочь…
Больше он не рискнул ничего сказать. Проговорив это, он лежал еще какое-то время, не отнимая уха от твердого дна пещеры, пытаясь угадать, расслышало ли его зов существо. Но, очевидно, оно не расслышало или, расслышав, не признало зов достойным внимания.
Оно продолжало вспоминать планету, где над горизонтом встает тусклое багровое солнце.
«Это было глупо, — упрекнул он себя. — Обращаться к неведомому существу было самонадеянно и глупо…» До сих пор он ни разу не отваживался на это, а просто слушал. Точно так же, как не пробовал обращаться к тем, кто беседовал друг с другом среди звезд, — тех он тоже только слушал.
Какие же новые способности открыл он в себе, если счел себя вправе обратиться к этому существу? Быть может, подобный поступок продиктован лишь страхом смерти?
А что если существу в толще скал незнакомо само понятие смерти, если оно способно жить вечно?
Дэниельс выполз из дальней ниши и перебрался обратно в ту часть пещеры, где мог хотя бы присесть.
Поднималась метель. Пошел дождь пополам со снегом, и температура продолжала падать. Уступ перед входом в пещеру покрылся скользкой ледяной коркой. Если бы теперь кому-то вздумалось прогуляться перед пещерой, смельчак неизбежно сорвался бы с утеса и разбился насмерть.
А ветер все крепчал. Ветви деревьев качались сильней и сильней, и по склону холма несся вихрь палой листвы, перемешанной со льдом и снегом. С того места, где сидел Дэниельс, он видел лишь ветви березок, что поселились на странной насыпи чуть ниже корявого кедра, служившего прежде мостом в пещеру. И ему почудилось вдруг, что эти ветви качаются еще яростнее, чем должны бы на ветру. Березки так и кланялись из стороны в сторону и, казалось, прямо на глазах вырастали еще выше, заламывая ветви в немой мольбе.
Дэниельс подполз на четвереньках к выходу и высунул голову наружу — посмотреть, что творится на склоне. И увидел, что качаются не только верхние ветви, — вся рощица дрожала и шаталась, будто невидимая рука пыталась вытолкнуть деревья из земли. Не успел он подумать об этом, как увидел, что и самая почва заходила ходуном. Казалось, кто-то снял замедленной съемкой кипящую, вспухающую пузырями лаву, а теперь прокручивал съемку с обычной скоростью. Вздымалась почва — поднимались и березки. Вниз по склону катились стронутые с мест камушки и сор. А вот и тяжелый камень сорвался со склона и с треском рухнул в овраг, ломая по дороге кусты и оставляя в подлеске безобразные шрамы.
Дэниельс следил за камнем как зачарованный.
«Неужели, — спрашивал он себя, — я стал свидетелем какого-то геологического процесса, только необъяснимо ускоренного?» Он попытался понять, что бы это мог быть за процесс, но не припомнил ничего подходящего. Насыпь вспучивалась, разваливаясь в стороны. Поток, катившийся вниз, с каждой секундой густел, перечеркивая бурыми мазками белизну свежевыпавшего снега. Наконец березы опрокинулись и соскользнули вниз, и из ямы, возникшей там, где они только что стояли, явился призрак.
Призрак не имел четких очертаний — контуры его были смутными, словно с неба соскребли звездную пыль и сплавили в неустойчивый сгусток, не способный принять определенную форму, а беспрерывно продолжающий меняться и преображаться, хоть и не утрачивающий окончательно сходства с неким первоначальным обликом. Такой вид могло бы иметь скопление разрозненных, не связанных в молекулы атомов — если бы атомы можно было видеть. Призрак мягко мерцал в бесцветье серого дня и, хотя казался бестелесным, обладал, по-видимому, изрядной силой: он продолжал высвобождаться из полуразрушенной насыпи, пока не высвободился совсем. А высвободившись, поплыл вверх, к пещере.
Как ни странно, Дэниельс ощущал не страх, а одно лишь безграничное любопытство. Он старался разобраться, на что похож подплывающий призрак, но так и не пришел ни к какому ясному выводу. Когда призрак достиг уступа, Дэниельс отодвинулся вглубь и вновь опустился на корточки. Призрак приблизился еще на фут-другой и не то уселся у входа в пещеру, не то повис над обрывом.
— Ты говорил, — обратился искрящийся призрак к Дэниельсу. Это не было ни вопросом, ни утверждением, да и речью это назвать было нельзя. Звучало это в точности так же, как те переговоры, которые Дэниельс слышал, когда слушал звезды. Ты говорил с ним как друг, — продолжал призрак. (Понятие, выбранное призраком, означало не «друг», а нечто иное, но тоже теплое и доброжелательное.) — Ты предложил ему помощь. Разве ты можешь помочь?
По крайней мере теперь был задан вопрос, и достаточно четкий.
— Не знаю, — ответил Дэниельс. — Сейчас, наверное, не могу. Но лет через сто — ты меня слышишь? Слышишь и понимаешь, что я говорю?
— Ты говоришь, что помощь возможна, — отозвалось призрачное существо, — только спустя время. Уточни, какое время спустя?
— Через сто лет, — ответил Дэниельс. — Когда планета обернется вокруг центрального светила сто раз.
— Что значит сто раз? — переспросило существо. Дэниельс вытянул перед собой пальцы обеих рук.
— Можешь ты увидеть мои пальцы? Придатки на концах моих рук?
— Что значит увидеть? — переспросило существо.
— Ощутить их так или иначе. Сосчитать их.
— Да, я могу их сосчитать.
— Их всего десять, — пояснил Дэниельс. — Десять раз по десять составляет сто.
— Это не слишком долгий срок, — отозвалось существо. — Что за помощь станет возможна тогда?
— Знаешь ли ты о генетике? О том, как зарождается все живое и как зародившееся создание узнаёт, кем ему стать? Как оно растет и почему знает, как ему расти и кем быть? Известно тебе что-либо о нуклеиновых кислотах, предписывающих каждой клетке, как ей развиваться и какие функции выполнять?
— Я не знаю твоих терминов, — отозвалось существо, — но я понимаю тебя. Следовательно, тебе известно все это? Следовательно, ты не просто тупая дикая тварь, как другие, что стоят на одном месте, или зарываются в грунт, или бегают по земле?..
Разумеется, звучало это вовсе не так. И кроме слов — или смысловых единиц, оставляющих ощущение слов, — были еще и зрительные образы деревьев, мышей в норках, белок, кроликов, неуклюжего крота и быстроногой лисы.
— Если неизвестно мне, — ответил Дэниельс, — то известно другим из моего племени. Я сам знаю немногое. Но есть люди, посвятившие изучению законов наследственности всю свою жизнь.
Призрак висел над краем уступа и довольно долго молчал. Позади него гнулись на ветру деревья, кружились снежные вихри. Дэниельс, дрожа от холода, заполз в пещеру поглубже и спросил себя, не пригрезилась ли ему эта искристая тень.
Но не успел он подумать об этом, как существо заговорило снова, хоть обращалось на сей раз, кажется, вовсе не к человеку. Скорее даже оно ни к кому не обращалось, а просто вспоминало, подобно тому другому существу, замурованному в толще скал. Может статься, эти воспоминания и не предназначались для человека, но у Дэниельса не было способа отгородиться от них. Поток образов, излучаемый существом, достигал его мозга и заполнял мозг, вытесняя его собственные мысли, будто образы принадлежали самому Дэниельсу, а не призраку, замершему напротив.
5
Вначале Дэниельс увидел пространство — безбрежное, бескрайнее, жестокое, холодное, такое отстраненное от всего, такое безразличное ко всему, что разум цепенел, и не столько от страха или одиночества, сколько от осознания, что по сравнению с вечностью космоса ты пигмей, пылинка, мизерность которой не поддается исчислению. Пылинка канет в безмерной дали, лишенная всяких ориентиров, — но нет, все-таки не лишенная, потому что пространство сохранило след, отметину, отпечаток, суть которых не объяснишь и не выразишь, они не укладываются в рамки человеческих представлений; след, отметина, отпечаток указывают, правда почти безнадежно смутно, путь, по которому в незапамятные времена проследовал кто-то еще. И безрассудная решимость, глубочайшая преданность, какая-то неодолимая потребность влекут пылинку по этому слабому, расплывчатому следу, куда бы он ни вел — пусть за пределы пространства, за пределы времени или того и другого вместе. Влекут без отдыха, без колебаний и без сомнений, пока след не приведет к цели или пока не будет вытерт дочиста ветрами — если существуют ветры, не гаснущие в пустоте.
«Не в ней ли, — спросил себя Дэниельс, — не в этой ли решимости кроется, при всей ее чужеродности, что-то знакомое, что-то поддающееся переводу на земной язык и потому способное стать как бы мостиком между этим вспоминающим инопланетянином и моим человеческим "я"?..»
Пустота, молчание и холодное равнодушие космоса длились века, века и века, — казалось, пути вообще не будет конца. Но так или иначе Дэниельсу дано было понять, что конец все же настал — и настал именно здесь, среди иссеченных временем холмов над древней рекой. И тогда на смену почти бесконечным векам мрака и холода пришли почти бесконечные века ожидания: путь был завершен, след привел в недостижимые дали, и оставалось только ждать, набравшись безграничного, неистощимого терпения.
— Ты говорил о помощи, — обратилось к Дэниельсу искристое существо. — Но почему? Ты не знаешь того, другого. Почему ты хочешь ему помочь?
— Он живой, — ответил Дэниельс. — Он живой, и я живой. Разве этого недостаточно?
— Не знаю, — отозвалось существо.
— По-моему, достаточно, — решил Дэниельс.
— Как ты можешь помочь?
— Я уже упоминал о генетике. Как бы это объяснить…
— Я перенял терминологию из твоих мыслей. Ты имеешь в виду генетический код.
— Согласится ли тот, другой, замурованный в толще скал, тот, кого ты охраняешь…
— Не охраняю, — отозвалось существо. — Я просто жду его.
— Долго же тебе придется ждать!
— Я наделен умением ждать. Я жду уже долго. Могу ждать и дольше.
— Когда-нибудь, — заявил Дэниельс, — выветривание разрушит камень. Но тебе не понадобится столько ждать. Знает ли тот, другой, свой генетический код?
— Знает, — отозвалось существо. — Он знает много больше, чем я.
— Знает ли он свой код полностью? — настойчиво повторил Дэниельс. — Вплоть до самой ничтожной связи, до последней составляющей, точный порядок неисчислимых миллиардов…
— Знает, — подтвердило существо. — Первейшая забота разумной жизни — познать себя.
— А может ли он, согласится ли он передать нам эти сведения, сообщить нам свой генетический код?
— Твое предложение — дерзость, — оскорбилось искристое существо (слово, которое оно применило, было жестче, чем «дерзость»). — Таких сведений никто не передаст другому. Это нескромно и неприлично (опять-таки слова были несколько иными, чем «нескромно» и «неприлично»). Это значит, в сущности, отдать в чужие руки собственное «я». Полная и бессмысленная капитуляция.
— Не капитуляция, — возразил Дэниельс, — а способ выйти из заточения. В свое время, через сто лет, о которых я говорил, люди моего племени сумеют по генетическому коду воссоздать любое живое существо. Сумеют скопировать того, другого, с предельной точностью.
Но он же останется по-прежнему замурованным!
— Только один из двоих. Первому из двух близнецов действительно придется ждать, пока ветер не сточит скалы. Зато второй, копия первого, начнет жить заново.
«А что, — мелькнула мысль, — если существо в толще скал вовсе не хочет, чтоб его спасали? Что если оно сознательно погребло себя под каменными пластами? Что если оно просто искало укрытия, искало убежища? Может статься, появись у него желание — и оно освободилось бы из своей темницы с такой же легкостью, с какой этот силуэт, это скопище искр выбралось из-под насыпи?..»
— Нет, это исключено, — отозвалось скопище искр, висящее на самом краю уступа. — Я проявил беспечность. Я уснул, ожидая, и спал слишком долго.
«Действительно, куда уж дольше», — подумал Дэниельс. Так долго, что над спящим крупинка за крупинкой наслоилась земля и образовалась насыпь, что в эту землю вросли камни, сколотые морозом с утеса, а рядом с камнями поселилась семейка берез и они благополучно вымахали до тридцатифутовой высоты… Тут подразумевалось такое различие в восприятии времени, какого человеку просто не осмыслить.
«Однако погоди, — остановил себя Дэниельс, — кое-что ты все-таки понял…» Он уловил безграничную преданность и бесконечное терпение, с каким искристое существо следовало за тем другим сквозь звездные бездны. И не сомневался, что уловил точно: разум иного создания — преданного звездного пса, сидящего на уступе перед пещерой, — словно приблизился к нему, Дэниельсу, и коснулся собственного его разума И на мгновение оба разума, при всех их отличиях, слились воедино в порыве понимания и признательности, — ведь это, наверное, впервые за многие миллионы лет пес из дальнего космоса встретил кого-то, кто способен постичь веление долга и смысл призвания.
— Можно попытаться откопать того, другого, — предложил Дэниельс. — Я, конечно, уже думал об этом, но испугался, не причинить бы ему вреда. Да и нелегко будет убедить людей…
— Нет, — отозвалось существо, — его не откопаешь. Тут есть много такого, чего тебе не понять. Но первое твое предложение не лишено известных достоинств. Ты говоришь, что не располагаешь достаточными знаниями генетики, чтобы предпринять необходимые шаги теперь же. А ты пробовал советоваться со своими соплеменниками?
— С одним пробовал, — ответил Дэниельс, — только он не стал слушать. Он решил, что я свихнулся. Но в конце концов он и не был тем человеком, с которым следовало бы говорить. Наверное, потом я сумею поговорить с другими людьми, но не сейчас. Как бы я ни желал помочь, сейчас я ничего не добьюсь. Они будут смеяться надо мной, а я не вынесу насмешек. Лет через сто, а быть может, и раньше я сумею…
— Ты же не проживешь сто лет, — отозвался звездный пес. — Ты принадлежишь к недолговечному виду. Что, наверное, и объясняет ваш стремительный взлет. Вся жизнь здесь недолговечна, и это дает эволюции шансы сформировать разум. Когда я попал на вашу планету, здесь жили одни безмозглые твари.
— Ты прав, — ответил Дэниельс. — Я не проживу сто лет. Даже если вести отсчет с самого рождения, я не способен прожить сто лет, а большая часть моей жизни уже позади. Не исключено, что позади уже вся жизнь. Ибо если я не выберусь из этой пещеры, то умру буквально через два-три дня.
— Протяни руку, — предложил сгусток искр. — Протяни руку и коснись меня, собеседник.
Медленно-медленно Дэниельс вытянул руку перед собой. Рука прошла сквозь мерцание и блики, и он не ощутил ничего — как если бы провел рукой просто по воздуху.
— Вот видишь, — заметило существо, — я не в состоянии тебе помочь. Нет таких путей, чтобы заставить наши энергии взаимодействовать. Очень сожалею, друг. (Слово, которое выбрал призрак, не вполне соответствовало понятию «друг», но это было хорошее слово, и, как догадался Дэниельс, оно, возможно, значило гораздо больше, чем «друг».)
— Я тоже сожалею, — ответил Дэниельс. — Мне бы хотелось пожить еще.
Воцарилось молчание, мягкое раздумчивое молчание, какое случается только в снежный день, и вместе с ними в это молчание вслушивались деревья, скалы и притаившаяся живая мелюзга.
«Значит, — спросил себя Дэниельс, — эта встреча с посланцем иных миров тоже бессмысленна? Если только я каким-то чудом не слезу с уступа, то не сумею сделать ничего, ровным счетом ничего… А с другой стороны, почему я должен заботиться о спасении существа, замурованного в толще скал? Выживу ли я сам — вот что единственно важно сейчас, а вовсе не то, отнимет ли моя смерть у замурованного последнюю надежду на спасение…»
— Но может, наша встреча, — обратился Дэниельс к сгустку искр, — все-таки не напрасна? Теперь, когда ты понял…
— Понял я или нет, — откликнулся тот, — это не имеет значения. Чтобы добиться цели, я должен был бы передать полученные сведения тем, кто далеко на звездах, но даже если бы я мог связаться с ними, они не удостоили бы меня вниманием. Я слишком ничтожен, я не вправе беседовать с высшими. Моя единственная надежда — твои соплеменники, и то, если не ошибаюсь, при том непременном условии, что ты уцелеешь. Ибо я уловил твою мимолетную мысль, что ты — единственный, кто способен понять меня. Среди твоих соплеменников нет второго, кто хотя бы допустил мысль о моем существовании.
Дэниельс кивнул. Это была подлинная правда. Никто из живущих на Земле людей не обладал теми же способностями, что и он. Никто больше не повредил себе голову так удачно, чтобы приобрести их. Для существа в толще скал он был единственной надеждой, да и то слабенькой, — ведь прежде чем надежда станет реальной, надо найти кого-нибудь, кто выслушает и поверит. И не просто поверит, а пронесет эту веру сквозь годы в те дальние времена, когда генная инженерия станет гораздо могущественнее, чем сегодня.
— Если тебе удастся выбраться из критического положения живым, — заявил пес из иных миров, — тогда я, наверное, смогу изыскать энергию и технические средства для осуществления твоего замысла. Но ты должен отдать себе отчет, что я не в состоянии предложить никаких путей к личному спасению.
— А вдруг кто-то пройдет мимо, — ответил Дэниельс. — Если я стану кричать, меня могут услышать…
И он снова стал кричать, но не получил ответа. Вьюга глушила крики, да он и сам прекрасно понимал, что в такую погоду люди, как правило, сидят дома. Дома, у огня, в безопасности.
В конце концов он устал и привалился к камню отдохнуть. Искристое существо по-прежнему висело над уступом, но снова изменило форму и стало напоминать, пожалуй, накренившуюся, запорошенную снегом рождественскую елку.
Дэниельс уговаривал себя не засыпать. Закрывать глаза лишь на мгновение и сразу же раскрывать их снова, не разрешая векам смыкаться надолго, иначе одолеет сон. Хорошо бы подвигаться, похлопать себя по плечам, чтобы согреться, — только руки налились свинцом и не желали действовать.
Он почувствовал, что сползает на дно пещеры, и попытался встать. Но воля притупилась, а на каменном дне было очень уютно. Так уютно, что, право же, стоило разрешить себе отдохнуть минутку, прежде чем напрягаться, напрягая все силы. Самое странное, что дно пещеры вдруг покрылось грязью и водой, а над головой взошло солнце и снова стало тепло…
Он вскочил в испуге и увидел, что стоит по щиколотку в воде, разлившейся до самого горизонта, и под ногами у него не камень, а липкий черный ил.
Не было ни пещеры, ни холма, в котором могла бы появиться пещера. Было лишь необъятное зеркало воды, а если обернуться, то совсем близко, в каких-нибудь тридцати футах, лежал грязный берег крошечного островка — грязного каменистого островка с отвратительными зелеными потеками на камнях.
Дэниельс знал по опыту, что попал в иное время, но местоположения своего не менял. Каждый раз, когда время для него сдвигалось, он продолжал находиться в той же точке земной поверхности, где был до сдвига. И теперь, стоя на мелководье, он вновь — в который раз — подивился странной механике, которая поддерживает его тело в пространстве с такой точностью, что, перенесясь в иную эпоху, он не рискует быть погребенным под двадцатифутовым слоем песка и камня или, напротив, повиснуть без опоры на двадцатифутовой высоте.
Однако сегодня и тупице стало бы ясно, что на размышления нет ни минуты. По невероятному стечению обстоятельств он уже не заточен в Кошачьей берлоге, и здравый смысл требует уйти с того места, где он очутился, как можно скорее. Замешкаешься — и чего доброго опять очутишься в своем настоящем, и придется снова корчиться и коченеть в пещере.
Он неуклюже повернулся — ноги вязли в донном иле — и кинулся к берегу. Далось это нелегко, но он добрался до островка, поднялся по грязному скользкому берегу и хаотично разбросанным камням и только там наконец позволил себе присесть и перевести дух.
Дышать было трудно. Дэниельс отчаянно хватал ртом воздух, ощущая в нем необычный, ни на что не похожий привкус. Он сидел на камнях, хватал воздух ртом и разглядывал водную ширь, поблескивающую под высоким теплым солнцем. Далеко-далеко на востоке появилась длинная горбатая складка и на глазах Дэниельса поползла к берегу. Достигнув островка, она вскинулась по илистой отмели почти до самых его ног. А вдали на сияющем зеркале воды стала набухать новая складка.
Дэниельс отдал себе отчет, что водная гладь еще необъятнее, чем думалось поначалу. Впервые за все свои скитания по прошлому он натолкнулся на столь внушительный водоем. До сих пор он всегда оказывался на суше и к тому же всегда знал местность хотя бы в общих чертах — на заднем плане меж холмов неизменно текла река.
Сегодня все было неузнаваемым. Он попал в совершенно неведомые края, — вне сомнения, его отбросило во времени гораздо дальше, чем случалось до сих пор, и он, по-видимому, очутился у берегов большого внутриконтинентального моря в дни, когда атмосфера была бедна кислородом — беднее, чем в последующие эпохи. «Вероятно, — решил он, — я сейчас вплотную приблизился к рубежу, за которым жизнь для меня стала бы попросту невозможна…» Сейчас кислорода еще хватало, хоть и с грехом пополам: потому он и дышал гораздо чаще обычного. Отступи он в прошлое еще на миллион лет — кислорода перестало бы хватать. А отступи еще немного дальше, и свободного кислорода не оказалось бы совсем.
Всмотревшись в береговую кромку, Дэниельс приметил, что она населена множеством крохотных созданий, снующих туда-сюда, копошащихся в пенном прибрежном соре или сверлящих булавочные норки в грязи. Он опустил руку и слегка поскреб камень, на котором сидел. На камне проступало зеленоватое пятно — оно тут же отделилось и прилипло к ладони толстой пленкой, склизкой и противной на ощупь.
Значит, перед ним была первая жизнь, осмелившаяся выбраться на сушу, — существа, что и существами-то еще не назовешь, боязливо жмущиеся к берегу, не готовые, да и не способные оторваться от подола ласковой матери-воды, которая бессменно пестовала жизнь с самого ее начала. Даже растения и те еще льнули к морю, взбираясь на скалы, по-видимому, лишь там, где до них хоть изредка долетали брызги прибоя.
Через несколько минут Дэниельс почувствовал, что одышка спадает. Брести, разгребая ногами ил, при такой нехватке кислорода было тяжкой мукой. Но просто сидя на камнях без движения, удавалось кое-как дышать.
Теперь, когда кровь перестала стучать в висках, Дэниельс услышал тишину. Он различал один-единственный звук — мягкое пошлепывание воды по илистому берегу, и этот однообразный звук скорее подчеркивал тишину, чем нарушал ее.
Никогда во всей своей жизни он не встречал такого совершенного однозвучия. Во все другие времена, даже в самые тихие дни, над миром витала уйма разных звуков. А здесь, кроме моря, не было ничего, что могло бы издавать звуки, — ни деревьев, ни зверей, ни насекомых, ни птиц, лишь вода, разлившаяся до самого горизонта, и яркое солнце в небе.
Впервые за много месяцев он вновь познал чувство отделенности от окружающего, чувство собственной неуместности здесь, куда его не приглашали и где он, по существу, не имел права быть; он явился сюда самозванно, и окружающий мир оставался чуждым ему, как, впрочем, и всякому, кто размером или разумом отличается от мелюзги, снующей по берегу. Он сидел под чуждым солнцем посреди чуждой воды, наблюдая за крохотными козявками, которым в грядущие эпохи суждено развиться до уровня существ, подобных ему, Дэниельсу, — наблюдая за ними и пытаясь ощутить свое, пусть отдаленное, с ними родство. Но попытки успеха не имели: ощутить родство Дэниельсу так и не удалось.
И вдруг в этот однозвучный мир ворвалось какое-то биение, слабое, но отчетливое. Биение усилилось, отразилось от воды, сотрясло маленький островок — и оно шло с неба.
Дэниельс вскочил, запрокинул голову — и точно: с неба спускался корабль. Даже не корабль в привычном понимании — не было никаких четких контуров, а лишь искажение пространства, словно множество плоскостей света (если существует такая штука, как плоскость света) пересекались между собой без всякой определенной системы. Биение усилилось до воя, раздирающего атмосферу, а плоскости света беспрерывно то ли меняли форму, то ли менялись местами, так что корабль каждый миг представлялся иным, чем прежде.
Сначала корабль спускался быстро, потом стал тормозить — и все же продолжал падать, тяжело и целеустремленно, прямо на островок.
Дэниельс помимо воли съежился, подавленный этой массой небесного света и грома. Море, илистый берег и камни — все вокруг, даже при ярком солнце, засверкало от игры вспышек. Он зажмурился, защищая глаза, и тем не менее понял, что если корабль и коснется поверхности, то — опасаться нечего — сядет не на островок, а футах в ста, а может, и в ста пятидесяти от берега.
До поверхности моря оставалось совсем немного, когда исполинский корабль вдруг резко застопорил, повис и из-под плоскостей показался какой-то блестящий предмет. Предмет упал, взметнув брызги, но не ушел под воду, а лег на илистую отмель, открыв взгляду почти всю верхнюю свою половину. Это был шар — ослепительно сверкающая сфера, о которую плескалась волна, и Дэниельсу почудилось, что плеск слышен даже сквозь оглушительные раскаты грома.
И тогда над пустынным миром, над грохотом корабля, над неотвязным плеском воды вознесся голос, печально-бесстрастный, — нет, разумеется, это не мог быть голос, любой голос оказался бы сейчас слишком немощным, чтобы передать слова. Но слова прозвучали, и не было даже тени сомнения в том, что они значили:
Итак, во исполнение воли великих и приговора суда, мы высылаем тебя на эту бесплодную планету и оставляем здесь в искренней надежде, что теперь у тебя достанет времени и желания поразмыслить о содеянных преступлениях и в особенности о… (Тут последовали понятия, которые человеку не дано было постичь, — они как бы сливались в долгий невнятный гул, но самый этот гул или что-то в этом гуле замораживало кровь в жилах и одновременно наполняло душу отвращением и ненавистью, каких Дэниельс в себе раньше не ведал.) Воистину достойно сожаления, что ты не подвержен смерти, ибо убить тебя, при всем нашем отвращении к убийству, было бы милосерднее и точнее соответствовало бы нашей цели, каковая состоит в том, чтобы ты никогда более не мог вступить в контакт с жизнью любого вида и рода. Остается лишь надеяться, что здесь, за пределами самых дальних межзвездных путей, на этой не отмеченной на картах планете, наша цель будет достигнута. Однако мы налагаем на тебя еще и кару углубленного самоанализа, и если в какие-то непостижимо далекие времена ты по чьему-то неведению или по злому умыслу будешь освобожден, то все равно станешь вести себя иначе, дабы ни при каких условиях не подвергнуться вновь подобной участи. А теперь, в соответствии с законом, тебе разрешается произнести последнее слово — какое ты пожелаешь.
Голос умолк, и спустя секунду на смену ему пришел другой. Фраза, которую произнес этот новый голос, была сложнее, чем Дэниельс мог охватить, но смысл ее легко укладывался в три земных слова:
— Пропадите вы пропадом!..
Грохот разросся, и корабль тронулся ввысь, в небо. Дэниельс следил за полетом, пока гром не замер вдали, а корабль не превратился в тусклую точку в синеве.
Тогда он выпрямился во весь рост, но не сумел одолеть дрожь и слабость. Нащупал за спиной камень и снова сел.
И опять единственным в мире звуком остался шелест воды, набегающей на берег. Никакого плеска волны о блестящую сферу, лежащую в сотне футах от берега, слышно не было — это просто померещилось. Солнце нещадно пылало в небе, играло огнем на поверхности шара, и Дэниельс обнаружил, что ему опять не хватает воздуха.
Вне всякого сомнения, перед ним на мелководье, вернее, на илистой отмели, взбегающей к островку, находился тот, кого он привык называть «существом, замурованным в толще скал». Но каким же образом удалось ему, Дэниельсу, перенестись через сотни миллионов лет точно в тот ничтожный отрезок времени, который таил в себе ответы на все вопросы о том, что за разум погребен под пластами известняка? Это не могло быть случайным совпадением — вероятность подобного совпадения столь мала, что вообще не поддается расчету. Что если он помимо воли выведал у мерцающего призрака перед входом в пещеру гораздо больше, чем подозревал? Ведь их мысли, припомнил Дэниельс, встретились и слились, пусть на мгновение, но не произошло ли в это мгновение непроизвольной передачи знания? Знание укрылось в каком-то уголке мозга, а теперь пробудилось. Или он нечаянно привел в действие систему психического предупреждения, призванную отпугивать тех, кто вздумал бы освободить опального изгнанника?
А мерцающий призрак, выходит, ни при чем? Это еще как сказать… Что если опальный узник — обитатель шара — воплощает сокровенное, неведомое судьям доброе начало? Иначе как добром не объяснить того, что призрак сумел пронести чувство долга и преданности сквозь неспешное течение геологических эр. Но тогда неизбежен еще один вопрос: что есть добро и что есть зло? Кому дано судить?
Впрочем, существование мерцающего призрака само по себе, пожалуй, ничего не доказывает. Ни одному человеку еще не удавалось пасть так низко, чтобы не нашлось пса, готового охранять хозяина и проводить хоть до могилы.
Куда удивительнее другое: что же такое стряслось с его собственной головой? Как и почему он сумел безошибочно выбрать в прошлом момент редчайшего происшествия? И какие новые способности, сногсшибательные, неповторимые, ему еще предстоит открыть в себе? Далеко ли они уведут его в движении к абсолютному знанию? И какова, собственно, цель такого движения?
Дэниельс сидел на камнях и тяжело дышал. Над ним пылало солнце, перед ним стелилось море, тихое и безмятежное, если не считать длинных складок, огибающих шар и бегущих к берегу. В грязи под ногами сновали крохотные козявки. Он вытер ладонь о брюки, пытаясь счистить клейкую зеленую пленку.
«Можно бы, — мелькнула идея, — подойти поближе и рассмотреть шар как следует, пока его не засосало в ил…» Но нет, в такой атмосфере сто футов — слишком дальний путь, а главное — нельзя рисковать, нельзя подходить близко к будущей пещере, ведь рано или поздно предстоит перепрыгнуть обратно в свое время.
Хмелящая мысль — куда меня занесло! — мало-помалу потускнела, чувство полной своей неуместности в древней эпохе развеялось, и тогда выяснилось, что грязный плоский островок — царство изнурительной скуки. Глядеть было совершенно не на что, одно только небо, море да илистый берег. «Вот уж местечко, — подумал он, — где больше никогда ничего не случалось и ничего не случится: корабль улетел, знаменательное событие подошло к концу…» Естественно, и сейчас здесь происходит многое, что даст себя знать в грядущем, но происходит тайно, исподволь, по большей части на дне этого мелководного моря. Снующие по берегу козявки и ослизлый налет на скалах — отважные в своем неразумии предвестники далеких дней — внушали, пожалуй, известное почтение, но приковать к себе внимание не могли.
От нечего делать Дэниельс принялся водить носком ботинка по грязному берегу. Попытался вычертить какой-нибудь узор, но на ботинок налипло столько грязи, что ни один узор не получался.
И вдруг он увидел, что уже не рисует по грязи, а шевелит носком опавшие листья, задеревеневшие, присыпанные снегом.
Солнца не стало. Все вокруг тонуло во тьме, только за стволами ниже по склону брезжил слабый свет. В лицо била бешеная снежная круговерть, и Дэниельс содрогнулся. Поспешно запахнул куртку, стал застегивать пуговицы. Подумалось, что эдак немудрено и закоченеть: слишком уж резким был переход от парной духоты илистого побережья к пронизывающим порывам вьюги.
Желтоватый свет за деревьями ниже по склону проступал все отчетливее, потом донеслись невнятные голоса. Что там творится? Он уже сообразил, где находится, — примерно в ста футах над верхним краем утеса; но там, на утесе, не должно быть сейчас ни души, не должно быть и света.
Он сделал шаг под уклон и остановился в нерешительности. Разве есть у него время спускаться к обрыву? Ему надо немедля бежать домой. Скотина, облепленная снегом, скучилась у ворот, просится от бурана в хлев, ждет не дождется тепла и крыши над головой. Свиньи не кормлены, куры тоже не кормлены. Человек не вправе забывать про тех, кто живет на его попечении.
Однако там внизу люди! Правда, у них есть фонари, но они почти на самой кромке утеса. Если эти олухи не поостерегутся, они запросто могут оскользнуться и сорваться вниз со стофутовой высоты. Почти наверняка охотники за енотами, хотя что за охота в такую ночь! Еноты давно попрятались по норам. Нет, кто бы ни были эти люди, надо спуститься и предупредить их.
Он прошел примерно полпути, когда кто-то подхватил фонарь, до того, по-видимому, стоявший на земле, и поднял над головой. Дэниельс разглядел лицо этого человека — и бросился бегом.
— Шериф, что вы здесь делаете?..
Но еще не договорив, почувствовал, что знает ответ, знает едва ли не с той секунды, когда завидел огонь у обрыва.
— Кто там? — круто повернувшись, спросил шериф и наклонил фонарь, посылая луч в нужную сторону. — Дэниельс!.. — У шерифа перехватило дыхание. — Боже правый, где вы были, дружище?
— Да вот, решил прогуляться немного, — промямлил Дэниельс. Объяснение, он и сам понимал, совершенно неудовлетворительное, но не прикажете ли сообщить шерифу, что он, Уоллес Дэниельс, сию минуту вернулся из путешествия во времени?
— Черт бы вас побрал! — возмутился шериф. — А мы-то ищем! Бен Адамс поднял переполох: заехал к вам на ферму и не застал вас дома. Для него не секрет, что вы вечно бродите по лесу, вот он и перепугался, что с вами что-то стряслось. И позвонил мне, а сам с сыновьями тоже кинулся на поиски. Мы боялись, что вы откуда-нибудь сверзились и что-нибудь себе поломали. В такую штормовую ночь без помощи долго не продержишься.
— А где Бен? — спросил Дэниельс.
Шериф махнул рукой, указывая еще ниже по склону, и Дэниельс заметил двух парней, вероятно сыновей Адамса: те закрепили веревку вокруг ствола и теперь вытравливали ее за край утеса.
— Он там, на веревке, — ответил шериф. — Осматривает пещеру. Решил почему-то, что вы могли залезть в пещеру.
— Ну что ж, у него было достаточно оснований… — начал Дэниельс, но досказать не успел: ночь взорвалась воплем ужаса. Вопль был безостановочный, резкий, назойливый, и шериф, сунув фонарь Дэниельсу, поспешил вниз.
«Трус, — подумал Дэниельс. — Подлая тварь — обрек другого на смерть, заточив в пещере, а потом наложил в штаны и побежал звонить шерифу, чтобы тот засвидетельствовал его благонамеренность. Самый что ни на есть отъявленный негодяй и трус…»
Вопль заглох, упав до стона. Шериф вцепился в веревку, ему помогал один из сыновей. Над обрывом показались голова и плечи Адамса, шериф протянул руку и выволок его в безопасное место. Бен Адамс рухнул наземь, ни на секунду не прекращая стонать. Шериф рывком поднял его на ноги.
— Что с тобой, Бен?
— Там кто-то есть, — проскулил Адамс. — В пещере кто-то есть…
— Кто, черт побери? Кто там может быть? Кошка? Пантера?
— Я не разглядел. Просто понял, что там кто-то есть. Оно запряталось в глубине пещеры.
— Да откуда ему там взяться? Дерево спилили. Теперь туда никому не забраться.
— Ничего я не знаю, — всхлипывал Адамс. — Должно быть, оно сидело там еще до того, как спилили дерево. И попало в ловушку.
Один из сыновей поддержал Бена и дал шерифу возможность отойти. Другой вытягивал веревку и сматывал ее в аккуратную бухту.
— Еще вопрос, — сказал шериф. — Как тебе вообще пришло в голову, что Дэниельс залез в пещеру? Дерево спилили, а спуститься по веревке, как ты, он не мог — ведь там не было никакой веревки. Если бы он спускался по веревке, она бы там и висела. Будь я проклят, если что-нибудь понимаю. Ты валандаешься зачем-то в пещере, а Дэниельс выходит себе преспокойно из леса. Хотел бы я, чтобы кто-то из вас объяснил мне…
Тут Адамс, который плелся, спотыкаясь, в гору, наконец-то увидел Дэниельса и замер как вкопанный.
— Вы здесь? Откуда? — растерянно спросил он. — Мы тут с ног сбились… Ищем вас повсюду, а вы…
— Слушай, Бен, шел бы ты домой, — перебил шериф, уже не скрывая досады. — Пахнет все это более чем подозрительно. Не успокоюсь, пока не разберусь, в чем дело.
Дэниельс протянул руку к тому из сыновей, который сматывал веревку.
— По-моему, это моя.
В изумлении Адамс-младший отдал веревку, не возразив ни слова.
— Мы, пожалуй, срежем напрямую через лес, — заявил Бен. — Так нам поближе.
— Спокойной ночи, — бросил шериф. Вдвоем с Дэниельсом они продолжали не спеша подниматься в гору. — Послушайте, Дэниельс, — догадался вдруг шериф, — нигде вы не прогуливались. Если бы и впрямь бродили по лесу в такую вьюгу, на вас налипло бы куда больше снега. А у вас вид, словно вы только что из дому.
— Ну, может, это и не вполне точно утверждать, что я прогуливался…
— Тогда, черт возьми, объясните мне, где вы все-таки были. Я не отказываюсь исполнять свой долг в меру своего разумения, но мне вовсе не улыбается, если меня при этом выставляют дурачком…
— Не могу я ничего объяснить, шериф. Очень сожалею, но, право, не могу.
— Ну ладно. А что с веревкой?
— Это моя веревка, — ответил Дэниельс. — Я потерял ее сегодня днем.
— И наверное, тоже не можете ничего толком объяснить?
— Да, пожалуй, тоже не могу.
— Знаете, — произнес шериф, — за последние годы у меня была пропасть неприятностей с Беном Адамсом. Не хотелось бы думать, что теперь у меня начнутся неприятности еще и с вами.
Они поднялись на холм и подошли к дому. Машина шерифа стояла у ворот на дороге.
— Не зайдете ли? — предложил Дэниельс. — У меня найдется что выпить.
Шериф покачал головой.
— Как-нибудь в другой раз, — сказал он. — Не исключено, что скоро. Думаете, там и вправду был кто-то в пещере? Или у Бена просто воображение разыгралось? Он у нас из пугливеньких…
— Может, там никого и не было, — ответил Дэниельс, — но раз Бен решил, что кто-то был, не будем с ним спорить. Воображаемое может оказаться таким же реальным, как если б оно встретилось нам наяву. У каждого из нас, шериф, в жизни есть спутники, видеть которых не дано никому, кроме нас самих.
Шериф кинул на него быстрый взгляд.
— Дэниельс, какая муха вас укусила? Какие такие спутники? Что вас гложет? Чего ради вы похоронили себя заживо в этой дремучей глуши? Что тут происходит?..
Ответа он ждать не стал. Сел в машину, завел мотор и укатил.
Дэниельс стоял у дороги, наблюдая, как тают в круговороте метели гневные хвостовые огни. Все, что оставалось, — смущенно пожать плечами: шериф задал кучу вопросов и ни на один не потребовал ответа. Наверное, бывают вопросы, ответа на которые и знать не хочется.
Потом Дэниельс повернулся и побрел по заснеженной тропинке к дому. Сейчас бы чашечку кофе и что-нибудь перекусить — но сначала надо заняться хозяйством. Надо доить коров и кормить свиней. Куры потерпят до утра — все равно сегодня задавать им корм слишком поздно. А коровы, наверное, мерзнут у запертого хлева, мерзнут уже давно — и заставлять их мерзнуть дольше просто нечестно.
Он отворил дверь и шагнул в кухню.
Его ждали. Нечто сидело на столе, а быть может, висело над столом так низко, что казалось сидящим. Огня в очаге не было, в комнате стояла тьма — лишь существо искрилось.
— Ты видел? — осведомилось существо.
— Да, — ответил Дэниельс. — Я видел и слышал. И не знаю, что предпринять. Что есть добро и что есть зло? Кому дано судить, что есть добро и что есть зло?
— Не тебе, — отозвалось существо. — И не мне. Я могу только ждать. Ждать и не терять надежды.
«А быть может, там, среди звезд, — подумал Дэниельс, — есть и такие, кому дано судить? Быть может, если слушать звезды — и не просто слушать, а пытаться вмешаться в разговор, пытаться ставить вопросы, то получишь ответ? Должна же существовать во Вселенной какая-то единая этика. Например, что-то вроде галактических заповедей. Пусть не десять, пусть лишь две или три — довольно и их…»
— Извини, я сейчас тороплюсь и не могу беседовать, — сказал он вслух. — У меня есть живность, я должен о ней позаботиться. Но ты не уходи. Попозже у нас найдется время потолковать.
Он пошарил по скамье у стены, отыскал фонарь, ощупью достал с полки спички. Зажег фонарь — слабое пламя разлило в центре темной комнаты лужицу света.
— С тобой живут другие, о ком ты должен заботиться? — осведомилось существо. — Другие, не вполне такие же, как ты? Доверяющие тебе и не обладающие твоим разумом?
— Наверное, можно сказать и так, — ответил Дэниельс. — Хотя, признаться, никогда до сих не слышал, чтобы к этому подходили с такой точки зрения.
А можно мне пойти с тобой? — спросило существо. — Мне только что пришло на ум, что во многих отношениях мы с тобой очень схожи.
— Очень схо… — Дэниельс не договорил, фраза повисла в воздухе.
«А если это не пес? — спросил он себя. — Не преданный сторожевой пес, а пастух? И тот, под толщей скал, не хозяин, а отбившаяся от стада овца? Неужели мыслимо и такое?..»
Он даже протянул руку в сторону существа инстинктивным жестом взаимопонимания, но вовремя вспомнил, что притронуться не к чему. Тогда он просто поднял фонарь и направился к двери.
— Пошли, — бросил он через плечо.
И они двинулись вдвоем сквозь метель к хлеву, туда, где терпеливо ждали коровы.
Примечания
1
Речь идет о гризли. (Примеч. пер.)
(обратно)2
манориальным хозяйством — Ма́нор (англ. manor) — феодальное поместье в средневековых Англии и Шотландии, ... Манориальная система господствовала на Британских островах с XI по XVII век
(обратно)
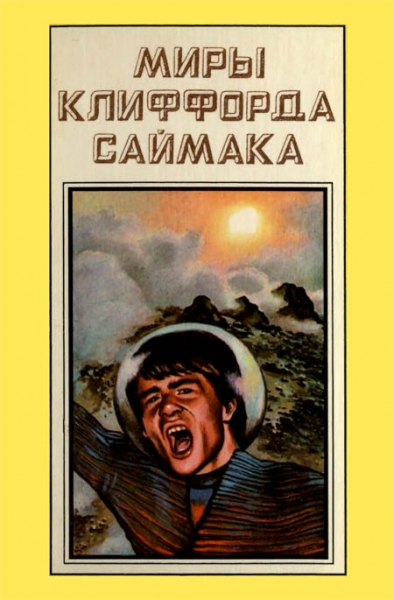




Комментарии к книге «Миры Клиффорда Саймака. Книга 11», Клиффорд Саймак
Всего 0 комментариев