МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Морозный день кончался. Большое оранжевое солнце уже село куда-то за гостиницы «Заря», «Алтай», «Восток», к станции электрички Рабочий поселок, к окраине Москвы. Но проспект еще звенел как натянутая струна, катил в двух направлениях, словно сдвоенный провод под током, неподвижный и бегущий. К югу торопился проспект, к магазину «Океан», Рижскому вокзалу, салонам «Все для новобрачных» и «Свет», к тем последним особнячкам, что остались еще на Первой Мещанской, и на север мимо просторного предполья Выставки, аллеи Космонавтов, обелиска, покрытого полированным титаном, мимо какого-то недавно построенного института, то ли оптического, то ли астрономического (на крыше башенка вроде купола обсерватории), и мухинской скульптуры «Рабочий и колхозница». Катил над речкой Яузой, где делали набережную, где возле старинного каменного акведука раскинуться спортивному комплексу, потом на широкий мост через Окружную железную дорогу к белым многоэтажным домам Лося, на мост через Окружное шоссе, вдоль которого сверху работники ГАИ на вертолетах, и дальше-дальше к Загорску, Ярославлю, лесами, лесами в глубь России.
На проспекте протекторы тысяч машин разбили, вытаяли и унесли с проезжей части выпавший ночью сухой февральский снег - длинными полосами с языкатым краем он остался только на осевой и у кромки тротуаров. Возле Звездного бульвара и улицы Кибальчича в вечереющий послерабочий час толпы прохожих скапливались и разрежались и снова скапливались на переходах, люду не было конца, троллейбусы, автобусы нагружались мгновенно. У входа в метро нахальные голуби зорко следили с навесов табачных и галантерейных ларьков, кто же догадается угостить их горячим пирожком; ученицы музыкальной школы, собирающиеся здесь, чтобы вместе ехать на занятия, смело ели мороженое. «В тесноте, да… не обедал», - сказал плотный гражданин, бодро втискиваясь в трамвайный вагон, уже до того набитый, что и змее не проскользнуть бы между плотно прижатыми друг к другу пальто, пальтишками, шубами, тулупами. Кругом улыбнулись.
Всего лишь за четыре километра отсюда, в защитной лесной зоне, на безмолвную просеку под высоковольтной вышла молодая лисица, принюхиваясь, поводила в морозном воздухе острой мордочкой, будто нарисовала сложный узор. В ста пятидесяти миллионах километров отсюда из жерла солнечного пятна рухнул поток протонов. Испуская немой торжествующий рев, рождалась звезда в невыносимой дали. Торжественно плыли галактики. Из тьмы и света, из тех пространств, куда и направление не показать, из тех времен, о которых не скажешь, раньше ли они, позже, чем сейчас, пришел сигнал, не принятый пока, пал на верхушки елей, на острие телевизионной башни Останкина.
Загорелись синие буквы:
«Кинотеатр КОСМОС»
На проспекте перфокарты домов зажигали все новые и новые дырочки-окна. Какие там судьбы в квартирах, о чем говорили сегодня утром, уходя, с чем приходит сейчас?
Возьми нас, жизнь, позволь услышать.
Один телефонный звонок, другой.
Старик. Иду!
Телефон продолжает звонить.
Старик. Алло!.. Алло!.. Все, не успел. Обычная история. (Кладет трубку на рычаг.) Ф-ф-фу, даже сердце заколотилось. (Вздыхает.) Цветы почему-то на столе, розы. На дворе зима, снег, а тут розы… Ах да, Танечка, принесла утром! Какой-то сегодня день, она говорила, какая-то дата… Забыл. Прошлое вываливается из памяти кусками, как кирпичи. (С внезапной яростью.) Так вспомни же, вспомни, что сегодня! (Успокаиваясь.) Нет, этого не победишь. Все мне говорят: «Дед, ты не чувствуй себя виноватым, если не помнишь». А я все равно чувствую. Ну ничего, теперь это все кончится. Только они меня и видели - невестки, зятья, внуки, правнуки… Где у меня чемодан?… Ага, вот.
Резкие телефонные звонки.
Старик. Черт, междугородная, наверное!.. Алло, у телефона!
Телефон безмолвствует.
Старик. Алло, будьте любезны, громче!.. Может быть, говорят, а я не слышу. Слух с молодости плохой.
В трубке жужжит.
Старик. Голос (с металлическим звенящим оттенком, прорываясь сквозь шумы). Внимание, просим не отходить от телефона! Просим вас ни в коем случае не бросать трубку.
Старик. Кого вам надо?
Голос. Вас. Мы говорим из будущего.
Старик. Из Будугощи?… Наверное, неправильно соединили. У домашних там никого нет. Какой вам нужен номер?
Голос. Ваш, какой бы он ни был. Это не Будугощь. Будущее! Завтрашний день, понимаете? (С большим воодушевлением.) Мы ведем разговор сквозь время, наш голос летит через бесчисленные века. Работают две группы, и вот одна уже прорвалась в вашу современность. Мы добились удивительного успеха. Сложные приборы будут переводить ваши слова и фразы на понятный для нас язык… Уже переводят.
Старик. Вы говорите, будущее?
Голос. Да, будущее.
Старик. Знаете что, скоро должна прийти внучка. А я старик. Не очень понимаю. Вы позвоните попозже.
Голос. Не можем позже. Для нашей с вами связи подключены и используются огромные мощности. Пожалуйста, проникнитесь величием происходящего. Вот вы, человек пока еще только планеты Земля, и мы, теперь уже галактическое человечество. Стало возможным общение. Так начнем же… И кроме того, нам нужны именно вы.
Старик. Я нужен?
Голос. Да.
Старик. Именно я, Алексеев Павел Иванович?
Голос. Именно вы.
Старик. Слушайте, это не розыгрыш?
Голос. Что вы! Чудовищна сама мысль!.. Впрочем, нажмите рычаг телефонного аппарата.
Старик. Зачем?
Голос. Вы отключитесь от станции. Но разговор не прервется. Нажмите рычаг, не кладя трубки. Таким способом вы проверите.
Старик. Ладно… Нажал, ну?
Голос. Все равно вы слышите нас. И мы слышим… Можете даже отрезать шнур, оторвать трубку. Попробуйте.
Старик. Серьезно? И что получится? (Треск, стук.) Оторвал.
Голос. Вот.
Старик. Дьявольщина!
Голос (сдавленно). Собственно, трубка нужна только как преобразователь другого вида волн… Вы слушаете, алло?! Где же вы?… Мы убедительно просим не прекращать разговор.
Старик. Даже страшно.
Голос. Говорите в трубку!.. Ничего не слышно… Павел Иванович, вы, может быть, вообще бросили трубку? Будьте любезны, возьмите ее, говорите в микрофон.
Старик. Взять, что ли? А это не опасно?
Голос. Что?
Старик. То, что вы проникли к нам.
Голос. Конечно, нет. Взгляните через окно наверх. Там через все небо дерзкой параболой размахнулся Млечный Путь. В известном смысле мы говорим оттуда. И, кроме того, сквозь время… Если неудобно беседовать так, можем воспользоваться приемником. У вас в комнате, наверное, есть радиоприемник?…
Звук наподобие лопнувшей струны.
Голос. (Очень громко, но уже без металлического оттенка.) Как будто бы нашли. (Значительно тише, мягко.) Так будет лучше, да? Так вам удобнее слушать?
Старик. Приемник сам включился… Ничего себе чудеса! Пожалуй, я сяду.
Голос. Верите теперь, что это не розыгрыш? Спрашивайте о том, что вам хотелось бы узнать о будущем. И у нас масса вопросов к вам.
Старик. Фантастика… Не соберусь с мыслями. Будущее. Самое главное, конечно, что будущее есть и все продолжается. А то в последнее время с Запада много горьких пророчеств. Толкуют о перенаселении, о водородных бомбах, об этой… как ее, биосфере. Что, мол, засоренная. Некоторым представляется, будто мы, люди, уже возле конца.
Голос. Нет, не тревожьтесь. Это все удалось преодолеть.
Старик. А с энергией?… Я тут все читаю газеты, журналы. Пишут об энергетическом кризисе.
Голос. В принципе энергии бездна. Вселенная полна энергией. Если, например, обращать время в пространство, если на миллиардные доли секунды замедлить его грандиозный вселенский вал, высвобождается…
Последние слова звучат тише.
Старик. Что вы говорите - время в пространство? Надо же, до чего додумались… Хотя ладно, пусть ее, энергию. Вы мне вот что скажите - зачем именно я понадобился? Что во мне такого, что вы меня выбрали? Человек-то небольшой, жизнь прожил малозаметную, в истории не отмечен… Алло!.. Алло, вы слышите?… Эй, у вас что-нибудь заело?… Хотя трубка ведь оторвана. Что я делаю?! Какая-то чертовщина причудилась, и я трубку оторвал. А, ладно, буду собираться!
Пауза.
Голос. Алло! Послушайте!
Старик. Ну наконец-то!
Голос. Вероятно, у нас прервалась связь… Вы нас слышите? Говорите в трубку!.. Вы не ушли?
Старик. Никуда не ушел!.. Где же эта трубка!
Голос. Это были неполадки с нашей стороны - прерывалась связь… Где вы? Наш сигнал проходит или нет?
Старик. Да проходит, проходит! Вот она, трубка, я ее в чемодан случайно сунул. Алло! Черт, испугался, думал, вы отсоединились совсем! Скажите, зачем именно… Я хочу узнать… Скажите, пожалуйста… Забыл.
Голос. Что вы забыли?
Старик. Что хотел спросить. Вылетело… Бог ты мой, какая мука, с памятью! Слушайте, надо подождать внучку. Все разъехались, я один в квартире. Хотели временно поселить тут со мной медсестру, я не согласился. А Таня бывает каждый день по два раза. Утром забегала и теперь придет минут через сорок.
Голос. Нет-нет. Извините, но это невозможно. Вариант с внучкой даже не стоит обсуждать. Спрашивайте нас, а потом начнем мы.
Старик. Ладно… Скажите, вы сейчас далеко, на Млечном Пути, да? Но как же мы разговариваем? Я читал, даже свет оттуда идет десять тысяч лет или сто. Между вопросом и ответом должен получаться длиннейший перерыв, пока это пропутешествует туда-обратно. Но быстрее света ничего нет - так говорит теория.
Голос. Какая? Теория относительности?
Старик. Да.
Голос. А природа?
Старик. Что - природа?
Голос. Природа ведь еще не высказывалась по этому поводу.
Старик. Как вы говорите?… А-а, понял. Совсем не знаю, о чем спрашивать… Что вы там делаете, в будущем? Как вообще живете?
Голос. Удивительно. Об этом нелегко рассказать, и вам трудно это представить себе. Промышленность у нас введена в замкнутые циклы, она почти не отличается от природы, гармонизирована с ней, и то, что в основном нужно людям, как бы растет, не нарушая прозрачности синего воздуха, чистоты хрустальных рек. Экология производства…
Старик. Экология?!
Голос. Да.
Старик. Ну вот, опять это слово.
Голос. Какое? «Экология»?
Старик. Нет, это я так. Продолжайте.
Голос. Мы неустанно расширяем свой чувственный, эмоциональный, логический опыт, исследуем материю в ее мельчайших частицах, стремимся постигнуть целые миры и целые галактики. Но главный объект приложения сил - человек, его возможности, социальная жизнь. У нас необозримое разнообразие. В городах с миллиардным населением, рассеянных по кольцу цивилизации, напряженно бьется пульс страстей, ставятся смелые социальные эксперименты, однако тот, кому нужен покой, сосредоточение, может избрать себе безлюдный остров или материк под дальним солнцем, где тишина и слышно, как у дерева шепчет ручей… Человек нашей эпохи почти свободен от вещей, у него их совсем мало, но зато в словаре миллионы слов, потому что мы воспитали новые ощущения, способности. У нас нескончаемое творчество, тысячи оттенков радости и красоты. Мы чувствуем теперь гораздо сильнее - случается, крик горя, счастья или надежды, исторгнутый одним лицом, пронзает целые звездные системы.
Старик. А старость?…
Голос. Самая прекрасная, венчающая пора. К силе, знаниям прибавляется мудрость опыта. Здесь живут долго и умирают когда захотят.
Старик. Когда же они хотят?
Голос. Если человек сделал, что было ему по силам, испытал все, он начинает думать о том, чтобы раствориться. Стать каплей росы на листке, камнем под солнечным лучом. Жизнь - это развитие, и, когда пройдены все фазы, лишь редкие желают повторить или задержаться в какой-нибудь одной.
Старик. Так… пожалуй. Но сама смерть?
Голос. Страшна в боли, в разочаровании. Ужасна, если позади дело, которое никто, кроме тебя, не может завершить. Но у нас нет такого. Кстати, ваше поколение - одно из последних, которое уходит страдая. Там, впереди, страх смерти исчезнет.
Старик (вздыхает). Да-а… И все это на звездах. А мне всегда казалось, в космосе пусто, холодно. Чернота кругом.
Голос. Нет! Нет, здесь, на планетах, такая голубизна небес, зелень лесов, блеск скал. Мы в великом походе. Приблизились к самым границам вселенной и скоро шагнем за них. Наполнена любая секунда существования… Можно, теперь мы приступим к вопросам?
Старик. Я уже устал. Ну ладно, приступайте… Хотя нет! Вот что я хотел узнать - от нашего времени что-нибудь осталось у вас?… Ну… как от египтян? Пирамиды, вещи какие-нибудь выкопанные?
Голос. Осталось. Большие сооружения вашей эпохи, здания… И вещи тоже. Обычные, бытовые.
Старик. Какие?
Голос. Разные. Например, тут в музее стоит диван. Заключен в прозрачную герметичную оболочку.
Старик. Диван? Случайно не кожаный?
Голос. Кожаный.
Старик. Интересно. Нет ли в нем дырки? Прожжено в правом углу.
Голос. В левом, если сидеть на диване.
Старик. Правильно, в левом… Так, а если… (Шепотом.) Если еще разрезать?… Где у меня ножницы? (Треск раздираемого материала.) Алло! Еще примет не видно?
Голос. Распорот правый валик. Возможно, ножницами. Распорот и зашит.
Старик (растерянно). Уже зашит… Послушайте, но это мой диван. И он сейчас там, на звездах? Как странно и… обидно. Вещи, слепые, бездушные, переживают бездну лет, попадают за миллион километров. А мы сами? Объясните мне, вот наши мысли, тревоги, наша усталость, радость, беда - из этого что-нибудь осталось? Хоть что-нибудь не исчезает?… Раньше, скажем, в бога верили, считали: после смерти человек в раю будет жить вечно. А теперь материализм - помер и будто не жил… Вот отвечайте: от меня что-нибудь перешло к вам туда, где тысячи оттенков счастья? От меня, кроме дивана, на котором я спал?
Голос. Сейчас выясним… Кто вы теперь, в настоящее время?
Старик. Старик.
Голос. А чем занимаетесь?
Старик. Этим и занимаюсь. Семьдесят пять лет. Куда ни попадешь, все кругом моложе - другие чувства, другие интересы. Тут, правда, на бульваре пожилые сидят, несколько человек. О здоровье толкуют. То есть одни о болезнях и хвастают ими, другие, наоборот, хвалятся, как сердце хорошо работает, как сон. Но это одинаково противно… Или еще тема: обсуждают, чего есть нельзя, чего пить. Белый хлеб нельзя, сахар тоже. Когда заваренный чай простоял, видите ли, больше десяти минут, он уже токсичен. То вредно, это… Но если так рассуждать, жить в целом вредно… Алло, на проводе?!
Голос. Да, слушаем.
Старик. А почему молчите?
Голос. Наверное, вы сейчас плохо чувствуете себя. Вы нездоровы, да?
Старик. Нездоров. Поэтому они и хотели медсестру. Но при чем медсестра, когда я просто старый? Каждая жизнь, если ее не прерывать, приходит к старости - вот в чем беда. У меня лучшие друзья уходили молодыми.
Голос. Мы могли бы вам помочь. У нас гигантские возможности. Если б вы очень подробно описали нам свое состояние…
Старик (прерывает). Лучше выслушайте, дайте просто поговорить. А то почти все время молчу. Из-за памяти. Возьмешься что-нибудь доказывать, а потом замечаешь, что забыл, с чего начал. Да и вообще потолковать не с кем. Внучка вот, Таня, той самой экологией занимается. Племянник - структурным анализом. Но что такое структурный анализ? Он примется объяснять, каждая фраза в отдельности вроде понятная, а вместе не складываются… Поговорить мало доводится, а делать дома тоже нечего. Ни дров поколоть, ни воды наносить - одни выключатели да кнопки. Я работать привык, а тут все готовое. Сидишь целый день, руки сложены. Вот ведь как выходит - люди трудятся, в результате их работы меняется мир. Но чем больше они старались, тем меньше к старости такого дела, которое они умели. Только вспоминать остается. Но тут тоже мало хорошего.
Голос. Отчего? Вы разве недовольны прожитой жизнью?
Старик. Конечно. Сделал совсем мало. В юности, когда силы, здоровье, мечтал подвиг совершить. А жизнь прошла незаметная, будто и не было. Оглянешься, кругом вроде моего совсем не осталось. Взять ученого, к примеру. Он лекарство изобрел либо закон вывел, которым люди до сих пор пользуются. Или художник. Самого давно уж нет, а картину смотрят в музее, приходят. Теперь вот я… Работал-работал, руки всегда в мозолях, но все как сквозь пальцы, все исчезло. Вы сказали, старость - это знания и мудрость опыта. А у меня какие знания? Другой племянник, Игорь, по бетону специалист. Делают они там такую машину, чтобы плотность повышала, по стройкам испытывают, ездят. А мы его, бетон, в свое время как уплотняли? За плечи возьмемся и ходим взад-вперед, топаем. Многие еще в лаптях были. Это и есть моя мудрость - поднимай больше, тащи дальше.
Голос. Значит, если б к вам вернулась юность, вы бы иначе жили?
Старик. Факт, иначе. За что-нибудь такое взялся, что с годами не уйдет, не отменится.
Голос. Но кем вы были прежде?
Старик. Кем был?… Да обыкновенным человеком. Не «крупный», «известный» или там «значительный». Рядовой, как все. Правда, большинство ведь так и есть: на первые, не вторые, даже не третьи, а просто на заводе работают, в конторе считают. Но ведь проходных, второстепенных ролей в жизни нету. Для своей собственной биографии каждый, кто бы он ни был, все равно главный герой. Так неужели же… Слушайте, я опять сбился. Пожалуйста, давайте кончать, хватит.
Голос. Вы ощущаете себя одиноким и ненужным?
Старик. Нет, не знаю… Дома обо мне все заботятся. Даже слишком - вот это и мучает. Они вообще-то неплохие - зятья, невестки, внуки. И все время в командировках, экспедициях. Друзей у них много, с которыми они там, в пути, сходятся. Квартира большая, постоянно новые люди. А сами родные уезжают часто и передают меня с рук на руки, чтобы я один не оставался. Утром, бывает, выйдешь в столовую - там совсем незнакомые люди. Меня увидали: «Здрасте, Пал Иваныч, здрасте. Мы тут завтрак приготовили, и эти таблетки вам обязательно принять». Но видно же: у них на столе свои бумаги, в голове свои дела… Словом, путаюсь я тут, отвлекаю. Решил уйти.
Голос. Куда?
Старик. Пройду последний раз места, где воевал, строил. Где молодым был, не стариком, как сейчас. В деревню загляну, откуда сам родом, может, работу какую немудрящую найдут. Я же для людей делать привык, а дома все делают для меня, и я никому ничего… Знаете, как неловко, что внучка Таня по два раза в день прибегает? У нее в институте дел хватает, да и девушка молодая, погулять надо. А она ко мне. Говорю, не надо, мол, так часто, разок в неделю хватило бы. Но разве им докажешь?
Голос. Выходит, они хорошие, настоящие люди.
Старик. Родня-то?… Хорошие.
Голос. Вероятно, они не без вашего участия стали такими?
Старик. Без. Я их не воспитывал. Они, между прочим, и не родные. Только так считается… Ну извините, пора мне. Пойду. До свидания.
Голос. Алло, алло! Как же вы уйдете, когда нам нужно еще много узнать? Подождите! Неужели не увлекает возможность говорить с будущим? Ведь это впервые за всю историю… Итак - почему только считается, что родные?
Старик. Все, ухожу. Собрался уже. Спасибо большое за разговор. Узнал, что вы есть, человечество продолжается. И хватит с меня… Да; кстати, а Земля? Она-то еще существует?… Вы сами на Млечном Пути, а планета наша как? Бросили?
Голос. Нет, что вы! И теперь живут. Земля - столица всех планет.
Старик. Вроде музея?
Голос. Нет, почему? Но то, что нужно было сохранить, сохранено… Между прочим, нашу беседу Земля сейчас тоже слушает, как и другие многочисленные миры.
Старик. Чего-то я не понял… Вот сейчас слышат люди?
Голос. Слышат.
Старик. Прямо сейчас? И то, что мы говорим?
Голос. Миллиарды миллиардов. Это же первая передача.
Старик. Вот это попал. Что же вы не предупредили, вы меня прямо в краску. Я жалуюсь, ворчу…
Голос. Вы не сказали ничего, за что может быть стыдно. Давайте продолжать, пока есть время.
Старик. Вы меня этим просто оглушили. Ну ладно, теперь пойду окончательно. Надо торопиться, а то внучка застанет, будет уговаривать. Цветы вот зачем-то принесла… Мне, между прочим, с будущим не так и охота толковать, мое-то все в прошлом.
Голос. Можем соединиться и с прошлым! Павел Иванович, как раз в эти минуты вторая группа связалась с началом двадцатых годов вашего века… Нет, немного раньше. Вас можно соединить… Вы слышите меня?… Алло!
Старик (издали). Ну?… Пока еще слушаю… Где у меня пальто?… В шкафу?
Голос. Конец десятых годов - время вашей молодости. Там у телефона юноша. Он-то как раз хочет говорить с будущим - и с вами и с нами. Ему интересно, он удивлен и горит… Возьмите трубку. Юноша на проводе. Поговорите с ним, это опять-таки информация для нас.
Резкие телефонные звонки.
Голос. Павел Иванович! Павел Иванович, внимание!.. Конец десятых годов.
Старик. Каких еще десятых?… Ладно, слушаю… Алло, у телефона!
Юноша. Алле, алле, барышня!.. Хотя какая барышня?
Старик. Ну давай, давай, я слушаю.
Юноша (очень торопясь). Кто на проводе, алле?! Слушай, верно, что будущее - другое время?… Неужели может быть? У тебя-то голос вроде нашенский, а тот ровно медный… Алле, слышишь? Ты чего не отвечаешь?… Наши пошли на позицию, мне командир велел в штабе имущество собрать. И вдруг вызов…
Старик. Постой, не части! Ты же меня спрашиваешь, ответить не даешь.
Юноша. Ну да! Я же тебе и говорю. Наши пошли на позицию, и вдруг вызов. А он разбитый - аппарат. Миной попало. И провода нет. Трубку беру, там голос… Значит, правда, что будущее?
Слышна отдаленная канонада.
Старик. Правда. Я тоже сначала не поверил. Но вижу, что так… Ты сам-то сейчас где? Который у вас год?
Юноша. А ты? На небе, что ли? Которые раньше говорили, сказали, в небе живут, на звездах… А у тебя какой год?
Старик. Семьдесят четвертый… тысяча девятьсот. Ты как - на фронте сейчас?
Юноша. Ого, полста лет, больше!.. Я-то на фронте. (Понижая голос.) Слушай, а тут положение тяжелое. Германец наступает, армия кайзера Вильгельма. У них свой рабочий класс задавленный. С Риги идут, Двинск уже захватили. И здесь наступают. Хотят выйти на Гатчину, там до Петрограда прямая дорога. Нашей власти четыре месяца, а они - чтоб задушить свободу. Старые царские полки стихийно откатываются, открыли фронт… Канонаду слышишь? Германские пушки.
Старик. Постой! Вы где находитесь?
Юноша. Положение отчаянное. (С возрастающим энтузиазмом.) Но они не знают, они не знают, что перед ними теперь не серая скотинка, а революционные отряды! Такого они еще не видели. Мы умрем, как один, но не пустим… Вторую неделю здесь. Вчера выгнали двух провокаторов, расстреляли одного развращенного, который грабил. Вечером митинг, постановили - трусов не будет. И сегодня, как начнет германец, сами перейдем в атаку. Знаешь, какое настроение… Любой в отряде может речь держать, всю пропаганду высказать - про мировую революцию, всемирную справедливость… Алле, на проводе! Ты чего молчишь?
Старик. Да здесь я, здесь! Скажи…
Юноша. Ты давай рассказывай скорее, как у вас. Мы-то изнищали вконец. По деревням ни соли, ни железа, в Петрограде продовольствия на три дня. Но все равно народ горит против капитала… С какого года сам, вроде голос старый?
Старик. С девяносто девятого. А вы где стоите?
Юноша. Так и я с девяносто девятого! Как же выходит?… Откуда говоришь, не из Питера?
Старик. Из Москвы.
Юноша. И я же московский… Ты сейчас-то где, на какой улице?
Старик. На проспекте Мира… в общем, на прежней Мещанской. Даже дальше. Возле ВДНХ.
Юноша. Чего-чего?
Старик. Возле Выставки достижений народного хозяйства.
Юноша. А что, уже есть достижения? Мать честная, ребятам сказать - обрадуются… Трамваи ходят в Москве?
Старик. Трамваев мало…
Юноша. Вот и сейчас не ходят. Мы в Питер собрались - с Конной площади на Николаевский вокзал пехом. Скажи, а керосин есть, дрова?
Старик. Нету, потому что…
Юноша. У нас тоже. Старые бараки ломаем, от холода спасаемся. У вас ломают бараки?
Старик. Последние сносят. Но не оттого…
Юноша. А говоришь, достижения. Подожди, сейчас за стену выгляну - мы тут в доме сгорелом стоим. Может, пора уже?
Грохот орудий.
Юноша. Нет, пока стреляют, готовятся. Но скоро пойдет германец. Только им неизвестно, что у нас пушки тоже есть. С Путиловского вчера привезли. Две трехдюймовки. Уже на позиции поставили, окоп для снарядов, все… Они пойдут, а мы как жахнем. А потом конница наша налетит. Васька Гриднев, кавалерист, собрал по мужикам лошадей.
Старик (в сильном волнении). Погоди!.. Гриднев… Василий?
Юноша. Седел нет - из мешков поделали, стремена навили лыковые. Неделю он учит ребят ходить в атаку - кусты рубят шашками. Лошаденки маленькие, брюхатые. Но ничего. Сегодня ударят во фланг противнику.
Старик. Подожди же! Вася Гриднев… Я его знал. Воевали вместе… Слушай, ты где жил в Москве? Тебя как звать?
Юноша. Я?… Алексеев… Крестили Павлом. У Гавриловны жил, аптекарши. Дом на Серпуховском проезде деревянный. Сам учеником на Михельсоне.
Старик. Брось, перестань!.. Это же я Алексеев! Павел Иванович… Я у Гавриловны жил. Первый этаж с крыльца налево. Шестеро наших заводских стояло у нее. Моя койка у двери сразу. Одеяло пестрядинное из деревни привез. А летом спал в дровяном сарае.
Юноша (недоверчиво). Ну?…
Старик. Отец, Иван Васильевич… Калужской губернии, Думинического уезда, деревня Выселки.
Юноша (тревожно). Ну?… И мой батя тоже.
Старик. И под Питером я был - от михельсоновцев группа. Штаб в баронском доме сгорелом… Как мы пришли, он еще дымился. Собака черная бегала, выла.
Юноша. Да вон она сидит! Я ей хлеба дал… И тоже дым.
Старик. Сапоги на мне были австрийские тогда, помню. Рука болела - мы в Петрограде ревизию частных сейфов делали в банке, буржуй ладонь прихлопнул железной дверцей. Со зла.
Юноша. Так это он мне прихлопнул. Вот у меня тряпочкой замотано.
Старик (тихо). Знаешь, ведь я - это ты.
Юноша. Ты - это я?… Как?
Старик. Ну да. Только через время.
Юноша. Погоди! Ты ведь старик, дед. Тебе сколько? Восьмой десяток небось?
Старик. Семьдесят шестой пошел. Понимаешь, это они соединили нас - те, которые из будущего. Сейчас ты и есть ты. А после станешь я.
Юноша. А я сам куда денусь?
Старик. Да никуда! Состаришься. То есть сперва мужиком станешь, взрослым, а потом состаришься и станешь мной… Смотри, как совпало, получилось. (Глубоко вздыхает.) Сердце даже прихватило. Где у меня корвалол-то?
Юноша. Выходит, и мне стукнет семьдесят пять?… Не верю.
Старик. Еще бы! В двадцать лет допустить невозможно. Я и сам не верил. Первые-то года какие длинные! Из детства в юность. Каждый час чувствуешь, что живешь. Но потом она подкрадывается, старость. Отдельный день долго идет, а года быстро набираются, незаметно… Слушай, раз такое дело, я тебя предупредить могу. Чтобы тебе мои ошибки миновать.
Юноша. Значит, это я, который вот со мной разговариваешь?
Старик. Ты.
Юноша. Как здорово!.. Ну скажи, отец, как у тебя там? У меня то есть. Как все будет получаться? Мы с ребятами тут вот разбираем - кто министром, кому армией командовать. Прежние-то, царские, теперь полетели. Наша будет власть. Ты объясни, кем я стану. Командиром фронта, а?
Старик. Фронта?… Нет, не будешь.
Юноша. Ну хотя бы полк под моим началом.
Старик. Не. Провоюешь рядовым.
Юноша. А почему?
Старик. Так получится.
Юноша. А потом? Как отстоим революцию, тогда кем?… У нас лектор был, про звезды рассказывал, Луну, Солнце. Всем, говорит, надо учеными быть.
Старик. Ты ученым не станешь. Рабочий.
Юноша. Опять рабочий?
Старик. Да.
Юноша. На Михельсоне?… И жить у Гавриловны в дому?
Старик. Какая там Гавриловна?! У нее дом отберут. Завод у Михельсона тоже. Все станет нашим. Но ты рабочий.
Юноша. А в песне поется: «Кто был ничем, тот станет всем». Ты что же, не старался, не хотел подвиг совершить или что-нибудь?
Старик. Еще как! Революция началась, только и думал, что героем стану, все меня будут знать.
Юноша. Вот и я мечтаю. Мы тут про подвиг думаем все.
Старик. Ну правильно. Твои мечты, которые сейчас, и есть мои молодые мысли. Но не получилось.
Юноша. А почему? Ты расскажи, как прожил.
Старик. Семья… Как прожил? Семья, дети - три сына. Только они погибли, все мои сыновья. (Плачет.) Юноша (тихо). Ты что, отец?…
Старик. Видел-то их совсем мало. Почти ничего такого и сделать для них не мог особенного. Таня училась после гражданской, стала медиком, врачом. Выучилась, надо ехать в Среднюю Азию на трахому. Тогда многие заболевали глазами. Слепли. По городам, по улицам нищих незрячих - не протолкнуться. Потом на оспу в Поволжье - эпидемии подряд шли, целыми деревнями лежали. С холерой тоже боролись. Тогда от холеры помирали тысячами.
Юноша. Сейчас мрут.
Старик. Про это и разговор… В Белоруссии тоже была - там лихорадки болотные косили народ.
Юноша. А ты?
Старик. А я здесь, в Москве. Дома. Один на все. Со смены с завода идешь, в очередях настоишься. Пришел, мальчишек потрепал по голове одного, другого… А дров наколоть, печь растопить, поесть приготовить, постирать. Да бригадмил - с бандитами, с хулиганьем бороться, милиции помогать. Да субботники, да воскресники. Сыновья росли сами. Потом сорок первый год, война. Смотрим с Танюшей - они уже в шинелях. Первым Павел пошел - такой красивый, высокий, как бывают молодые парни. И один за одним: «До свиданья, папа, до свиданья, мама». Но не случилось того свидания.
Юноша. А дальше что?… Бобылем остался?
Старик. Дальше?… Дальше в сорок четвертом на лестнице звонок. За дверью девушка в гимнастерке, взгляд суровый. «Вы Павел Иванович?» - «Ну я». - «Мы с Павлушей вместе служили в части…» Зашла и вдруг плачет. Убивается, слова сказать не может. Мне бы самому плакать, а я ее утешаю. Выплакалась: «Ладно, пойду…» - «Куда ты пойдешь, оставайся, квартира большая…» - «Я, - говорит, - замуж никогда не пойду». «Почему, - говорю, - не идти? Неужели фашисты так над нами наиздевались, что детей в России больше не будет?» И в сорок пятом тоже звонок. Парень. Этот про Колю рассказывал, младшего. Фотографии принес, ордена. Сам из Ленинграда, у него там все близкие погибли в блокаду… «Оставайся, места хватит…» - «Ладно, останусь…» Теперь замминистра. Дочку Танюшей назвал - ну в честь нашей Тани. От среднего, Гриши, тоже приехали. Опять набралась квартира, детские голоса зазвенели. Но сынов моих нет.
Юноша. А жена?
Старик. Таня?… Она врачом на фронте. В окружение попала с ранеными. И фашисты ее убили.
Юноша. Слушай! Вот к нам в отряд питерские влились, с Нарвской заставы. Девчонки там две. Одну Татьяной звать - глаза с поволокой. Я все время об ней думаю. Это что же, она и есть?
Старик. Она.
Юноша (горячо). И мы поженимся?… Скажи, поженимся!! Она за меня пойдет?
Старик. Поженитесь. Только я тебе говорю, ее фашисты убьют. В сорок первом.
Юноша. А с кем же это опять война? В сорок первом году? Кто на нас пойдет?
Старик. Фашизм.
Юноша. Это кто - мировая буржуазия?
Старик. Она.
Юноша. Мы-то здесь ждем - вот-вот всемирная революция грянет по всем странам… Скажи, а ты воевал в сорок первом… то есть мне воевать?
Старик. Не пустили.
Юноша. Не пустили? Как?
Старик. Не пустили, на заводе оставили сталь варить. Металла-то сколько требовал фронт? Каждый бой - кровь и металл, кровь и металл. Любую победу сперва в цехах надо было добыть. Не думай, что в тылу сахар, - техника всей Европы на нас шла. Работали, у станков падали. В литейном жара, окна плотно закрыты, чтобы светомаскировку не нарушать. Берешься заднюю стену печи заправлять - порог высокий, лопата веская да брикеты килограмм по десять, побольше полпуда. Точно не кинешь, по дороге все рассыплется. Перед открытой дверцей задерживаться нельзя - сожжет. Надо быстро подойти, размахнуться, кинуть и тут же уйти. С такта сбился - ничего не выйдет… И плавки долгие были - не то что теперь. Намотаешься у мартена, еле ноги держат, ждешь, пока металл поспеет к выпуску. Случалось, когда авария, неделями не уходили с завода. Две смены отработаешь, часа три прикорнул в красном уголке, и опять… Но силы-то откуда? Паек военный, голодный, да и того не съедаешь, потому что дети…
Юноша. Какие дети? Твои сыны на фронте.
Старик (кричит). А чужие дети?! Напротив, на лестнице, солдатская вдова молодая, Верочка, в конторе работает где-то. Двое - вот такие крохи - ходят бледненькие. Как же утерпеть, не подкопить им кирпичик хлеба, не занести хоть раз в неделю?… Эх! (Плачет.) Вступает мощный аккорд музыки.
Старик. Что такое? Я вижу звезды!.. Или мне кажется, что звезды горят сквозь стены, сквозь потолок?… Эй, где вы, которые из будущего?
Голос. Мы здесь и внимательны.
Старик. Дайте нам еще минут десять хотя бы… Слушай, мальчик, юноша, мне тебя предупредить надо. Жизнь, в общем-то, не очень хорошо сложилась. Можно бы больше достигнуть, сделать. Брался за многое, а из всего мало осталось. Может быть, вечное что-нибудь надо было начинать, а я всегда только один день обслуживал. В лучшем случае месяц или год. Чего в данный момент нужно, то и делал. Но эти моменты все прошли. Давно.
Юноша. Чего-то я не пойму. Скажи еще раз.
Старик. Слушай внимательно. Сейчас у вас будет бой. За деревней. В контратаку пойдете, германец отступит, прижмет огнем, положит на снег. Смирнов, командир, вскочит, и ты за ним бросишься. Так вот, я тебе хочу сказать - бросайся, но не сразу. Секунду пережди, и тогда тебя пуля минует.
Юноша. Какая пуля?
Старик. Которая меня не миновала.
Юноша. Ранило?
Старик. Слуховой нерв задело. На рабфаке потом уже не потянул - лектора не слышал. Выучиться так и не смог, как другие, в инженеры вышли, в профессора… Сталь варил, выше помощника горнового тоже не поднимался. В общем, большого ничего совершить не пришлось. Такого, чтобы навечно… Понял меня, что я говорю-то?… Сделаешь?
Юноша. Не знаю.
Старик. Почему?
Юноша. Не знаю. Обещать не стану.
Старик. Ну вот. Всегдашняя история - старость предупреждает, юность не слушает. Но ведь ты - это я. Теперь уже ясно, какую роль та секунда сыграла. Мне-то видно.
Юноша. Чего же ты сам сразу бросился? Не ждал.
Старик. Да меня самого сразу как-то подняло за ним… Но мне-то откуда думать было? А тебе-то я говорю.
Юноша. Эх, отец, если б ты чувствовал, как сейчас тут… Утро… И сегодня революционная армия перейдет в наступление. Мы на митинге поклялись. Это великий поход, как лектор говорил. Кончается прежнее, начинается совсем другая жизнь. А ты говоришь - подожди.
Старик. Секунду. Я же тебе не про трусость-измену. Одна доля секунды.
Юноша. У нас здесь нового чувства столько! Мы об государстве думаем, об целом мире, обо всех трудящихся и угнетенных… Или вот дружба. Мы теперь все вместе. Я за Смирнова жизнь отдам, не пожалею. Или за Васю Гриднева.
Старик. Не отдашь ты за него жизнь! В двадцатом Васю зарубят махновцы-бандиты на Украине. Крикнет: «За власть Советов!» - и падет. А ты будешь в другом месте… У меня лучшие друзья уходили молодыми.
Юноша. Неужто в двадцатом еще воевать?
Старик. А ты думал! Так тебе господа и отдали Россию даром! Генералов на нас пойдет без счета, капитализм всей планеты. Только начинается гражданская война. Еще ой-ой насидишься в седле, натопаешься по снегам-степям. Четыре раза с Таней будете расставаться, на разные фронты попадать.
Юноша (вздыхает). Мы-то считаем, только вот с германцем сейчас справиться… Ну ладно, раз так.
Старик. Ты слушай меня. За много не берись, понял? Я вот даже английский принимался учить в лазарете - с парнем лежали на койках рядом, у него книжечка была. Думали, пригодится мировую революцию делать. Но это было зря… На рабфак не пробуй, только время потеряешь. И Таня пусть не учится на врача, пусть чего-нибудь другое… Или взять завод в Иваново-Орловском. Мы его сразу после гражданской восстанавливали. Знаешь, как выкладывались? На тачку земли навалишь - еле стронуть - да еще бегом по доскам. Не восстанавливали - новый построили. Но в сорок втором сгорел тот завод, а теперь уже мало кто помнит, что был. В общем, жилы не рви на той стройке.
Юноша. Понятно… Значит, ты совсем один остался?
Старик. Ну есть тут, я тебе говорил. Только они не родные.
Юноша (после паузы). Голодуешь?
Старик. Что?
Юноша. Голодуешь, говорю?
Старик. Кто?… Я?
Юноша. Ты.
Старик. Я, что ли, голодаю?… Это спрашиваешь?
Юноша. Ну да.
Старик. Сказал тоже! Меня тут куда посадить не знают, чем угостить. Апельсины - только бы ел. Лучших врачей приглашают насчет здоровья. Совестно даже самому… Заняться нечем, дела нету - вот беда. Я же не понимаю эти… экологию, структурный анализ.
Юноша. Чего-чего?
Старик. Науки.
Юноша. Какие науки?
Старик. Ну, ученые они. Говорят, а мне не понять, когда они про свои дела.
Юноша. Они ученые, что ли, с кем ты живешь? Как же ты попал к таким? Швейцаром?
Старик. Да каким швейцаром, ляпнешь тоже! Я же рассказывал. С фронта приходили и оставались. Потом сами выучились, дети их выучились. Да у меня у самого пенсия - выше головы хватает. Только она мне и не нужна. На что тратить-то?
Юноша. Так это что - те самые, что ли, которые в войну? У вас как - солдаты учатся, рабочие? Не одни господа?
Старик. Господа?… Господ давно уже нету. Все трудятся.
Юноша. Все?… А трамвай до сих пор не починили, дров не подвезли в Москву - бараки ломаете.
Старик. Какие там дрова?… Ты мне говорить не дал. Скажи, ты знаешь Москву?
Юноша. Ну знаю.
Старик. Так вот той Москвы нет!.. И той России. Вообще все другое. Трамваев мало в Москве, потому что метро. Под землей бегут вагоны. Сел на мягкую скамейку - за десять минут от Конной к трем вокзалам.
Юноша. Ври - за десять!
Старик. Помолчи!.. Ни дров, ни керосина не надо - электричество светит, газ утепляет. Стоят огромные белые дома - десять этажей, больше. И в них живут рабочие. По квартирам музыка играет - радио. Телевизоры - ящик, а в нем вроде кино, синематограф говорящий. Включил - видишь, что в другом городе происходит, в другой стране. Даже на дне моря или за облаками.
Юноша. На дне? А как?
Старик. Да черт их знает, как! Сделали… Работают на заводах восемь часов, два выходных в неделю. На улице вечером тысячи огней: магазины, театры, кино, стадионы - такие места, где люди отдыхают, упражняются, чтобы стать красивее, здоровей. А улицы не развалюхи наши в грязи по окна, а проспекты с асфальтом. Широкие площади с цветами, деревьями, воздушные дороги, по которым автомобили бегут… моторы то есть. Во дворах спортивные площадки для детворы. А цветов! Жасмин стоит, сирень, другие всякие. Вот это теперь Москва!
Юноша. А хлеб есть?
Старик. Хлеб?… Конечно. Никто не бедствует хлебом.
Юноша. И ситник?… Неужели ситник?
Старик. Белый хлеб, пшеничный. Сколько хочешь. Сколько хочешь, бери - копейки стоит. По всей России голодных ни одного человека. Дети так и конфет не очень хотят. Нищих нету. Про нищих молодые и не знают, кто они такие были. Болезни старые выведены. Ни трахомы, ни холеры, ни оспы… Рябого не встретишь - только если из очень стариков… В деревне машины пашут, сеют, убирают.
Юноша. Сами?… Слышь, как сказка.
Старик. Чего сами? Люди на них сидят, управляют… Наша молодежь самая ловкая в мире, самая сильная, смелая… Что говорить! Лица совсем другие у людей. Тебе бы не узнать - спокойные, уверенные. Девушки все до одной красавицы.
Юноша. Не обманываешь?
Старик. Да что ты! Вот оно все вокруг меня. В окно выгляну - белые дома. Внизу на катке мальчишки в хоккей играют. Маленькая девочка с собачонкой вышла, а сама одета, ты и не видал никогда.
Юноша. А грамотные все? И девушки тоже?… Неужели бабы книжку читают?
Старик. И слова нет «бабы». Десять лет все учатся. Обязательно по всему государству. Кто хочет, еще пять - в институте. Если б тебе школы показать, светлые, чистые… Другим странам помогаем наукой, техникой. Понимаешь, и мировая революция идет, уже почти подземного шара рабочая власть. Вообще оно все сбылось, о чем мечтали. А теперь у молодых новые мечты. Хотят, чтобы вся природа была вокруг хорошая, болезни искоренить, какие остались еще. На другие планеты думают достигнуть.
Юноша. И я все это увижу, раз я буду ты? Улицы с огнями. Тот ящик, что показывает заморские страны?… Скажи, кто же все это сделал?
Старик. Кто сделал?… Да мы!
Юноша. Вы?
Старик. Мы. И ты будешь делать вместе со всеми.
Юноша. А болезни - что их теперь нету? Это Таня?
Старик. И Таня тоже.
Юноша. Слушай, мне уже пора… Скажи скорей, как вы добивались, чтобы все это вышло?
Старик. Работали. Себя не жалели.
Юноша. И ты не жалел?
Старик. А что же, сидел, что ли? У нас после войны в литейке свод два раза обрушивался в металл. Печи изношенные, а все хочется сделать еще одну, последнюю, плавку. На бригаду план дают, а мы встречный.
Юноша. Что же ты мне говоришь тогда?… Постой!.. Отец, кончилась артиллерийская подготовка. Пошел на нас германец.
Доносится высокий звук трубы.
Юноша. Слышишь?… Вася Гриднев выводит своих на позицию. Конница наша. Сейчас поскачут в атаку.
Возникает и проносится конский топот.
Юноша. Эх, как идут! Как идут!.. Вот они вымахнули на гребень… Побегу. Как бы не опоздать к бою.
Вдалеке бьет одинокий выстрел.
Юноша. Наша артиллерия - пушки, что ребята с Путиловского…
Вступает музыка и с ней мощный, все перекрывающий залп.
Юноша. Что это? (Тревожно.) Что это, отец?… Мы никогда не слыхали, чтобы так.
Старик. И здесь за окнами небо все осветилось.
Юноша. Нет, это здесь бьют пушки. (Тревожно.) Но у нас же нет такой силы! Что это?
Старик. Стой! Подожди. Что за день у вас там сегодня?
Юноша. День?… Не знаю. Мы тут сбились со счету… Разговение или первая седьмица поста… Февраль кончается.
Старик. Февраль восемнадцатого года. На Петроградском фронте под Нарвой?
Юноша. Ну?
Старик. А число?… Слушай, я, кажется, понял, почему цветы - цветы мне внучка принесла… Какое число у вас, не двадцать третье?
Юноша. Вроде оно.
Один за другим с промежутком залпы.
Старик (с подъемом). Это ваши орудия!
Юноша. Не. У нас только две пушки.
Старик. Это ваши орудия. Вы переходите в наступление, и выстрелы ваших пушек отдаются, гремят через века. Это история, мальчик. День Красной Армии, День Советской Армии. Салют.
Юноша. Но такая огромная сила?… У нас не может быть. Только две пушки. Трехдюймовки.
Старик. Мальчик, юноша, забудь, что я тебе говорил. Живи на полный размах. Сейчас в атаке поднимайся сразу. Не думай. Тебя ранят, к тебе подберется девушка, у которой глаза с поволокой. Не отпускай, не расставайся! У вас будет много счастья. И пусть обязательно дети. Как это прекрасно, когда они рождаются, когда вырастают. Заходишь в комнату, а на столе у мальчишек железки, камни, которые они нанесли… Позже дневник пишут, первые свои стихи… Ох, что-то сердце так сжалось!
Юноша. Ну говори, говори!
Старик. В Орловском будете завод восстанавливать - на чужое плечо не надейся, свое подставляй. Учи английский - мировая революция придет. На рабфак все равно поступай. То, что в старости не поймешь структурный анализ, неважно. Это ведь твой труд в том, что молодые теперь занимаются наукой. Ты будешь рабочий класс. Старайся, выкладывайся, и тогда совершишь свой подвиг. Тогда все-все твое: первый трактор в деревне, который тянет плуг, а косматые мужики зачесали в затылке, закусили губу. Твои каналы в пустыне, новые города. Твой будет красный флаг Победы в сорок пятом году и твой корабль, который от Земли поднимется в космос… Да, погибнут сыновья - тяжкое, непереносимое горе. Но тебе родными станут другие, твоими станут их внуки, правнуки…
Юноша. Я иду, отец! Пора. Прощай! (Издали.) А что такое космос?
Вступает отдаленное многоголосое «Ур-р-ра-а!» и растворяется в звуках музыка. Залпы салюта становятся глуше.
Голос (негромко). Павел Иванович…
Старик. Да. Кто это говорит?
Голос. Будущее. Мы хотим сообщить вам, что через тысячу лет по всем галактикам, по всем обитаемым мирам пройдет год вашего имени. Уже начата подготовка, и этот сегодняшний разговор бесценен для нас.
Старик. Как сердце схватило, темнеет в глазах… Где же телефонная трубка?… Подождите там, в будущем. Я не понял. Год моего имени? Но почему? У меня жизнь простая, незаметная. Как у всех.
Голос. Нет незаметных жизней. Каждый человек ценен - с ним приходит, от него начинается нечто. Вы ведь не знаете, какие огромные последствия в будущем может дать тот или иной поступок, даже маленький на первый взгляд. Одной человеческой жизни мало, чтобы увидеть эти следствия, которые растут от поколения к поколению и образуют новые следствия. Ничто не исчезает без следа.
Слышен долгий звонок.
Старик. Телефон… Нет, телефон выключен… Как вы сказали - ничего не пропадает?
Голос. Ни тихое слово, ни скромное дело. Сначала они роднички, но потом уже реки, которыми полнится океан грядущего. Поэтому мы все от вас, и все, что сделано, пережито вами, пришло сюда, влилось и пойдет с нами еще дальше. Знаменитые и обыкновенные равны перед лицом вечности, последствия небольшого мужественного дела, развиваясь в веках, могут затмить важнейшие решения королей. Когда в вашей современности утром в вагонах теснятся пассажиры метро, когда ждут светофора нетерпеливые толпы, каждый значим. Через каждого проходит нить от прошлого в будущее. Любой человек ценен для истории, по-своему делает ее. В этом смысле все люди - великие люди, от любого начинается завтра, каждый ткет материю будущего. Здесь, среди звезд, в просторах вселенной, мы торжественно отмечаем год каждого человека на Земле, который был, жил, трудился и выполнял свой долг. Нет ада и рая, но в том, что он сделал, как прошел свой путь, человек живет вечно.
Снова долгий звонок.
Старик. Подождите!.. Значит, и жена моя Таня, и старший сын Павел, и младшие мальчики? И Вася Гриднев, и наш горновой Дмитрич, и другие из бригады?… Как же так? Если праздновать почти всех, откуда возьмется время? Откуда годы, столько годов?
Голос (очень громко, а потом на резко снижающемся звуке). Но у нас, у человечества, впереди вечность… Павел Иванович, сеанс кончается, мы выключаем аппараты. Прощайте, мы глубоко благодарны вам. Прощайте.
Девушка. Ты что не открываешь, дедушка?… Я уже испугалась. Как сердце у тебя сегодня?
Старик. Кто это? Таня?
Девушка. Сейчас придут мама, отец, Игорь. От Николая была телеграмма. Самолет уже на Внуковском - они приедут всей семьей. Василий звонил, они уже вышли. Веру Михайловну я сейчас встретила на лестнице, она готовится. Будет много-много народу… Сегодня же праздник, ты не забыл? Слушай, какой у тебя беспорядок!
Старик. Николай?… Младший сын?
Девушка. Какой ты странный сейчас, дед… У нас сегодня в институте такая бурная кафедра, я несколько раз выбегала тебе звонить, но все было занято… Слушай, что это? Почему-то оторвана трубка… Дедушка, как сердце? Ты мне не ответил. Не было приступа?… Откуда ты вынул это старое-старое пальто? Я ведь не знала, что оно сохранилось… Ну-ка дай попробовать руки… Нет, ничего, теплые.
Старик. Таня, жена моя!
Девушка. Да нет же, дедушка. Это я, Таня, внучка.
Старик. Что такое? Звезды! Разноцветные звезды рассыпаются в небе.
Девушка. Это салют… Видишь, сколько писем я вынула из почтового ящика? Целая гора. Он был весь набит, почтальон даже положил газеты сверху, на окне… Какое у тебя лицо, дедушка, сегодня! Совсем-совсем молодое.
Старик. Кажется, отпустило сердце… Да, отпустило совсем. Но такое впечатление, будто я поднимаюсь все выше, выше, выше… Слушай, вот эти звезды… Таня, покажи мне… покажи мне, где Млечный Путь.
ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ
Да, пришельцы… Занимательный фильм, вы согласны? Жанр, впрочем, не очень ясен. К научному кино не отнесешь, к художественному тоже. Фантастическая натурфилософия, что ли? И название «Воспоминания о будущем». Как понимать - что, мол, древние свидетельства о посещении Земли инопланетянами намекают на новые контакты завтра?… Но при чем тогда «воспоминания»?
Нет-нет, не стану спорить - снято красиво. Баальбекская веранда, рисунки эти в пустыне. Но мне, честно говоря, кажется, что огромные камни Баальбека не о том говорят, что некогда к нам являлись высокоумные гости со звезд, а наоборот: что люди всегда стремились к к звездам, жаждали войти в соприкосновение с какими-то высшими истинами. Такие глыбищи вырубить, обтесать и доставить на место - немалый труд. И те, кто его выполнял, занимались им не только под страхом наказания, но еще потому, что верили, будто он приближает их к-чему-то, стоящему над повседневной заботой о хлебе. Естественно, это происходило в религиозной конструкции, однако по древним временам иного и быть не могло. Кстати, в самом своем начале религии играли другую роль, чем позже. В их истоке попытка разума опровергнуть видимый хаос бытия, найти в нем законы, подняться к синтезу. Сила религиозного обряда была в том, что он придавал существованию античного или, например, средневекового человека хоть и обманчивый, но возвышающий смысл. Отсюда вдохновение тех, кто строил храмы удивительной красоты, писал музыку… Это при том, что святилища уже были центрами угнетения…
Что вы говорите - «ничего не следует»?… Конечно, ничего. Вот посмотрели мы с вами фильм, где толкуется, будто Землю в прошлом посещали некие пришельцы. Допустим даже, что так. Ну а дальше? Разве хоть на волосок по-другому мы можем рассматривать стоящие перед людьми проблемы? Позади нас здание Московского университета, утром аудитории все равно заполнятся абитуриентами. Внизу лежит, раскинулась Москва, и через несколько часов, как обычно, покатят автобусы, троллейбусы, тесно станет в переходах метро. Были когда-то на нашей планете чужие космонавты, не были, жизнь та же самая. Ничего не снимается с повестки дня.
Поэтому, мне кажется, интереснее поговорить не о том, прилетал ли кто на нашу планету тысячи лет назад, а о тех пришельцах, которые вот сейчас живут среди нас. И неплохо устроились, между прочим…
Нет-нет, не надо так недоверчиво улыбаться. Лучше скажите, приходилось ли вам слышать о «Феномене X»? Особенно об этом пока не распространяются, но знающие знают… Ага, значит, слышали!.. Нет, как раз этот человек ничего не ломал и не портил. В том-то и штука, что он старается держаться подальше от рентгенной аппаратуры, так же как и вообще от медицины. Это до вас просто слухи дошли. А на самом деле все иначе.
Представьте себе сорокапятилетнего рослого и плотного гражданина, занимающего пост коммерческого директора галантерейной фирмы. Кажется, она называется «Эпоха», а может быть, «Вселенная» - там любят некоторую помпезность. Фирма выпускает ножницы, портсигары, парфюмерию, кожгалантерею, в том числе и те дорожные сумки со множеством латунных блях, что стоят пятнадцать рублей, однако начинают разваливаться, пока вы еще в автобусе добираетесь до аэропорта.
Так вот, наш Шуркин (его зовут Шуркин) успешно занимается своей коммерцией, и как-то ему выделяют туристскую путевку во Францию. По профсоюзной линии, со скидкой. Раз путевка, значит, обязательно и справка о состоянии здоровья. Надо так надо. Шуркин Солидно (он все делает солидно) приходит в поликлинику по месту жительства, и выясняется, что там нет его карточки, поскольку за свою жизнь он ни разу не болел. Прекрасно! Карточка заведена, ему дают направление на флюорографию. Небольшая очередь, коммерческий директор авторитетно возвышается в коридоре, авторитетно сидит у самой двери. Строгая служительница наконец впускает его, он становится к аппарату.
А через два дня служительница в расстройстве стучится в кабинет главного врача. Машина не сработала! Почему? Ответа нет. Не сработала, и точка. У всех, кто залезал в рентгеновский закуток до директора и после, превосходно отпечатались на пленке легкие, сердце и прочие внутренности. А на Шуркине лучи дали осечку: только серый силуэт, как если бы наш герой состоял из совершенно однородной ткани. Даже позвоночника и того нет… Еще раз рентген, снова то же самое.
С огромным трудом удается уговорить Шуркина в третий раз поместиться перед экраном. В дело уже вступили рентгенорадиологический НИИ, Институт биохимии имени А.Н.Баха, Институт биофизики, Институт антропологии. Возле директора сгрудились седовласые академики, доктора наук затаили дыхание, кандидаты стоят на подхвате. Гаснет свет, короткий звоночек, вспыхивает экран, но там опять ровная серая тень, будь то фас или профиль. Именно тень, а не чернота, как получилось бы, если б лучи сквозь Шуркина вообще не проникали. Они-то проникают, но не дают деталей. Срочное совещание на высшем медицинском уровне, Шуркину предлагают лечь на исследование.
Однако не на того напали: коммерческий директор качает права, требует справку. Ее в конце концов дают, Шуркин отправляется в Париж, привозит оттуда положенное количество газовых зажигалок, кофточек, каких-то особенных галстуков и в своей фирме приступает к исполнению обязанностей. «Исследование?… Какое исследование?» Шуркин пожимает плечами. Да, он согласен, что интересы науки требуют. Но у него, между прочим, тоже интересы. Во-первых, работу запускать нельзя, а что касается вечеров, то сегодня матч ЦСКА - «Динамо», завтра он встречается с одной знакомой, на послезавтра есть договоренность расписать пульку - он не может обманывать людей, в четверг надо отогнать машину на техосмотр, а в пятницу он на два дня едет на дачу.
Штука-то в том, что хотя наш приятель на работе неулыбчив, со всякими посетителями холоден и даже к ним враждебен, но в ресторане он может расхохотаться неожиданно громко, и его равнодушные глаза оживляются блеском при виде хорошо приготовленных киевских котлеток или, скажем, красивой официантки. Собственно, это тот самый тип, которого в Америке называют плейбоем, кто в дореволюционной России шел как «бонвиван», а у нас за неимением более краткого определения описывается в качестве человека, любящего пожить в свое удовольствие. И последнее Шуркину вполне удается, так как к его услугам «Волга» в экспортном исполнении, двухэтажный коттедж в Подмосковье (на тещу), еще одна дачка с участком под Ялтой возле санатория «Массандра» (на престарелую бабку), магнитофоны «Нешнл» и «Микадо», гобелены «Бурбон», ковры фирмы «Фландерс», мебельный гарнитур «Рамзес». Шуркин выхоленный, лощеный, от него пахнет дорогим французским одеколоном, и хоть на чужих языках ни звука, ни единого слова, но больше похож на знатного иностранца, чем любой на выбор из самых знатных иностранцев. На отвороте английского пиджака у него непонятный элегантный значок, он отлично разбирается в коньяках, курит «Герцеговину Флор», с чужими всегда подозрителен и насторожен, за словом в карман не лезет, к нему ни с какой стороны не подкопаешься. Академики в отчаянии, они готовы исследовать его и по ночам.
Но коммерческий директор эту мысль решительно отвергает - его долг перед обществом ночью спать, чтобы утром являться в фирму свежим и работоспособным. У кого-то возникает идея устроить Шуркину новую путевку за рубеж, чтобы опять возникла необходимость в справке и рентгене. Устраивают, но тут оказывается, что старая справка действительна в течение года. Ничем директора не удается взять, «Феномен X» так нераскрытым и зависает в науке…
Как вы сказали, «на депутатскую комиссию»?… Да было, все было! Вызывали, просили. Но он потребовал указать статью в гражданском или уголовном кодексе, которая запрещала бы уклоняться от рентгена… Да нет, не пугается он никакого разоблачения. Просто слышал, что частое просвечивание вредно, и та ничтожная, неощутимая доля здоровья, которую он потерял бы, поместившись еще разок под лучи, Шуркину ценней всех вместе взятых интересов человечества. Короче говоря, он до сих пор загадка для окружающих. Но не для меня…
Ну что ж, извольте. Но тогда давайте сядем… Вот сюда… Ночь теплая, звезды светят.
Разрешите вам сказать, что сейчас я педагог. Семья. Жена не работает - у нас трое. Преподаю рисование и черчение в школе, классный руководитель, конечно, ну и еще кое-какие занятия. Официальных часов двадцать четыре в неделю, так что зарплата до ста шестидесяти. И представьте, хватает. В дополнительных доходах нужды не ощущаем, живем в полном согласии с самими собой. Дети здоровы, каждый день наполнен делом, какими-то событиями, и, в общем, каждый приносит радость. Говорю о зарплате, потому что была у меня эпоха, когда, если получалось шесть тысяч в год, считал себя неудачником и лентяем. Вот десять еще куда ни шло.
Окончил я в свое время Суриковский институт живописи и здорово набил руку на пейзажах. Под Левитана, но погрубее, с изрядной долей этакого энергичного оптимизма. Помню, названия все почему-то получались однотипные: «На просторе», «На отдыхе», еще там на чем-нибудь. Трава у меня всегда зеленая, небо голубое. И брали мои просторы. Большие богатые клубы, Дворцы культуры, гостиницы-новостройки. Был даже сезон, когда на ВДНХ целых четыре моих полотна по разным павильонам. До того натренировался, за полмесяца способен был сделать картину три с половиной на два, причем вполне профессиональную. Денег девать некуда, и вот с женой хлопочем. В одной комнате хрустальная люстра за тысячу двести, в другую давай за две. Знакомые цветной телевизор купили, мы уже побежали наводить справки, не выпускают ли где экспериментальный объемный. Мастерскую себе отгрохал со специальной кладовкой, где березовые дрова для действующего камина. Ну член Союза художников, естественно, непременный заседатель во всяких комиссиях. Участник трех всесоюзных выставок, про республиканские не говорю. Была уже и персональная - рецензенты писали, что «молодой художник тонко чувствует красоту родной природы». Несколько нас таких было, расторопных, «перспективных». Всегда в делах, в заказах. Где-нибудь встретимся случайно, только и разговора, что один перед другим хвастать. Ты из Японии вернулся, я в Австралию собираюсь. У тебя три договора, у меня пять. И еще тема была - в каких ресторанчиках на Монмартре лучше кормят. Про собор Парижской богоматери даже неловко считалось - это для «чайников», кто раз в жизни вырвался.
И вот в один прекрасный день я, такой, как вам описал, решаю, что не худо бы мне расширить номенклатуру своих изделий. А то кругом коситься начинают - что, мол, все себя повторяешь. До сих пор были просторы равнинные, российские с березками, почему не попробовать хотя бы горные? Сказано - сделано, беру творческую командировку в Алма-Ату. Такси, стремительный Ту разбегается по бетонной дорожке, удобное кресло, на откидном столике запотевшая бутылка холодного пива и снова ровный бетон. Посадка. Сами знаете, как одолеваются сейчас тысячи километров. Денек погулял по городу, на второй в республиканское отделение союза. Художники - народ компанейский, и, раз уж мне нужен простор, рекомендуют одинокий, принадлежащий Художественному фонду домик-сторожку на отроге Ишты-Алатау. Тут же в разговор вмешивается случайно забежавший в комнату веселый, скуластей маэстро - он как раз собирался ехать на своей машине в том направлении. Сразу все сделалось быстро и удобно. Дома у скульптора (маэстро оказался скульптором) обедаем по-раннему, в большом гастрономе набиваем багажник продуктами, у гостиницы кидаем на заднее сиденье мои вещи. Кончаются белые городские кварталы, по сторонам назад убегают горы, поросшие лесом, их сменяют пологие холмы с кустарником, потом ровные плоскогорья и глинобитные белые поселочки. Во всем своя красота, подчеркнутая быстрым движением, все откатывается, исчезает, не успевая надоесть, утомить. Дома в Москве у меня тоже машина, поэтому рядом со скульптором я не чувствую себя случайным незаконным пассажиром, при всем своем демократизме понимая, что мы оба принадлежим к тем представителям человечества, кому в силу таланта, энергии самой судьбой предназначено из мирового ресурса стравить каучука в протекторах автомобилей, сжечь бензина в цилиндрах больше, чем обыкновенным людям.
Через три часа еще раз обедаем в городке у подножия высоких диких гор, заезжаем к другу скульптора, председателю колхоза. Тот мгновенно организует верховых лошадей, мальчишку-проводника. Алма-атинский благодетель хочет лично взглянуть, как я устроюсь, провожает до места. Поставленная еще в конце прошлого века сторожка - это двухкомнатный каменный домик, оштукатуренный изнутри, с зарешеченными окнами. Заботливый Худфонд пожертвовал сюда печку-«буржуйку», старинную медную кастрюлю с длинной ручкой. Тут же стол, шкаф, стулья и койка. В долине просторно, над головой масса неба, с трех сторон зеленые склоны хребта, с четвертой бойко прыгает между гранитными глыбами чистенькая, звонкая речушка Ишта.
Обнялся со скульптором, побросал на полки в шкафу вермишель, тушенку, растворимый кофе. Установил прямо у дома свой этюдник, надавил на палитру побольше зеленой и голубой.
И вот однажды поздним вечером - кстати, конец июля был - сижу, наработавшийся, на воздухе. В задней комнате сторожки уже десятка полтора крепких этюдов и один, на который возлагаю особые надежды. Это одинокая березка над обрывом, на ветру. В ней щекочущий намек на модное «отчуждение», а в голубом небе вокруг и в порывистых облаках масса оптимизма. В общем, глубокомысленно-непонятно. Размечтался, представляю себе, картина уже висит в выставочном зале МОСХа на Кузнецком мосту, люди смотрят на березку (ее, кстати, пришлось выдумать, так как она здесь не растет), и у некоторых при этом слегка отваливается челюсть. Почему отваливается?… Да потому, что среди нас, пробивных и ловких, уже возникло такое соперничество, что о собственном успехе лучше всего свидетельствовало то, насколько сильно огорчился коллега. Даже мы больше желали этой досады, чем восхищения лица постороннего.
Ночной ветерок повеял, над восточным краем гор уже звезды. Пойти, думаю, набросить пиджак - как раз простыл немного, слегка лихорадит.
Вдруг за спиной резкий свист. Инстинктивно обернулся, успеваю заметить, как в двух шагах от меня что-то ударило в утоптанную тропинку и отскочило.
Кто это, думаю, шалит, кто посягает на творческий покой известного столичного художника, члена всяческих комиссий? Встал, но долина кругом просматривается, и никого.
Сходил в дом, зажег керосиновую лампу-«молнию». Вижу, в траве у самой тропинки черный камень размером в грецкий орех. Поднимаю его и тотчас отбрасываю, потому что он горячий. Камень этот треснул от удара о землю и теперь, когда я его кинул, раскалывается надвое.
Метеорит!
Помню, что, сообразив это, я глянул на небо, а потом вобрал голову в плечи и сжался, в страхе ожидая, что вот в этот миг оттуда свалится еще что-нибудь. Затем на ум все-таки пришло, что метеориты - очень редкое явление, я выпрямился и рассмеялся над своей глупостью. Подобрал большую часть, охладил, перекидывая с ладони на ладонь. Внешняя, оплавленная сторона метеорита была как бы в темном блестящем лаке, а на изломе камень был тоже черным, но матово.
Происшествие это меня очень развеселило. Вот, говорю себе, какой же я все-таки удачник. Известность, общее уважение, заработки да еще такие случаи, как жемчужина (довольно крупная жемчужина в консервной банке устриц мне попалась), или этот гость из космоса прямо к моим ногам. Нет, точно во мне что-то есть необъяснимое. Решил, что в награду себе за такие качества устрою маленькие каникулы - завтра спущусь в городок, поймаю попутную, доставлю небесного посланца в Алма-Ату, в университет.
Но следующее утро выдалось прекрасное, этюдник зовет, рука просится к палитре. Рассудил, что раз уж камень добрался, так сказать, до места, торопиться ему некуда. День провел за работой, на закате беру метеорит из шкафа просто поглядеть и убеждаюсь, что не заметил главного. Метеорит непростой. Серединка более крупного куска отличается от остальной поверхности среза. Тут камень принимает канифольный оттенок, и это местечко чуть липнет к пальцу. Из школьного курса астрономии в голове удержалось, что метеориты бывают железные, каменные и железокаменные, но с мягкой сердцевинкой не падало никогда. Значит, передо мной нечто, имеющее значительную научную ценность. Что ж, тем лучше, тем больше чести.
Завалился на койку, размышляю, как удивительно все же устроена вселенная. Где-то в другой звездной системе, а не исключено, что в иной галактике, стартовал этот камень, миллиарды километров мчался затем в черной пустоте, где лишь редкий атом водорода испуганно отскакивал в сторону при его приближении, увидел голубую планету к финишу бесконечного путешествия, и все затем, чтоб успокоиться у меня тут в шкафу. Отклонись камень на пылинку еще там, вдалеке, его занесло бы к чужим созвездиям, отклонись на пылинку уже в земной атмосфере, мог бы стукнуть меня в темя, и вот уже Московская организация Союза художников недосчитывается одного из своих членов. Странно было, что столь далеко зародившееся развитие могло повлиять на весьма конкретную ситуацию здесь, у нас. Конечно, я знал, что на Земле всякая причина является лишь следствием более ранней причины, любое начало относительно, а конец условен. Понимал, что девушка, сидящая сейчас за коктейлем в кафе гостиницы «Юность» в Москве, обязана, быть может, своим существованием тому кокетливому взгляду, который в третьем тысячелетии до нашей эры бросила молоденькая египтянка на молодого пастуха, полудикого чужеземца-гиксоса. Однако все равно в камне было что-то особенное. Ведь он мог начать полет, когда на нашей планете еще не было человека или даже вообще жизни не было, пролетел такой путь, какого и представить себе нельзя.
С этими мыслями начал задремывать, подтвердив себе, что завтра обязательно в городок. Однако через какой-нибудь час в глазах у меня стало мелькать, и, проснувшись, увидел, что комната то и дело озаряется фиолетовым светом, как от электросварки. Встал, подошел к окну. Небо крестят молнии, гром товарными поездами таскается взад и вперед. Какой-то стук снаружи - ветром опрокинуло мольберт.
Утром открыл дверь, даже ближних гор не видно - все скрыто занавесами дождя. Делать нечего. Раскочегарил «буржуйку», благо запас хвороста был во второй, пустой комнате, кое-как перемыкался до обеда.
Поел. Лениво достаю с полки шкафа метеорит.
И разом сдернуло скуку.
Потому что камень-то стал другим. То местечко, которое накануне вечером было мягким, теперь выпуклилось, пожелтело и пересеклось тонкой розоватой полосочкой.
Кровеносный сосудик!.. Жизнь!
Можете себе представить мои чувства. Перед глазами сразу телескопы Пулковской обсерватории, антенна Бюраканской, всякие там осциллографы, другие хитрые приборы, перед которыми обыкновенный человек, словно кошка возле арифмометра, целые библиотеки книг с умнейшими рассуждениями. И все задаются единственным вопросом: «Одиноки ли мы? Есть ли еще кто живой, кроме нас, во вселенной, на полях времени и пространства?»
А маленький кусочек у меня на ладони говорит: «Да!»
По спине мурашки, лоб и щеки загорячились. Ну, думаю, быть этой сторожке всемирно известным музеем. Пройдут годы, тут обелиск воздвигнут выше гор.
Взял стеклянную банку из-под борща «Воронежская смесь», тщательно вымыл, ошпарил, кладу туда оба кусочка метеорита. Зажег лампу, подвинул к ней банку, чтобы зародышу теплее. Подумал, отодвинул лампу, чтобы зародышу не слишком жарко. Беру бумагу, записываю примерное время падения метеорита, сходил на то место, где он об землю стукнул, определил по памяти угол и высоту отскока - все, говорю себе, науке пригодится.
В общем, заснул поздно, проснулся рано. Глянул с койки на стол, а в банке уже золотисто-оранжевый плод вроде мандарина. Черный камешек, откуда все выросло, висит на боку. Ну, думаю, ребята, все! Теперь не терять ни секунды лишней. Вниз, в городок, телеграмма-«молния» на сто слов, и чтобы к вечеру Академия наук СССР в полном составе вся была здесь.
Вскакиваю, неумытый, небритый, поспешно одеваюсь, открываю дверь.
Сразу с крыльца огромная лужа. Дождь лупит холодный, будто не июль, а октябрь. Скинул ботинки, засучил брюки, пальцы сводит в воде. Шагаю к Иште, впереди какой-то рев. Подошел - нету моей веселой речушки. Десятиметровой ширины мутный поток крутит водовороты между гранитными надолбами. И подумать страшно, чтобы туда соваться. Постоял, зубы выбивают дробь, положение до невозможности дурацкое. У меня новость, важнейшая, пожалуй, из всех, что получали люди за тысячелетия своей истории, а сделать ничего нельзя. И почему?… Потому что, видите ли, взбунтовалась природа. А между тем куда ей, природе, теперь до человека-то?!
Возвращаюсь, плод еще распух, осколок камня уже отвалился. Осторожно вынимаю зародыша из банки. Поворачиваю так и этак, осматриваю, осторожно ощупываю. Он тяжеленький, с поверхности мягкий, слегка пористый. Кладу на стол, сажусь его рисовать. А он меняется почти на глазах - пока один набросок кончаешь, надо следующий начинать. Постепенно вытягивается.
К вечеру передо мной не мандарин, а что-то вроде булки или очень толстого червя. С одного конца возникает что-то вроде неглубокого разреза - как раз там, где розовая полосочка. Ротовое отверстие?…
Положил рядом кусочек засохшего хлеба, червь как будто слегка вздрогнул.
И тут, знаете, сердце сжимает какая-то тревога. В уме все еще называю это существо зародышем, но теперь начинаю сознавать, что у меня ведь и представления нет, что (или кто) из него должно развиваться.
Закусил в задумчивости губу, поднялся, подхожу к двери. Долина вся скрыта, мрак начинается от порога, только капельки воды, падая, отражают свет лампы. Непроницаемость ночи шуршала дождем. И вдруг я говорю себе, что червяка можно в крайнем случае раздавить, затоптать ногами, растереть. И сразу спохватываюсь. Почему? Зачем? Идиотизм же полный! Разве поняли бы меня? Разве простили бы когда-нибудь? Да ведь если б никому о нем не рассказал бы, все равно целую жизнь носил бы в себе страшный упрек. И наконец, по какой такой причине его уничтожать, чем он грозит?
Остыл несколько на сквознячке, успокоился, затворил дверь. Но дотронуться до червя уже не решаюсь. Взял алюминиевую миску, спихнул его туда куском картона, отнес во вторую комнату. Лег, руки за голову, не могу заснуть, пялюсь в темноту. Часа в два ночи за стеной вдруг: «Шлеп… шлеп!» Кто-то мягкий прыгает.
Поднимаюсь, зажег лампу, заглядываю. С полу на меня смотрит лягушка или жаба, но размером в добрую собаку. Какая-то недоформированная. Задние ноги вроде есть, вместо передних неопределенные выросты. Пасть приоткрыта, под ней шея дрожит мелким частым дыханием.
Покачал головой, ватными руками закрыл дверь, задвинул засов. Накапал корвалола, кое-как успокоился. Так под это шлепанье и заснул.
С рассветом в окне бегут по небу клочья белого тумана. Ветер. Подхожу к двери во вторую комнату, прислушиваюсь, осторожно открываю. В комнате никого. Только миска пустая сиротливо на полу. Делаю шаг вперед, на уровне моей головы кто-то рядом шевельнулся. Скашиваю глаза. В упор смотрит морда вроде крысиной. И принадлежит она животному величиной с рысь, которое вцепилось когтями в неровности стены. Совсем близко черные усы, белые клыки, розовая губа. Взгляд выразительный - строгий и с подозрением.
Не знаю даже, как меня вынесло вон. Просто вижу, что стою на поляне у сторожки посреди лужи.
Но существо это меня не преследовало. В задней комнате тяжелые прыжки. Определяю по слуху, что зверь удалился к окну. Потом тишина. Набрался смелости, шаг за шагом вернулся в дом, рывком захлопнул дверь.
В дальнейшем день как-то промелькнул. Входить во вторую комнату больше не решался, заглядывал снаружи через решетку. После обеда вынес стул, чтобы получить больший обзор, поставил снаружи у окна, забираюсь. В плохо освещенном углу какая-то борьба. Пригляделся, еле на ногах устоял. Существо еще увеличилось, но теперь оно как бы не в единственном числе. Мелькают почти человеческие руки, не две, а четыре, которые сцепились в схватке, стараясь оттолкнуть одно от другого два тела с общей единственной головой и общей же парой конечностей. Эта попытка расщепиться требует, видимо, огромных усилий, потому что мышцы всех рук напряжены, и сооружение целиком ездит по полу рывками.
Впечатление, будто пришелец собрался размножиться, причем самым примитивным способом - делением.
Но, по всей вероятности, эксперимент был признан неудачным. Когда через несколько часов, набравшись мужества, я опять влез на стул, инопланетник был в комнате один. Но зато он уверенно продвинулся вверх по эволюционной лестнице.
Тучи как раз разредились, открыли закатное солнце. Освещенная его лучом, у стены сидела на корточках большая обезьяна. Широкоплечая, длиннорукая, жилистая. С непропорционально высоким лбом, со злыми, глубоко посаженными глазками.
Посмотрел я на нее, посмотрел, этак не торопясь слез со стула, вошел в дом, надел плащ, сунул в карман туристский компас, хватил полстакана коньяку. Ясно было, что период благодушия, цветов и оркестров кончился. Дело стало серьезным. Не удастся, думаю, через реку, пойду прямо в горы, авось наткнусь на овечью отару с пастухами, как-нибудь от них буду связываться с цивилизацией. На моих глазах гость из космоса от первоначальной клетки-комочка дорос едва ли не до высшего звена в цепи живого на Земле - сорок восемь часов на ту эволюцию, которая от земной жизни потребовала четыре миллиарда лет. При таких темпах куда он может вызреть еще через сутки? И что вообще там дальше по развитию за человеком?
Спускаюсь к Иште. Она уже не ревет. Обрадовался. Однако напрасно, потому что река попросту затопила самые высокие камни, похоронив шум в глубине. У самого берега течение и то быстрое, а уж в середине вода несется отдельными нервными полосами, которые то расширяются, то сужаются или гнут вбок, потесняя одна другую. Тут и бульдозер снесет, поволочет, не то что человека. На всякий случай вынул ногу из ботинка, попробовал воду - ледяная!
Ладно, что делать - начинаю подниматься вдоль Ишты. Озноб бьет все сильнее. Видимо, на первоначальную простуду наложились прогулки по холодным лужам. Вхожу в лес. Темно. Вынимаю компас, намечаю себе строгий юг, как, собственно, и положение долины подсказывает. Однако прямой путь поминутно перегораживается зарослью, упавшим деревом, каким-нибудь оврагом. И когда проверяешь светящуюся стрелочку, она обязательно смотрит не по направлению твоего хода. Попробовал вовсе не убирать компас, но если держать циферблат у самого носа, не видишь у себя под ногами, спотыкаешься, падаешь. Ветки колют, непривычные к мраку глаза отказываются предупредить о том, что камень впереди, пень. Поневоле думаю, как избаловал нас всех городской комфорт, в объятиях которого житель удобной квартиры даже на пять секунд, чтобы налить на кухне стакан воды, зажигает ослепительную стосвечовую лампочку.
Окончательно замучился с компасом, но между стволами просвечивает явившийся из туч, побледневший и никак не соглашающийся убраться диск солнца. Ориентир! Ладно, говорю себе, какая разница - буду идти точно на запад. Мне ведь не направление важно, а чтобы двигаться по прямой, не плутать, кругов не делать. Компас в карман, продираюсь сквозь густой кустарник. То вверх, то вниз. Однако прошло с полчаса, как впоролся в этот лесок, солнце же за ветвями не только не садится, а будто опять поднимается. У меня сердце сжалось - с ума, думаю, схожу. Выбрался на каменную осыпь - мать дорогая, это и не солнце вовсе, а луна!
Теперь непонятно даже, в какой стороне остались долина со сторожкой. Тучи, луна скрылась, снова налетает дождь. Дальше трех шагов не видно, бреду наобум, лишь бы не стоять. Не сам выбираю дорогу, а детали местности ведут неизвестно куда. Весь изодрался, побился, в голове кошмар. Представляю себе эту обезьяну. Во что она теперь превращается там, в комнате? Может быть, разделилась на два, может быть, на два десятка чудищ, и они создают странные, ужасные аппараты, готовясь колонизовать нас. Действительно, так беспощадно энергичен заряд развития, с жуткой скоростью протолкнувший зародыша через червя, земноводное к млекопитающему, что на доброе и надеяться трудно. Одна за другой в сознании леденящие картины. Вижу, как смертельный луч исторгается с вершины горы, шарит, оставляя за собой полотнища огня и дыма, вижу облака непонятного газа, накатывающие на столицы государств. Цивилизация гибнет, и последние одиночки, укрывшиеся в канализации, в подвалах, с отчаянием спрашивают себя: кто же был тот мерзавец, последний идиот, который имел возможность, но не пресек в самом начале надвинувшийся на планету кошмар? Почему он не спалил в печке ужасного посланца, пока тот был еще комочком, червяком?… А с другой стороны, как спалить? Вдруг это все-таки не десант, а мирная, дружеская делегация, от которой последуют бог знает какие технические блага?
А затем новые мысли. Куда я иду, грязный, оборванный, с воспаленным взглядом и коньячным запахом? Был бы сам дежурным в исполкоме, в милиции, разве поверил бы в пришельца? Наверняка отправил бы проспаться, а то и запер бы до утра, чтобы человек в себя пришел. Это одно. И во-вторых, какое же я имею право общаться с людьми при том, что весь наверняка в микробах и вирусах иного мира? Ведь насчет Луны наши исследования, советские, уже доказали, что жизни там нет и не пахнет. Но все равно американцев, которые там высаживались, сколько потом выдерживали в карантине. А я-то общался, в руки брал, чуть ли не на вкус пробовал, пока зародыш еще совсем маленьким был.
Короче, как стоял, так и повернулся на сто восемьдесят градусов.
Назад!
Сам должен все решить. Либо поджечь пришельца и сгореть вместе с ним, чтобы заразы не было, либо… не знаю что.
И при этом представления даже не имею, где Ишта, какое конкретное направление мое назад означает.
Снова лес. Но другой, высокий. Сосны и ели. Прошлогодняя хвоя слежалась между корнями в плотные, гулкие, затейливо вырезанные ковры. Оскользаюсь на них, падаю, кровь стучит в висках. И чувство, будто в чем-то страшном виноват - не тем, что вот сейчас выпускаю пришельца, а всей своей жизнью, потому что таков, какой я есть, не мог не упустить.
Часов пять уже плутаю, начинает светать. Лес кончился, тащусь куда-то на подъем. Пригорки, кустарники, высокая трава - то, что прежде так приятно пролетало за стеклом автомобиля, - обретают теперь зловещую самостоятельность, держат, оборачиваются враждой и сопротивлением. Впереди каменный гребень, лезу, дыхание оборвало. Взобрался, стою шатаясь. Передо мной провал. Там, внизу, посреди поля, что-то темное с тусклым пятнышком желтоватого света посерединке. Не сразу сообразил, что это окно сторожки, где в первой комнате горит так и не погашенная мною керосиновая лампа.
Сел, упал, трясущимися пальцами вынул из пачки папиросу.
Что делать, как поступать? Ответственность Александра Македонского за час до битвы у Граники, колебания Наполеона перед полем Ватерлоо ничто в сравнении.
Ничего не выдумал. Спускаюсь. Небо быстро светлеет, а с ним и вся долина. Возле сторожки все пока спокойно. Вошел, тихонечко взял со стены туристский топорик с черной ручкой, подкрадываюсь к двери. Оттуда легкий звук, будто материю чистят мягкой щеткой. Ну, спрашиваю себя, кого же сейчас увижу - уэллсовского марсианина с щупальцами или гения добра с сиянием вокруг макушки?
Откидываю засов, удар ногой в нижнюю филенку. Мгновенно оглядываю комнату.
Ни страшилища, ни гения!
В углу возле окна стоит голый мужик. Плотного сложения, с чуть кривоватыми ногами. Очень обыкновенный, каких в бане навалом. Он не оборачивается на грохнувшую дверь, а усиленно растирает ладонями грудь, глядя прямо перед собой.
Прислоняюсь к косяку. Топорик падает из руки. Откашливаюсь, хочу к нему обратиться, но в горле какой-то писк. Да и на ум ничего не приходит. Муторно. Чувствую, внутри бушует высокая температура.
Человек трет грудь, смотрит на нее, склонив голову набок, опускается на корточки, привалившись спиной к штукатурке стены, принимается растирать бедро. Все так, будто, кроме него, в помещении людей нет. Поведение настолько нелепое, что на миг оно вытесняет из моего сознания чудовищную невероятность самого присутствия в сторожке этого субъекта.
Еще раз откашливаюсь. На этот раз удается пролепетать, что вот, значит, я есть представитель земной цивилизации и рад видеть гостя из какой-то другой. В общем, что-то вроде «Здравствуйте, как доехали?». Но инопланетник занят своим делом, на меня ноль внимания. Ну, думаю, видал я пришельцев, но чтобы так… Делаю несколько нетвердых шагов к нему, замечаю, что кожа на груди мужчины отслаивается полупрозрачной пленочкой. Подхожу еще ближе. На бедре в том месте, где он трет, как бы из глубины появляется белое пятнышко, расплывается, постепенно превращаясь в бледный прямоугольник.
Перевожу взгляд ниже, на лбу моем выступает пот. Инопланетник ни бос, ни обут, а наполовину. Пальцы ног срослись в одно, формируя носок полуботинка и планочки с дырками, куда продеваются шнурки. Но все это желтовато-розовое, как бы выдавленное в коже, все состоит из той же плоти, что и тело. На подошве намечен начавший образовываться рант, на пятке - каблук, который с одного боку потемнел, уже напоминая настоящий. Как если б, одним словом, обувь выращивалась тут же из организма.
В глазах у меня все белеет, краснеет, затем возвращается в нормальное состояние.
Гость между тем кончил тереть, принимается очень осторожно сдирать с бедра повыше колена тоненький прямоугольный участок кожи, теперь уже совсем побелевшей и покрывшейся какими-то точечками. Я наклоняюсь и вижу, что это… справка с места жительства. Форменная справка на типографском бланке с подписью и круглой печатью!
Фамилии не разобрать, но документ точно такой же, как я недавно получал у себя в Москве на улице Усиевича в жилкооперативе «Драматург». А под справкой опять нормальная кожа.
Комната еще раз покраснела. Вздыхаю и, к удивлению своему, убеждаюсь, что потолок ушел вбок, а я стою на горизонтальной стене, прижавшись щекой к полу, который принял теперь вертикальное положение. Пытаюсь оторваться от грязных шершавых досок, не позволяет какая-то прижимающая, давящая сила. Запаниковал, вскрикнул, а потом соображаю, что вовсе не на ногах стою, а лежу. Видимо, грохнулся в обморок. И прижимает меня не что-нибудь, а сила тяжести.
После того как понял это, в помещении все расставилось по местам.
Свет уже не утренний, а далеко за полдень - значит, провалялся без сознания несколько часов.
Смотрю, пришелец нагнулся, рассматривает полностью созревшие на ногах черные полуботинки. Скинул один, снял второй - под ними обыкновенные босые ступни. Быстро оглядел ботинки со всех сторон, ставит их прямо на мой этюд «Березка». Присаживается на корточки, начинает разглядывать темное пятно у себя на животе, трет его.
Чувствую себя отвратительно, во рту медный вкус, дыхание порывистое. Тем не менее кое-как поднимаюсь, подхожу к инопланетнику. Этюд у меня, правда, написан на лаке и уже высох, но все равно весьма неприятно. Снимаю полуботинки с этюда, один ставлю на пол, другой рассматриваю. Ростовский обувной комбинат, сорок второй размер, цена двадцать семь рублей, внутренняя отделка из свиной кожи, верх телячий. Сам носил такую модель и могу поручиться, что даже товароведа-браковщика тут ничего не озадачило бы. Полуботинок, кстати, выращен не совершенно новым, а слегка ношенным. Черт знает что, одним словом!
Не зная, что и думать, растерянно роняю странную вещь. Гость из небесной бездны упорно продолжает меня не замечать. Не вставая, он дотягивается, берет оба ботинка, кладет опять на этюд.
Я опять снимаю их с «Березки», кладу в сторону. Посланец звезд, вставши на этот раз, возвращает их на место. Причем ни раздражения, ни досады - все так, будто не живой человек нарушает порядок рядом с ним, а бездумная природа, ветер, например.
Но теперь я уже обозлен. Беру ботинки, швыряю в дальний угол. Вестник вселенной, бросив, впрочем, на меня косой взгляд, поднимается, шествует за своим имуществом, ладонью аккуратно оттирает следы штукатурки с кожи, ставит обувь, где она раньше была.
Все до такой степени бытово, все так лишено торжественности, которая соответствовала бы моменту исторической встречи, что прямо оторопь берет. Но так или иначе, продолжать соревнование мне уже не по силам. Махнул рукой, вышел, стукнувшись о косяк, в свою комнату. Меня то жаром охватывает, то бросает в холод. На подоконнике зеркальце. Взял - язык обложен, вокруг носа и губ красноватая сыпь. К счастью, вспомнил, что захватил с собой в запас прозрачный листок с таблеточками олететрина. Отщипнул три штуки, проглатываю.
Сел на койку.
От соседа все время доносится шлепанье босых ног по полу и звук растирания. В проеме двери мелькает то и дело его белая фигура. За каких-нибудь полчаса он отрастил на ступнях безразмерные синие носочки, на корпусе - хлопчатобумажную майку и зеленые шерстяные трусики. Все, что возникает на нем, он сразу же снимает, кладет на мои этюды, на хворост, либо вешает на один из заржавленных гвоздей в стене и без перерыва принимается за что-нибудь новое. Бурое пятно на животе оказалось корочкой паспорта (старого образца, до обмена). Этот документ пришелец выращивал постепенно, отделяя листок за листочком, которые, скрепленные у корешка, так и болтались до времени возле пупа.
Но досмотреть процесс до конца я уже не мог. Силы исчерпаны, сваливаюсь на постель в тяжелом, прерывистом, горячечном сне.
Так вот, представьте себе, началось наше совместное житье, длившееся не более восьми дней. За этот срок, ни на минуту не покидая комнаты, ничем не питаясь, представитель чуждого разума взрастил из собственной плоти все необходимое, чтобы на среднем бытовом уровне скромно включиться в земную жизнь, и, во-вторых, духовно подготовил себя к тому же самому. Это трудно поддается объяснению, но по собственному почину он ни разу не прореагировал на мое присутствие в домике. При нем я опасно заболел, при нем чуть не умер, но этот тип даже взглядом на меня не повел, не подал стакана воды. А между тем у него вполне хватало внимания на все другое. Глаза даже вечером и ночью отлично видели нужный гвоздь на стене, руки прекрасно справлялись со всем тем, что ему было необходимо. В этой связи мне приходит в голову, что со стороны писателей-фантастов и ученых ошибочно сводить внеземной разум только к четырем обязательным категориям: выше нашего, ниже, враждебный или дружественный. Он, увы, может оказаться просто хамским разумом!
Но об этом я думал позже. В момент первого шока не до того было. Как выяснилось, я перенес тогда жестокое воспаление легких, какой-то период находился между жизнью и смертью, поэтому все происходившее осталось в памяти только отрывками. Пожалуй, некоторую (но небольшую) часть того, что я видел, можно отнести на счет галлюцинаций. Не уверен, например, что на самом деле пришелец выдавил себе в рот тюбик кобальта зеленого и позеленел, скорее я сам до конца использовал этот наиболее предпочитаемый в моей тогдашней творческой палитре оттенок. Сомневаюсь также, что гость небесных глубин действительно вырастил из себя проигрыватель «Аккорд», пластинку с концертом Эдиты Пьехи, с удовольствием прослушал знаменитую певицу и затем врастил все обратно, растворив в организме. Сомневаюсь. Тут какая-то странность. Почему именно Пьеха, а не Синявская, скажем, исполнительница никак не меньшего дарования и женской прелести?… Правда, о вкусах не спорят. Что твердо, так это инопланетник, окончивший биологическую эволюцию, совершил в течение недели столь же скорую социальную. И речь тут идет об овладении речью.
Гость «заговорил» утром второго дня, как я вернулся в сторожку. Сначала то были прокашливания и продувания, какие делает оперный бас перед выходом на сцену, рычание, опробование всего голосового аппарата. Затем несколько часов от него доносились «а», «о», «у», взрывные согласные, смычные и прочие. К вечеру он произносил уже комплексы звуков вроде «дыр», «бул», «шел», потом пошли сочетания двух-трех комплексов, то есть почти слова, но бессмысленные, а ночью уже складывал из этих наборов целые предложения. В первые же сутки мною было замечено, что пришелец никогда не отдыхает, либо шагает из угла в угол, растирая себя, либо сдирает со своего тела новые предметы туалета и всяческие бумаги. Теперь к хождению прибавилось бормотание. Когда ни проснешься, засветло или в темноте, все та же непрекращающаяся речь. Иногда это вполне можно было посчитать за русский язык, потому что тонировка вскоре сделалась нашей, и невпопад стали проскальзывать русские слова. Я несколько раз напрягался, пытаясь разобрать, что именно высказано, и потом спохватывался.
Но на третий день из комнаты вдруг отчетливо прозвучало: «Не подскажете, сколько времени?»
Я в этот момент как раз дотащился к ведру с водой, чтобы запить лекарство, от неожиданности уронил свою таблетку. Очень обрадовался и заторопился к пришельцу в его комнату.
Однако голый человек, глядя не на меня, а прямо перед собой в стену, сказал совсем неожиданное: «Сама уступи. Подумаешь! Сейчас все инвалиды».
Затем бессистемный набор слов и опять связная фраза, но совсем другим тоном: «Прошу вас молчать, когда вы со мной разговариваете!»
Видимо, это было овладение риторикой различных слоев общества. С этого времени инопланетник стал говорить осмысленными предложениями, которые, однако, не были связаны между собой. Голос звездного гостя сначала звучал как-то сухо, металлизированно, словно запись на некачественной ленте, но постепенно обрастал фиоритурами, делался естественней. Час от часу губы пришельца двигались быстрее - он начал примерно с десятка слов в минуту и довел их количество до четырех-пяти сотен и больше, так что это превратилось в жужжание, затем в гудение, потом в свист, негромкий, правда. Я притерпелся к этому звуку, как привыкают к неисправному холодильнику. Так было опять-таки суток трое, а может быть, и четверо, не помню.
И вдруг гость выключился. Напрочь умолк. Вероятнее всего умолк потому, что выучился произносить все слова и комбинации слов, которые считал необходимыми для благополучного функционирования в нашей земной действительности.
Во всяком случае, я сплю, и вдруг внезапная тишина. Это меня пробуждает. Обеспокоенный, встаю, держась за стенку, иду к пришельцу. И вижу, что он разлегся на полу врастяжку. В первый раз за все это время отдыхает. А по стенам гвозди все до единого заняты вещами, на моем эскизе «Березка» полуботинки, на другом - синие кеды и под окном две аккуратные стопочки. Это документы и деньги - главным образом помятые рубли и пятерки. Трудно поверить, что вся эта масса материи, включая самого человека, возникла, развилась из крохотной мягкой выпуклости на черном камешке. Однако факт, как говорится, налицо.
Осматриваю, что же он из себя понавыращивал, замечаю, что некоторые предметы туалета повешены еще не вполне готовыми. Так, скажем, пуговицы на паре модных польских джинсов - знаете, недорогие, рябенькие - еще не опластиковались до конца, сохраняют тельный оттенок. А постромки парусинового вещмешка пока откровенно из человеческой кожи - со светлыми волосками и порами.
Автоматически снимаю мешок с гвоздя. Инопланетник приподнялся, провожает его (вещмешок, но не меня) взглядом. Выхожу из дома на дождь, закидываю жутковатое изделие подальше в лужу. Все как-то импульсивно, без мыслей.
Возвращаюсь в комнату. Посланец небесной бездны сидит на полу и энергично растирает себе спину над лопатками - собрался вырастить другой мешок взамен. И ни слова упрека, ни жеста в мою сторону. Как будто я такое существо, на которое не стоит тратить никаких эмоций, в том числе и гнева.
Затем неожиданно, глядя в сторону: «Молодой художник тонко чувствует красоту родной природы».
Не знаю, возможно, это болезнь, но скорее всего критической массы достигла у меня оскорбленность его хамским поведением. В мозгу что-то соскочило, кровь вскипает, хватаю топорик, благо он тут же валяется, бросаюсь на пришельца. Тот проворно вскакивает, протягивает мускулистые руки. У меня неизвестно откуда взявшаяся сила, наношу удар, метясь в голову. Не выходит - лезвие с хрустом вонзилось в плечо. Через миг топорик вырван из моей руки, отброшен. Но я и сам теперь в ужасе. Обмяк, разинул рот.
Понимаете, удар развалил плечо чуть ли не надвое, но рана не заполнилась кровью. Вообще ничем не заполнилась, и срез не красный, а тот же канифольный, желто-коричнево-охряной, что и первичный комочек. При этом вестник вселенной не чувствует ни боли, ни страха. Выпятив челюсть, он брезгливо смотрит на разваленное плечо, сжимает это место пальцами, отчего края раны склеиваются. Садится на пол, по-азиатски скрестив ноги, закидывает руку назад, придерживая локоть другой рукой, и снова трет спину.
После этого мы были вместе еще день, ночь и второй день - полтора суток, самые тяжелые в течение моей болезни. Кашель раздирает, царапает грудь и горло, легкие чем-то забиты, не берут воздуха, не успеваю отдышаться за редкие перерывы между приступами. В какой-то миг подумал, что умираю, и даже обрадовался - конец ответственности! Но сердце оправилось, и я устыдился.
Именно на этот период падают галлюцинации, и тогда же я два раза бросался на инопланетника с намерением его задушить. Будучи неизмеримо сильнее, он, конечно, без труда отбивал мои атаки, но никогда не отвечал ударом на удар. И дверь в его комнату постоянно оставалась открытой.
Смутно помню последние часы пребывания звездного человека в сторожке. Кажется, именно тогда, заметно торопясь, он вырастил из себя зеркальце и зубную щетку.
Самый момент ухода я пропустил. Могу только сказать, что в полузабытье услышал над собой два спорящих голоса. Один собеседник требовал от второго, чтобы тот побыл в доме со мной до вечера. Другой, как будто бы пришелец, угрюмо отнекивался, ссылаясь на то, что «производство ждать не может». После этого у меня провал, а придя в себя, вижу возле койки скульптора из Алма-Аты и еще одного мужчину, который оказывается врачом. Запах спирта, укол, потом они усаживают меня на двуколочку, долгим кружным путем везут в город.
И уже там, когда я на больничной постели, скульптор рассказывает, что, не получая обещанной открытки, решил проведать меня и нашел в таком вот состоянии. По его словам, в сторожке в тот момент был случайный путник, турист в польских джинсах, который в результате долгих уговоров дал-таки слово побыть со мной, больным, пока скульптор привезет врача. Но обманул, ушел, бросил. Алма-атинский маэстро возмущен, клянется разыскать незнакомца в столице Казахстана, публично дать пощечину, осрамить. Потом понемногу успокаивается и лишь повторяет: «Это ж не человек! Разве настоящий человек так сделает?» Я-то знаю, человек этот «турист» или нет. Но при моих попытках объяснить, как все было, врач начинает переглядываться со скульптором, сует мне успокоительное и заверяет, что все образуется. Прошу принести вещмешок, который хозяйственный маэстро не забыл выудить из лужи. Однако за прошедшие двое суток заплечные лямки там вполне дозрели и ничем не отличаются от настоящих…
«Куда ушел?» Да просто жить!.. Нет, именно не завоевывать Землю, не колонизовать, не переделывать на какой-то другой лад, а как раз устроиться наилучшим образом и благоденствовать, отдавая поменьше, получая побольше.
Насколько я теперь понимаю, где-то в безднах космоса плывет планета-кукушка. Не будучи в силах прокормить рождаемое ею живое вещество, она рассылает его в пространство запечатанным в камне. Эти комочки наделены поразительной способностью: попадая после долгого путешествия в тот или иной мир, они умеют мгновенно собрать информацию, какой вид является здесь наиболее преуспевающим. На Земле это человек, и поэтому мой сосед остановился именно на стадии человека. На Марсе, будь там жизнь, зародыш с планеты-кукушки обернулся бы марсианином, однако не просто, а марсианским вельможей, марсианским заведующим продскладом, директором торговой базы. Приходится также думать, что, когда посланец странной планеты формируется и вызревает у нас, допустим, на Земле, он ухитряется заменить собой кого-нибудь из землян точно так же, как птенец-кукушонок заменяет собой потомка сойки, например, выталкивая его из гнезда и из жизни. Было бы очень сложно для этих путешественников совсем заново внедряться в земную действительность, создавая себе вымышленную биографию, организуя людей, которые будто бы их прежде знали. Скорее всего такой субъект непостижимым для нас способом нащупывает в окружающем пространстве уже не худо устроенную личность, каким-то внутренним взрывом незаметно уничтожает ее, распыляя на атомы, и спокойно встает на ее место со всеми вытекающими последствиями. Поскольку я во всем этом разобрался, для меня «Феномен X», например, вовсе не загадка, как для всей академии. Конечно, это пришелец, причем совсем свежий…
«Никогда не обнаруживали при вскрытии…» Да, не обнаруживали. Но, во-первых, посмертные вскрытия практикуются лишь последнее столетие. А что касается несчастных случаев, войн, то пришельцы как раз умудряются не попадать туда, где опасно и трудно. В средние века солдатами они не нанимались, и сейчас их среди летчиков-испытателей не встретишь, учителями шестых классов в среднюю школу они не идут. Но главное даже не в этом, а в том, что с течением времени у них развиваются внутренние органы, как у нормальных людей. Тот чужак, который внедрился в Шуркина, видимо, попал на флюорографию очень скоро после того, как заменил собой прежнего, настоящего коммерческого директора. Уверен, через годик у него легкие будут на месте, сердце, позвоночник и все другое. Не исключено, что и сам он постепенно станет порядочнее. Есть же масса примеров, когда в старости раскаиваются самые закоренелые преступники. Ну и среда, конечно, может действовать, воспитывать человеческие качества. Мне это хорошо известно, потому что сам из пришельцев…
Да нет, вы не надо, не пожимайте так плечами… Да я же вижу!.. Ну вот, я и хочу рассказать. Понимаете, тогда, после всей эпопеи в сторожке, выписывают из больницы. Отвезли меня скульптор с врачом на аэродром, попрощался, обнялись, сажусь в самолет. И плохо на душе. Тоска, уныние, боль. Тревожусь, не навредит ли нам этот «турист». Вспоминаю, каким сам оказался беззаботным в создавшейся ситуации, нерешительным, неприспособленным, другой на моем месте поездку в Алма-Ату не откладывал бы на день, не дожидался, пока зародыш в целую обезьяну вырастет, в горы пошел бы не ночью, а раньше, не плутал бы там, спутав солнце с луной. Одним словом, ругаю себя, и вообще мир стал каким-то зыбким, сдвинутым, все понятия перевернуты. Бесперебойно гудят двигатели Ту, внизу откатываются облака, а мне стыдно самого себя. Кто я такой, для чего живу, за что мне себя уважать? Вот окружила пассажиров комфортом четкая служба «Аэрофлота». Тысячами тружеников, начиная от конструкторов машины, от тех, кто добывает нефть, кончая кассиршей, вручившей мне билет, обеспечивается современное технологическое чудо полета. А я?… Лично я что же людям за это?… Ведь почет, которым пользуюсь, деньги, поездки - все Левитану, собственно, адресовано, преподавателям в институте, которые меня учили. Сам-то ничего еще в мир не внес. Сколько продано картин, и за большие тысячи, а все ремесленное, все по схеме, играючи, легко, без сердца, без усилия, фальшивка.
И, знаете, начинаю бояться разоблачения. Немедленного, вот сейчас, прямо на месте. В соседнем кресле пассажир дремлет, до меня ему никакого дела, а я жду, что поднимется сей момент и влепит пощечину. Стюардесса идет с подносом, а я думаю, возьмет стакан да выплеснет в физиономию. А мне возмутиться даже нельзя, потому что все правильно, потому что как раз так со мной и надо. В общем, охвачен сумасшедшей паникой.
А потом вспоминается одно необъяснимое обстоятельство. Лет семь назад было. Лежим с женой утром в постели, про сынишку, про родственников говорим. И вдруг она мне: «У тебя сердце совсем не бьется!» Как так? Руку на грудь, действительно глухо. А чувствую себя отлично. Зарядка с гантелями, дважды в неделю в бассейн, и вообще на мне пахать. Однако Лена моя в страхе. Давай, мол, поднимемся наверх. А там в квартире врачи живут, так, полузнакомые - затопили нас однажды, вот и разговорились. Поднимаемся, позвонили. Она на работу торопится, он диссертацию подклеивает - стол весь в бумагах. Тем не менее достает свою трубочку. Лицо недоуменное, пытается нащупать пульс: «Давно это у вас?… Болей нет?… Одышки нет?… Повернитесь так… Присядьте… Привстаньте». Поднимает плечи, разводит руки. Феномен исключительный, небезынтересно для науки. Очень хотел бы заняться лично сам, но днями защита. Не соглашусь ли походить пока так, не обращаясь в другое место? И тут, кстати, у меня выгодная работа, связанная с командировкой. Вернулся. Нашему врачу защиту отложили, вычерчивает дополнительные графики. Жена просто насильно в поликлинику! А там запись, там очередь. Эпидемия гриппа - еще в коридоре суют под мышку градусник. Терапевт сидит замученный, не поднимает головы, только в карточку пишет. «Температуру мерили?… Слабость есть?… Боли в пояснице?» Отвечаю, что температура нормальная, но вот сердце не бьется, пульса нет. «Сердце, говорите, не бьется? Вам тогда в похоронное бюро. А мне голову не морочьте. У меня еще двадцать человек на прием и пятнадцать вызовов… Следующий!» В общем, побольше года я тогда проволынил, а после начался слабенький стук в груди.
Вспоминаю этот эпизод, двигатели звенят, и меня осеняет - черт возьми, а не подмененный ли я-то?! Действительно, ведь как сердце исчезло, и страдать перестал, что халтурю. Читать вдруг скучно сделалось. Консерваторию с женой совсем забросили. От нее только и слышишь: «Я на эту шубу больше смотреть не могу!» И сразу с ней соглашаюсь. Встречаться со старыми, еще студенческой поры друзьями перестал - только деловые, «нужные» связи. На выставке как-то наскочил на прежнюю компанию: «Тебя, Вася, как подменили».
Размышляю дальше и обнаруживаю, что без шуток вся моя деятельность - какая-то хватательная поспешность. Гоняюсь за изобилием роскошных вещей, дорогих услуг, и, поскольку постоянно открываются новые возможности, насытиться невозможно. Я на свою «Волгу» чешские фары поставил, а знакомый едет на три месяца в Сомали. Идем с женой к соседям похвастать, как в самом лучшем берлинском отеле останавливались, а у тех на стене неведомо откуда взявшаяся коллекция псковских икон. Гонка и гонка, все равно хоть где-то, но отстаешь, поскольку всего охватить нельзя. И при этом же на фоне успехов где-то, далеко спрятанная, гнездится тревога. Вдруг ощущение, что занимаешь не свое место, но так уж получилось, что и сам и окружающие обязались пока этого не замечать. Пока!
От этих мыслей весь мокрый стал. Хочется бежать, переменить что-то, немедленно действовать. А куда побежишь в самолете - восемь тысяч метров над землей?
И в конце концов говорю себе, что есть единственное средство постоянно оставаться удовлетворенным. Это найти себя. Не спешить, не завидовать, а полной мерой осуществлять то, к чему у тебя способность.
Приехал домой, начатую заказную вещь не стал продолжать, договоры расторг, этюды, сделанные в горах, забросил. В мастерской натянул холст на подрамник, сел перед мольбертом. Ну, думаю, только настоящее, заветное, за что меня в институте уважали, будущность прочили. Хвать-похвать, а в душе-то пусто! Когда-то были свежий колорит, свое видение предметов, фантазия. Но растерял. Искать, мучиться отвык, рука сама идет на схему. Пишу, соскребываю, опять начинаю, бился-бился, результатов нет. А уровень жизни уже установленный, высокий. Постепенно пораспродали с Леной люстры, всякие там суперклассные магнитофоны, «Волгу» отогнал в комиссионный. И все-таки хватило мужества признать, что поздно спохватился…
Да, преподавателем. Это ведь у меня осталось - мастерство, ремесленный навык. Из своего прежнего окружения многих, конечно, удивил очень. Но доволен, даже счастлив. Спокойно стало на сердце, ничего не боюсь, за свое дело полностью отвечаю перед кем угодно, на собственном дворе, хоть маленький, но хозяин. Работы хватает. Студию для ребят организовал. Не все мои кружковцы выйдут в художники, но что они лучше от этих занятий делаются, не сомневаюсь. И жена, между прочим, начала писать, Лена. Тоже ведь Суриковский кончала, но при наших прежних деньгах то в магазин за чешским стеклом, то за финской мебелью. А теперь в свободную от хозяйства минуту присядет с кистью, оригинальные такие акварели получаются…
«Вредят?…» Кто, пришельцы?… Да зачем им вредить? Во всяком случае, сознательно вредить нет смысла. Кукушонок же не стремится разрушить гнездо, в котором так удобно устроился. И я не приносил вреда своими опусами, только мешал, загораживал дорогу настоящему. Шуркин тоже небось хочет, чтобы все было хорошо, а не плохо - ведь по его вкусам не разруха нужна, а чтобы в магазинах большой выбор дорогих товаров, в ресторанах изысканные блюда. Короче говоря, инопланетники субъективно не настроены портить что-нибудь на Земле. Но они чужие, холодные. Хоть мой приятель у речки Ишты. По его задаче, я был не нужен, он и смотрел как на пустое место.
Вот равнодушие, чужесть и страшны. Вы разве не замечаете, как распространяются по миру эти безродность, пришельчество?
Взять Запад. Террористы захватывают заложников - дай им миллион и авиалайнер, в противном случае всех перестреляют. Человеческая жизнь, словно разменная фишка, - нажал курок, и никакой достоевщины. Торговцы порнографией наполняют рынок цинизмом, грязью, коммерческие издательства - бросовой, тоже грязной литературой. И все это для денег, для прибыли. А вещи, материальные ценности! Прежде даже в зажиточной семье любую вещь донашивали до конца, в крайнем случае прислуге отдавали, а сейчас огромные массы сырья, неимоверные количества энергии тратятся, чтобы покупатель ежегодно менял костюмы, телевизоры, мебель, автомобили, выбрасывая на свалку все прежнее, почти новенькое. Все так, будто не было у нас предков, не предвидится потомков, которым ведь тоже понадобится мировой ресурс. Все так, будто сегодняшнее поколение последнее…
А у нас! Бывает, важное дело, спешишь в учреждение, а там безразличная рожа инопланетянина. Или недавно в газете возмущенная статья. Помните, главный инженер небольшого завода открыл резервуар отходов и загубил по всей длине целую речушку. Концы у этого инженера что-то не сходились с концами, опасался премию упустить. А между тем на этих берегах когда-то славянские полки стояли против половцев, потом советские войны против фашистов. Сам инженер тоже из этой местности, значит, здесь же его мать и отец встречались первым свиданием, здесь он сам голопузым огольцом плескался с приятелями, ловил уклеек. Все так, а он одним махом превращает речку в черную, грязную канаву. Ясно же, что в действительности не человек, а инопланетник, у которого не было на Земле никакого прошлого.
Или слова… Ну слова, которыми мы все объясняемся. Разве не попадались вам персонажи, чьи слова - только сотрясение воздуха? Верить нельзя, надеяться, что сделает, как сказал, не приходится. Вы удивляетесь, а штука-то в том, что он пришелец. Ему слова русского языка не с детства постепенно приходили в сердце, не жизнью он их постепенно постигал, а просто за какие-то двое суток, как мой знакомец, выучился произносить, не вникая в смысл. Тот же Шуркин наверняка частенько употребляет сочетания «долг перед обществом», «права гражданина» и тому подобные. Но это ведь только звуки, а вовсе не отражение его настоящих интересов… Инопланетники, строго говоря, всегда врут, даже если случайно правда выскочила. Сказал, например, «снег черный». Тут уж явная ложь. Но когда утверждает, что белый, все равно соврал, потому что такое заявление не жаждой истины рождено, а просто говорящий считает, что в данном случае так выгодней.
«Не разрушили земную цивилизацию…» Да, не разрушили. И не могли с ней ничего сделать, потому что раньше и люди и страны были разрознены, технология слабенькая. Произошел казус, он и гаснет, затрагивая лишь маленькую сферу. Но сейчас-то иначе. Все связано со всем. Директор выдал липовую сводку, его перестали прорабатывать. Но на этом же не кончается. По его цифрам другому предприятию спускают план. Оно чего-то недополучает, тоже принимается мудрить, и все катится нарастающим комом.
Вот поэтому и опасно - отдельного ничего не осталось. Дымят заводы в Детройте, производя ненужные лимузины, а копоть поднимается в верхние слои атмосферы, зависает над долиной Ганга, загораживая солнечные лучи, и, пожалуйста, неурожай. Прежнего разбойника одна кобыленка уносила, когда он путника ограбил, а теперь в моторах авиалайнера пятьдесят тысяч лошадиных сил хрипят, роняют пену. И если террористам удастся со складов НАТО украсть атомную бомбу, вполне могут превратить в пепел сразу всю Бельгию или Голландию - им-то что Тиль Уленшпигель, картины Рембрандта, если они пришельцы, если не на Земле родились, а с планеты-кукушки прилетели?…
«Не верится!..» Во что вы не верите?… «Пригрезилось?…» Мне пригрезились и комочек, и выросший из него, человек, потому что я в лихорадке?… Прекрасно! Ну-ка посмотрите наверх! Думаете, зачем я вас именно сюда привел, к университету? Затем, что здесь обзор большой и огромное небо.
Смотрите, смотрите!.. Видали, звездочка с неба сорвалась?… А теперь здесь, прямо над стадионом. Смотрите же!.. Вон еще летит. Правее. Да не туда! Куда вы смотрите, правее!.. Двадцать восьмое июля сегодня, правильно? Мой приятель в сторожке тоже двадцать восьмого июля явился. Вон оттуда они несутся, от созвездия Персея. В эту ночь Земля как раз пересекает их поток. Сейчас должен быть звездный дождь… Видите, видите, начинается! Вот две звездочки пролетели, погасли, вон три… нет, четыре!.. Вот еще одна… две… Как они сверкают на бархате неба!
Ну, скажу вам, насыплется в эту ночь на Землю пришельцев. Конечно, из тех звездочек, что мы видим, почти все сгорают. Но которая до самого горизонта падает, уж будьте уверены. Так и знайте, через неделю, через месяц про кого-нибудь скажут: «Ну просто как подменили! Совсем другой человек стал!..»
«Что с ними делать?» Как что? Мы же не можем обратно в космос отправить, которые нападали. Таких вот шуркиных. Я, собственно, поэтому и преподавать пошел, а не в сувенирный комбинат. Детей надо растить устойчивыми против пришельчества. А если уж подменили, то воспитывать, перевоспитывать. Чем больше на Земле механизмов, машин, тем яснее становится, что главная функция настоящего человека - нравственная. Важно, чтобы он неравнодушным был, заинтересованным, чтобы энтузиазм. Если чего не знает, не умеет, всегда найдется, кому показать. А когда с моралью слабо, он и спрашивать не станет. Сляпал кое-как, а что потом, ему все равно…
Все-таки не верите?… Ну и не надо. Только у меня совет. Допустим, у вас затруднение на производстве, в конторе или вообще в жизни. Предположим, вы стоите перед выбором, так поступить или этак. Вот прежде чем вынести решение, проверьте, не пришелец ли вы.
Положите руку на грудь - бьется ли человеческое сердце?
БАШНЯ I
Итак, я снова на грани безумия. Чем это кончится, я не знаю.
И можно ли так жить человеку, когда чуть ли не через месяц ставится под вопрос сама возможность его существования? Когда моя жизнь буквально через три-четыре недели повисает на тонкой ниточке, и я с замиранием сердца должен следить, не оборвется ли она…
Сегодня я пришел в институт и обратился к Крейцеру, чтобы он дал мне какой-нибудь расчет.
В канцелярии было много народу. Поминутно растворялась дверь - одни входили, другие выходили. В большие окна струился рассеянный свет пасмурного утра и ложился на столы, покрытые прозрачным пластиком, заваленные всевозможными бумагами.
Крейцер долго не отвечал мне. Он сидел за своим столом и рассматривал какие-то списки с таким видом, будто и не слышал моей просьбы. А я стоял, упершись взглядом в воротник его серого в клеточку пиджака, и думал о том, что у меня никогда не было такого красивого и так хорошо сидящего костюма.
Это было долго. Потом Крейцер поднял голову и, глядя в сторону, а не на меня, сказал, что пока ничего подходящего нет и что вообще большинство расчетов передается сейчас просто в Вычислительный центр. После он отложил те бумаги, которые только что читал, и взялся за другие.
И это Крейцер! Крейцер, с которым в студенческие годы мы вместе ночевали в моей комнате и со смехом сталкивали друг друга с дивана на пол! Крейцер, для которого я целиком написал его магистерскую работу…
Он молчал, и я молчал тоже.
Я совершенно не умею уговаривать и, когда мне отказывают, только тупо молчу и потом, подождав, не скажет ли собеседник еще чего-нибудь, удаляюсь, сконфуженно пробормотав извинение. Так бывает и здесь, в институте, и в журнале «Математический вестник».
Но сегодня мне невозможно было уйти ни с чем. Если б я мог говорить, я сказал бы Крейцеру, что не ел уже почти два дня, что мне нечем платить дальше за комнату, что я изнервничался, не сплю ночами и что особенно по утрам меня одолевают мысли о самоубийстве. Что должен же я завершить наконец свою работу, одна лишь первая часть которой значит больше, чем вся жалкая деятельность их института за десятки лет.
Но я не умею говорить, и я молчал. Я стоял у его стола - мрачная, нелепая, деревянно неподвижная фигура.
А люди разговаривали о своих делах, и в большой комнате стоял бодрый деловой шум. Хорошо одетые, сытые, самоуверенные люди, которые всю свою жизнь едят по три или четыре раза в день и которым для того, чтобы жить, не нужно каждый час напрягать свой ум и волю до самых последних пределов.
Некоторые исподтишка бросали на меня взгляды, и каждый из них думал, я знаю, о чем: «Как хорошо, что это не я!»
В канцелярию вошла молодая женщина, выхоленная, в дорогой шубке, и, подойдя к столу Крейцера, спросила, где ей взять гранки статьи, которая идет в «Ученых записках».
Крейцер, отодвинувшись от стола и согнувшись, стал рыться в ящиках, а она вскользь глянула в мою сторону и потом начала рассматривать меня искоса снизу вверх. Сначала она увидела ботинки - мне не на что их починить, потом брюки с мешками на коленках и, наконец, залоснившийся галстук и воротничок рубашки, который так вытерся, что напоминает по краям тычинки в пестике цветка. Затем ее взгляд поднялся еще выше, она посмотрела мне в лицо и… испугалась. Она испугалась и покраснела.
Дело в том, что мы были знакомы. Это дочь декана нашего факультета, и когда-то, лет восемь назад. Крейцер вечером завел меня к ним на чай. Раньше у него была привычка таскать меня по своим знакомым и хвастать моими способностями - меня считали будущим Эйнштейном или кем-нибудь в таком роде. Эта молодая женщина была тогда семнадцатилетней девушкой и в тот вечер во все глаза смотрела на меня, в то время как Крейцер расписывал мои таланты.
Теперь она встретила меня в таком виде и испугалась, что я ее узнаю и поздороваюсь.
Краска медленно заливала ее шею, потом стала подниматься по нежному белому подбородку.
Я понял, о чем она думает, и равнодушно отвел взгляд в сторону. По-моему, она была мне очень благодарна.
Затем и она ушла, и Крейцер наконец соблаговолил снова обратить на меня внимание. Он с неудовольствием осмотрел меня с ног до головы, пошевелил губами и сказал:
- Ну ладно, подожди. Кажется, у меня есть кое-что. Это относительно магнитного поля вокруг контура.
Он поднялся со стула, подошел к несгораемому шкафу, отпер его и достал папку с несколькими листками.
- Вот посмотри. Это нужно запрограммировать для обработки на счетной машине.
Я взял листки, бегло проглядел их и сказал, что это можно было бы сделать, применив метод Монте-Карло. Сам даже не знаю, почему я назвал этот метод. Вероятно, потому, что я не имею права просто выполнять те задания, которые мне дают в институте. Я должен вносить в решения что-то новое, свое. Чем-то компенсировать Крейцеру те неприятности, которые доставляю ему, будучи его знакомым.
- Монте-Карло? - Крейцер наморщил розовый лоб. - Да, понимаю… - Он задумался, потом вяло улыбнулся. (Это улыбка должна была показать научный энтузиазм, которого он в действительности не испытывал.) - Да, это можно сделать. Понимаю. (На самом деле он ничего не понимал и не старался.) Он сел за стол.
- Видишь ли, это чистая случайность. Расчет мы получили от заводов «Акс». Должен был делать один наш сотрудник, но ему пришлось дать отпуск из-за женитьбы. Впрочем, если ты рассчитаешь по-новому, будет даже удачно.
- Он опять задумался, сощурил глаза и кивнул. - Метод Монте-Карло… Понимаю… Это интересно.
Мы договорились о сроке - неделя.
Я уже пошел было к двери, но вдруг он остановил меня:
- Подожди!
- Да.
Он кивком позвал меня.
- Послушай… - Он задумался на миг, как бы сомневаясь, стоит ли вводить меня в эту тему. Потом сказал: - Ты не знаешь, где сейчас Руперт?
- Какой Руперт?
- Ну Руперт. Руперт Тимм, который был с нами на третьем курсе. Способный такой парень. Кажется, он уехал тогда с родителями в Бразилию. Ты не знаешь случайно, не вернулся ли он?
- Не знаю.
- А вообще среди твоих знакомых в городе нет никого, кто занимается теоретической физикой?
- У меня нет знакомых.
Лицо его выразило удивление, потом он кивнул.
- Ну ладно. Все. Значит, через неделю.
И я вышел, унося с собой листки. Мне очень хотелось получить хотя бы десять марок в качестве аванса, хотя бы даже пять. Но я не решился спросить их у Крейцера, а он сам не предложил, прекрасно понимая между тем, в каком я положении. Интересно, что при этом я не сказал бы, что Крейцер жестокий человек. Просто я нахожусь в зависимости от него, и он считает, что меня не надо баловать. Это меня-то!
А между прочим, вопросы о Руперте и о том, не знаю ли я кого-нибудь другого физика-теоретика, я слышал уже второй раз в этом месяце. Меня спрашивал на улице еще один из бывших сокурсников. Но мне не хотелось занимать этим голову.
Я вышел из института, прошел три квартала и, войдя в Гальб-парк, уселся там на скамью. Весна в этом году какая-то неудачная и серая, днем было довольно холодно. Но я привык мерзнуть, и это мне не мешало. В парке не было никого, кроме меня.
Хорошо, сказал я себе. Я сделаю этот расчет и получу возможность существовать еще месяц. Заплатить за квартиру, купить кофе, сыру и сигарет.
А дальше что? Еще через месяц?…
Да и, кроме того, какой ценой я оплачу этот будущий месяц? Ведь мне нужно не просто сделать расчет. В институте уже привыкли, что я постоянно вношу что-то новое в такие работы. Если я рассчитаю по старому методу, как делают все, то Крейцер решит, что я не выполнил работу или выполнил плохо.
Но внести что-нибудь новое означает борьбу, мучительное напряжение мысли, на которое я способен все меньше и меньше после одиннадцати лет каторжной работы над своим открытием. Внести новое - это хождение из угла в угол по комнате, сигареты за сигаретами, крепкий кофе, отчаянная головная боль, бессонные ночи.
И все это лишь за один месяц жизни!
Я сидел на скамье, и вдруг мною овладел приступ отчаяния. Можно ли так жить дальше?
Почему за каждый час бытия с меня спрашивается так много, в то время как другие живут почти даром? Ну трудно ли существование Крейцера, например? Трудно ли быть, скажем, продавцом в магазине - отрезать, взвешивать хлеб и улыбаться покупателям? Или батраком - разбрасывать навоз в поле? Или правительственным чиновником - отдавать распоряжения нижестоящим и сидеть на совещаниях? Все эти люди не создают ничего нового, а лишь манипулируют уже давно апробированными элементами мысли и действия. Им не приходится преодолевать инерцию действительности, они сталкиваются только с легковыполнимыми задачами, с тем, что не требует крайнего напряжения разума и воли. Но отчего же я не такой, как Крейцер, не такой, как другие? Почему я не одет в хороший костюм, почему я не сытый, не самоуверенный? Отчего я чужой в этом городе, где каждый сумел встроиться в общий поток жизни, найти в нем свою ячейку - тесную или просторную - и катит себе день за днем?
Сколько времени я смогу еще выдерживать это балансирование на краю пропасти? И имеет ли смысл выдерживать его дальше?
Таких сильных приступов отчаяния у меня никогда раньше не было. Мне страшно сделалось - чем же это кончится?
Я встал, прошелся по аллее и решил, что сейчас поеду в Хельблау-Вальдвизе и посмотрю на свое пятно. Я чувствовал, что, если мне не удастся тотчас же подтвердить себе, что моя жизнь имеет какой-то смысл, я не выдержу.
У меня в кармане было еще несколько пфеннигов, и прежде предполагалось, что я зайду куда-нибудь в закусочную, съем полпорции сосисок с маленькой булочкой. Но теперь я понимал, что деньги нужны мне на трамвай - доехать до Хельблау-Вальдвизе и увидеть пятно.
Я вышел из парка и медленно, чтобы не расходовать понапрасну силы, добрел до трамвайной остановки.
В вагоне было много народу, тепло, и поэтому, пока мы ехали через центр, я немного согрелся. Потом у вокзала почти все пассажиры вышли. Я сел и стал смотреть в окно.
Когда-то, во времена моего далекого детства, трамвайные поездки были лучшим развлечением для меня и моей матери. Пока мы еще ехали по городу, обычно не в вагоне, а на площадке, мать крепко держала меня за руку, а сама, отвернувшись и почти касаясь лбом стекла, что-то шептала про себя, нахмурив брови и едва шевеля губами. Она была молодая, лет на десять моложе отца, и долго держала на него смутную обиду за то, что он привез ее в наш город из Саксонии, где она родилась и выросла.
В нашем городе ей не понравилось, она не сошлась с женами немногих отцовских приятелей и чем-то напоминала птицу, попавшую не в свою стаю. Часть обиды мать переносила на меня, считая, что я, родившийся уже жителем нашего города, тоже ее противник и союзник отца. Это выражалось в быстрых, искоса сторонних взглядах, в том, что она обычно отмалчивалась при моих детских вопросах и уходила в свой отчужденный шепот. Но, впрочем, я не очень-то замечал это. Все-таки она была моя единственная мать, и мне не с кем было ее сравнивать. А во время трамвайных прогулок так счастливо было припластоваться носом к толстому вагонному стеклу, наблюдать знакомые улицы, на которых по мере движения к окраине сады все шире раздвигали дома, редели прохожие и все синее делалось небо. Трамвай добирался до вокзала, где рельсовый круг проходил уже вплотную к полю колосящейся пшеницы. В опустевшем вагоне кондуктор солидно и важно подсчитывал билеты. Трамвай, заскрежетав, останавливался, все кругом окутывала неожиданная огромная тишина, согретая солнцем, светлая и душистая. Мать, забыв про свои обиды, резкая и быстрая в движениях, радостно подхватывала меня, и мы бежали в поле.
Какие миры рухнули с тех пор, какие пропасти разверзлись!..
В ту эпоху город почти и кончался у вокзала. Дальше шли нивы, перелески, бегущие по холмам, крестьянские дворы с красными крышами, обсаженные ивами пруды, а за Верфелем открывалась светлая долина Рейна с горами на левом лесистом берегу и доминирующим надо всем краем полуразрушенным замком Карлштейн. Одним словом, то были пейзажи, которые можно еще увидеть на гравюрах старинных немецких мастеров вроде Вольфа Грубера или Альтдорфера и даже на акварелях поздних романтиков XIX века. (Если, конечно, не замечать присущей большинству таких акварелей слащавости.) Теперь же местность застроена и удивительным образом в то же время полностью опустошена. В тридцатые годы вдоль линии трамвая наставили прямоугольные железобетонные коробки, где должны были жить рабочие заводов «Геринг-Верке». (Сейчас это «Акс».) Часть не успели достроить, а часть была разрушена во время войны, и они так стоят теперь, поднимая к небу гнутые железные прутья с нанизанными на них бесформенными кусками бетона и вызывая мысли о внутренностях огромных, в клочья разорванных животных.
Бетонные коробки остались наконец позади. Трамвай - новая система - остановился без скрежета.
Отсюда мне нужно было пройти еще около пяти километров лугами к лесу Петервальд. Снег оставался уже только кое-где рыхлыми кучами у канав, он потемнел и изноздрился. Но все равно было еще холодно. Вечерело. Природа вокруг была по-весеннему неприбранной, косматой, сорной, болезненной.
Шлепая по грязи, я добрел до заброшенной мызы, разбитой прямым попаданием бомбы, потом обошел вдоль канавы большое поле картофеля, обрабатывать которое приезжают откуда-то издалека.
Поворачивая к лесу, я случайно обернулся и увидел сзади, шагах в двадцати, небольшого роста мужчину в черном полупальто.
Я сделал вид, будто у меня развязался шнурок на ботинке, и пропустил мужчину вперед.
У него было очень бледное лицо. Проходя мимо, он бросил на меня странный взгляд: испуганный, жалкий, даже почему-то виноватый, однако притом наглый и черпающий силу именно в своей слабости и несопротивляемости, в готовности отказаться от всего и от самого себя в том числе, что-то напоминающее жидкого морского моллюска, который живет лишь благодаря тому, что уступает всякому давлению.
Он повернул на дорогу, ведущую в обход леса к хуторам. Фигура у него тоже была необычная, как бы без костей, резиновая. Казалось, он мог бы согнуться в любом месте.
Я подождал, пока он скроется за поворотом, и потом сам углубился прямо в лес.
В прошлом году я очень точно запомнил место, где создал пятно, и теперь шел уверенно. Свернул с тропинки, затем возле расщепленного молнией вяза сделал поворот на прямой угол и отсчитал пятьдесят шагов густым ольшаником.
Вот она, поляна, и тут у корней дуба должно быть пятно.
Я подошел к дубу, но пятна не было.
Черт возьми! Меня даже в пот бросило. Теоретически пятно должно было оставаться здесь до скончания веков и дальше. Или до момента, когда я найду способ его уничтожить. Но вот прошло пять месяцев, а пятна нет.
Я потоптался на месте, и меня осенило: это же не та поляна. До той я должен отсчитать еще сорок шагов.
Я вышел на другую. Там стоял такой же дуб, а под ним груда хвороста. (Раньше этой груды не было.) Здесь!
Я присел на корточки и принялся лихорадочно раскидывать мокрые ветки. Меня даже стало знобить, и я с трудом удержался, чтобы не застучать зубами.
Но вот черное мелькнуло под ветками. Еще несколько взмахов руками, и оно освободилось со всех сторон.
Ф-ф-фу! Я вздохнул и встал.
Здесь оно и было, мое пятно. То, чем я, умирая, отвечу на вопрос, зачем существовал.
Черное пятно, как огромная капля китайской туши, только не мажущейся, висело в воздухе в полуметре от земли, не опираясь ни на что. Кусок непроницаемой для света черноты. Кусок космической внеземной тьмы, кусок состояния, который я создал сначала на кончике пера в результате одиннадцати лет вычислений и размышлений, а потом воплотил вот здесь.
Тысячелетия пройдут, и, если люди не поймут, как оно сделано, они не смогут ни уничтожить его, ни сдвинуть с места. Дуб сгниет и упадет, почва может опуститься, а пятно все так же будет здесь висеть. Местность может подняться, но и тогда в тверди скалы или в слое каких-нибудь туфов пятно будет спрятано, но не уничтожено.
Я сунул носок ботинка в эту черноту и вынул его. Потом я сел на корточки и протянул к пятну руку. Мне хотелось купать в нем ладони.
И в этот момент я почувствовал, что кто-то наблюдает за мной сзади. Я повернулся и увидел его.
Из-за густого ольшаника нерешительно поднялся мужчина. (Но не тот, не бледный, которого я встретил.) Может быть, я и испугался бы, что меня застали возле пятна, но просто не успел. Меня сразу успокоила нерешительность незнакомца.
Это был коренастый мужчина средних лет, с красным обветренным лицом и такими же красными большими руками, одетый в брезентовую рабочую куртку, испачканную на плече, в ватные брюки и тяжелые грубые ботинки.
Сначала я подумал, что это хозяин одного из хуторов с другой стороны леса, но затем - по какой-то оторопелости и робости на его лице - понял, что он может быть только наемным работником.
Три или четыре секунды мы смотрели друг на друга - я все так же сидя.
Потом он сделал несколько шагов, подошел ко мне и сказал:
- Э-э…
- Здравствуйте, - сказал я.
Он сунул руки в карманы, вынул и потер одна о другую.
- Вы тоже знаете про это? - Он подбородком показал на пятно.
- Знаю, - ответил я. - И вы?
- Я его увидел сегодня утром. - Он подумал. - Сначала испугался, что это у меня в глазах, а потом понял, что оно есть. Это я его завалил хворостом.
Мы помолчали, и он сказал:
- Я ломал ветки для метел. Потом увидел, как вы сюда идете, и пошел за вами.
Очевидно, он считал, что должен объяснить мне, как попал на поляну.
- Да, - кивнул я. - Я видел это пятно осенью. И приехал посмотреть, осталось ли оно еще. Любопытно, правда? - Тут я протянул руки к пятну, намереваясь погрузить в него пальцы. Но мужчина шагнул вперед.
- Не надо! Не трогайте! Вдруг взорвется.
- Да нет, - сказал я. - Оно не взорвется. Вы же сами закидывали его хворостом.
Я снова протянул руку, но он опять остановил меня. На его лице был страх.
- Лучше не трогать. Не надо.
Он не мог понять, что если взрыва не последовало, когда пятно пересекали первые ветви, то ничего не будет и сейчас.
Быстро подходил вечер, начало темнеть.
- Его ничем не сдвинуть, - сказал он. - Видите, висит само.
- Да, - согласился я. - Очень интересно, верно?
Но он покачал головой.
- Не нравится мне это. Лучше бы его не было.
- Почему?
Он беспокойно переступил с ноги на ногу. (От него ощутимо пахло хлевом, и этот запах, соединенный с его нерешительностью, еще раз подтвердил мне, что он батрак на одном из хуторов.)
- Нехорошо это, - вдруг начал он с горечью. Потом сразу запнулся и задумался. - Уж слишком много разных штук.
- Каких штук?
- Ну, атомные бомбы… Водородные. Всякое такое… И вот это пятно. Зачем оно?
- Не знаю, - сказал я и посмотрел на него в упор.
Глаза у него были светлые, голубые и выделялись на красном лице. Некоторое время он выдерживал мой взгляд, потом отвел глаза в сторону.
Опять мы молчали, и это молчание становилось тягостным.
- Ну ладно, - сказал я. - Давайте закидаем его, что ли?
- Давайте.
Вдвоем мы быстро закидали пятно, потом я спросил, куда ему идти. Оказалось, что из леса нам вместе.
Мы пошли тропинкой. У него была неровная походка - он как бы чуть подпрыгивал через шаг. В одном месте он свернул в сторону и тотчас возвратился на тропинку с перекинутыми через плечо двумя большими вязанками прутьев.
- Я работаю у Буцбаха, - сказал он, и снова это прозвучало каким-то извинением. Как будто он пояснял, что взял хворост не для себя, а для Буцбаха.
Несколько минут мы шагали молча, потом он заговорил:
- Нехорошо это. Я весь день о нем думаю. - Вдруг он остановился. - Лучше, пожалуй, уехать отсюда. Как вы думаете?
Он бросил прутья на землю.
- Уехать?
- Уехать. Потому что кто его знает, что оно такое. Раньше этого не было. Я никогда не видел.
Здесь, на выходе из леса, поднялся ветер. Мне стало холодно, и ему, наверное, тоже.
Уже совсем стемнело.
- Уеду. Да! И вам тоже советую. - Он поднял руку и вытер нос. - Нет, точно. Добром это не кончится. Сейчас заберу жену, ребят и поеду. - Он говорил с неожиданной горячностью.
- Но послушайте, - сказал я, - к чему такая спешка? Пока ведь это вам ничем не грозит.
Но он не дал мне договорить.
- Нет-нет. - Он взял хворост на спину. - Вы видите, что это за штука. Висит себе ни на чем. К хорошему это не приведет, я знаю. Всегда начинается с маленького, а потом… У меня же дети. Просто поеду сегодня. Прощайте. - Он кивнул мне и зашагал прочь, но затем вдруг остановился, повернулся и своей прыгающей походкой подошел ко мне.
Он положил мне руку на плечо, и тут я заметил, что на левой у него не хватало двух пальцев, безымянного и мизинца. Он придвинулся ко мне вплотную.
- Послушайте.
- Что?
- Уезжайте, - сказал он тоскливым шепотом. - Уезжайте скорее.
- Но куда? - спросил я. (На миг я даже сам испугался своего пятна и внутренне отделился от него.) - Куда?
- Куда? - Он задумался. - Куда-нибудь… Да, именно куда-нибудь, но только подальше. Чтобы оно не так скоро дошло. Я вам советую. Прощайте.
Он зашагал вдоль леса и быстро исчез в темноте.
Оставшись один, я некоторое время смотрел ему вслед, потом вздохнул и огляделся.
- Проклятье!
Здесь действительно было от чего затосковать.
Черное поле лежало передо мной. Смутно виднелась труба разрушенного дома. Рядом было пусто и темно, но справа вполнеба сиял багровый отсвет заводов «Акс», затмевая звезды, а слева, со стороны военного стрельбища, где испытывали реактивные двигатели, горизонт вспыхивал синевато-белым, и оттуда доносился грохот, будто гиганты ковали на наковальне. Современная цивилизация! Огромный темный пустырь под пологом ночи был похож на марсианский пейзаж либо на адскую лабораторию, на полигон, где готовится гибель для всего человечества. А ведь это та самая местность, которая только тридцать лет назад так напоминала идиллические пейзажи доброго старика Альтдорфера…
Я уже сильно устал, а мне предстояло пройти пять километров по грязи в темноте. И при этом нужно было торопиться, чтобы успеть на трамвай.
Пустившись в дорогу, я брел около полутора часов, ни о чем не думая и придерживая рукой ворот плаща, чтобы не очень задувало в грудь. Потом меня вдруг стукнуло: а ведь этот человек, этот мужчина, был первый, кто познакомился с моим открытием. И что же? Какие чувства это у него вызвало?… Только страх. На первый взгляд это может показаться диким. А если вдуматься?
Чего он, этот батрак, может ожидать от успехов физики - только новых ужасов и новых предательств. Конечно, он испугался черного пятна и хочет, чтоб его дети были подальше от него.
Я остановился, закрыл глаза, и на миг мне представилось, как этот бедняга возвращается сейчас в полусарай, служащий ему жилищем, освещенный единственной тусклой лампочкой без колпака. В сарае холодно и неуютно, дует из щелей, жена и дети лежат на общей постели. Он возвращается и будит их. Жена и белоголовые ребятишки молча смотрят на него и покорно начинают собираться. В таких трудовых семьях, которым приходится бродяжничать в поисках работы, все делается без лишних расспросов и разговоров. Там не капризничают и не обсуждают. Ведь это мне мужчина показался забитым и нерешительным, а для детей он отец, самый сильный, самый умный на земле. Семья укладывает кастрюли, одежду, а потом батрак пойдет и постучится в дом этого самого Буцбаха.
И все это из-за меня…
Кошмарная была ночь. Я брел и брел, шатаясь от усталости, и, конечно же, опоздал на трамвай.
Возле трамвайного круга, в темноте, мне на миг показалось, будто я вижу у будки, где отдыхают кондукторы и вожатые, ту резиновую фигурку в полупальто, что обогнала меня на пути в Петервальде. Сердце пронзило страхом: вдруг кто-нибудь выследил меня и пятно? Я быстро подошел к будке, но за ней никого не было.
Начался дождь. Темнота настороженно и тихо шептала вокруг.
Никого не было, и в то же время что-то подсказывало мне, что я не один в окрестности.
Я постоял около будки минут пять, потом успокоился и пошагал дальше.
Окраина города, уже совсем пустая, дышала холодом, но в центре было светло, оживленно и даже как-то теплее. От голода у меня кружилась голова, я прислонился к прилавку цветочного киоска через дорогу от ресторана, и тут меня снова взяло отчаяние. Пятно не помогло. Этот второй приступ был еще сильнее первого.
И что я такое здесь, в этом городе? Зачем я живу? Как я живу?
Я просто физически чувствовал, как волны отчаяния перекатываются у меня в черепной коробке по мозгу. Я громко застонал и испугался. Неужели я схожу с ума? Все, что было сегодня, вертелось у меня перед глазами: Крейцер, дочь декана, мое пятно, виноватый бездонный взгляд маленького резинового мужчины, красное лицо батрака…
Потом я взял себя в руки. Помотал головой и сжал зубы.
Нет, я должен держаться. Ведь еще не кончен мой труд.
Я должен сохранить способность мозга к работе. Есть все-таки надежда, что мне удастся закончить вторую часть с пятном.
Необходимо бороться. Надо думать о хорошем. В конце концов, я не один. Есть же еще Валантен, мой друг. Ему тоже бывало так трудно.
Я сказал себе, что завтра увижу Валантена. Пойду в галерею и встречусь с ним.
II
Утро.
Лежу грудью на подоконнике и смотрю вниз, в колодец двора. Ночь прошла ужасно, я не заснул ни на мгновение, дважды пытался браться за расчет, полученный у Крейцера, но, конечно, ничего не выходило.
Мне обязательно надо увидеть Валантена. Но к нему можно будет пройти только в одиннадцать. А сейчас всего девять.
Я лежу грудью на подоконнике и смотрю вниз.
Во дворе на асфальте в поле моего зрения вплывает серая шляпа. Это фрау Зедельмайер вышла подышать свежим воздухом и заодно поболтать с женой дворника. Так и есть. Вторая шляпа выплывает из дверей в полуподвал.
О чем они будут говорить?…
Хозяйка давно хочет, чтобы я освободил комнату. Она ненавидит меня затаенной молчаливой ненавистью, которая иногда все-таки прорывается наружу и удивляет меня своей силой и стойкостью. При этом я не могу понять причин ее злобы. Комната занимается мною почти пятнадцать лет, ни разу за этот срок не была просрочена плата, ни разу фрау Зедельмайер не слышала от меня невежливого слова. Может быть, ей не нравится моя бедность? Может быть, она невзлюбила меня за то, что я прежде подавал большие надежды, должен был стать великим ученым и не стал? А возможно, что ее просто раздражает моя замкнутость.
Так или иначе, она хочет теперь избавиться от меня. Я ей надоел. Она меня не понимает и оттого ненавидит. Она ищет случая придраться к чему-нибудь, устроить ссору и потребовать, чтобы я съехал.
Но я-то как раз не могу съехать сейчас. Это была бы катастрофа. Я не могу оставить сейчас эту комнату - у меня есть важнейшие причины.
Я поспешно убираюсь с подоконника. Впрочем, уже половина одиннадцатого. Можно идти к Валантену.
День опять серый. Но чуть светлее вчерашнего. Во дворе по асфальту из-под груды снега черным ремешком бежит вода. Тепло. В скверике на Ринлингенштрассе жидкая земля на аллейках вся истискана детскими следами. Прошлогодняя бурая трава на газонах обнажилась.
У Таможенной башни я вступаю на Бургштрассе, иду до Городских ворот, поворачиваю налево. Я тороплюсь к Валантену. Мне надо скорее увидеть своего друга, француза, который только один и может придать мне бодрости.
В старой части города прохожих мало, но улицы вовсе не безлюдны. Тем не менее я иду и не вижу ни одного лица. Это зависит от особенного взгляда, которому я выучился в результате долгой тренировки. Я умею не видеть.
Я выработал такой взгляд оттого, что не люблю смотреть в лицо людям и, что еще важнее, не хочу встречаться со старыми знакомыми из университета. Все мои бывшие сокурсники теперь на больших должностях, некоторые даже в правительстве. У них автомобили и виллы, они уверены в себе, удачливы и остроумны. А я от длительного одиночества ненаходчив, подолгу думаю, прежде чем ответить на самый простой вопрос (да, впрочем, никакой вопрос не кажется мне простым), и заполняю паузы в разговоре вымученной глупой улыбкой.
Поэтому, пускаясь в дорогу, я избираю себе на каждый отрезок пути какой-нибудь ориентир: фонарный столб, угол дома, дерево. И смотрю строго на него, не замечая ничего по сторонам. Сначала трудно было не замечать, но потом я привык. Теперь я действительно никого не вижу на улицах. Для меня город только здания, камень. В самом людном месте я прохожу, как в пустоте, в пустыне.
По-моему, это устраивает обе стороны. Людям ведь тоже не хочется быть как-то связанными с неудачливостью и нищетой, обычно подозревают, что это немножко заразно. Когда бывшие знакомые видят меня в дешевом, обтрепанном костюме, исхудавшего, с неподвижным взглядом, они покачивают головой и говорят себе не без тайного самодовольства: «А мы-то думали, что он далеко пойдет». Они как бы жалеют, что этого не получилось, грустят, но эта грусть их ласкает.
Но я-то действительно далеко пошел. Только не туда, куда они думали…
Вот наконец особняк Пфюлей. Здесь Валантен.
Тяжело отплывает огромная дверь, ей, пожалуй, лет двести. Матово сияют мраморные плиты пола. Вестибюль.
- Добрый день, герр Бюкинг.
- Добрый день, герр Кленк.
Однорукий швейцар-инвалид приподнимается на своем стуле, прикладывает пальцы к фуражке.
- Могу я пройти?
- Пожалуйста, герр Кленк.
Один зал, другой, третий… Я тихонько толкаю приоткрытую дверь.
Вот он, Валантен. Его «Автопортрет».
Он сидит у грубо сколоченного стола. В руках его черная гитара. Итальянская лакированная гитара, которую он привез из Рима.
Долго-долго мы смотрим друг на друга.
Какое у него прекрасное лицо! Наверное, Паскаль был похож на него. Паскаль - математик, философ, поэт. Хотя это и естественно, поскольку у Валантена типично французская внешность: чуть заостренные скулы, большие черные глаза, узкий подбородок, который сейчас украшает бородка.
Как много в его взгляде! И разум, и тревога, и вопрос…
Он знает все: в его глазах и резня Варфоломеевой ночи, и вспышка дульного пламени под Верденом, и многое другое. Но в его взгляде есть нечто такое светлое, что слезы выступают у меня на глазах, когда я думаю об этом. Он верит.
Он!.. А я?…
Мне стыдно было б жаловаться на судьбу. Они посещали меня так часто - гении Разума, Воображения, Любви, Настойчивости и даже Ненависти, которая также побуждает к упорному труду. Но никогда в своей жизни я не знал еще одного. Поэтому все, сделанное мною, сразу теряет цену и рассыпается в прах.
Надежды - вот чего у меня нет.
А у Валантена есть. Я не понимаю, откуда он берет ее. Но я должен это узнать.
Уже давно, с нашей первой встречи в сороковом году, когда я пришел в столицу поверженной Франции вместе с армией завоевателей, один только Валантен и убеждает меня в необходимости жить. Ему известно обо мне все: и мои муки на парижских мостовых, где я бродил в ненавистной зеленой форме, и робкие радости по возвращении в университет, и бессонные ночи работы над моим открытием…
Он тихонько перебирает струны. Я остановился, прислонился к стене. Друг мой. Брат! Долго-долго мы глядим друг другу в глаза, потом я тихонечко отступаю и прикрываю за собой дверь.
Опять пришло то, что всегда бывает при моих встречах с Валантеном. Он помог мне. Каким-то странным ходом интуиции я увидел, как нужно сделать расчет Крейцера. Причем сделать его действительно методом Монте-Карло.
Я рассчитаю все за два дня, получу деньги и возьмусь за вторую часть с пятнами. Мне ведь так мало осталось сделать!
Я вышел на улицу, прошагал вдоль ограды особняка, повернул на пустынную Рыночную. И вдруг с размаху остановился, как бы натолкнувшись на столб.
Кто-то смотрел на меня сзади. Я ощутил.
Очень четко!
Я обернулся и успел увидеть взгляд. Только взгляд. Тот, что бросил на меня маленький хилый мужчина в полупальто вчера возле леса. Испуганный, виноватый и притом жадный, какой-то испытывающий.
Самого мужчины не было. Но ощущение взгляда еще оставалось.
Сердце у меня стучало порывами - неужели кто-то знает про пятно в лесу: батрак не шел в счет - и знает, что пятно сделал я?
Весь похолодев, я пошел домой, говоря себе, что нужно успокоиться, что все равно я обязан сейчас же сесть за расчет Крейцера.
III
Конец ночи.
Отдыхаю.
За окном начинает светать.
Лежу на постели и смотрю на картины.
У меня в комнате неплохая коллекция. Маленькая, естественно, но такого выбора, что могли бы позавидовать собиратели из самых богатых.
Помогла война, конечно. Помогло то, что мы, немцы, владели чуть ли не всей Европой. Что мы врывались с оружием в чужие города, могли входить куда угодно и делать что угодно.
Моя коллекция отражает историю успехов и побед великой германской армии. И историю ее поражений тоже. Когда я рассматриваю ряд картин слева направо, я одновременно двигаюсь по этапам войны. Я брал свои картины там, куда приходили немецкие вооруженные силы.
На левой стороне, если повернуться лицом к окну, висят две вещи из Польши. Это не польские мастера. Просто я взял картины в польских музеях. «Святое семейство» Яна ван Гемессена и «Зимний пейзаж» Сафтлевена Младшего.
То был 1939 год… Армии фон Рундштедта и фон Бока с юга и севера устремляются на Польшу, и через три недели государство перестает существовать. Кавалерийские атаки против танков вызывают лишь бравое гоготанье у наших мужественных гренадеров. Лицо немецкого солдата той поры, загорелое, но это еще даже не военный загар, а просто лагерный: мы ведь пошли на войну из летних лагерей. Сытое, спокойное. На нем уверенность, достоинство и выражение благодарности начальству, которое так ловко обтяпало всю эту историю.
Что касается самих поляков, то они, видимо, нам еще спасибо скажут, если мы наведем у них порядок, верно, Михель? Сначала, правда, нужно отомстить им за «бромбергское воскресенье» и вообще за то, что они «собирались» напасть на Германию. Но после-то будет чудесно. Одним словом, фюрер знает, что делает. Посмотри-ка на его портрет. Как он устремил взгляд в пространство: видит там сияющие вершины социал-нацизма.
Все будет правильно. «Слово фюрера для нас закон. Мы принадлежим тебе, вождь. Повелевай!»
В той первой войне я тоже участвовал. Меня взяли в армию ранней весной 39-го года, в марте. Прямо из университета, хотя за меня просили профессора Гревенрат и Зеебом, и дошло даже до того, что через Отто Гана, первого физика Германии, было представлено специальное письмо в имперскую канцелярию. Ответ последовал в отрицательном смысле. Но, несмотря на это, тогда, в 39-м году, мы все же надеялись, что еще будем вместе работать в лаборатории. Никто не думал, что я уйду на целых шесть лет, что минут годы и Гревенрат погибнет в концлагере, что Зеебома (в его пятьдесят пять лет) возьмут на фронт и в 44-м бросят во время отступления с оторванными ногами в канаве у деревни под Псковом. Никто не думал, что нажат курок, что пущен в ход механизм. Что скоро немецкие самокатчики поведут велосипеды по горным дорогам Норвегии. Что сухая африканская пустыня огласится натужным ревом моторов. Что торпедированный английский авианосец будет переворачиваться вверх дном ночью в Средиземном море, и люди-мураши посыплются в воду с гигантской, ставшей торчком палубы. Что на Кавказе егеря фельдмаршала Листа поднимутся на Эльбрус и на заснеженной вершине воткнут немецкий военный флаг. Что под фугасными бомбами американцев рухнет гордость западной культуры, монастырь Монте-Коссино. Что под аккомпанемент собачьего лая эсэсовцы, размахивая дубинами, погонят толпы нагих женщин в газовые камеры. Что в жуткий мороз десятки тысяч немецких солдат, пожелтевшие от голода, обвязав полотенцами уши, оглушенные, с безразличными, потухшими глазами, пойдут в Сталинграде сдаваться в плен. Что фашистами будет стерта с лица земли Варшава. Что американскими бомбами будет в одну ночь сметен Дрезден. Что семилетнего еврейского мальчика с испуганными глазами, еще ничего не знающего о мире, взрослые плечистые эсэсовцы под прицелами автоматов поведут к общей могиле. Что в лагерях смерти под полосатой курткой миллионы сердец разных национальностей остановятся, замрут и перестанут биться. Что советские танки, пахнущие смазкой, победно промчатся по улицам Франкфурта. Что на высоте пять тысяч метров ночью американские и английские самолеты будут пересекать немецкую границу и «арийская раса» забьется в подвалы. Что письма будут приходить в города, которых нет.
Хотя «никто о войне не думал» - это неправда. Мы в лаборатории не думали тогда. А многие думали об этом и планировали это. Но не все, конечно. Несколько тысяч людей - государственный аппарат и магнаты Германии - люди с лицами заведомых подлецов и карьеристов, как у Отто Амброса, Геринга или доктора Лея, и люди с физиономиями благопристойными, даже приятными на вид, как у Глобке или Функа, именно планировали и немецкие велосипеды в Норвегии, и тонущий авианосец, и эсэсовцев, которые, спустив с поводка злобных овчарок, погонят раздетых женщин в костры. Лишь свой собственный конец на виселице они не планировали. И верно, потому что только единицы из тысяч были повешены, а остальные здравствуют, отлично чувствуют себя, окружены уважением, пользуются всяческим комфортом и умрут, видимо, лишь в глубокой старости, на чистой постели, в тепле, ухоженные, окруженные толпой сиделок и врачей.
Но именно мы-то еще ничего не знали тогда, в марте 39-го, когда я пришел прощаться. Я стоял на пороге, весеннее яркое солнце заливало лабораторию. Профессор Гревенрат (которому предстояло погибнуть в лагере Нейенгамме) возвышался посреди комнаты, о чем-то глубоко задумавшийся. Он увидел меня в дверях, покивал в своей обычной мягкой манере и сказал, что верит в мое скорое возвращение и в то, что все будет хорошо. Иоганн Зеебом налаживал катушку, с помощью которой мы ухитрялись получать магнитные поля в 300 тысяч гауссов и больше. Он тоже подошел и стал хлопать меня по плечам и по спине своими большими руками. Он был весел, потому что придумал, как улучшить эту самую катушку, и потому что вообще родился веселым человеком. И он мог веселиться, поскольку еще пять лет отделяло его от той зимней ночи, когда он должен был упасть с оторванными ногами в канаве у сожженной деревни и умереть на пронизывающем ветру. Зеебом не знал этого, но это уже предопределилось. Уже прошлое спроецировало свою тень на будущее, были выстроены все причины, и оставалось лишь развернуться следствиям…
Но, впрочем, сейчас, в это совершающееся раннее утро, я и не хочу думать об этом. Я хочу отдыхать и смотреть на картины.
Итак, первая в ряду на стене - «Святое семейство» нидерландского художника Яна Сандерса ван Гемессена.
Я взял ее в музее в Вавеле. За два месяца до начала войны я был назначен почему-то в парашютно-десантную часть. Вместе с 10-й армией генерала Листа мы прошли через Бескиды, а затем наш десант выбросили под Прошвице, в чем уже не было необходимости, потому что Краков сдался почти без боя, и поляки, стремясь сохранить войска, отходили на Дунаец и Вислоку. То ли 11, то ли 12 сентября мы попали в самый Краков, и там я сказал командиру, что хочу посмотреть немецкие картины в польском музее. В расположении батальона почти все уже были пьяные, началась бравая пальба в воздух. Я и еще один бывший студент, который умел водить машину, уселись в маленький «рено» и поехали к Вавельскому замку. Бывший студент не любил живописи и остался в парке. А я поднялся по ступенькам, помедлил минуту и вошел в галерею.
И тут я сразу увидел «Святое семейство» Гемессена.
Сразу… Я увидел лицо мадонны, и что-то сжало мне сердце.
«Святое семейство» - небольшая картина на дереве, написанная около 1540 года. Ян Сандерс ван Гемессен был один из первых в европейской живописи, кто ввел жанр в религиозные сюжеты. Его святые и не святы почти. Это крестьяне и горожане с грубыми лицами, на которых труд и быт оставили морщины. Такими здесь были святой Иосиф и его мать. Мать в чепце голландской работящей женщины, худая, старая, с провалившимися от выпавших зубов щеками. Иосиф в грубой рясе нищего монаха, с редкими волосами, подбородком, заросшим седоватой щетиной. Люди. Фоном для всей группы был не условный золотой занавес, как писали прежде, а пейзаж Нидерландов с мягкой возвышенностью, церковью, другими холмами, далеко синеющими в прозрачном воздухе.
Но главным в картине был не пейзаж и не фигуры Иосифа с матерью.
Когда я увидел лицо мадонны, что-то сжало мне сердце. До боли, до гибели.
Девушка, девушка, думал я, почему нас разделили века?…
Молчание было в картине, и оно контрастировало с тем, что доносилось с улицы, где пировала и праздновала солдатня. Потом, позже, меня всегда поражала тишина в живописи старинных голландских и итальянских мастеров.
Я смотрел на полотно и сказал себе, что должен взять его. И стал брать.
В галерее появился пожилой человек - по всей вероятности, служитель. Но я положил руку на автомат. Впрочем, потом он понял и не стал мне мешать.
Таким образом я взял картину, и она висит у меня в комнате на стене, открывая коллекцию.
Следующим за ней идет тоже привезенное из Польши маленькое полотно Генриха Сафтлевена Младшего «Зимний пейзаж». Его я взял в Познани.
«Зимний пейзаж» - это фантастический ландшафт с лесистыми горами, покрытыми снегом, острыми скалами и заснеженной холодной равниной. Весь задний план выполнен белыми лессировками по голубому грунту и поэтому делает впечатление прозрачности и призрачности. Удивительно то, что добрый Генрих Сафтлевен писал свою картину в Утрехте, никогда, верно, не видев остроконечных скал. И тем не менее в картине ветрено и бездомно, именно так, как бывает в высоких горах зимой. Я это испытал, когда мы в Италии в 44-м шли в ноябре через обледеневшие перевалы Апеннин, чтобы не дать отрезать себя войскам американского десанта. Дул ветер, было отчаянно холодно, стреляли партизаны. Полузасыпанные снегом деревни, через которые мы проходили, были как мертвые: на стук не откликалась ни одна живая душа. И жестокой, бесчеловечной стеной стояли молчавшие горы. А мы шли, чтобы все-таки продолжать битву, уже проигранную, разрушать еще улицы и вокзалы, делать тысячи мужчин калеками и тысячи детей - сиротами. Чтобы прибавить в мир еще голода и боли.
Но, впрочем, я напрасно спешу. До Италии еще далеко, если двигаться по моей картинной галерее.
Впереди Франция.
Тут тоже есть что вспомнить патриотическому германскому сердцу. Еще синее безоблачное небо над немецкими городами. Солдатские и офицерские жены требуют от мужей духи «Шанель». Мы идем по дорогам Франции, с ревом нас обгоняют быстрые тени штурмовых самолетов. Наших самолетов. Позади уже Дания, Норвегия, Голландия, а сейчас наша кавалерия, клацая подковами, втягивается под Триумфальную арку.
Лицо германского доблестного воина расплывается от самоуверенности, теперь он действительно загорел на фронте - война шла в мае и июне. Нос облез, веснушки выделяются под молодой розово-фиолетовой кожицей.
Теперь меня сделали пехотинцем. Полк останавливался в деревушках и небольших городках. Чтобы ничего не слышать, я, если позволяла обстановка, уходил за дома, садился где-нибудь у канавы, смотрел на луга, поросшие вереском, на плетни и яблони.
Мне нужна была какая-нибудь основа. Да, говорил я себе, нацисты во Франции, Геринг с блудливым взглядом скоро примет парад на Елисейских полях. Но все равно есть физика, есть математика. Все равно электрон, переходя с одной орбиты на другую, испускает энергию в виде кванта излучения…
И, кроме того, были картины.
Во Франции в сороковом году я взял «Осень в Фонтенбло». Это Диаз де ла Пенья. И «Вечерний пейзаж» Дюпре, и повторение Пуссена «Танкред и Эрминия».
Диаза де ла Пенью я увидел в музее Безансона, взял и привез домой. И он висит у меня на стене.
Вот он висит. «Осень в Фонтенбло».
Осень в лесу Фонтенбло. Пожелтевшая, растрепанная, лежащая в разные стороны трава. Побуревшие редкие деревья. Дальний лес подернулся туманом. Неуютное, холодное время. В природе разлиты какое-то отрицание, пессимизм, мокрый, слякотный. В такую пору, идя по расшлепанной дорожке, перепрыгивая через лужи, хочется медлительно передумывать, грустно и трезво переоценивать все, что случилось за лето… Не так-то все оно и хорошо было, если вдуматься.
Я встретился с его картиной в тот день, когда пришло известие, что Вейган, командовавший французскими войсками, объявил Париж открытым городом. В наш полк в Безансоне приехали высокие чины фашистской партии. Нас выстроили четырехугольником, раскормленная туша в коричневом мундире, в золоте поднялась на трибуну, и понеслись слова: «Установление нового порядка в Европе… Миссия оздоровления… Гитлер - друг своих друзей, вождь своего народа…»
После митинга нас распустили, и я ушел в покинутый сад, чтобы быть вдвоем с картиной Диаза.
Итак:
«Святое семейство» Яна ван Гемессена.
«Зимний пейзаж» Генриха Сафтлевена Младшего.
«Осень в Фонтенбло» Нарсиса Диаза.
«Вечерний пейзаж» Жюля Дюпре.
«Танкред и Эрминия» Никола Пуссена. (Повторение.)
Это уже немало. Редкий музей крупного города может похвастать таким. Но ведь война была большая. Она длилась бесконечно долго и давала мне возможность еще и еще пополнять коллекцию…
Отдыхаю. За окном начинает стучать капель. Весна.
Уже совсем рассвело. Картины на правой стене тоже стали отчетливо видны.
Лежу на постели и смотрю на них.
Первое, ближе всех к окну, полотно русского художника Ивана Шишкина «Рожь».
Я взял ее в России в сорок первом году.
В сорок первом в июне на Восточном фронте все было похоже на Польшу или Францию. Огромный город Минск пал на пятый день войны - точно как планировалось в штабе группы армий «Центр». (Во всяком случае, так было объявлено.) Советские, правда, проявили новое для нас упорство в пограничных боях. Но потом пошло привычное: беженцы со смятенными лицами заполнили дороги, на запад потянулись колонны пленных.
Германский воин - особенно во втором эшелоне - похохатывал. Что, ребята, здесь я и возьму себе поместье! Подходящее местечко. А славян мы заставим работать, как думаешь, Михель? Это и будет настоящее национал-социалистское решение вопроса… Но те, кто шел в передовых частях, помалкивали. Русские беспощадно отбивались. Докладывали о неожиданно больших цифрах наших потерь: огромными стаями бумажки, извещения о смерти, полетели и опустились на города Германии…
Странно, что я, вообще-то никогда не отличавшийся политической или военной прозорливостью, едва ли не по первым встречам с русскими - с пленными и особенно с теми, кто в оккупации с мрачным, замкнутым лицом следил за нашими колоннами, - почувствовал, что в Советском Союзе Гитлеру придется туго. Я задохнулся от прилива радости и надежды.
Картину «Рожь» я взял в Киеве. (Впрочем, не знаю, называется ли она именно так.) Как только я взглядываю на это полотно, так сразу в ушах настойчиво и неумолчно начинают звенеть кузнечики, трель жаворонка повисает в вышине, и сердце охватывается чувством беззаботного детского счастья. Мне кажется, что с отцом, профессором математики, я, совсем еще маленький, еду пролеткой по светлой долине Рейна между хлебами. Знойно. Сладко, дурманяще пахнет васильками, над которыми висят неподвижные облачка голубой пыльцы. Утренняя роса давно уже высохла, колеса пролетки порошат и проминают мягкую дорогу. Полевые цветы по обочинам стоят сухие, но крепкие, и каждый держит вокруг себя свою особую атмосферу запаха. Мотыльки самозабвенно совершают трепещущий полет над колосьями. Порой дорога опускается в ложбину, тогда в пролетке делается еще жарче, еще острее пахнет нагретой кожей сиденья. Но вот лошадь бодро взбегает наверх, от Рейна веет прохладой, сверкающая под солнцем гладь реки обрывками мелькает слева за полями, я еще шире раскрываю глаза, еще счастливее замирает сердце.
Рядом с Шишкиным еще одна вещь из России. Но то была уже зима 43-го года.
Тогда, в 41-м, после ранения и госпиталя я попал во Францию в Сен-Назер, где оставался до 43-го. Но вслед за сталинградской катастрофой Гитлер заявил, что создаст новую, шестую армию взамен погибшей на Волге. По госпиталям и тыловым частям стали собирать солдат и офицеров, служивших прежде в старой 389-й дивизии, и так я, пылинка в водовороте сил войны, снова очутился на Восточном фронте.
Но уже близилось возмездие.
Над родиной небо потемнело, смерть падала из-за туч. Струйками текли и рассыпались стены домов под бомбами, как раньше струйками текли и рассыпались стены в чужих, не наших городах. Другим стало лицо немецкого солдата, черное, со шрамами, с затравленным взглядом. В минуты отдыха в частях молчали, забылся простодушный гогот прежних лет. Лишь иногда с глазу на глаз шепотом раздавалось: «Да, Михель, я об одном только думаю: что, если теперь красные в Германию придут? Или те поляки из Портулиц?»
А кругом лежали снега, и непрерывным жестоким молотом била советская артиллерия…
В этот второй раз в России я взял лишь один рисунок - «Женский портрет» Кипренского. Рисунок выполнен итальянским карандашом. В огромной шляпе с перьями, в пышном платье сидит молодая аристократка и надменно - в сознании своей прелести - глядит на зрителя.
Рисунок попался мне в селе под Черкассами, где мы остановились на ночь в доме местного учителя. Впрочем, я просто по количеству книг заключаю, что старик в доме был учителем. Мы ведь не разговаривали.
Была ночь, солдаты моего взвода свалились на пол, как мертвые, а я взял в руки фонарь и долго смотрел на портрет, висевший на стене. А учитель - старик с подвязанной щекой и особенным, упрямым выражением на худом лице - молча глядел на меня.
И я взял рисунок, который в скромной рамке висит теперь в моей комнате…
За ним три моих последних приобретения. Три картины из Италии, и в том числе главный шедевр коллекции «Мадонна Кастельфранко» Джорджоне.
В Италию я попал после того, как измотанная толпа беглецов - жалкий остаток 8-й армии - была эвакуирована в немецкий госпиталь, откуда те, кого удалось подлечить, были направлены на более легкий западноевропейский театр военных действий.
Тут мне повезло. Для моего собрания картин это имело неоценимое значение. В Италии я завершил свою коллекцию, в которой тогда из важнейших художественных направлений как раз не хватало мастеров итальянского Высокого Возрождения и маньеристов.
На фронт наше пополнение прибыло так, чтобы еще успеть полюбоваться развалинами только что уничтоженного знаменитого Монте-Коссино. Затем 11 мая на немецкие позиции обрушился шквал огня, и в несколько раз превосходящие нас по силам английские и американские корпуса перешли в наступление. Весь месяц мы в боях отходили к Сабинским горам, а потом дальше - под непрерывной бомбежкой, оставляя на дорогах тысячи трупов, к Тразименскому озеру и еще дальше, к реке Арно. И я получил удивительную и единственную в своей жизни возможность познакомиться почти со всей Средней Италией.
После мая противник дал 10-й армии передышку. Я воспользовался ею, чтобы побывать во Флоренции и в суматохе и стычках, которые постоянно развертывались между сторонниками Муссолини и его врагами, взять там две картины в государственном музее: «Снятие с креста» Понтормо и «Мадонну со святым Захарием» Пармиджианино.
Таким образом, я привез со второй мировой войны четыре изображения мадонны: Гемессена, Понтормо, Пармиджианино и Джорджоне. В моем собрании это четыре вещи из десяти. Такое соотношение в известной степени отражает и повторяемость этого сюжета в старинной живописи. Если вдуматься, тут ничего удивительного. Для живописцев прошлых веков образ мадонны был просто образом женщины и матери. А разве в этом трагическом мире редкая мать рождает нового Христа на крестный путь и на муки?…
А война продолжалась, и она влекла меня дальше, к важнейшему призу моей коллекции - к «Мадонне Кастельфранко».
Осенью сорок четвертого года вся северная Италия, оккупированная немецкими войсками, пылала огнем, и уже трудно было понять, кто против кого сражается. В сентябре Муссолини, освобожденный парашютистами, объявил из своей резиденции на озере Гарди о создании Итальянской национальной республики. На нашей стороне оказался также маршал Грациани со своей обученной в Германии армией «Лигурия». Он поддерживал бывшего дуче, но в то же время соперничал с ним, и немецкое командование не могло на «Лигурию» опираться. Кроме того, было еще так называемое движение Сопротивления, насчитывающее десятки тысяч вооруженных, которые боролись с нами, но гораздо больше с итальянскими фашистами. (От нас они хотели только, чтоб мы скорее убрались.) Выстрелы гремели повсюду, цена жизни совсем пала, расстояние от необходимости до преступления сократилось в ничтожный промежуток.
В декабре наша часть оказалась в районе Мантуи, преследуемая с воздуха «летающими крепостями», а по земле - повернувшимися против немецкой дивизии лигурийцами, которые, однако, сами никак не собирались объединяться с партизанами.
Черные и измотанные, мы вошли утром в какой-то городок и заняли в нем оборону. Оказалось, что это Кастельфранко.
Повизгивая, летели пули по узким улицам - стреляли партизаны из местных жителей. Итальянская регулярная часть накрыла нас минометным огнем. Над городом стоял гул американской авиации, осыпались и рушились дома.
Зима в долине По выдалась неожиданно суровой. Всю предшествующую ночь мело снегом. Мы мерзли. Окраина Кастельфранко, где проходила наша оборона, побелела. Но к середине дня ветер утих, тучи стали расходиться, в высокое небо взлетела стая голубей, пересеченная солнечным лучом.
Я поднялся из окопа и пустыми, покинутыми переулками, где только посвистывали пули, пошел к собору.
Я вступил в растворенные двери, стекло хрупало под ногами. И увидел в алтаре картину Джорджоне «Мадонна Кастельфранко». В большом сумрачном соборе откуда-то сверху падал свет и освещал ее.
Четыреста пятьдесят лет назад, в тысяча пятьсот четвертом, полководец Туцио Костанцо заказал молодому художнику образ мадонны для семейной капеллы. Тогдашняя венецианская традиция требовала для подобных картин изображать мадонну в виде царственной женщины, торжественной, восседающей на высоком троне над толпой святых, одетых в богатые праздничные одежды. Джордже - позднее за величие духа он был прозван Джорджоне, то есть Большой Джордже, - написал картину примерно в этой манере. Мадонна сидит на троне, у ее ног молодой рыцарь в темных латах и монах. Но латы рыцаря вовсе не роскошны, а на монахе (это, вероятно, святой Франциск) грубая простая ряса, перевязанная веревкой. Невысокая красноватая стенка огораживает трон сзади, а за ней исполненный ясной и мягкой красоты пейзаж Италии: долина, группа деревьев и озеро, окутанное голубой дымкой.
Лицо мадонны погружено в глубокую задумчивость и грусть. Молча стоят у подножия, как верные стражи, рыцарь и монах и тоже смотрят на зрителя. Композиция вещи приведена художником в состояние тончайшего равновесия - такого равновесия, которое придает всему, что там есть, жизнь, движение, душу. Мария, задумчивый рыцарь и монах, протянувший к зрителям руку, не глядят друг на друга, но все трое связаны единым чувством и как бы прислушиваются. Простые строгие ритмы высокого трона членят картину по вертикали, стремят ее вверх и как бы поют хорал, поднимающийся все выше и выше…
Я стоял и смотрел, черный, грязный, с автоматом в руке.
Удивительная чуткая тишина была в этой картине. И в этой тишине было слышно, как бьется мое собственное сердце, как бьются сердца Марии, рыцаря и монаха, и больше того - как стучит и трепещет сердце израненного мира там, за стенами собора.
От картины Джорджоне исходила просьба… призыв… веление к гармонии, миру и справедливости.
Я стоял и постепенно понимал, что должен взять эту вещь.
Но тут позади резко заскрежетала дверь, царапая железной обивкой по стеклу и камню, ворвался звук выстрелов, рев самолетного мотора, и с ними, оглядываясь, быстро, вкрадчиво в собор вошел некий Хассо Гольцленер, капитан полицейской роты, которая тогда отступала вместе с нами. О Гольцленере было известно, что он несколько лет состоял помощником коменданта лагеря Берген-Бельзен. (В листовках, которые сбрасывал на нас генерал Александер, имя капитана было также названо в числе военных преступников, ответственных за расстрел заложников в Равенне.) В распахнутой шинели, крепкий, широкогрудый и энергичный, он скорыми, легкими шагами подошел к алтарю, посмотрел на картину, оглянулся на меня и сказал, что собирается взять ее.
Про эту картину он, вероятно, слышал. И, может быть, еще издали прицеливался.
Я поднял руку и мягко заметил, что ему не следует брать «Мадонну Кастельфранко». (Я сам хотел ее взять, но, конечно, совсем другим способом.) Гольцленер сразу забыл о моем присутствии. Он взялся за раму и приподнял картину, проверяя, как она прикреплена к стене. Я положил ему руку на плечо и еще раз терпеливо объяснил, почему он не должен брать ее.
Он оттолкнул меня. Он все-таки стоял на своем. Оглянувшись на двери собора, он вытащил из-под распахнутой шинели большой мешок, торопливо расстелил его на полу, посмотрел на меня, выпрямился.
Тогда я поднял автомат и прошил его очередью.
Мы стояли совсем рядом. Когда очередь прошла по его груди, было похоже, как если бы кто-то изнутри - изнутри, а не снаружи - строчкой продергивал маленькие дырочки в сукне мундира, который мгновенно обгорал при этом. Дырочки же появлялись как бы сами собой, без участия моего автомата, который был ответствен только за жгущее пламя. (Тогда я впервые увидел действие автоматной очереди так близко. На более далеком расстоянии его, конечно, приходилось видеть слишком часто. Зимой, например, попадание пули в человека обычно отмечалось легким облачком снежной пыли, которая вспархивала над шинелью.) Это был первый человек, которого я убил за время войны… То есть как участник огромной военной машины я повинен в смерти многих. Но если лично, Гольцленер был первый.
Я оттащил труп в сторону, чтобы он не мешал мне с картиной, приступил к делу и взял ее.
Бой все приближался к собору. В двери я увидел наших отступающих солдат. Я справился с картиной и самым последним присоединился к ним.
Партизаны ввели в дело пулеметы. В городке, казалось, стреляло каждое окно.
Но картина была уже со мной.
Я привез ее сюда, в свой родной город, и здесь, в комнате, принадлежащей фрау Зедельмайер, повесил на почетном месте. На самой освещенной стене. «Мадонна Кастельфранко» тут и висит все послевоенные годы…
Уже совсем светло. Начинается день.
Я поднимаюсь с постели и прохаживаюсь по комнате.
Картины в рамах смотрят на меня.
Здесь нет только Валантена. Что-то всегда не позволяло мне взять его, хотя в Париже у меня бывали подходящие случаи. Но я не мог чего-то преодолеть. Может быть, это оттого, что слишком лично к нему отношусь. Он самый великий из всех художников, самый человечный, самый близкий мне. Мой единственный друг.
Я люблю многих живописцев, но, когда вижу Валантена или думаю о нем, все другие отходят, бледнеют и опускаются, а он остается один.
Я вскрикнул, когда первый раз увидел картину Валантена - то была копия с «Отречения святого Петра». И лицо молодой женщины на полотне осталось навсегда со мной. Лицо с короткими густыми черными волосами, с низким лбом. Не тупое, а как бы обещающее познать.
Это качество пробуждения есть во всех картинах Валантена. Удивительно живые лица смотрят с его полотен. На них отчетливый отпечаток времени, явственный след средневековья. Многие из них дики, низки, но при этом всем свойственна какая-то задумчивость. Как будто они спрашивают: «Кто мы? Что мы? Зачем?»
Я попытался вспомнить лицо Валантена на картине «Музыка» в галерее Пфюля, но не смог. Только смутно.
И все равно мне стало теплее от этого воспоминания.
Умирают ли гении?… Нет!
Вот он прожил непризнанный. Смерть его окружена забвением, никто даже не знает, где она настигла его.
Но остались картины. Прошло три века, я увидел его «Концерт» в Лувре, и в самый жуткий момент, когда Европа вся курилась дымами газовых печей, он протянул мне руку через столетия, поднял меня, разрушенного, из праха.
Эти капли человечности неуничтожимы. Они существуют, несмотря на все усилия власть имущих. Они передаются от человека к человеку, и так осуществляется бессмертие гения. Бессмертие в сознании, в духе людей. Единственный его вид, который прочен в отличие от памятников из стали. Который есть и будет, пока будет мир, я думаю, вечно.
Через века дошли до меня частицы правды и надежды. Я принял их, они уже во мне, и я не поступлю подло, на что всегда толкала и толкает меня окружающая жизнь.
«Не поступлю…» Лицо батрака из Петервальда вдруг стало передо мной. Не предал ли я его? И больше того - что же я сделал, чтоб ему было лучше?… Но что, собственно, я мог? Целую жизнь я отчаянно трудился, обосновал свою теорию поля и в подтверждение ее создал пятно. Когда-нибудь люди поймут, какие гигантские усилия были приложены мною, величие этого труда не сможет не вызвать у них восхищения перед Человеком. (Пусть не знают, не будут знать, что это я.) Но оно сделается моим вкладом доброго, и оно поставит меня рядом с Валантеном…
Я снова прохаживаюсь от окна к постели, медленно рассматриваю каждую картину. Все настоящие художники, не какой-нибудь жалкий абстракционистский лепет. Художники, творцы, могучие сотрудники народа.
Вот они:
«Зимний пейзаж» Сафтлевена Младшего.
«Святое семейство» Яна ван Гемессена.
«Осень в Фонтенбло» Нарсиса Диаза.
«Вечерний пейзаж» Жюля Дюпре.
«Танкред и Эрминия» Никола Пуссена.
«Рожь» Ивана Шишкина.
«Женский портрет» Ореста Кипренского.
«Снятие с креста» Жакопо Понтормо.
«Мадонна со святым Захарием» Карло Пармиджианнно.
«Мадонна Кастельфранко» Джорджоне.
Но на самом-то деле у меня этих картин, конечно, нет, как нет и Валантена.
Я ведь не подлец, чтобы украсть и скрыть у себя картины, принадлежащие всем. Хорош бы я был, если б действительно брал их! «Взять картину» означает для меня так сильно и пристально долгие часы вглядываться в нее, что она вся - в мельчайших деталях - остается у меня в памяти. Остается так, что я могу видеть ее, когда б ни захотел. И не только видеть, а находить новое для себя, замечать то, что прежде не бросалось в глаза.
«Брать» ее изначально, то есть запоминать, для меня длительный процесс: час, полтора. В Италии в меня дважды стреляли, когда я брал Понтормо. Одна пуля ударила в стену рядом, отбила кусок штукатурки (я потом увидел), вторая задела меня по шее. Стрелявший партизан, очевидно, принял меня за сумасшедшего, за блаженного, поскольку я продолжал стоять неподвижный, упертый, хотя кровь стекала за воротник мундира. Потом я выключился, начал приходить в себя, побежал. И трое с винтовками не тронули меня.
Но по-настоящему я не взял ни одной картины. Ни в Польше, ни во Франции, ни в России, ни в Италии. Те полотна, которые я «брал», остались в своих странах. «Святое семейство» висит в музее в Вавельском замке, «Вечерний пейзаж» в Безансоне, «Женский портрет» остался в доме учителя в деревне под Черкассами. И «Мадонна Кастельфранко» сияет в высоком алтаре собора. Люди смотрят на них, и в человеческие сердца нисходит, нисходит то доброе, что заложили в свои произведения мастера.
А в моей комнате голые стены.
…Но вот я рассмотрел свои сокровища, отдохнул и могу снова приступать к работе. Трудное уже пройдено, я ближе к концу.
Через два часа расчет будет готов, останется записать его на бумаге и отнести к Крейцеру.
IV
Иду по Риннлингенштрассе.
Я сыт.
Тяжело, надсадно сыт. С одышкой, с огрузневшим телом.
Кафе, где шоколадно-коричневые пирожные, ресторан, где шипящая макленбургская котлета на подогретой тарелке в окружении петрушки, укропа, нежных капустных листьев (словно бесстыдная, соблазнительная нимфа на зеленой лужайке), уже не кажутся райской обителью. Там душновато. Скучно.
В голове пустота. Устал. Мне надо отдохнуть два дня, а потом возьмусь за вторую часть с пятнами…
Интересно, что, когда я сегодня принес готовый расчет Крейцеру, он не особенно и удивился. То есть он даже совсем не удивился. Любому другому потребовалось бы на этот расчет месяца два упорной, усидчивой работы, в Вычислительном центре возились бы не меньше трех недель. Я же сделал все за двое суток, привел окончательную формулу в обозримый вид, а Крейцер даже глазом не моргнул.
Как быстро люди привыкают к таланту и трудолюбию! Как быстро по отношению к некоторым это начинает считаться за должное!
Если б сотрудник, который ушел в отпуск, взялся за работу и выполнил ее, скажем, за полтора месяца вместо двух, все поражались бы. Если бы он сделал за месяц, его повысили бы в должности.
А я рассчитал все за два дня. За два, и Крейцер только процедил сквозь зубы: «Да, довольно удачно. Тебе подвернулась хорошая мысль с этим Монте-Карло».
Потом он поднялся со стула, пошел с листками к своему шефу, побыл у него минут десять и появился вновь на пороге комнаты с самодовольной улыбкой, которую, впрочем, сразу убрал с лица. Он убрал эту улыбку и принялся хмуро выписывать счет в кассу. Но я-то все понял. Шеф похвалил Крейцера. Крейцер сумел выставить дело так, что всему причиной была его, Крейцера, распорядительность: он-де нашел подходящего человека. И шеф похвалил Крейцера, а на мою долю досталось лишь это кислое «довольно удачно». Не похвала, а скорее некое уничижение, потому что слово «удача» фигурирует там, где речь идет не о заслуге, а о слепом везении.
Да я и сам застеснялся скорости, с которой я сделал работу. Мне было стыдно, что я справился за два дня, и, чтобы Крейцер не подумал, будто я горжусь, я со стеснительной усмешкой подхватил мысль об «удаче» и стал говорить, что, поскольку мысль «подвернулась», остальное было легко.
А Крейцер ничего не стеснялся. Напротив, самую пустую фразу он произносит с видом, будто открыл долгожданную истину и всякая возможность спора отныне исключена.
Крейцер всегда высокомерно холоден, непроницаем, важен.
И его уважают в институте.
А меня нет…
Я устал. Поэтому в голову лезут дурацкие мысли.
Разве мне не все равно? Зачем я думаю так мелко?…
Я иду по Риннлингенштрассе, поворачиваю на Бремерштрассе, прохожу мимо дома, где когда-то была наша квартира и который теперь так чужд и холоден для меня. Поворачиваю к Городскому Валу, поднимаюсь на него, и вот он, Старый Город.
Сейчас нельзя возвращаться домой. Я не хочу встречаться с фрау Зедельмайер.
Мне очень хорошо знаком наш город. Особенно этот район. В детстве, когда мать уже болела, целые годы пробродил здесь один. На многих переулках и тупиках я знаю в лицо каждый дом. С Кайзерштрассе я поворачиваю в Рыночный переулок. Что такое?… Галерея закрыта, как всегда по пятницам, но у особняка Пфюлей стоят два роскошных американских автомобиля, окруженные толпой зевак. Я тоже не удержался: проходя, рассмотрел один из них. Это «кадиллак», огромный, желто-золотистый, с массой каких-то никелированных полос, сверкающих выступов и ручек. Все сиянье улицы отражается на его блестящих гнутых поверхностях… Как разно живут люди! Я не только никогда не садился в такую машину, но даже и никогда не был ближе, чем в двух метрах, от нее.
Я выхожу на маленькую площадь Ратуши и сажусь в сквере на скамью. Тут забытая кем-то газета. Американская. «Нью-Йорк таймс». На странице заголовок крупными буквами:
«Широкоплечий Вернер фон Браун зовет на Луну».
О господи! В 1947 году, когда у нас в ФРГ еще печатались материалы Нюрнбергского процесса, я прочел показания бывших узников подземного завода «Бухенвальд - Дора», где по приказу Гитлера строилось «оружие возмездия» - снаряды «фау». Научным руководителем был этот самый Вернер. Он часто навещал «Дору», и по дороге ему нужно было проходить мимо амбулатории, возле которой изо дня в день громоздилась постоянно обновлявшаяся куча трупов. То были заключенные, замученные до смерти. Профессор проходил так близко, что едва не касался мертвых тел. И при этом продолжал руководить производством как ни в чем не бывало. А вот теперь статья Брауна о полетах на Луну. Он пропитан кровью, и тем не менее с ним обращаются, будто это человек, даже печатают статьи. Он приходит в редакцию, ему, пожалуй, даже жмут руку.
«Широкоплечий»! Это, кстати, хитрая уловка. Выставлено так, будто широкие плечи - его главная характеристика. А не то, что он делал для Гитлера.
Я не понимаю этого мира. Не могу его понять.
Отдыхаю сегодня, отдохну еще завтра. Пойду к Валантену, побуду со своим другом, посоветуюсь с ним и послезавтра начну вторую часть с пятнами.
И это будет последнее, на что я способен, мое завершающее усилие. После этого моя жизнь кончится. «И сказал архангел: «Времени больше не будет». Кажется, это из какого-то апокрифа. «Времени больше не будет». Как это странно и заманчиво! Не будет для меня минут, часов и дней. Они растворятся в вечности, и я стану рядом с Валантеном там, на Олимпе настоящих людей, куда не достигают грязные лапы этого мира.
Там мы будем вдвоем с Валантеном, и кончится постоянная мука непризнания и чужести.
Еще месяц напряженных трудов, а после отдых…
- Кленк! Георг!..
Я обернулся.
В плотном ворсистом пальто, новеньком, с иголочки, ко мне шел Крейцер.
- Я тебя везде ищу.
Это прозвучало даже упреком.
- Я заходил к тебе домой.
Крейцер огляделся, убедился, что поблизости никого нет, и сел на скамью.
- Ты ничего не узнал?
- О чем?
- О том, что я просил. О Руперте или о каком-нибудь другом физике.
- Нет.
Он задумался, побарабанил пальцами одной руки о другую. Что-то угнетало его, но ему не хотелось делиться этим со мной. Потом он решился.
- Послушай, но строго между нами. Очень строго.
Я кивнул.
- Есть сведения - неважно, от кого они исходят, - о каком-то новом оружии. Будто бы в нашем городе кто-то его изобрел. Ты не слышал?
Я покачал головой.
- Ничего.
Крейцер кивнул, но больше своим мыслям, чем моему ответу. Его холеная физиономия была озабочена.
- Тебе нигде не встречался маленького роста человек? С большими глазами.
Чуть было я не ответил, что встречался, но вовремя прикусил язык. Зачем? У Крейцера своя игра, а у меня свое дело. Конечно, речь шла о том самом человеке, которого я видел у леса.
- Нет.
Он опять кивнул.
- Я хочу попросить тебя об одном. Ты ведь много бродишь по городу. Если услышишь от кого-нибудь о новом оружии или если тебе попадется человек небольшого роста, бледный, с особенным лицом, скажи мне. Просто сразу разыщи меня. Позвони в институт или домой, не теряя ни секунды. Ладно? Это очень важно. Возможно, что тут замешана иностранная разведка.
- Хорошо.
- А когда тебе опять нужны будут деньги, приходи в институт. Я тебе что-нибудь устрою. Шефу понравилось, как ты сделал последний расчет.
Он ушел, а я остался на скамье. Было, о чем подумать. Они ищут человека, создавшего новое оружие. Две группы ищут его. Крейцер и, возможно, тот маленький с испуганным взглядом. Крейцер действует, естественно, не от себя. С кем-то он связан. Но с кем?
Странно, но после семнадцати лет знакомства я почти ничего не знал о Крейцере. Не знал даже, где он служил во время войны и вообще служил ли. Не знал, кто его родители, откуда он приехал в наш город. Все университетские годы мы занимались вместе, но он никогда не рассказывал о себе. Это новая порода людей - такие, как он. Недавно выросшая и сформировавшаяся порода, тихие, скромные и хорошо знающие, чего они хотят. Моральные проблемы их не трогают. Такого тихоню сначала никто не замечает, а потом вдруг оказывается, что он уже стал большим человеком. Конечно, Крейцер в университете готов был подурачиться в студенческие годы, если другие дурачились. Конечно, он поддерживал разговор о зверствах гитлеровцев, если другие такой разговор начинали. Но до известных пределов и никогда по своей инициативе.
Кто же он, мой Крейцер?
Я никогда впрямую не расспрашивал его о политических взглядах - подразумевалось, что, поскольку мы дружим, он не из тех, кто маршировал под свастикой в первых рядах. Но ведь это могло подразумеваться только мною.
И кого они ищут?
Я прошелся по аллейке. Тьфу! - опять меня отвлекло куда-то в сторону. Я же хотел отдыхать.
Я решил сделать далекую-далекую прогулку. Через весь город. К вокзалу, потом к бойням и тогда уже домой.
V
Проклятье!..
То самое произошло, чего я так страшился.
Хозяйка устроила у меня обыск.
Несколько часов я не мог опомниться от стыда и гнева.
Когда вечером я подошел к дому, то у ворот увидел жену дворника. Она странно и с торжеством посмотрела на меня. Я не придал этому значения, поднялся на четвертый этаж и вдруг обнаружил, что дверь в мою комнату приоткрыта. Не заперта, как я ее оставил, а приоткрыта. Я тогда повернул в квартиру хозяйки, вошел в кухню. Там была фрау Зедельмайер.
Ее жидкие седые волосы растрепались и придавали ей вид ведьмы.
Мы смотрели друг на друга, я ничего не понимал.
Затем она шагнула ко мне.
И полилось.
Я совершенно не знаю порядка. Я доставляю ей одни хлопоты, я измучил ей нервы. Я затерял ключ от холодильника, и она вынуждена была войти ко мне в комнату, чтоб отыскать его. Если так будет продолжаться, ей придется отказать мне в комнате.
Она не может так дальше. Я при ней пренебрежительно отозвался об армии, даже о Германии. Как вдова офицера она не может этого терпеть. Ей не безразлично, кого держать в своей квартире. Она хотела бы знать, чем я занимаюсь целые годы в принадлежащей ей комнате, почему я не служу и откуда беру средства к существованию…
И так далее, и так далее.
Я был совсем ошеломлен. Это вылилось сразу: ключ от холодильника, родина, супруг, павший в бою.
Затем меня ударило - обыск! Она вошла ко мне в комнату и шарила там. Но мой аппарат!..
Я вбежал в комнату, бросился в угол, отодвинул кровать и пошарил рукой по стене. Нет!.. Все в порядке. Сюда она не добралась.
Руки у меня дрожали. Я вынужден был сесть на постель и отер пот, выступивший на лбу. Ноги ослабели, и по ним пошло точечками, как бывает, когда не куришь несколько дней, а потом первый раз затянешься. Сердце…
Я глубоко вздохнул несколько раз. В комнате потемнело, потом опять стало светло.
И тогда случившееся начало уже правильным порядком по частям входить в меня.
Ключ от холодильника! Она искала ключ от холодильника… Но какой же может быть ключ, если у меня уже неделю нет продуктов и я не пользуюсь холодильником? Да и, кроме того, я ни разу в жизни не запирал холодильник, мне это и в голову не приходило. И никогда не брал ключ в руки.
Я дернулся было встать и сказать хозяйке об этом, но тотчас расслабился и опустился на кровать.
Зачем?
Какой смысл?
Дело совершенно не в этом. Просто она хотела вызвать меня на скандал.
Но родина? Зачем она заговорила о родине и о муже, убитом в России?… Ах да! Что-то я говорил…
И хозяйка оскорбилась за своего супруга, который почти всю войну сидел комендантом в маленьком украинском городке и слал ей посылки с салом. «Он отдал свою жизнь за Германию». Ложь! Он отдал жизнь за ворованное сало.
Был такой миг во время этих горьких мыслей, когда я вскочил с решимостью пойти и сказать хозяйке, что выезжаю из комнаты.
Но я сразу сел.
Глупости.
Не мог я позволить себе этого. Я знал, что бессилен. Мне нельзя съезжать, потому что только здесь я и могу кончить свои работы, завершить дело моей жизни. Только теперь и здесь. Я нервен, я слаб. Я привык к этой комнате за пятнадцать лет. У меня выработались механические стереотипы поведения. Установилась привычка приниматься за работу именно в этой комнате. Обстановка сосредоточивает. Я поглядываю на окна Хагенштрема напротив, бросаю взгляд на трещинки в потолке, рассматриваю узор на обоях, и готово. Мозг включился, начинает работать. Это как музыка. Мне бы потребовались годы, чтобы привыкнуть к другому месту, освоиться и производительно мыслить.
Но у меня нет впереди этих лет. Я измучен борьбой за существование, истощил нервную систему. Я не проживу лета.
…Довольно долго я сидел, тупо уставившись в пол. Стыд и гнев прошли, их заменила апатия.
Ладно, сказал я себе. Я впал в бешенство. Но разумно ли это? Можно ли так злобствовать на хозяйку? Ведь она мелка и ничтожна. Она не может составлять предмет для ненависти, только для презрения. Вот она унизила меня сегодня. Нищий и усталый, я сижу в этой комнате, из которой меня хотят изгнать. Но разве я поменялся бы положением с фрау Зедельмайер?…
Я запер дверь на ключ, отодвинул постель от стены, достал аппарат.
И потом - сам не знаю, как это получилось - я вдруг установил контур на самое последнее деление, сузил диафрагму почти до конца, присел на корточки и включил освобождающее устройство.
Коротким звоночком прозвенела маленькая зубчатка, кристалл замутился на миг. И в полуметре от пола, в углу, в воздухе повисло пятнышко. Как муха. Но неподвижная.
Меня даже поразило, с какой легкостью и как непринужденно я сделал это. Я и опомниться не успел, как пятно уже стало существовать.
И никакая сила на свете не могла его уничтожить.
Я убрал аппарат и старательно закрыл тайник. Затем я стал играть с пятном, пересекая его рукой, пряча где-то в костях, в мясе ладони и открывая вновь. А пятнышко висело неподвижно. Маленькая область, где полностью поглощался свет, доказывала верность моей теории.
Теперь уже два их было в мире: пятно под хворостом в Петервальде и неподвижная черная мушка здесь.
Насладившись пятном, я подвинул кровать на место и улегся.
Странно, но я никогда не думал о возможностях практического использования пятна. Я довольствовался тем, что оно есть.
Но возможности-то были, конечно. Пятно можно применять, например, для прямого преобразования световой энергии в тепловую. Собственно, даже из этого маленького пятнышка в комнате я мог бы сделать вечный двигатель, заключив его в какой-нибудь объем воды. Естественно, двигатель был бы лишь относительно вечным и работал бы только до той поры, пока светит наше Солнце.
Да мало ли вообще!.. Я теоретик, а любой экспериментатор за час набросал бы сотню предложений.
С другой стороны, черное можно использовать и во зло. Черное может представить собою оруж…
- Черт возьми! - воскликнул я и вскочил.
Послушайте, а ведь я и могу быть тем самым физиком-теоретиком, которого разыскивают в городе! Могу или нет?… Ведь никто не знает о моих трудах. Только пятно в Петервальде являлось до сих пор материализованным свидетельством моих размышлений. Единственным. Само собой разумеется, я испугался, дважды увидев взгляд Бледного. Но, хладнокровно взвешивая все, я не должен считать две эти встречи чем-то большим, чем совпадение. Мало ли кто и зачем мог идти к хуторам через Петервальд, мало ли кто мог оказаться случайно возле галереи Пфюля?
Кому я, собственно, нужен был бы? Только организации, конечно. Если о пятне знает организация - какой-нибудь штаб, разведывательное бюро, безопасность и прочие, у этих денег, людей, техники больше, чем надо, и по первому требованию им прибавят еще больше чем надо. И они не стали бы ждать, пока я сбегу, умру или сойду с ума. Меня бы уже просветили насквозь, в специальном журнале отмечалось бы, страдал ли отрыжкой - если да, то сколько раз сегодня и чем. Уже исследовали бы каждую молекулу тела, каждую минуту моей биографии. Но, главное, не стали бы ждать. Я уже находился бы там, у них, подвергнутый всяческим формам убеждения и не только его. Но поскольку я не чувствую рядом такого масштаба, значит, организации нет. Пока нет… А одиночкам я вообще не нужен. Одиночка не станет за мной гоняться.
Все эти мысли были здравыми, и все равно я чувствовал, что пора кончать. Разговоры, пусть глухие, неотчетливые, - предупреждение.
Но месяц мне был нужен.
Я подошел к окну и распахнул его. Совсем стемнело. Над крышей едва слышно шумел ветерок, и шуршало таяньем снега.
Издалека что-то надвинулось, явилось в комнату через окно, вошло в меня и, вибрируя, поднялось к ушам. Низкий звук. Это ударили часы на Таможенной башне. Половина двенадцатого. Звук медленно и мерно распространился над улицами, над городом и пришел ко мне.
Я несколько раз вдохнул свежий ночной воздух, и мне стало легче. Вдруг первый раз за этот год я почувствовал уверенность, что, несмотря на все, мне удастся закончить свою работу.
Только бы месяц покоя.
Только единый месяц.
VI
Неделю я трудился удивительно. Как в молодости. Я пересчитал еще раз свой вакуум-тензор, переписал в уме главу «Теории спектра» и вплотную подошел к тому, чтобы научиться уничтожать черное.
Потом мне помешали.
Поздним утром вдруг раздался осторожный стук в дверь. Я отворил.
На лестничной площадке стояло унылое долговязое существо в полицейской форме.
- Герр Кленк?
- Да.
Существо подало бумажку.
«…предлагается явиться в… для дачи показаний по делу… (после слова «делу» был прочерк)… имея при себе документы о…»
- Ну хорошо, - сказал я после того, как понял, что это такое. - А когда?
- Сейчас, - пояснил долговязый.
- А зачем?
- Но я еще не пил кофе. Я устал, небрит.
В конце концов я оделся, побрился, из-за спешки сильно порезал подбородок, и мы спустились вместе. Городской комиссариат помещается у нас на Бирштрассе. Выйдя из парадной, я повернул налево.
Существо повернуло со мной.
Я остановился.
- Послушайте, это что - арест?
Не больше смысла было бы спрашивать стену.
В комиссариате мы поднялись на четвертый этаж. По коридору шел полный мужчина в штатском. Он остановился, внимательно посмотрел на меня.
- Он?
Тот, который меня привел, кивнул.
Полный сказал:
- Посиди с ним. Я скажу Кречмару.
И ушел. А долговязый показал мне на полированную скамью.
Мы просидели пять минут. Потом еще столько же.
Постепенно меня охватывало беспокойство. Что это такое? Ни на миг я не допускал мысли, что тут связь с пятном. Если б так, меня пригласили бы не в полицию. За мной пришел бы не этот унылый. Но что же еще-то?…
Я оглянулся на полицейского. Он, скучая, грыз ногти.
И тогда дурацкие мысли вихрем понеслись. Что, если меня арестуют и посадят в тюрьму? Хозяйка, обрадовавшись, тотчас сдаст комнату другому. Там сделают ремонт, и обнаружится мой тайник с аппаратом… Но могут ли меня арестовать? И вообще как у нас с этим теперь - снова как при Гитлере или иначе? Арестовывают ли просто так, без всяких причин? Я ничего не знал об этом. Я не читаю газет и не слушаю радио. Я едва не вскочил со скамьи, таким страхом меня вдруг объяло.
Наконец надо мной раздалось:
- Кленк?
Я встал. Я чувствовал, все обречено.
В кабинете тикали большие часы. Из коридора не доносилось ни звука: дверь изнутри была обита кожей. Я вспомнил, что комиссариат и при фашизме помещался тут же.
Офицер кончил читать бумаги. Он поднял голову. Ему было что-нибудь до тридцати лет. Блондин, с розовым, холеным и даже смазливым лицом. Было похоже, что ему в голову ни разу в жизни не забредала серьезная самостоятельная мысль. Глядя на него, отчего-то хотелось думать о сосисках, пиве, бифштексах.
Он посмотрел на меня.
- Скажите, герр Кленк, вы не были в советском плену?
- Я? Нет.
- Вам знакомо такое имя - Макс Рейман?[1]
- Нет…
Какой-то вздох послышался из-за занавески. (В комнате была ниша, задернутая занавеской.) Вздох чуть слышный, его почти что и не было. Но меня вдруг пронзило: Бледнолицый! Конечно, он! Это им устроен вызов в полицию. Он должен быть здесь. Ощущается. Предопределен, как недостающий элемент в таблице Менделеева.
У меня застучал пульс.
Офицер тем временем опять углубился в бумаги. Затем раздалось:
- У нас есть сведения, господин Кленк, что вы занимаетесь антиправительственной пропагандой.
- Я? Что вы?… Я живу совершенно замкнуто. Это недоразумение. И вообще…
Он перебил меня:
- Скажите, вы никак не связаны с коммунистической партией?
- Никак. Я же вам объясняю, что…
Тут я сделал вид, что мне плохо. Встал, шагнул в сторону ниши, будто не сознавая, куда иду, шатнулся, схватился за занавеску и отдернул ее.
В нише никого не было.
Офицер следил за моими эволюциями, обеспокоенно вставая.
- Вам что, нехорошо?
- Нет. Уже проходит. Как-то вдруг, знаете… Сегодня много работал.
Он посмотрел на пустую нишу, потом на меня.
- Ну ладно, господин Кленк, можете идти. Но не советую вам продолжать.
- Продолжать что?
Он подал мне какой-то белый бланк.
- Имейте в виду, что вы предупреждены.
- О чем?… Какие, собственно, ко мне…
Но он уже подошел к двери и отворил ее. У меня возникло впечатление, будто он всего лишь старался выполнить формальность. Выговорить текст, который в каких-то случаях полагается.
- Вам следует знать, что мы этого не потерпим. - Он уже слегка подталкивал меня к двери.
- Не потерпите чего?
Дверь закрылась. Я остался один в коридоре, автоматически спустился вниз, автоматически подал дежурному белый бланк, который оказался пропуском на выход.
Итак, сказал я себе, Бледный тут ни при чем. Но мне предъявлено обвинение в том, что я занимаюсь антиправительственной пропагандой. Я!.. Солдат вермахта!
Минуту я думал, потом ударил себя по лбу. Хозяйка!
Ненависть охватила меня. На миг мне захотелось повернуться к зданию комиссариата и кулаками сокрушать его. Выдирать решетки из окна, выламывать дубовые двери, разбивать шкафы и столы, заполненные бумагами.
Но что сделаешь кулаками?
Почти сразу за мной из дверей комиссариата высыпала группа сотрудников. Начинался обеденный перерыв. Они обменивались шуточками и закуривали. Были все в чем-то одинаковы. Их характеризовала спокойная, уверенная манера людей, которые судят, которые всегда правы.
Хорошо выкормленные, с гладкими и даже добродушными физиономиями, они пересмеивались, глядя на проходящих мимо девушек. А я с красной царапиной на подбородке, с лицом, искаженным злобой, выглядел странно и дико рядом с ними.
Вышел Кречмар, присоединился к своим.
И вдруг я увидел его иначе.
Его мальчишкой призвали в вервольф в самом конце, поставили с фаустпатроном где-нибудь в подворотне, и он поднял руки при виде приближающегося американского танка. От помпезности обещанной Гитлером «тысячелетней империи» он захватил только послевоенную голодуху, «черный рынок», развалины домов. Положительных эмоций фашисты у него не вызывают. Было заявление, он почел себя обязанным отреагировать. Вызвал, проверил, предупредил. Не более того. Пиво в кабачке, партия в картишки, в скат - вот это по его части.
Я попал к нему случайно и без связи с моими занятиями.
Успокоившись, я пошел к дому кружным путем.
У особняка Пфюлей снова стоял один из американских автомобилей. (Хотя сама-то галерея была закрыта.) В скверике у Таможни я сел на скамью рядом с человеком, закрывшимся газетой. Вынул из кармана портсигар.
Человек опустил газету.
- Вам огня?
И зажег спичку. Большую, белую, шведскую, с зеленой головкой, которые загораются жарко, горят почти без дыма. Такие последнее время редко бывают в киосках нашего города.
Это был Бледный.
Секунду мы смотрели друг другу в глаза. Все-таки он был здесь. Как-то вмешан и впутан. Внутреннее чувство не обмануло меня, и я был далеко не рад этому.
Он сказал тихим голосом:
- Вас вызывали в полицию?
Я молчал.
- К старшему лейтенанту Кречмару?
Я сообразил, что у офицера, беседовавшего со мной, действительно были такие погоны.
Бледного ничуть не затруднило мое молчание. Он придвинулся ближе, глядя, впрочем, не на меня, а опять в газету. Со стороны не было видно, что мы общаемся. Просто один сел, другой дал ему прикурить.
- Не тревожьтесь, - сказал он поощрительным тоном, - работайте спокойно.
Поднялся с рассеянным видом, кивнул мне и ушел своей развинченной походкой.
Я просидел в скверике минут двадцать, потом сел в трамвай и поехал к Верфелю. Там я сошел на последней остановке и побрел к лесу.
На полях было совсем пустынно. Сильно растаяло с прошлого раза. Дорога, ведущая мимо разбитой мызы, была вся залита водой. Но я знал, что в лесу, расположенном выше, будет сухо.
Я добрался до пятна - груда хвороста была на том же месте - и стал внимательно исследовать поляну метр за метром. Я шарил там около часа и наконец нашел то, что искал: окурок сигареты «Лакки страйк» и сантиметрах в тридцати от него обгоревшую белую толстую спичку.
Я поднял ее и подержал в пальцах. Сомнения исчезли.
VII
Прошло пять дней с тех пор, как меня вызывали.
Поздний вечер.
Отдыхаю.
Сижу на скамье в Гальб-парке.
Цифры и формулы нее еще плывут в голове, освещаются разными цветами, перестраиваются в колонках и строках. Нужно изгнать их из внешних отделов сознания туда, внутрь. Временно забыть.
Нужно думать о чем-нибудь другом.
Буду вспоминать прошлое.
Я помню прогулки с отцом по Бремерштрассе и липкие, шершавые листья каштанов на тротуаре.
Но детство быстро кончилось. В гимназии неожиданно оказалось, что я не совсем такой, как другие.
Меня можно было спросить:
- Каковы будут три числа, если их сумма - 43, а сумма кубов - 17299?
В течение нескольких секунд десятки тысяч цифр роились у меня в голове, складывались в числа, которые сплетались в различные триады, перемножались, делились, и я отвечал:
- Это могут быть, например, 23, 11 и 9.
Я не знал, как я этого достигаю. Оно мне казалось естественным. Я удивился, узнав, что другим на такие вычисления потребовались бы долгие часы. Я полагал, что считать так вот, как я, - всеобщая способность людей. Что-то вроде зрения, слуха.
Но это не было всеобщей способностью.
В пятом классе к нам пришел учитель из офицеров. Озлобленный человек в лоснящемся, вытертом мундире. Ожесточенно чиркая мелом на классной доске, он одновременно зачеркивал какие-то свои тщеславные мечты и гордые планы. В республике было много таких, потерявших почву под ногами. Едва он заканчивал писать уравнение, я уже знал ответ.
Это его бесило. Присутствие такого человека в классе он воспринимал как дополнительный удар судьбы.
А я ничего не мог ему объяснить. Просто я был человеком-счетчиком. Позже мне удалось установить, что в детстве я стихийно применял бином Ньютона, например. Кроме того, у меня была память. Один раз я прочел логарифмические таблицы и запомнил их целиком.
Но вскоре мне самому начало надоедать это.
То был дар - нечто, не зависящее от меня и потому унижающее. Не я командовал - он управлял мною. Как только я пробовал приступить с анализом к своему методу, цифры меркли, их колонки рассыпались и уходили в небытие, весь расчет спутывался.
Я стал задавливать в себе эту способность. Она мешала. Затрудняла понимание, подсовывая вместо вычислений результат, вместо разума - инстинкт. Ей не хватало главного - обобщения и, более того, мнения.
В семнадцать лет, когда отца уже не было, я ломал голову над релятивистской квантовой механикой. Но тут требовались не те знания, какие у меня были. Приходилось готовиться на аттестат зрелости, не хватало времени. Чтобы не прерывать занятий теоретической физикой, я, борясь с усталостью и сном, приучился читать гимназические учебники стоя.
В восемнадцать я пошел к профессору Герцогу в университет. Здесь же был и профессор Гревенрат. Они выслушали меня. Гревенрат задумчиво сказал: «Этот юноша может наделать скандалов в науке». Мы начали работать вместе.
Но та чистая теория, которой я занимался с Гревенратом и в кабинете отца, еще не была настоящей чистой. Настоящую я познал, когда начал маршировать. Тут возникли возможности для роста и созревания мыслительного, полностью в уме созданного теоретического древа такой высоты и сложности, какое едва ли когда-нибудь разрасталось прежде в истории человечества.
В тридцать девятом году я должен был вспомнить свою отвергнутую способность к умственному счету. Надо было чем-то занять мозг. Напрягая память, я постепенно восстановил в уме отцовскую библиотеку, прибавил к ней свои ранние конспекты по теории инвариантов, записи по эллиптическим функциям и дифференциальным уравнениям в частных производных, но теории функций комплексной переменной, по геометрической теории чисел, аналитической механике и общей механике. Я заставил себя воспроизвести в уме сочинения Ляпунова, Канторову теорию кардинальных чисел и конструкцию интеграла Лебега. Я пополнял и пополнял воображаемое книгохранилище, присоединил к нему «Physical Review» с двадцать второго по тридцать восьмой год, французский «Journal oe Physique», наши немецкие издания и в конце концов почувствовал, что мне уже трудно разбираться в этих искусственно собранных и созданных книжных дебрях. Нужен был каталог. И я мысленно сделал его. Теперь можно было приступить к теории поля, которую я начал в университете под руководством Гревенрата. Но выяснилось, что, чтобы запоминать собственные размышления, я обязательно должен был мысленно записывать их. Оказалось, что мне легче запоминать не сами мысли, а их мысленную запись.
Я решил делать это в виде статей и за сороковой год с первой половиной сорок первого написал на воображенной бумаге воображенным пером:
«Фотон и квантовая теория поля».
«Останется ли квантовая механика индетерминистской?»
«О реализации машины Тюринга с помощью электронных ламп».
«Свет и вечность».
Несколько статей я написал по-французски, чтобы не забывать язык.
Со временем количество записей все увеличивалось. Постепенно образовывалась целая сфера воображенных книг, статей, черновиков, заметок - гигантская башня мыслительной работы, которую я всюду носил с собой.
Порой мне удавалось как бы отделиться от себя, глянуть на собственный мозг со стороны, задрать голову к верхушке башни. Она была уже такой высокой, что, казалось, все трудней и трудней будет забрасывать туда новые этажи. Однако это было не так. Удивительный высший химизм мозга, который запечатлевает весь целиком бесконечный кинофильм виденного человеком за жизнь, как и думанного им, позволял прибавлять еще и еще, равно фиксировал то, что мыслилось, и то, что мыслилось о тех мыслях.
Но шла война. Чтобы двигать дело дальше, я должен был оставаться живым.
Я оставался. Интуиция сама давала ответ на превратности фронтовой обстановки.
Было так:
- Лейтенант Кленк! (После Сен-Назера я был уже лейтенантом.)
- Слушаю, господин капитан.
- Мне придется взять ваш резерв и передать во вторую роту. Но вы у меня получите зенитное орудие.
- Слушаю, господни капитан.
- По-моему, с этой стороны русские не будут наступать.
- Так точно, господин капитан. Утром был замечен блеск лопаты. Противник окапывается.
- Так что, я думаю, вы справитесь.
- Слушаю, господин капитан.
…И продолжал вычислять с оставленного места.
Однако эта сатанинская необходимость держать все в уме подвела меня в конце концов. В сорок третьем году я совершил одну серьезную ошибку и только в сорок четвертом, когда мы были в Корсунь-Шевченковском «котле», понял, что веду вычисления по неверному пути. Тогда был зимний вечер. Остатки разгромленных войск стянулись в деревню Шандеровку. Горели избы. Наши батальоны выстроились вдоль улицы. Там и здесь стояли машины с тяжелоранеными, и все понимали, что их уже не удастся взять отсюда. Из дома в сопровождении штабистов вышел генерал Штеммерман, командовавший окруженной группировкой. Он стал перед строем и громко прочитал приказ о прорыве, а мы передавали его, фраза за фразой, по всем ротам. Когда Штеммерман кончил, сделалось тихо, и только слышно было, как трещит в пламени дерево. Потом многие в рядах заплакали. Штеммерман скомандовал: «На молитву!» Шеренги рот опустились, только сам он остался стоять, обнажив на морозе седеющую голову. И в этот миг я - той, другой, половиной мозга - понял, что мой вакуум-тензор не имеет физического смысла. Ужас охватил меня при мысли, какой огромный труд предстоит, чтобы исправить и переделать все последующее. Кругом раздавались крики и стоны, начали подрывать автомашины и орудия. Звено вражеских самолетов вынырнуло из низких облаков, пулеметные очереди ударили по рядам. Странно и чудовищно трагедия десятков тысяч людей, брошенных негодяями на гибель в чужой стране, переплелась с драмой моей научной работы.
Но все-таки мне удалось выйти из окружения тогда и вывести троих своих солдат. Потом в госпитале и далее опять на фронте я принялся переделывать все в уме. На это ушло около года. Чтобы мысленно не переписывать массу бумаг рукой, я в уме выучился печатать на машинке свои работы. И перепечатал…
Таким образом, я вернулся в родной город, имея при себе три тома сочинений. В мыслях, но они были.
Однако мне, годы оторванному от развития науки, требовалось узнать еще много. Я вошел в подъезд университета.
Было так счастливо после окопов войны первые два года в университете! Казалось, прошлое похоронено, убийцы будут наказаны. Впервые я чувствовал себя человеком, лица людей оживлялись, когда я обращался к ним. Услужливый Крейцер бегал по коридорам, разнося мои остроты.
Но время шло. Снова загрохотал барабан.
Порой мне начинало казаться, что мир вокруг понимает и знает нечто такое, что недоступно мне. Ганс Глобке, комментатор нюрнбергских законов, стал статс-секретарем при Аденауэре. В университете вдруг выяснялось, что студент такой-то не только студент, но еще и сын либо племянник влиятельного лица и что это важнее всех научных истин. На последних курсах мои сверстники начали поспешно делать карьеру.
Но я не хотел этого. И не умел.
Мысль об «антисвете», об абсолютной черноте явилась предо мной, я вновь погрузился в расчеты.
Труден был путь к пятну. Одиннадцать лет я непрерывно трудился, используя мозг в качестве быстродействующей счетной машины. Похудел, побледнел, живу в нищете. Я разучился разговаривать с людьми. Но аппарат рассчитан, и создано черное.
Я Человек. Это доказано.
У меня в руках великое открытие. Другое дело, что оно пришло в мир слишком рано. Это не уменьшает достоинства моего труда.
Я встал со скамьи, прошелся по аллее. Усталость исчезла, чувствовал, что могу снова засесть на ночь…
Возле фонаря в кустах что-то темнело.
Подойдя ближе, я увидел ботинки. Пару больших ботинок, которые стояли в траве на пятках, чуть вразвалочку, подошвами ко мне.
Так ботинки стоят только в случае, если они надеты на чьи-то ноги. А где есть ноги, должен быть и человек.
Я шагнул еще ближе. Действительно, в кустах кто-то лежал. Из-под распахнувшегося серого форменного плаща был виден темный костюм.
Я присел на корточки и повернул лицо лежащего к свету. Это был Кречмар.
Все мои гордые мысли разом сдернуло с сознания. Я взял руку Кречмара и попытался найти пульс. Он не прослушивался. Офицер был мертв. Безжизнен, как топор.
Уже начал холодеть.
Я расстегнул рубашку, положил ладонь ему на сердце. Ничего. Даже не имело смысла звать на помощь.
Парк кругом спал. Накрапывал мелкий дождь.
На шее Кречмара возле кадыка была маленькая бескровная ранка. Входное отверстие пули.
Вот тебе кабачок с пивом и скат. Он впутался в гораздо более серьезную игру, сам того не подозревая. Вернее, его впутала хозяйка со своим заявлением. И вот результат.
Пятно уже начало убивать. Едва только оно вошло в существование, и вот первая смерть. Возможно, впрочем, что такова судьба любого научного открытия сейчас.
Все это подтверждало правоту батрака…
Рядом я услышал покашливание.
Надо мной стоял Бледный.
Он нагнулся, посмотрел в лицо Кречмару, похлопал его по щеке.
- Мертв. - В его голосе был оттенок профессионального удовлетворения. Затем он тоже присел на корточки и деловито запустил руку офицеру под рубашку. - Остывает. Убит с полчаса назад. - Он взглянул на меня. - Ограбление или что-то другое? Как по-вашему?
Я молчал.
Он засмеялся понимающе.
- Хотя сейчас нет расчета грабить. Никто не носит с собой крупных сумм.
- Он поднялся с кряхтением. - Пожалуй, не стоит оставаться здесь, а?
Это было правильно. Попробуй докажи после, что ты ни при чем. Если нагрянет полиция, у Бледного найдется много всяких возможностей. А у меня ничего. И вообще мне нельзя привлекать к себе внимание.
Я встал и пошел к выходу из парка, лихорадочно обдумывая положение.
Бледный шагал рядом со мной. Мы вышли из парка, и он придержал меня под руку.
- Одну минуту.
Затянутая дождем Шарлоттенбург, примыкающая к парку, была пуста.
- В чем дело?
Бледный откашлялся. На сей раз он не казался тем испуганным человечком, которого я видел у леса. Напротив, его фигура выражала торжество. Правда, какое-то жалкое. Как у встопорщившегося воробья.
- Обращаю ваше внимание, - начал он, - что существуют специально разработанные технические средства. На случай, если нужно что-нибудь сделать. Например, бесшумный пистолет.
Он вынул из кармана небольшой пистолет с необычно толстым дулом, поднял его, направив в сторону парка. Раздался щелчок, не сильнее, чем удар клавиши на пишущей машинке, язычок огня высунулся из дула. Прошелестела, падая, срезанная веточка.
Бледный спрятал пистолет.
- Или, скажем, похищение. Вы подходите к человеку. - Он шагнул ко мне ближе. - Ваша рука в перчатке, куда выведен контакт от электрической батареи, которая у вас в кармане. Теперь вам нужно только дотронуться. Удар тока, и человек падает в тяжелом обмороке.
Он протянул руку в перчатке к чугунной ограде парка, сделал какое-то движение плечом. Длинная голубая искра выскочила из перчатки, с треском ушла в ограду.
- Затем, - в его голосе появилась даже какая-то профессорская, академическая интонация, - затем вы нажимаете кнопку. Она может быть у вас в кармане. В другом месте срабатывает реле, и автомобиль подъезжает туда, где вы находитесь.
Сунул руку в карман.
Из-за угла, с Кайзерштрассе, выехал большой «кадиллак», освещенный изнутри, но с выключенными фарами. Он медленно подкатил к нам, остановился. Водитель сидел в шляпе, натянутой на самые глаза.
Бледный помахал рукой. Автомобиль тронулся, поехал по Шарлоттенбург, повернул на Рыночную.
- Убедительно?
- Неплохо, - сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать.
- Производит впечатление. Высокий уровень организации, да?
- Да, - согласился я. - Но зачем?
Мы стояли недалеко от фонаря с газосветной лампой. Его лицо было хорошо видно. Он приподнялся на цыпочки, искательно заглянул мне в глаза.
- Послушайте, неужели вы не хотите этого?… Рынок рабынь и всякие такие штучки.
Я содрогнулся.
- Нет, не хочу.
- Полное переустройство общества, и вы один из властителей его? Во всяком случае, принадлежите к немногочисленной элите. Разве вам ум сам по себе не дает вам право управлять и принадлежать к избранным? Вот и управляйте.
- Нет! - сказал я с силой. - Нет и нет!
- Но почему? Олигархия ума.
Тут мои мысли приняли новое направление. Я спросил:
- Ладно, а вы тоже будете принадлежать к олигархии?
- Я! - Он с достоинством выпятил свою цыплячью грудь. - Естественно. Ведь в известной мере это я вас и выпестовал. Я слежу за вами уже десять лет.
- Вы…
Он самодовольно кивнул. Из-за многочисленных аппаратов, которыми он был нагружен в эту ночь, его хилая фигурка выглядела толстой.
- Да. То есть я не постоянно надзирал за вами, но наезжал время от времени. Мы вообще следим за всеми физиками на Западе начиная с 45-го. На всякий случай.
- Кто это «мы»?
- Ян люди, для которых я работаю.
- А что это за люди?
- Так… - Он замялся на миг. - Солидные, состоятельные люди. Влиятельная группа в одной стране.
…О господи! Весь мир внезапно предстал передо мной как заговор.
Дождик то усиливался, то притихал. Мы стояли у входа в парк. В дальнем конце Шарлоттенбург блеснул фарами одинокий автомобиль, поворачивая на Риннлингенштрассе.
Бледный вопрошающе смотрел мне в глаза. Внезапно я заметил, что он весь дрожит. Но не от холода. Ночь была теплая.
Я вдруг понял, что он не уверен. Не уверен ни в чем. В его взгляде снова был тот прежний, знакомый испуг.
- Скажите, - начал я, - ну а вы убеждены, что лично вам было бы хорошо в этом переустроенном обществе? Вас ведь тоже могут уничтожить, когда цель будет достигнута.
Я шагнул вперед и взял его за руку. Мне хотелось проверить, действительно ли он дрожит.
Он выдернул свою лапку из моей ладони и резко отскочил назад, ударившись о решетку парка. Все аппараты на нем загремели.
- Что вы делаете?
Его лицо исказилось злобой и страхом.
- Что вы сделали, зачем вы меня схватили?
Я понял, что попал точно.
- Что вы сделали, черт вас возьми! Меня же нельзя хватать. Я испуганный человек. Я два раза был в гитлеровских концлагерях и переживал такие вещи, какие зам и не снились.
- Ну-ну, успокойтесь, - сказал я. (Это было даже смешно.) - Вы же только что убили человека.
- Так это я, - отпарировал он. - Ф-фу!.. - Он схватился за сердце. - Нет, так нельзя.
Он в отчаянии прошелся несколько раз до края тротуара и обратно. Потом остановился.
- Зачем вы дотронулись до меня? - В его голосе была ненависть. - Вы же все испортили, черт вас возьми.
- Но ведь у вас же действительно нет уверенности.
- Ну и что?… Зачем напоминать об этом? Это негуманно, в конце концов. Почему не оставить человеку надежду?
Странно было слышать слово «гуманно» из этих уст. И вообще все вызывало омерзение.
- Ладно, - сказал я. - Спектакль, видимо, окончен. Я ухожу.
- Подождите! - воскликнул он мне вдогонку. - Постойте. Я должен вам сказать, что вы можете работать спокойно. Я сам послежу, чтобы вам не мешали. Но предупреждаю, чтоб не было никаких неожиданностей. Не пытайтесь связаться с кем-нибудь помимо меня. Это смерть. Этого я не потерплю. Я сам вас воспитал, так сказать, и мимо меня это не должно пройти.
Некоторое время он шагал рядом со мной, потом остановился.
- Мы еще увидимся.
Входя к себе в комнату, я услышал, как что-то зашуршало у меня под ногой на пороге.
Я зажег свет и поднял с пола записку.
«Ждал тебя два часа. Срочно позвони. Крейцер».
VIII
Позднее утро.
Я выпил свою чашку кофе, зажег сигарету и отвалился на спину в постели.
Итак, я представляю собой объект соперничества разведок. Группа, от которой действует Бледный, уже знает о существовании пятна. Но и Крейцер тоже напал, видимо, на след. Только он пока не догадывается, куда след ведет. Крейцер не подозревает в создателе оружия меня лишь потому, что уж очень хорошо со мной знаком. Когда-то он ожидал от меня многого, берег и лелеял, так сказать, меня, рассчитывая вместе со мной взойти высоко. Но потом он разочаровался, и ему трудно преодолеть это разочарование. Чтоб заподозрить меня, Крейцер должен пойти против самого себя, а на это не каждый способен.
Но вот что важно: может ли черное действительно быть оружием?
Конечно, может.
Я встал.
Проклятье! Кому отдать?…
Это было нестерпимо! Вот что я мог бы принести в мир, если бы кому-то отдал свое открытие.
Но следовало определить, какова же непосредственно грозящая мне опасность. Крейцера пока можно было не брать в расчет. И не звонить ему. Повременить со звонком, хотя, судя по вчерашней записке, у него есть что-то новое.
Бледный!.. К счастью, я не записал ни строчки из своих трудов, и только с уме повсюду ходит вместе со мной гигантская мыслительная башня моих расчетов. Однако гарантия ли это? Он продемонстрировал ночью, как легко могут меня взять. А там последуют пытки, и если я их даже выдержу, то нет ли способов помимо моей волн узнать то, что есть у меня в голове? Гипноз или что-нибудь другое?
Итак, Бледный. Но он ведь и не очень силен.
Во-первых, поскольку Бледный, по его словам, «пестовал» меня все эти годы, он наверняка старается один владеть своей добычей и до поры не сообщает хозяевам всего обо мне. Пожалуй, кроме него, никто даже не знает, что я - это я.
И, во-вторых, у него страшное лицо.
Бледный был в концлагерях, может быть, в лагерях уничтожения, и видел там вещи, которые не могли не разрушить его. Впрочем, не всех они разрушали. Были такие, кто выстоял.
Но Бледный, во всяком случае, не принадлежал к числу людей, которые прошли через ужасы современного Апокалипсиса и выстояли. Он погиб. Перестал быть человеком. Не уверен ни в чем. Уже мертв, хотя сам еще продолжает убивать. Довольно одного толчка, чтобы он упал.
Другими словами, он опасен не сам собой, а теми, кто стоит за ним.
Где же мне его искать? Наверное, он должен быть около пятна. Я встал, надел плащ, спустился на улицу и взял такси.
Шоферу я сказал, что мне надо на хутор Буцбаха, но последние два километра я предпочитаю прогуляться пешком. Он высадил меня возле мызы.
Времени в запасе было около сорока минут, по моему расчету, я решил заранее осмотреть дальний край леса на тот случай, если мне удастся осуществить свой план.
Впрочем, я был почти уверен, что он удастся. Уж очень нетвердо Бледный стоял на земле. Слишком отчетливо на его чертах был напечатан приговор.
Я вошел в Петервальд и, минуя пятно, пошагал дальше. К западу местность начала опускаться. Сделалось сырее. Могучие ели сначала стояли ровно, потом лес стал теснеть и мельчиться. Еще несколько десятков шагов, и открылось озерко, заросшее по краям ржавой прошлогодней осокой.
Это и было то, что мне требовалось.
Я постоял минуту, запоминая дорогу, потом повернул обратно в гору.
Выше местность опять по-весеннему порозовела. Молодая свежая трава пробивалась там и здесь между серой старой, а в чащах маленьких елочек было так зелено, так липко и жарко пахло разогретой солнцем смолой, что казалось, будто не март доживает последние дни, а сам царственный небесно-синий июль плывет над долиной Рейна.
Щелкали птицы. В одном месте неподалеку от моей ноги серый шарик стронутся и покатился, но не вниз, а вверх по холмику. Мышка!
Я остановился, и зверек замер тоже. Секунду мы оба не двигались, потом комочек жизни осмелел, выпростал носик, принялся обнюхивать корень ели.
- Ну пожалуйста…
Однако пора уже было к делу.
Я прошагал метров триста и вышел на знакомую поляну. Со стороны тропинки густо росли молодые сосенки. Я вошел в заросль, снял плащ, сложил его на траве, уселся и стал ждать.
Итак…
Десять минут прошло, двадцать. В голову уже начали закрадываться сомнения. Не каждый же день он тут бывает. Но вдали послышался шорох, и я успокоился.
Шорох приблизился, и на поляну вышел Бледный.
Он шагал с трудом, неся на боку какой-то большой тяжелый аппарат, тяжело дыша и откинувшись в сторону, противоположную ноше.
Когда он опустил аппарат на землю, я увидел, что это была большая индукционная катушка неизвестной мне системы. Меня даже поразила его догадка. Видимо, он хотел попытаться с помощью сильного магнитного поля оттянуть пятно с занимаемого им пространства. Это был действительно верный путь, хотя катушка потребовалась бы в несколько раз мощнее. А еще лучше было бы взрывное поле, мгновенное.
Освободившись от груза, он расправил плечи, вздохнули потер занемевшие руки.
Он снова был нашпигован различными устройствами, как в прошлую ночь.
На поляне было светло. Освобожденный от нервного напряжения той борьбы, которой явились два моих последних разговоров с ним, я мог теперь внимательно рассмотреть его лицо. Что-то знакомое чудилось в этих чертах, что-то отзывающее в далекое прошлое - ко времени моего детства или юности.
Левый ботинок Бледного был испачкан следами зубного порошка. Эта небрежность сразу нарисовала мне картину его заброшенного быта. Вот он встает утром где-нибудь в серой комнате консульского здания, один, одинокий человек, до которого никому нет дела, вот, выпрямившись и думая о другом, чистит зубы возле умывальника. Капельки разведенного порошка падают ему на брюки и ботинки, и нет никого, кто указал бы ему на это…
Мне его даже жалко стало, но я одернул себя: это враг! Жестокий убийца и предатель.
Бледный подозрительно осмотрелся, стал прислушиваться. Так длилось целую минуту, и я замер, стараясь даже не дышать.
Потом он успокоился, лицо его сделалось отчужденным. Бормоча что-то про себя, он вынул из кармана пальто моток тонкого провода и принялся разматывать его.
Я дал ему время, чтобы самоуглубиться - это тоже входило в мой план, - поднялся и резко крикнул:
- Эй!
Я даже не думал, что эффект будет таким сильным.
Бледный зайцем скакнул в сторону, слепо ударился о ствол дуба и замер. Кровь отхлынула от лица, он смертельно побледнел. Затем кровь прилила, и он пунцово покраснел.
На секунду мне показалось, что я достиг своего гораздо более зверским способом, чем я сам хотел.
Потом ему сделалось лучше, но только чуть-чуть. Он вздохнул полной грудью и выдул воздух через рот. Положил руку на сердце, прислушиваясь к нему, и посмотрел на меня.
- Это вы?
- Да, - сказал я, выходя на поляну. - Добрый день.
Бледный махнул рукой, как бы отметая это, пошатываясь, сделал несколько шагов к индукционной катушке и сел на нее.
- Как вы меня окликнули, - сказал он потерянным голосом. - Если меня еще хоть один раз так окликнут, я не выдержу. - Он опять прислушался к сердцу. - Плохо. Очень плохо. - Потом посмотрел на меня. - Зачем вы здесь?
- Я хотел бы поговорить с вами. Разговор будет чисто идеологический, естественно. Следует выяснить ряд обстоятельств. - Я прошелся поляной и стал перед ним. - Во-первых, верите ли вы кому-нибудь?
Он вяло пожал плечами.
- Нет… Но какое это имеет значение?
- А себе?
- Себе тоже, конечно, нет. - Он задумался. - О господи, как это было ужасно! - Затем повторил: - О господи!
- Тогда зачем все это? - Подбородком я показал на размотанный провод, кольцами легший на траву. - Вы же понимаете, что без какого-то философского или хотя бы нравственного обоснования ваши усилия не имеют смысла. Другое дело, будь у вас общественное положение или необыкновенный комфорт, которые вы хотели бы защищать. Что-нибудь ощутимое, одним словом. Но ведь этого тоже нет. Чем же вы руководствуетесь?
- Чем? Страхом.
- Страхом?
- Да. Вы считаете, что этого мало?
- Нет, это прилично. Но ведь то, что вы делаете, не избавляет вас от страха. Нет же. Напротив, чем ближе вы к цели, тем страшнее вам делается. Вы сами это знаете. Иначе было бы, будь вы в чем-то убеждены. Хоть даже в чем-нибудь отрицательном. Например, в том, что усилия человека ни к чему не ведут. Что деяния людей - научные открытия, создание произведений искусства, подвиги любви и самоотвержения - что все это не может побороть извечное зло эгоизма. Хотя, строго говоря, такое мнение нельзя было бы даже считать убеждением, а лишь спекуляцией, бесплотной по существу, поскольку для того, чтобы вообще наличествовать, она должна опираться на то, что сама отрицает.
Я сделал передышку, набрал воздуха и продолжал:
- Обращаю ваше внимание на то, что мысль о бесцельности прогресса, лелеемая столь многими современными философами и социологами, как будто находит подтверждение в событиях последнего тридцатилетия. В самом деле: сорок веков развития культуры, и вдруг все это упирается в яму Освенцима.
- Освенцим! Что вы знаете об Освенциме?
Я отмахнулся.
- Неважно. В яму Освенцима. На первый взгляд может показаться, что все предшествующее было ни для чего. Но такая концепция не учитывала бы коренного различия между добром и злом. Заметьте, что зло однолинейно и качественно не растет, оставаясь всегда на одном и том же уровне. Рынок рабынь, о котором вы говорили, и бесконтрольная власть - вот все его цели. Поэтому вождь людоедского племени, избирающий очередную жертву среди своих же трепещущих подданных, помещик-самодур с гаремом и Гитлер принципиально не отличаются друг от друга, и того же помещика мы легко узнаем в современном банкире, ежегодно меняющем красавиц секретарш. Между тем совсем иначе дело обстоит с добром. Ему свойственно расти не только количественно, но и качественно. Первобытный человек мог предложить соседу только кусок обгорелого мяса. А что дают человечеству Леонардо да Винчи, Бетховен, Толстой или Флеминг? Целые миры и совершенно новые возможности. Добро усложняется, оно не однолинейно, а совершенствуется с каждым веком, завоевывая все новые высоты и постоянно увеличивая свою сферу. Это и дает нам надежду, позволяя верить, что мир движется вперед, к братству и коммунизму.
(И концепция добра и коммунизма высказалась у меня как-то сама собой.) Я умолк. Мне показалось, что Бледный и не слушает меня.
Действительно, сначала он заговорил о другом:
- Вы меня страшно испугали. - Он покачал головой. - Сердце почти остановилось. Я подумал, что она уже пришла - та жуткая минута… - Он помолчал, потом криво усмехнулся. - Посмотрите, что делается в двадцатом веке с гонкой вооружений. Она уже вырвалась из-под контроля, развивается сама собой, по собственным внутренним законам и приведет человечество к краху. Да, уважаемый господин Кленк, накат прошлого, который создавался веками, целой историей, слишком мощен, чтобы одно-единственное поколение могло его остановить. Гонка вооружений - если только о ней одной говорить,
- сильнее современных людей.
- А усилие, - сказал я, - усилие, которое приходится делать и которое противостоит как раз накату, как раз инерции обстоятельств или слепым экономическим и политическим законам? Вот, например, Валантен. Он ведь мог бы и не писать своих картин. Или писать их хуже. Но…
- Валантен как раз готовит вам сюрприз, - прервал меня Бледный. - Но, впрочем, ладно. Что вы хотите всем этим сказать? Что вы предлагаете мне?
- Вам? - Тут я посмотрел ему прямо в глаза. - Вы знаете, что я вам предлагаю. Сделайте это. Ведь нам же не хочется бояться. Ведь там, в самой затаенной глубине души, вы тоже желали бы того мира, где не нужно бояться. Так послужите ему хоть один раз.
Он резко встал, и все приборы на нем загремели.
- Значит, вы считаете, что…
- Да, - твердо ответил я.
Ладонью он вытер вспотевший лоб.
- Бред!.. Откуда вы взяли, что вам удастся меня убедить? Я ни в коем случае не соглашусь.
- Неужели? - спросил я. - А по-моему, вы уже давно близки к этому. Вы прекрасно знаете, что вас обязательно убьют. Причем как раз те, для кого вы работаете. Уберут сразу после того, как вы справитесь с заданием. Просто потому, что вы будете слишком много знать. Ведь всегда избавляются от таких, и вам это известно. Убили Ван дер Люббе, убрали Освальда Ли. И чем скорее вы принесете своим хозяевам то, чего они ждут, тем скорее настигнет вас смерть. Поэтому вы и испугались так, когда я вас окликнул.
Он вдруг улыбнулся.
- С вами легче, потому что вы предсказуемы. Вы, идеалисты. От вас знаешь, чего ожидать. Или, во всяком случае, знаешь, чего ожидать нельзя. Я, например, понимал, что из-за угла дубиной по голове вы меня убивать не станете. Это пошло бы против вашего прекраснодушного чистоплюйства. Вы будете уговаривать.
Затем лицо его переменилось. Он бросил на меня злобный взгляд.
- По все это бред! Бред, говорю вам.
Откинул полу своего пальто, вынул из кармана брюк тот давешний револьвер с толстым дулом и прицелился в меня.
- Между прочим, мне ничего не стоило бы убить вас.
Я внутренне содрогнулся, но не подал вида.
- Н-ну, не переоценивайте своих возможностей. - Мой голос звучал совсем примирительно. - Ведь это тоже требует усилия - нажать курок. А на усилие-то вы как раз и не способны. И во-вторых, допустим даже, что вы меня убьете. Что из этого? Вы же не избавитесь от страха. Это лишь отодвинет на некоторый срок то жуткое мгновение, когда вас снова кто-нибудь окликнет и опять страшно забьется сердце. Но вас окликнут. Вам самому прекрасно известно, что вас окликнут. Без этого не обойтись. Подумайте, кстати, и о том, что мы с вами в известном смысле старые знакомые, что я добр с вами в ваши последние минуты… А будут ли добры те, другие?
Он слушал меня мрачно. Сунул револьвер в карман. Опустил голову и задумался.
На поляне было тихо. Только неподалеку щелкала и заливалась какая-то пичужка.
Потом он поднял голову.
- Я всегда был слабым, - пожаловался он. - Некуда было деваться. Вообще в этом мире слабым некуда деваться. И всю жизнь боялся насильственной смерти. Мне пятнадцать лет было, когда штурмовики повесили отца. В концлагере, у меня на глазах. А в конце войны Освенцим. Там я тоже насмотрелся. И так оно пошло дальше. В сорок пятом, после того как американцы взорвали атомную бомбу, я понял, что надо держать на них. Но теперь ясно, что и это не избавляет от страха. В этом смысле вы правы. - Вдруг он взорвался: - Черт побери, со мной всегда так! Обязательно прав кто-нибудь другой, а не я. Всю жизнь!
- Это естественно, - сказал я.
- Почему?
- Потому что правым можно быть лишь с точки зрения каких-нибудь убеждений. Вы же не только ни в ком не уверены, вы и ни в чем не убеждены.
Он кивнул.
- Возможно, так оно и есть… Так, значит, вы предлагаете мне это?
- Да, именно это. Возьмите свою судьбу хоть один раз в собственные руки. Примите решение, и вы увидите, что это сразу избавит от страха.
Бледный опять вытер лоб.
- Может быть, верно. Я сам часто думал об этом. - Вдруг в голосе его зазвенела злоба. - Только не воображайте, что вы убедили меня вашей идиотской теорией добра и зла. Дело совершенно не в этом. Просто вы меня слишком неожиданно окликнули.
Я промолчал. Он улыбнулся со смущением и робостью. Такой странной была эта улыбка на его белом лице, которое сразу вдруг помолодело.
- Кстати, это правильно, что мы с вами старые знакомые. Вы меня не узнаете?… Я Цейтблом.
Я вгляделся в его черты.
- Цейтблом. Вальтер Цейтблом. Помните, мы вместе работали в лаборатории Гревенрата? В тридцать девятом году.
О господи! На миг через его измятое, потасканное бледное лицо вдруг проявился другой образ, свежий, юный, но уже испуганный. Я вспомнил этот удивлявший меня тогда взгляд, который как бы силился втиснуться в щель между времен. Вальтер Цейтблом!.. Вот откуда тянулся след, в какой дали это началось. Двадцать пять лет назад убили его отца, кости людей, сделавших это, уже истлели, а преступление еще живет в несчастном Вальтере, который собирался отдать мое черное новым убийцам.
- Мы познакомились тогда, в тридцать девятом, - смущенная улыбка все еще держалась на лице Цейтблома, - а потом, когда я случайно узнал, что вы выжили и снова в университете, я уже не упускал вас из виду. Я знал, что вы должны что-нибудь сделать.
Но пора было кончать.
- Итак, - сказал я, - если вы решили, то приступим к делу. Нет смысла медлить, верно же?
Он вздохнул.
- Да… Пожалуй, да. Похоже, что это лучший выход… А что мы сделаем с этим? (Он имел в виду индукционную катушку и провод.)
- Тут неподалеку озеро. Там можно все это утопить. И там же… - Я не договорил.
Мы взяли катушку с проводом и понесли. Продираться через кусты с этим громоздким сооружением было чертовски трудно. Притом я все время боялся, что он передумает.
Действительно, он начал мрачнеть, идти все медленнее и в конце концов остановился. Правда, мы оба уже дышали тяжело.
- Давайте отдохнем.
Мы положили катушку на траву.
- Послушайте, - сказал он. - А что, если мне просто скрыться?
- Куда?
- Ну куда-нибудь. На острова Фиджи… Уехать во Францию.
- Но вас все равно найдут. Вы же не можете серьезно думать, что вам удастся скрыться от американской разведки. Вы очень заметный человек… И, кроме того, вас опять будет преследовать страх. Это даже важнее. Вы всегда будете бояться, оглядываться - всякая хорошая минута отравлена. Нельзя же убежать от собственного страха. Он часть вашего «я».
Цейтблом покивал.
- Возможно, вы пра… - Потом оборвал себя, выругавшись. - Ладно, возьмем эту штуку.
Опять мы подняли катушку. Она была такая тяжелая, что меня удивляло, как он смог один дотащить ее от автомобиля. Главное - ее неудобно было держать. Не за что как следует ухватиться.
Метров через триста, когда уже показалось озеро, он снова остановился.
- Подождите минутку.
Мы опустили катушку.
Погода между тем стала портиться. Солнце зашло за неизвестно откуда взявшиеся тучи. Вокруг потемнело. И лес здесь был мельче, пустее.
Цейтблом огляделся.
- Не особенно приятное место. Не очень подходящее для того, что мне предстоит сделать.
Я пожал плечами.
- Выбирать, собственно, не из чего.
Но ему в голову пришла новая мысль.
- Да… А что вы сами-то собираетесь делать?
- Я?… Кончу свою работу и потом тоже уйду.
- И никому не отдадите ее?
- А кому?… Нет, конечно.
Он рассмеялся.
- Это вы серьезно?
- Вполне.
Он вдруг повеселел и безропотно согласился отнести катушку на глубокое место. Затем вернулся на десяток шагов назад. Брюки у него были мокрые выше коленей.
- Что ж, пора, - сказал я.
Он кивнул.
- Действительно, я уже чувствую себя спокойнее. - Он усмехнулся. - И я обманул всех.
Я боялся, что последний момент будет самым мучительным, и мне захотелось утешить его. В конце концов, он был лишь жертвой.
- Прощайте, - сказал я. - Мне искренне жаль, что так получается. То есть жаль, что вы стали таким. При других обстоятельствах все могло быть иначе.
Цейтблом снова кивнул. Лицо его, в общем-то мелкое, посерьезнело и на миг приобрело трагическое, даже величественное выражение.
- Да, страх кончается. Я чувствую себя свободным и, - он поднял голову,
- даже сильным. Может быть, сильнее тех. - Он кивнул куда-то в неопределенную сторону. В его голосе появилась нотка приказа: - А теперь идите. Не хочу, чтобы кто-нибудь видел это.
Я повернулся и медленно пошел. Было слышно, как он, взволновывая воду, продвинулся дальше на глубину. Сделалось тихо, и донесся знакомый мне щелчок. Не сильнее, чем отдаленный удар клавиши на пишущей машинке…
Я был совсем измотан и еле-еле добрался до трамвайной остановки.
Но испытаниям этого дня не суждено было кончиться.
Когда я был уже возле нашего подъезда, рядом вдруг остановился стремительно подъехавший автомобиль. Открылась дверца, оттуда поспешно вышел человек.
Крейцер.
- Я к тебе сегодня третий раз. Почему ты не звонил?… Есть очень важное дело. - Он не дал мне ответить. - Нам придется поехать вдвоем. Чрезвычайно важное дело.
- Куда?
- Чрезвычайно важное дело. Садись. Я уже час караулил тебя в машине. Вон с того угла.
Мы сели в автомобиль. Дорогой Крейцер молчал. Верфель остался позади - я уже начал предчувствовать.
Машина остановилась на пустынном, теперь уже высохшем шоссе, ведущим к хуторам. Крейцер повернулся ко мне.
- Прежде всего, это дело государственной важности. Понимаешь? (Я кивнул.) Сейчас покажу тебе кое-что. Но сначала ты даешь мне слово, что никто не узнает. (Я кивнул.) Ты согласился?… Тогда… Извини, но придется предпринять некоторые меры. - Он вынул из кармана заранее приготовленный кусок черного бархата. - Завяжи глаза. Это даже больше для твоей собственной безопасности. Для тебя же лучше, если ты не будешь знать всего…
Опять мы ехали, машину сильно качало и шатало. Затем минут пятнадцать пешком. Наконец рука Крейцера остановила меня.
- Здесь. Сними повязку.
Я снял.
Некоторое время мы оба молчали.
Я сделал шаг вперед, обдумывая, как вести себя. Погрузил пальцы в пятно и вынул их.
- Что это такое?
Крейцер, жадно смотревший на меня, нетерпеливо пожал плечами.
- Вот это и надо выяснить. А ты как считаешь?
- Ну, в общем… Некое субстанциональное состояние. Если самым общим образом… В первый момент заставляет вспомнить шаровую молнию.
- Ну-ну-ну…
- Оно все время висит так неподвижно? Или было какое-то движение?
- Никакого… Я, между прочим, сначала тоже подумал о шаровой. Во всяком случае, это не плазменное состояние.
Я обошел пятно кругом.
- Может быть, оно здесь всегда? От сотворения мира… Хотя, если б так, тут уже давно стоял бы храм. И толпы верующих.
- Да перестань. Значит, субстанциональное состояние?
- Да. Полностью поглощает свет. По крайней мере, видимый. В дальнейшем все будет зависеть от того, какова способность поглощения. Если она близка к бесконечности - без перехода в критическое состояние, - сюда может уйти в конце концов излучение всей вселенной. То есть попросту вся вселенная. Естественно, на это потребовалось бы и время, близкое к бесконечности.
Крейцер усмехнулся.
- Такое отдаленное будущее нас мало интересует. - Он стал серьезным. - Слушай, кто-то поставил здесь эту штуку. Может быть, даже не так важно, кто и зачем, но это сила. Огромная сила, которую нельзя отпускать черт знает куда. Она наша, она сделана здесь, на немецкой земле, и должна служить нам. Американцы уже стараются наложить лапу, но, по некоторым сведениям, им не все известно. Повторяю, не столь уж существенно, кто это выдумал, сейчас самое важное - понять, что это за штука. Я хочу, чтобы ты подумал. Может быть, попробовать парамагнитный резонанс, а?
Тут он и был весь, Крейцер. «Парамагнитный резонанс».
- Ну вряд ли, - сказал я. - Видимо, мы имеем дело с состоянием, а не веществом. Парамагнитный резонанс показал бы обычный состав атмосферы.
- Ах да… Пожалуй, да. - Он кивнул. - Но какие-то методы должны быть.
- Кончиком языка он облизал внезапно высохшие губы. - Скажу тебе честно, это мой шанс. Мне удалось выследить, куда ездит тот человек, о котором я тебе говорил. Такие вещи не выпускают из рук. Я уже намекнул кое-кому из руководства бундесвера… Если ты поможешь, я сделаю тебя человеком. Твоя жизнь совершенно переменится, понимаешь.
- Надо попробовать, - сказал я.
- Вот именно. - Глаза Крейцера блестели. - Я на тебя очень рассчитываю, Георг. Многие считают тебя неудачником, но я-то знаю, что у тебя теоретическая голова. Постарайся. Для меня, для друга - все-таки я тебе всегда помогал. А если что-нибудь выйдет, за мной-то не пропадет, ты знаешь. Любой расчет в институте будет твой. Будешь приходить к нам как домой.
- Надо попробовать.
- Если нужны какие-нибудь аппараты или что-нибудь, я все организую.
Я покачал головой.
- Приборы не нужны. Только время. Следует подумать. Кое-какие идеи уже формируются.
- Какие? - быстро спросил он.
- Пока еще рано говорить.
- Ну все-таки?
- Рано. Это только меня собьет.
- Нет. Намекни.
- Я тебе говорю, нужно подумать. Ты же знаешь мою манеру. Я ложусь на постель и обдумываю.
- А сколько тебе нужно времени? - Его взгляд погас. - Имей в виду, у нас на счету каждая минута. Мы ведь еще не знаем, кто это сделал и что он предпримет в дальнейшем.
- Три недели. Через три недели я тебе скажу, что это такое.
- Может быть, две? Было бы очень кстати, если б две.
- Почему?
- Нет-нет, неважно.
Он уклонился от ответа. Это одна из привилегий, которые присваивают себе сильные мира сего: спрашивать, не отвечая. Крейцер, правда, еще только шел к тому, чтобы стать сильным, но этим он уже пользовался. Еще бы! Начни он мне отвечать, это поставило бы его на одну доску со мной. Вообще он должен был далеко пойти, я это чувствовал. Чистенький, гладенький, слова неосторожного не скажет. Естественно, что оно нелегко, такое диетическое существование. Но дайте ему черное, и он развернется…
Ему не стоялось на месте.
- Слушай, но как я догадался, за кем следить! А? - Он прошелся по поляне. - Да, значит, две недели… Может быть, тебе все-таки что-нибудь надо? Я мог бы приходить иногда вечерами, и ты бы мне излагал свои концепции. Знаешь, это ведь помогает самому… И как у тебя с деньгами? Кофе там, то и се? - Он полез в карман за бумажником. - Ты не стесняйся. Между друзьями…
- Нет-нет. Я же недавно получил.
- Ах да… Отличная, кстати, была мысль насчет Монте-Карло. Я так и сказал шефу. - Он прошелся еще раз. - Но никому ни звука. Когда тебе надо будет еще раз на него посмотреть, ты звонишь мне, что, мол, надо встретиться. Не говоря, зачем. Я тебя буду привозить и отвозить домой, но пока - извини! - с повязкой. Так надо. Тут государственная тайна. Причем имеющая прямое отношение к обороне страны.
- Отчего именно к обороне?
Он удивился.
- Представь себе, что будет, если залить этой чернотой город…
- Город погибнет. Но это как раз не оборона. Нельзя же с целью обороны губить свой собственный город.
- Ах, в этом смысле!.. Ну, может быть… А если залить чернотой поле…
- Поле никогда не сможет родить. Его уже не коснутся солнечные лучи.
- Вообще территория, атакованная черным…
- Это территория, навсегда перестающая существовать в качестве обитаемой территории.
Он остановился.
- Ты читаешь мои мысли.
- Нет, что ты? Только свои.
Секунду или две Крейцер смотрел мне в глаза и подтверждал свою установившуюся точку зрения на меня: неудачник. (Кое-что повисло на волоске.) Потом он подтвердил и успокоился.
- Да… Короче говоря, это может быть как раз то оружие, которого нам, немцам, недоставало в 45-м году. Многое повернулось бы иначе, если б оно было.
- Ну, оружие еще не все, - сказал я. - Ему противостоит кое-что другое. Например, я знал одну девушку, которая стреляла в Париже в 42-м году. (Я вдруг вспомнил эту девушку. Вся моя надежда сконцентрировалась на ней.)
- Какая девушка?
- Француженка. Она стреляла в кого-то из нацистских главарей.
Крейцер неожиданно заинтересовался:
- Весной? В апреле?
- Да, кажется.
- Она стреляла в Шмундта. В адъютанта Гитлера. Ее тут же и поймали… Но какое это имеет значение?
Он остро посмотрел на меня.
- Никакого. Просто она мне вспомнилась…
Мы вернулись тем же порядком в город, и я вышел на Риннлингенштрассе. Сел на скамью в скверике у Таможни и вытянул уставшие ноги.
Жужжала и роилась толпа вокруг.
Почему жизнь сталкивает меня только с цейтбломами и крейцерами? Нет ли во мне самом чего-то предопределяющего в этом смысле? Так ли уж был одинок Валантен и так ли бессильна та девушка?…
Но мне надо было успокоиться и начать подходы к Другому. Атака отбита. Бледный устранен, а Крейцер отодвинут на три недели, в течение которых я должен кончить все.
Вообще я любил это время перед большой работой. Тихо шелестя, как сухой песок, посыплются минуты, соединяясь там, внизу, в часы и сутки. Дни светло замелькают вперемежку с черными ночами, и я погружусь последний раз в чистый мир размышления.
IX
Я заснул под утро и увидел во сне батрака.
Он приснился мне, и я сразу понял, чего мне не хватало при возникших обстоятельствах. Я должен был поговорить с ним.
Во сне я настиг его где-то в Баварии. Но, может Ныть, это была и не Бавария, а что-то другое. Мы оказались в большой комнате, стены которой были дымчатыми и колебались, как бы готовясь открыть мне что-то такое, что скрывалось за ними.
Я спросил:
- Скажите, пожалуйста, испытываете ли вы какие-нибудь трудности в жизни?
Он был в той же брезентовой куртке, что и в лесу. Очевидно, он только что кончил работу, усталость отражалась на его красном обветренном лице.
Он тупо посмотрел на меня и сказал:
- Простите. Что?
Я объяснил:
- Трудно ли вам жить? Встречаетесь ли вы когда-нибудь с такими проблемами, которые почти не поддаются решению? Решение которых само по себе проблематично? С тем, что заставляет вас напрягаться до самых последних сил? Понимаете, что я имею в виду? Ведь это не так уж сложно - выкопать, например, канаву. Или напоить коров. Здесь вы сталкиваетесь с принципиально выполнимыми вещами. Улавливаете мою мысль?… Но есть ли у вас в жизни неразрешимое? Такое, над чем вы бьетесь и ничего не можете сделать? Что превращает вашу жизнь в постоянную изнурительную борьбу.
Он подумал и сказал:
- Нет.
Потом сразу поправился:
- То есть да… Сейчас я вам скажу.
Он напрягся. Его мозг напрягся. Сквозь черепную кость я видел, как засияли силовые поля, как пришли в движение тысячи связей, как искорки проскакивали между электрическими потенциалами.
Волнуясь, он зашагал из угла в угол, и тут я, наконец, сообразил, отчего у него такая прыгающая походка. Он был на протезе. И этот протез скрипел.
Потом он подошел ко мне вплотную. Эту его манеру я заметил еще в прошлый раз. Когда ему хотелось сказать что-нибудь важное, он подходил к собеседнику как можно ближе и чуть ли не нажимал животом.
- Видите ли, у меня дети.
- Что?
- Дети, - повторил он. - Мы все хотим, чтобы наши дети жили лучше… У меня четверо. Вилли самый младший, и у него слабые легкие.
- Да, - согласился я, несколько отступая. - Но трудности? Неразрешимые проблемы - вот о чем бы я хотел знать.
Батрак опять шагнул ко мне. Он вытаращил глаза, огляделся и хриплым шепотом, как бы сообщая величайшую тайну, поведал:
- Ему бы нужно лучше питаться.
И тотчас батрак исчез.
Дымчатые стены комнаты заколебались, раздвинулись, и оказалось, что я нахожусь не то во дворце, не то в храме. А вместо батрака передо мной появился сам великий Иоганн Себастьян Бах. В зеленом камзоле, в белом пудреном парике и с дирижерской палочкой.
Он строго глянул на меня из-под больших очков, постучал о пюпитр. Поднял руки.
И возникли первые звуки органа.
И запел хор:
«Ему бы нужно лучше пита-а-аться. Ему бы нужно лучше питаться-а-а!»
Бах исчез.
Рембрандт из-за мольберта, кивая, соглашался. (Подол его серой рубахи был весь измазан красками.)
- Да, у него слабые легкие.
Пастер оторвался от микроскопа, разогнулся и потер усталую поясницу.
- Конечно, мы хотим, чтобы наши дети жили лучше, чем мы…
В этом месте я проснулся и спросил себя, не взять ли этого к нам с Валантеном. Пусть в будущем мы трое станем там в бессмертии: Валантен, я и этот батрак.
Я бы взял его.
X
Вечер.
Я глубоко доволен собой.
Я люблю себя. Мне хочется разговаривать с собой, как с другом. Как с братом.
- Здравствуй, Георг Кленк.
- Здравствуй.
- Ты кончил свою работу?
- Да, кончил.
- Ты устал?
- Немножко.
- Тебе пришлось как следует потрудиться?
- Не так уж и много. Всего лишь тридцать лет - вот уже и окончен мой труд. Я начал примерно с тринадцати…
Я доволен собой. Три дня назад я завершил все расчеты и собрал аппарат по новой схеме.
Аппарат работает.
Все!
Свершилось.
Я доволен собой. Я умный. Я красивый. У меня выразительные глаза и сильный лоб. В определенных ракурсах мое лицо бывает удивительно красивым - женщины говорили мне об этом. В Италии девушка, которой я на флорентийском вокзале помог попасть в поезд вместе с семьей, вдруг всмотрелась в меня и сказала: «Какое у тебя прекрасное лицо! Хочешь, я останусь с тобой на всю жизнь?» Я высокого роста, светловолосый, широкоплечий, с голубыми глазами. Во Франции молодая актриса, в доме которой мы стояли месяц, сказала, что, если я разрешу, она пойдет со мной, куда бы судьба не повела меня… Но что я мог ответить? Я ведь был солдат, и мы все должны были быть убиты.
У меня крепкие длинные пальцы, отличный слух, музыкальная память и воображение. Я мог бы стать пианистом. Я неплохо рисую - я мог бы сделаться художником. Я люблю и ценю искусство - я мог бы быть критиком живописи. Мне кажется, я мог бы стать и писателем, потому что меня занимает подмечать у людей мельчайшие душевные движения и находить их большие причины.
Я мог бы стать многим и многим, но не стал ничем.
И все равно я горд сегодня.
Я прожил жизнь в фашистской стране. Мне было тринадцать, когда загорелся рейхстаг. Я жил в эпоху полного господства негодяев. И тем не менее я мыслил. Я начал свой труд и окончил его.
Я беден, у меня нет друзей и общества, я подвергаюсь презрению сытых и благополучных. Вышло так, что у меня нет любимой женщины, семьи и дома. Один, один, чужой в этом мире, я прошел свою жизнь.
Но ведь и невозможно было иначе. Ведь верно, что невозможно?…
(«А девушка?» - сказал мне внутренний голос.) Мне не хватало многих человеческих начал, но многое я и возместил мыслью. У меня великолепная библиотека - воображенная. У меня прекрасные картины. Я мог входить в них и возвращаться. Я посещал другие века и страны, у меня были там удивительные встречи и поступки.
В какой мере все это реально? В какой мере реальна мысль.
Сейчас я вспоминаю, что же действительно было в моей жизни… Детство, улыбка матери и ее ласковая рука… Солнце над полями пшеницы у Рейна… Мое смущение и горящие изнутри щеки, когда я первый раз разговаривал с Гревенратом в университете… Казарма… Зной и пыль полевых учений… Окопы, выстрелы, выстрелы… Русские снега, задернутые дымкой горы Италии, и снова красноватый блеск, лопающийся звук минного разрыва и запах порохового газа…
Все это было. Но ведь был и мой непрерывный труд, созданный в муках математический аппарат моей теории. Были и есть три тома моих сочинений.
Что за нужда, что я не записал их, что они никому не известны? Что за важность?… Ведь они мыслятся, они уже созданы, существуют. Я мог бы начать записывать их с ума хоть сейчас.
И есть, наконец, сделанные мною пятна. Черное…
Итак, вот он - я.
Человек по имени Георг Кленк.
Тот, который сидит сейчас в пустой комнате. У которого в голове огромное дерево его теории и ни одного клочка живых реальных записей. Тот, у которого в тайнике аппарат, делающий пятна и уничтожающий их.
Эй вы! Вы слышите крик Человека?…
Крейцеры, геринги, круппы - те, кто ездит в автомобилях, живет во дворцах и виллах, кто на самолетах перемещается из одной страны в другую, владеет банками и гонит людей в окопы и концлагеря! Вам кажется, вы главные в мире, а все остальное ничтожно. Так нет!
Вот я, Георг Кленк, из глубины своего одиночества завтра явлю вам черное и заставлю вас дрогнуть.
Я заст…
А впрочем, уж так ли мне это нужно?
Разве я трудился затем, чтобы произвести на них впечатление? Хоть даже ужасное?
Я вдруг почувствовал себя опустошенным. Вот он и прошел, лучший вечер в моей жизни.
Долго-долго я сидел на постели, нахмурив брови и ссутулившись.
Потом я встряхнулся. Послезавтра будет открыта галерея. Я пойду к Валантену. Он тоже был одинок, как я, но его прекрасное, светлое лицо выражает надежду.
Последний вопрос я ему задам: почему он надеется?
Я войду в картину, в средневековый Париж, и мы будем говорить.
XI
Валантен продан. Вот на что, оказывается, намекал Бледный.
Ну и все!
Я пришел в галерею Пфюля, и пятый зал был закрыт. Сердце у меня сразу заныло, я вернулся к швейцару. Так оно и было. Сверкающий американский автомобиль недаром стоял у особняка. Какой-то миллионер, может быть, тот самый «шеф», которому должен был докладывать Цейтблом, купил у молодого Пфюля пять подлинников. Он взял «Наивность девственницы» Босколи, «Деревья» Ван Гога, «Портрет мужчины» Ткадлика, «Август» Макса Швабинского и «Музыку» Валантена. Теперь галерея обезглавлена. Ее почти что и нет. А между тем это была единственная галерея в нашем городе.
Я вышел из особняка и прислонился к стене.
Скоты! Уроды!
Если б эти богатые могли, они, наверное, скупили бы и симфонии, и книги, и песни. Странно, что до сих пор не издано закона, чтоб лучшие романы публиковались в единственном экземпляре, чтоб никому, за исключением имущих, не дозволялось слушать Перголези и Моцарта.
Разве человек - если он действительно Человек - станет изымать картину из музея, где ее могут смотреть все, и помещать в частное собрание, чтобы только одному наслаждаться ею?
И даже «наслаждаться» ли? Сомнительно. Только ласкать свое тщеславие. Какова теперь судьба Валантена? Он будет висеть где-нибудь в пустом флигеле строго охраняемого дворца. Лакеи равнодушно станут стирать с него пыль, и только раз в год хозяин, зайдя после обеда с сигарой в зубах рассеяться среди своих сокровищ, скользнет по нему случайным взглядом. Раз в году одна из тех девчонок в штанах, что каждый год наезжают из-за океана, небрежно кивнет очередному приятелю: «Какой-то француз из древних. Отец привез из Германии еще после войны… Кажется, Валантен или как-то так». Ведь уже модно не знать великих художников прошлого. Среди идиотов гордятся тем, что не читали Бальзака…
О господи! Кажется, я начинаю ненавидеть людей. Неужели таков будет мой конец?
Я пошел домой.
Вот и вся моя жизнь. Так она и кончается. Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris. Помни, что прах ты и в прах обратишься.
Завтра я уничтожу аппарат, соберу и выкину свои вещи.
И все.
Прощай же, Георг Кленк. Прощай…
И в то же время я знал, что уже не хочу умирать. Был испробован вкус борьбы, побежден Бледный, что-то новое вошло в мою жизнь, и прекрасный гений Надежды как бы издалека взмахнул крылом.
XII
Было пять утра, когда я вышел из дому, сунув аппарат под пиджак. Мне не хотелось уничтожать его в своей комнате. Что-то неприятное таилось в мысля о том, что, когда меня уже не будет на свете, фрау Зедельмайер станет подметать обломки моего творения, соберет их в ведро, выкинет в помойку тут же во дворе, и все то, что было прекрасным и сильным в моей жизни, смешает с грязной прозой своего квартирного быта.
Я решил, что выйду за город и где-нибудь в уединенном месте за Верфелем разобью аппарат камнем.
Кроме того, у меня было желание последний раз пройтись по нашему городу и посмотреть на дома. Дома-то, в сущности, все время были доброжелательны ко мне - тут уж я ничего не мог сказать. Я знал их, они знали меня. Наше знакомство началось с тех пор, когда я был еще совсем маленьким, - я, собственно, вырастал у них на глазах. Всякий раз, если я уставал или мне было плохо, я выходил бродить по улицам, смотреть в лица домов. И они мне помогали.
Я пошел по Гроссенштрассе, повернул в переулок и вышел на Бремерштрассе. Старые каштаны стояли в цвету, на газоне под ними редко лежали зеленые листья. Какой-нибудь маленький новый Георг Кленк станет поднимать их, с наслаждением ощущать их липкость и шершавость… А впрочем, нет. Не будет уже нового Георга Кленка. Люди не повторяются. Может быть, это и к лучшему. Современный мир не для таких. Он меня не принял, я не принял его. Я прошел стороной. Не нужно, чтобы я повторялся. Горе тому, в ком я повторюсь хоть частицей.
На улицах было пусто и первозданно. Белое утреннее небо светило все разом. Теней не было в городе. Как отчеканенные, промытые ночным дождиком, спали окна, наличники, стены, балконы, двери.
Странные мысли приходили в голову. Уж так ли я одинок? Десятилетиями, даже столетиями в этих зданиях жили семьи. Резвились дети, мать за стиркой, у плиты, отец-ремесленник внизу в мастерской, старик дедушка с длинной трубкой у стены на солнышке. Медленный ток поколений, каждое что-то добавляло в мир, достраивало в нем.
Уж так ли я одинок? Не есть ли эти строители - мои союзники? В конце концов, если дома за меня, то вряд ли те, кто веками создавал в них атмосферу обжитости, против.
Да, я прожил жизнь в глухом загоне. Так получилось в годы войны. А после все окружающие утверждали, что люди живут лишь для денег, для карьеры. Власть имущие в нашей стране кричат очень громко и заглушают.
И я поверил. Но планета перекрещена напряженными линиями борьбы, манифестациями, стачками, люди требуют равенства, нации освобождаются от иностранного гнета. Советский Союз предлагает государствам план разоружения. И мир идет вперед.
Что же мне делать? Я знаю: смыть все черные пятна, которые созданы моим аппаратом, и разбить аппарат.
Я спустился к Рейну напротив замка Карлштейн. Стрекозы вились над прибрежными лугами, жаворонок взлетел в высоту. Этот месяц был преодолением. Я чувствовал, что разорван круг.
Я намочил лицо водой и пошел дальше.
Слова Френсиса Бэкона пришли мне на память. Я шагал и повторял их. Ярко светило солнце, бесконечен, как в детстве, открылся синий свод неба. «Теперь, когда повсюду так много тяжелого, пришло самое время говорить о Надежде».
ЧАСТЬ ЭТОГО МИРА
Они стояли на лестничной клетке. Лифт шел откуда-то далеко снизу - с пятьдесят пятого, что ли, этажа. Или со сто пятьдесят пятого.
Рона сказала:
- Посоветуешься. Все-таки такой человек, как он, должен разбираться. Это мы с тобой живем, ничего не знаем. А Кисч может посмотреть и сразу догадаться, что именно между строк скрывается. По-моему, тут ничего плохого, если ты к нему приедешь. Он сам все время приглашает. Заодно поймем, кто же он есть в действительности.
- Ну приглашает-то больше из вежливости.
- Из вежливости он бы одно письмо написал. Или просто открытки присылал бы к праздникам. А раз он длинные, большие письма пишет, это совсем другое дело. Вот скажи, кому ты и последние годы писал длинные письма?
- Ну… в общем…
- Никому.
- Да, пожалуй.
- Ты не будь таким вялым. Если ты вот так приедешь, то либо вообще забудешь его спросить, либо пропустишь самое важное из того, что он скажет.
- Да нет, я ничего.
- Встряхнись, Лэх. Давай посмотрим эту штуку еще раз. Пока лифта, нету.
- Давай.
- Ну она же у тебя!..
Лэх вынул из кармана гибкий желтый листочек. Не сообразишь даже, из какого материала сделан. Буквы и строчки сами прыгали в глаза, отчетливые, броские.
КОНЦЕРН «УВЕРЕННОСТЬ»
БЕЗ ПОТЕРИ ЛИЧНОСТИ, БЕЗ ВРЕДА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
ВАШИ ТРУДНОСТИ В ТОМ,
что желания не сходятся с возможностями.
МЫ БЕРЕМСЯ УСТРАНИТЬ ДИСПРОПОРЦИЮ:
во-первых, БЕЗ ЗАБОТ, а во-вторых,
ИСПОЛНЕНИЕ ЛЮБЫХ ВАШИХ МЕЧТАНИЙ!
В точном соответствии сумме
Вам до конца дней гарантируется стабильная
удовлетворенность. МЫ ДУМАЕМ, РЕШАЕМ ЗА ВАС.
Однако притом у Вас постоянно будет о чем
разговаривать с близкими. НИ СЕКУНДЫ СКУКИ!
НАБЛЮДАЕТСЯ ЗАКОНОМ, ОДОБРЕНО
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
- Меня очень устраивает, что будет о чем разговаривать. - Рона взяла листок из рук Лэха. - А то с тех пор как мальчики уехали, у нас с тобой одна тема - телевизионные программы ругать. Но это вечером. А так по целым дням молчим. Будь у нас о чем говорить, мы бы и горя не знали.
- Да… Но видишь, тут все противоречиво. С одной стороны, «исполнение любых мечтаний», но тут же «в точном соответствии сумме». Я так понимаю, что заберут деньги, ценные бумаги, все сплюсуют, а потом согласно результату снизят наши желания при помощи мозговой операции либо психотерапией. Только ведь так и можно. Но в то же время тут написано: «без потери личности». Однако личность как раз и есть желания, мечты, всякое такое. Правда же?… У них, может быть, не очень хорошо вышло с электродами, вот придумали другое, более радикальное… Эти листки, кстати, сейчас везде: в киосках, на почте по столам, даже в метро на скамейках.
- У кого «у них»?
- Ну, которые наверху… Потом сама эта сумма. Акции будут падать, деньги тоже дешевеют, из-за инфляции… то есть не «из-за», а сама инфляция, в общем. А тут сказано: «стабильная удовлетворенность».
- Нам и нужна стабильность. Мы с тобой сколько потеряли на изменениях курса? Те бумаги, которые держим, постоянно падают в цене. А едва что-нибудь продали, оно взвивается. Это прямо экономический закон - что продаем, обязательно становится дороже, а оставленное постепенно обесценивается.
- Никакого закона. Просто покупают те бумаги, которые должны подниматься. Умные люди покупают.
- Ладно, пусть. Я только знаю, что, если так и дальше пойдет, мы потеряем все.
- Да. Но каким способом концерн будет обеспечивать стабильность, если деньги и бумаги все время меняются в цене?
- Вот об этом ты с Кисчем и посоветуешься.
- Может быть, сначала все-таки вызвать их агента?
- Нет. - Рона покачала головой. - Ты сам прекрасно знаешь, что он нас сразу уговорил бы. Нам с этими агентами не тягаться, они специальные институты кончают. У них на каждое возражение есть умный ответ. Так тебя выставят, что просто от стыда согласишься на любое предложение… Вообще если агента впустили в квартиру, дело сделано. Поэтому я и считаю, что надо проконсультироваться у Кисча - как его мнение. И при этом узнаем, кто же он на самом деле. А то подписывается Сетерой Кисчем, как будто так и надо.
Лифт пятнадцатой линии лязгнул и уплыл наверх. Лифт девятой остановился, но в тот же миг откуда-то выскочил человек, бросился внутрь, захлопнулся и укатил. Кабины за решетками так и мелькали. Из-за дверей напротив доносился мотивчик, сбоку - стрекотание какого-то механизма. Поезд воздушной дороги прогрохотал вовне, за стенами, с неба ударила звуковая волна от самолета, пневмопочта выкинула в прозрачный ящик на площадке пачку газет с журналами и целую кипу желтых листков.
- Нажми еще раз. И выйдем на балкон.
Еще только вставало мутное солнце. Ущелья улиц были затянуты красновато-серым маревом копоти.
- Так странно. - Лэх оперся на парапет. - Иногда сверху отыщешь какой-нибудь закоулок вдали, и кажется, будто там живут интересно, есть что-то таинственное, сокровенное. А если спуститься, прийти, те же подъезды, магазины, стены. И никакой таинственности, только, может быть, секретность.
- Ничего, Лэх, не печалься. «Уверенность» нас выручит. Наверное, это непохоже на богадельню. Да и какая богадельня, если тебе сорок семь, а я на два года моложе?
- Понимаешь, я вот сейчас сообразил, в чем разница между «Уверенностью» и другими системами. - Лэх повернулся к Роне. - Когда, например, человек на поводке, то заплатил один раз определенную сумму, и тебе только обеспечивают бодрость. Как ты оставшиеся деньги тратишь или новые зарабатываешь, им все равно. Чем в жизни занимаешься, они и знать не хотят. То ли в конторе, то ли с револьвером пьяного подстерегаешь за углом. Можешь даже быть членом какой-нибудь ультралевой и бомбы приклеивать к дверным ручкам. А «Уверенность» принципиально другое. Все отдай до конца, что у тебя есть, и за это будешь удовлетворен, но так, как они хотят, по их усмотрению. Причем «до конца дней». Вот главные слова. Так что, если мы с тобой согласимся, себе уже не будем принадлежать, это точно. Суверенитета нет.
- А когда мы принадлежали? И этот суверенитет - что он дает? Чувствуешь ведь себя человеком, только когда с другим общаешься, вступаешь в отношения. Но дома телевизор, в универмаге самообслуживание, в поликлинике компьютер, на работу принимает машина, и там тоже машину обслуживаешь. Людей кругом - трудно протолкнуться, но все они только прохожие, проезжие. Перед толпой стоишь, как перед глухой стенкой. Когда ты уезжал ребят проведать, я за две недели рта не раскрыла, чтобы слово произнести. Если во мне есть что-нибудь человеческое, его показать-то некому. - Рона вертела в руках желтый листок. - Одним словом, надо решать. А то последнее проживем, и в «Уверенность» не с чем будет идти… Слушай, заметил, какая особенность? Я вот этот листок растягиваю, а буквы остаются такими же, и строчки не изгибаются. Как же они этого добились?… На, возьми.
- Да, удивительно… Вот моя кабина.
Дорога пробивала его насквозь, как пуля навылет, - городишко тысяч на пять жителей.
Чтобы попасть сюда, Лэх свернул с восьмирядной государственной трассы на четырехрядную - ему пришлось на «переходке» сесть на шоферское сиденье и самому взяться за руль. А оттуда на побитую бетонку вообще без осевой линии. Но даже применительно к этому шоссе городок оказался не конечной, а побочной целью. Бетонка не то чтобы втекала в него и растворялась, а так и гнала себе дальше, выщербленная, корявая.
При всем том, а может быть, как раз из-за этого Лэх, едучи, оглядывался по сторонам не без удовольствия. Вместе с восьмирядной трассой позади остался опостылевший, неизменный всюду индустриально-технологический пейзаж: эстакады, перекрещивающиеся в несколько слоев, стальные мачты и дымоводы до горизонта, сплошные каменные ограды на километры, за которыми неизвестность, гигантские устья вентиляционных шахт, корпуса полностью автоматизированных заводов совсем без окон, неправдоподобно огромные чаши газохранилищ, бетонные поля, утыканные антеннами направленной связи.
Четырехрядная дорога уже радовала глаз тем, что цивилизация сюда еще не совсем пришла, а только подбиралась. Здесь многое было начато, но не все закончено. Рыжие от мохнатой ржавчины железные трубы и кигоновые плиты с торчащей арматурой еще не сложились в аккуратные конструкции, а по кирпичным пустырям там и здесь росли груды этого, как его… бурьяна, длинные удилища крапивы! И небо, хотя бледно-серое, свободно от воя реактивных.
А на бетонке вообще начались чудеса. Заросли голубого цикория по обочинам, посевы пшерузы и майриса, перемежающиеся с простой травой, дерево в отдалении, тишина. От одного десятка километров к другому небосвод становился чище, ярче, синее. Незаметно втек в кабину свежий запах цветов и листьев. Летний запах. В городе ведь особенно-то не замечаешь эти месяцы, эти времена года, только если телевидение и радио начинают уж слишком раздираться об «осенних шляпках», о «весенних галстуках». А тут без рекламы было ясно, что июнь или там июль свободно, неторопливо плывет над рощей, над озером, ярко мелькнувшим вдали. У Лэха даже сердце защемило, когда подумал, что вот поставить бы здесь где-нибудь домик да послать к чертовой бабушке всю технологию вместе с наукой.
Там, далеко во Флориде, В зелени домик стоит. Там о своем Майн Риде Прекрасная леди грустит.Песенка детской поры, родившаяся на асфальте, возле кирпичных и бетонных стен. Дурацкая песенка, но Лэх знал, что это, собственно, и было его главной мечтой - лес, поле, сад, лично ему принадлежащее жилище, запас необходимого на несколько лет, независимость. Все начала и концы очевидны, не боишься случайностей, зная, что способен одолеть любую беду. Днем работаешь, а вечером тихие радости в семейном кругу, и никакое падение акций тебе не угрожает. Все сам, и посторонние непостижимые силы вроде инфляции против тебя слабы.
Но понятно было, что даже концерн «Уверенность» такого не может. Самое большое, на что он способен, - добиться, чтобы квартира на двухсотвосьмидесятом этаже стала ему по душе…
И люди в этом краю были другие. У железнодорожного переезда со скромной будочкой Лэх посидел на скамье рядом с женщиной, которая заведовала тут хозяйством. Электротяг первобытной конструкции проволок за собой длинный грузовой состав и угромыхал вдаль. Рельсы остались лежать, пустые, спокойные, как бы существующие сами для себя, казалось, ветка из никуда выходит и ведет в никуда. Здесь была даже кошка. Редкостное животное вскочило на скамейку рядом с Лэхом, требовательно толкнуло его в руку шерстистым лбом, издало негромкий рокочущий звук. Осторожно, опасаясь нарваться на грубость, Лэх спросил женщину, не скучно ли ей тут. Она благодушно посмотрела на него.
- А что такое скука?
Потом, подумав, объяснила:
- У меня же нет телевизора. Понимаете, моя родственница пишет из города. Она каждый вечер надеется на что-нибудь хорошее, и обязательно разочарование. А когда ничего нет, то и не скучаешь.
Вдоль насыпи были высажены цветы. Черная кошка забралась к женщине на колени, терлась головой о ее руку. Живут же люди!
Правда, на стенке будочки красовался плакат:
ДОПУСТИМ, ЧТО
в катастрофе погибла ВАША семья,
ВЫ потеряли работу, ВАМ изменил друг
и неизлечимая болезнь подтачивает ВАС.
ВЫ все равно можете быть СОВЕРШЕННО СЧАСТЛИВЫМ!
Обратитесь к нам!
Прочитав это, Лэх кисло усмехнулся. Когда потеряна работа, обращаться, вероятно, поздно. Вернее, не с чем.
Еще через час пути он остановил автомобиль, чтобы по цифрам дорожного указателя убедиться, что едет правильно. Вынул из бумажника последнее письмо Сетеры Кисча, сверился. Тут кругом было разлито уже полное благолепие. Звенели кузнечики, разнообразные цветы, не требуя платы, сверкали головками в густой траве, источала безвозмездный аромат кленовая роща. И вообще пейзаж был таким, каким мог быть в начале тысяча восемьсот семидесятых.
Лишь странная косая башня у горизонта, на самой границе обзора, несколько портила идиллию, словно гигантский сизый палец указывая из земли в небо, - всю жизнь проживешь и не узнаешь, что такое, зачем она. Да еще здесь же, рядом с указателем, рекламный щит задавал провокационную загадку:
А ВАМ НЕ СТЫДНО?
Далее шло по нарастающей. На следующем розового цвета плакате значилось:
ДУРНОЕ НАСТРОЕНИЕ
СЕГОДНЯ ТАКАЯ ЖЕ ДИКОСТЬ,
КАК ЗУБНАЯ БОЛЬ
И серию заканчивал выполненный броским люминесцентом отчаянный рекламный вопль уже на самом въезде в городок:
Разница между
ПЛОХИМ НАСТРОЕНИЕМ
и ЗУБНОЙ БОЛЬЮ
в том, что первое излечивается
МГНОВЕННО, НАВСЕГДА.
Свяжитесь же с нашим местным агентом!
Когда Лэх миновал две улицы и покатил по третьей, ему показалось, что он уже из книг прекрасно знает этот городишко. В таких местах за неимением другого должны гордиться прошлым, и оно действительно есть, как правило. Либо захудалая битва поблизости происходила, либо столетие назад бум, связанный с углем, золотом, нефтью или игорным бизнесом. Зафиксированный в старых романах привычный набор для подобных населенных пунктов включает седобородого старожила, памятник генералу (никто не помнит, с кем он воевал), «историческую улицу», где каждому дому не менее двадцати, а тому, в котором ресторан, целых восемьдесят, массу зелени, чистый воздух. Из этих краев - опять-таки судя по романам - старались убежать в молодости, а стариками часто возвращались доживать.
Лэх катил, а городок будто старался оправдать именно такую литературную репутацию. Памятные доски с надписями украшали дома, отдыхала, лежа в кольце чугунной ограды, древняя пороховая пушка, а площадь вокруг была замощена булыжником - камни качались под чутким колесом, словно те больные зубы, вылечить которые труднее, чем настроение.
Пешеходов почти не попадалось на тротуарах (тут были тротуары), но с той поры, как Лэх покинул бетонку, он и мобилей не встретил ни одного. Удивление брало, просто не верилось, что в преуспевающем задымленном мире могло сохраниться такое отсталое, незамутненное местечко.
Сидевший в покойном кресле возле своего дома седобородый старожил поднял руку, кивнул, приветствуя проезжающего Лэха, и тот остановил машину. Ему пришло в голову, что его неожиданным приездом Кисч может быть поставлен в затруднительное положение.
Старик охотно поднялся с кресла. Сразу выяснилось, что с этим почтенным горожанином склероз делал, что хотел.
- Вы говорите, поесть?… У нас каждый… каждый… Черт, забыл, как называется!
- Каждый понедельник?
- Нет, не то.
- Вторник, четверг?
- Каждый дурак… - Старик махнул рукой. - И не это тоже.
- Кретин? - Лэх старался помочь.
- Каждый желающий - вот оно. Каждый желающий насытиться идет в ресторан. Вон туда.
- Что вы говорите?! Разве у вас нет отделения «ЕШЬ НА БЕГУ»?
- А на дьявола они нужны… эти, как их…
- Лепешки?
- Нет!
- Таблетки?
- Да нет же! Зубы! Зачем зубы, если только глотать концентрат?
Зубов у старожила был полон рот и, судя по цвету, своих. Он вызвался проводить Лэха и в ответ на участливое замечание, что забывчивость можно лечить, задрал голову, остановившись.
- А я на нее не жалуюсь, на эту… ну…
- На память, на судьбу, на жизнь?
- На жену не жалуюсь. Она от химических лекарств чуть не померла пятьдесят лет назад. И с тех пор мы ни одной таблетки… А насчет памяти - она у меня отличная. Я, например, вот эти никогда не забываю… ну эти… как они называются.
- Слова?
- Не слова, а эти… Ну, которые бегают, прыгают, читают. Вообще все делают.
- Людей не забываете?
- Глаголы! Помню глаголы все до одного. Существительные только иногда вылетают. Ну и плевать!
Отсутствие мобилей и неунывающий старик гармонировали с обликом ресторана. Заведение было чуть ли не археологической древности, о чем гордо свидетельствовала медная табличка на стене: «Существуем с 1009».
Здоровенные, приятные своей неудобностью стулья с высокой прямой спинкой, темным деревом обшитые стены, электрическая кофемолка - современница Наполеона, неторопливый, приветливый, а не только вежливый официант. Поразительно вкусным оказался дешевый завтрак. Странно было есть вареную картошку, никак не переработанную, совсем непосредственную, огурцы, которые, возможно, были еще не дряблыми, жуешь, а на том кусочке, что во рту, электроны устанавливаются на новых орбитах, формируются молекулы, осуществляются по невообразимо сложной генетической программе, по законам открытой биосистемы процессы роста и образования клеток.
Насытившись, Лэх некоторое время посидел, наслаждаясь тишиной. Торопиться было некуда - Сетера Кисч не ждет, даже и малейшего представления не имеет, что через пятнадцать минут старинный знакомый свалится ему на голову.
Их переписка началась лет двенадцать назад. Когда-то мальчишками вместе учились, первая для обоих сигарета была общей. Став юношами, разошлись, позабыли друг о друге, как и случается с большинством сошкольников. А потом, через два десятилетия после ученической парты, Лэха разыскало посланное Кисчем письмо. Из довольно-таки тусклого паренька тот расцвел в крупного электронщика и все эти года работал в одной и той же научной организации. Теперь он исправно слал свои фотографии, записи голоса, регулярно сообщал о семейных делах, поездках в разные страны, описывал, как проводит праздники, - яхта на озере, вертолет на загородной даче. И каждое письмо заканчивал просьбой приехать, навестить.
…Розовая улица, улица Тенистая - смотреть на двухэтажные и тем более одноэтажные дома было само по себе удовольствием. Да еще когда все они с окнами, где цветочные горшки. Да еще когда вокруг каждого дома садик.
Почти курорт, стопроцентная прибавка к здоровью!
Лэх вышел на перекресток. Здесь Тенистая впадала в ту, что была ему нужна, в Сиреневую. Номер тридцать восемь на углу, значит, сороковой с другой стороны.
Он пересек маленькую площадь, недоуменно потоптался. Дома под номером сорок не было. Сразу шли пятидесятые. Лэх проследовал дальше, и Сиреневая кончилась, упершись в Липовую Аллею. Без всякой надежды глянул на противоположную сторону, там, конечно же, были нечетные.
Чуть-чуть начиная беспокоиться, вернулся к месту, с которого начал, вынул из кармана последнее письмо Кисча, перечитал обратный адрес. Да, материк тот же, страна та, город сходится и улица.
Огляделся.
Не шевелились былинки, проросшие между камнями мостовой, неподвижно висело в синем небе легкое облачко.
И вся улица старинная, без следов перестройки.
У дома номер пятьдесят сидел на корточках гражданин в старой шляпе, в запыленном выцветшем комбинезоне. Он положил руки на колени, бездумно уставившись в пространство с таким видом, будто не меняет позы уже несколько лет.
Лэх направился к нему. У мужчины рот был такого размера, что копчики его помещались рядом с челюстными выступами у шеи.
- Скажите, если не затруднит, где тут номер сорок?
Целую минуту вопрос путешествовал в мозгу субъекта, пока наконец не попал в ту область, где совершается осознание. Гражданин в шляпе неторопливо поднял голову, перенес черную прокуренную трубку из одного конца рта в другой. И то был долгий путь.
- Сорокового нету. Сгорел.
- Как сгорел? Когда?
- Еще десять лет назад.
- То есть как это - десять лет! Вот у меня письмо от друга, от С.Кисча.
- Лэх в волнении опять вытащил письмо из кармана. - Может быть, вы его знаете? Сетера Кисч, физик. Отправлено в этом месяце, и он указывает адрес.
- У вас от самого Кисча письмо?
- От самого.
Мужчина вынул трубку изо рта, поднялся. Взгляд его стал определенным и жестким.
- Ну-ка дайте… Да, рука его. - Он повертел конверт. - И обратный адрес.
Осмотрел Лэха с ног до головы.
- Вы один приехали?
- Один… А что?
- С вами охраны нет?
- Охраны?… Со мной?…
- Хорошо. Идите сюда.
Следуя за гражданином в шляпе, Лэх ступил на крылечко дома номер пятьдесят. Мужчина открыл ветхую, скрипучую деревянную дверь. За ней оказалась металлическая, полированная, сияющая. Внутри, в квадратном помещении без окон сидел человек в форме, напоминающей армейскую, но не совсем - знаками различия в петлицах служили единицы и нолики. Он читал брошюру.
Большеротый сказал:
- У него письмо от Кисча. Лично. Приглашение приехать.
Человек в форме дочитал до конца страницу, взял письмо, принялся рассматривать. Брошюра называлась
«Почему вы не миллиардер?»
- У вас есть документы? С отпечатками.
Лэх достал свой идентификатор.
Человек в форме лениво поднялся, подвел Лэха к стене. Ткнул ногой внизу. Повыше открылось темное узенькое окошко.
- Ну, давайте скорее!
Взял Лэха за кисть, сунул ее в окошечко. Что-то защекотало Лэху пальцы, он попытался выдернуть руку. Человек в форме, удерживая ее, усмехнулся.
- Чего ежишься? Первый раз, что ли?
Щекотание кончилось, Лэх вернулся к барьеру. Человек со странными петлицами поднял трубку телефона.
- Двенадцатого… Ага, это я. А двенадцатый?… Вышел заправить зажигалку?… Никогда его на месте нет. Слушай, тут явился тип с письмом от Кисча… Именно от самого. Написано, чтобы приезжал… И человек тот - я проверил… Подождать? А сколько его ждать - он заправит зажигалку, потом еще обедать пойдет?… Ну… Ну… Ладно.
Положил трубку, повернулся к Лэху. Подумал, повозился с чем-то у себя под столом. В стене открылась дверь. Там стояла кабина лифта.
- Пятый уровень. Комната пятьсот сорок или сорок один. Спросите, в общем.
Все это, вместе взятое, так ошеломило Лэха, что он автоматически нажал кнопку, опустился и, только выйдя в просторный, наполненный народом зал с голубоватым светящимся потолком, пришел в себя и глухо, растерянно выругался:
- Чтоб им провалиться, дьяволам! Чтоб их наконец задавило как-нибудь, прижало и расплющило!
Выходило, что старые дома с цветочками, пушка за оградой, ресторан с живыми огурцами - обман, ложь. Маскировка, под которой тот же привычный комплекс, та же военно-промышленная тощища. У Лэха заныло сердце - ведь некуда же деваться, некуда! - но через полминуты он почувствовал металлический вкус во рту и взбодрился. Собственно, иначе и быть не могло, мир надо брать таким, как он есть.
- Ладно… Черт с ними, с этими гадами!
- С какими?
Он вымолвил это в пространство, но смотрел прямо перед собой на девушку в алюминиевых брюках и светлой кофточке, которая как раз приближалась. Получилось, будто он обращается к ней.
- Нет, это я так… Не скажете, где тут пятьсот сороковые?
Девица указала ему на один из коридоров, что радиально расходились от голубого зала. Он побрел, поглядывая на номера. Ему и в самом деле было бы не ответить, кого он имеет в виду под теми, которых хорошо бы расплющить. Какие-то люди, которые не то чтобы планировали Лэха угнетать, но были к этому причастны. Не именно одного Лэха, естественно, а всех. Те, которые начинают с маленьких уступок несправедливости, злу и, постепенно восходя по социальной лестнице, кончают черт знает чем.
…Пятьсот тридцать пять, восемь… Вот наконец сорок.
Постучался. Ответа не последовало. Отворил сам. Тут было что-то вроде прихожей, обставленной дорогой индийской мебелью. Две двери вели куда-то дальше. Постучался наугад.
Изнутри отозвались:
- Войдите!
Голос Кисча, который Лэх хорошо знал по присланным пленкам.
Лэх вошел. За кабинетным столом в высоком кресле сидел Сетера Кисч и что-то писал.
У него было две головы.
Мгновение они смотрели друг на друга, потрясенные. Лэх - в два глаза, Кисч - в четыре. Затем Кисч с легким криком вскочил, щелкнул на стене выключателем. С минуту из темноты доносилась какая-то возня. Голос Кисча, прерывающийся, нетвердый, спросил:
- Кто вы? Что это вообще такое?
Лэх откашлялся, чувствуя, как пересохло вдруг горло.
- Лэх.
- Какой Лэх?
- Ты же мне писал. Твой школьный друг.
- Школьный друг… А-а-а…
Опять щелкнул выключатель. Кисч стоял посреди комнаты, бледный, с дрожащими губами. Поправлял прическу. Вторая, дополнительная, как будто бы помоложе, голова исчезла. Правда, свет в комнате был каким-то нереальным - повсюду мерцали зеркала, обмениваясь бликами.
- Кто тебя сюда пустил?
- Меня?
- Ну да!
- При мне было твое письмо. Они посмотрели на подпись. Проверили у меня рисунок пальцев. То есть отпечатки.
- А как ты вообще попал в этот город?
- Но ты же пригласил. Собственно, звал не один раз. Просто настаивал.
- О господи! - Кисч вздохнул. - Вот это номер. Я и представить себе не мог, что ты на самом деле приедешь. Даже не думал о таком.
- Зачем же ты звал тогда?
- Если тебе при случайной встрече сказали «Очень рад познакомиться», ты же не принимаешь этого буквально. Не думаешь, что человек, который раньше о тебе и слыхом не слыхал, действительно вне себя от восторга.
- Да, конечно. - Лэху уже было понятно, что его миссия окончится ничем.
- Ошибся.
- Ты бы еще спросил, зачем я вообще начал переписку. Посиди вот так под землей безвыходно почти полтора десятка лет, не только друга детства вспомнишь.
- Но ты писал, все время разные там коллоквиумы, съезды.
- Мало ли что я писал. Куда мне ехать в таком виде?
- В таком виде?… Значит, у тебя все-таки… - Лэху даже неудобно было выговорить. - Значит, у тебя не одна голова?
- Не одна. Сейчас не видно, потому что специальное освещение… Потом ведь отсюда не выпускают, все засекречено. Случайность, что ты прорвался.
- Боже мой! - Лэха объяло ужасом. Вот она, наука сегодняшнего дня. - Понимаешь, я и представить себе даже не мог, что ты сидишь вот так под землей. Но все равно, конечно, наивно, что я взял и прямо приехал. Не написал сначала, что собираюсь.
- Ничего. Что уж теперь.
- Ты извини.
- Ничего. Садись.
Они сели. Лэх осмотрелся. Комната была большая и сильно заставленная. Кроме многочисленных зеркал, шкафы, диваны, шведская стенка, турник. Тут еще были рояль, зеленая школьная доска на штативе, полка мини-книг, телевизор, слесарно-токарный станок, прозрачная загородка для игры в теннис и прыжков, мольберт с палитрой и кистями. Чувствовалось, хозяин проводит здесь почти все или все свое время.
Кисч побарабанил пальцами по столу.
- Вот и хозяйство. За той дверью еще зимний садик и бассейн. Тут, в общем, вся жизнь… А как ты?
- Так все… - Лэх замялся. - В целом, как я тебе писал. С деньгами постепенно становится туговато. Живем… Мобилей себе каждый год не меняю, необходимое пока есть.
- Что Рона? Не очень скучает с тех пор, как сыновья на учебе?
- Привыкла.
Помолчали, молчание сразу стало тягостным. Желтый листок концерна «Уверенность» стал перед мысленным взором Лэха. Что делать, если уж такой человек, как Кисч, стал почти заключенным, им с Роной и думать нечего о самостоятельности.
Чувствуя, что надо о чем-то говорить, он откашлялся.
- Как это тебя с головами? Или по собственному желанию?
- Ну что ты, кто пожелает? Мы тут занимались регенерацией органов. Сам-то я не биолог, электронщик, но работать пришлось с биоплазмой. Сделали такой электронный скальпель, и как-то я себя поранил - у нас же дикая свистопляска с разными облучениями. Короче говоря, выросла еще одна голова. Сначала смотрели как на эксперимент, можно было еще повернуть по-другому. А потом вдруг сразу стало поздно.
- Почему?
Кисч промолчал.
- А когда тебе приходится думать, - начал Лэх, - то есть когда думаешь
- в две головы, что ли? Одновременно? Как на рояле в две руки? Вернее, в четыре.
- Зачем же в две… - Хозяин внезапно прервал себя. Его руки взметнулись к переключателю на стене, потом он неловко с отразившимся на лице усилием опустил их. - Перестань! Ну перестань же! - Руки еще раз поднялись и опустились. - Извини, Лэх, это не тебе… Так о чем мы? Нет, естественно, я не в две головы. Каждый сам по себе.
- Кто «каждый»? - Лэх чувствовал, что холодеет. - Это все же твоя голова?
- Не совсем. Голова, строго говоря, не может быть «твоей», «моей». Только «своей».
- Как? Вот у меня, например, моя голова.
- Нет. Ведь не имеется же такого тебя, который существовал бы отдельно от этой головы. Поэтому неправильно о своей голове говорить со стороны - вот эта, мол, моя.
- Не понял.
- А что тут понимать? Помимо головы, личности нет. Но зато там, где имеется голова, мозг, там налицо и сознание… Ты хоть отдаленно представляешь себе, что такое твое собственное «я», личность?
- Ну мозг. - Насчет личности Лэху как раз хотелось выяснить. - Мозг, потому что тело-то можно менять, если надо.
- Не вполне верно. Мозг - только вместилище для «я». Если он пуст, личности нет. А содержанием является современность, сгусток символов внешнего мира. Сначала, при рождении ребенка, мозг - tabula rasa, которую мы с тобой в школе проходили. Чистая доска, незаполненная структура. Затем через органы чувств туда начинает попадать информация о мире. Не сама внешняя среда, а сведения в виде сигналов на электрохимическом уровне. Таких, которые оставляют знаки в нервных клетках. Знаки постепенно складываются в понятия, те формируются в образы, ассоциации, мысли. Другими словами, «я» - это то, что органы чувств видели, слышали, ощущали и что потом в мозгу переработалось особым для каждого образом.
- И все?
- А что тебе еще надо?
- Никакой тайны? Божественной искры, которую нужно беречь?… Получается, что все люди, которые ходят, что-то делают, не более как сгущения той же действительности? Но только в символах?
- Тайна в самом механизме жизни, в сути мышления. Не знаю, насколько она божественна. Ну а личность - никуда не денешься - внешний мир, переработанный в образы. Правда, у каждого согласно генной специфике. Наследственно. Поэтому Роланд и говорит: «У человека нет природы, у него есть история». То есть ом подразумевает, что «я» - это постепенно, исторически, день за днем развивающийся сгусток образов.
- Какой еще Роланд?
- Гильемо Роланд, перуанский философ.
- Ты и до философии дошел? - Лэх вдруг почувствовал озлобление против Кисча. Сидит тут, устроился, инфляция ему хоть бы что. - Черт знает какой умный стал! А я примерно тем же олухом и живу, что в школе был. Даже не понять, с чего ты стал таким гениальным. Питание, что ли, особое?
- Питание тут ни при чем.
- А что «при чем»? Ты кончал свой физический, в самом конце плелся. И потом в той первой фирме тебя едва терпели.
Хозяин встал, прошелся по комнате, отражаясь во всех зеркалах. На миг появилась и тут же исчезла вторая голова.
- Понимаешь, если правду, я, собственно, и не совсем я. Не тот Сетера Кисч, с которым ты в школе сидел.
- А кто?
- Пмоис.
- Пмоис?! - Лэх откинулся назад и едва не упал, потому что у круглого табурета, на котором он сидел, не было спинки. - Ловко! Пересадка мозга, да?
- Ага. Не могу сообразить, встречался ты когда-нибудь с ним, то есть со мной, с Пмоисом… Кажется, встречался. По-моему, у этой Лин Лякомб, в ее доме. Я, будучи еще Пмоисом, демонстрировал у них материализацию Бетховена. Работал в концерне «Доступное искусство».
- Помню, - сказал Лэх. - Какие молодые мы были тогда! Во все верили. Я, во всяком случае, верил. Кажется, тысяча лет с той поры минула. - Он вздохнул. - Мы вместе с Чисоном приходили на материализацию. Пмоис был, по-моему, такой плечистый мужчина, выдержанный. Значит, с ним я сейчас и толкую? Но в теле Кисча.
- Примерно… Видишь ли, Сетера Кисч с грехом пополам окончил физический. То есть четыре курса хорошо, даже блестяще, а на последних скис. Стал ученым, но средним, без полета. Тянул лямку, но в фирме никто не был от него в восторге, и у самого неудовлетворенность. Родители, конечно, виноваты. Помнишь, какая в те годы мода - нет звания бакалавра, значит, неудачник. Но у Кисча-то хватило честности перед собой признать, что не туда попал. А тут мы случайно сошлись. Меня тогда кинуло в портновское дело, работал в одном ателье закройщиком. И как раз является Сетера Кисч, магистр, заказывать себе костюм. Снимаю мерку, он тоже участвует, советует. Да так ловко у него получается - прирожденный портной. Чувствую, человек оживает, когда у пего в руках ножницы или булавка. Что ему просто тоскливо возвращаться в свою исследовательскую лабораторию. А я, с другой стороны, электроникой очень интересовался. Книги читал, схемы собирал. Однако образование только среднее, незаконченное…
- Ну-ну, - сказал Лэх, - дальше.
- Так или иначе, стали мы с ним раздумывать. Ему переходить из физиков-теоретиков в закройщики вроде бы позорно. Что родственники скажут, друзья? Да и в среде портных тоже будет выглядеть белой вороной. В то же время меня в научно-исследовательский институт никто без диплома не возьмет, будь я даже Фарадей по способностям. В конечном счете решили махнуться мозгами. Он мне о себе все порассказал, я ему свою жизнь обрисовал. И на операционный стол. В электронике у меня отлично пошло: патентов десятки, доктора скоро присвоили. Потом только вот эта история со второй головой. А Сетера Кисч в облике Пмоиса, в бывшем моем, выдвинулся как портной. Премии на Парижском конкурсе, в Сиднее золотая медаль. Собственное дело.
Лэх кивнул.
- Ну как же! На мне вот брюки-пмойки.
Он тоже встал и в волнении прошелся по комнате.
- Слушай, раз уж на честность, я тоже не Лэх.
- Серьезно? А кто?
- Скрунт. Муж Лин Лякомб… Но тут другая история. Вопрос чувства, понимаешь. Лэх, то есть я… то есть нет, правильно, он… Одним словом, Лэх был жутко влюблен в Лякомб, в мою Лип Лякомб. А меня, то есть Скрунта, она чуть до инфаркта не довела. Помнишь, какая была взбалмошная? Все хотела меня усовершенствовать, просто измордовала. То давай за стрелковый спорт принимайся, то рисовать, то изучай химию. И хотя я сначала был очень увлечен, позже замучился и понял, что скоро откидывать копыта. Но при этом знал, что для нее-то развод был бы страшным ударом. А тут подворачивается Лэх, который глаз с нее не сводит. Однажды мы с ним уединились, слово за слово. Он и не раздумывал, весь сразу запылал, как только понял. Разговаривали в оранжерее, он как схватится за пальму-бамбасу, с корнем выворотил. Но была небольшая сложность: у Лэха-то за душой ничего. Договорились, что, как только он станет Скрунтом, мною, сразу переведет на бывшего себя восемьдесят процентов состояния.
- И что же? - спросил хозяин, который слушал с чрезвычайным вниманием.
- Он тебя обманул, и поэтому ты теперь так скромно живешь?
- Ничего похожего. Лэх порядочный человек. Просто когда я из Скрунта стал Лэхом, даже с теми деньгами у меня ничего не вышло. Успех-то ведь не столько в капитале, сколько в связях.
- Инте-рес-но. - Тот, который прежде называл себя Сетерой Кисчем, прогулялся по широкому ковру среди комнаты. Потом стал, глядя в глаза приезжему. - Скажи, а ты в самом деле Скрунт? Все без обмана рассказываешь, до конца?
- А что? - Гость покраснел.
- То, что когда Пмоис менялся с Сетерой Кисчем, он сам был уже поменянный. Обменявшийся со Скрунтом… Твоего Лэха врачи наверняка предупреждали, что у Скрунта это уж не первая операция.
- Да, верно. - Приезжий опустился на табурет. - Но вот узнать бы, где в это время был первоначальный Скрунт. Мы бы во всем разобрались.
- В бывшем Пмоисе. Если не дальше!
- Проклятье! - Гость взялся за голову. - Ото всего этого тронуться можно. Уже вообще ничего не понимаю. Тогда кто же я, в конце концов?
- Кто его знает.
- А ты?
- Сейчас выясним. Тут все зависит от времени. Если Пмоис в действительности…
- Подожди! - Тот, который называл себя Лэхом, уставился в потолок. - Надо идти не отсюда. По-настоящему, изначально я был Сетерой Кисчем, если уж совсем искренне. Это мое первобытное положение. Так что ты про меня рассказывал: швейная мастерская, иголки-нитки. Потом мое сознание переехало в тело Пмоиса…
- Ты эти тела пока не путай - кто в чьем теле. А то мы вообще не разберемся. Говори о мозгах.
- Ну вот я и говорю. Значит, я, Сетера Кисч, сделался Скрунтом, который, будучи уже поменянным, переехал в тебя… Нет, не так.
- Я тебе сказал, двигайся по мозговой линии, не по тельной. Тельная нас только собьет. Даже вообще не надо никуда двигаться. Мозг-то в тебе Сетеры Кисча, да? Ты ведь Кисчем начинал жить?
- Еще бы! - Тот, который приехал в качестве Лэха, пожал плечами. - В этом я никогда не сомневался.
- Превосходно. Так вот…
- Если уж всю правду, это тоже была цель моей поездки - узнать, за кем мое бывшей тело. А то пишет письма Сетера Кисч, мы с женой читаем и думаем, кто же он.
- Так вот, - повторил хозяин, - в твоем бывшем теле Лэх.
- Ловко! Выходит, что ты - это я? В смысле тела.
- А я - это ты. Между прочим, и я переписку начал, чтобы установить, что за тип окопался в прежнем мне. Ну как тебе в моем теле, не жмет?
- Ничего, спасибо. Обжился. - Приезжий задумался, покачал головой. - Господи боже мои, до чего докатились! Не знаешь уже, кто ты есть в действительности. Я ведь раз пять перебирался - в Пмоиса, в Скрунта, в тебя, когда ты из себя уже выехал, еще были обмены. Всегда привыкать заново, перестраиваться, людей кругом обманывать. Все ищешь, в ком бы получше. Прыгаем сдуру, как блохи, ничего святого не осталось, заветного, человеческого… Ну теперь-то с меня хватит. Из твоего тела ни ногой.
Помолчали. Сквозь стены донесся низкий отдаленный гул. Подвешенная к потолку трапеция качнулась.
- Рвут где-то, - сказал хозяин. - Расширяют подземную территорию. Тут у них договор с городом - внизу можно распространяться, а наверх чтобы не показывались.
Гость поднял глаза к потолку.
- А этот городишко там - настоящая древность? Или макет, выстроено?
- Старина настоящая. В домах даже телевизоров нету, проигрывателей не держат. Зато сами собираются вместе по вечерам, танцуют, поют. Днем пусто - кто на железной дороге, кто на мельнице, а позднее на улицах людно. Тут они все коцсервационисты. Не допускают к себе никакой новой технологии, природу берегут.
- Да, - сказал гость, - такие дела. - Он еще раз огляделся. - Удобно у тебя здесь, уютно. Скажи, а как же ты выдержал столько лет, не сошел с ума? Тоже на поводке, да?
- На поводке?
- Ну на привязи, какая разница? Соединен с машиной. Против плохого настроения.
- Это что, стимсиверы, что ли, приемопередатчики?
- Конечно. Необязательно от плохого настроения. От курения ставят, от пьянства. В определенную точку мозга вводят микропередатчик. Захотел выпить, активность нейронов в этом месте возрастает, сигнал передается на электронно-вычислительную машину, которая в клинике или вообще где угодно. Оттуда обратный сигнал-раздражитель в другую точку мозга, и человеку делается тошно от одного вида налитой рюмки… Даже вот так может быть: муж стал заглядываться на другую, а супруга бежит разыскивать подпольного врача. У того целая организация. Мужа где-нибудь схватили, усыпляют. Электроды заделали, подержали, пока бесследно заживет, заставили под гипнозом про все это забыть, и готово.
- Что именно готово? - спросил хозяин.
- Все. Будет смотреть только на свою жену… Или, например, бандиты, мафия. Они теперь все стали хирургами. Им заплати, они любому что хочешь введут и свяжут с компьютерной программой, выгодной заказчику. С одним даже так получилось: договорился с шайкой, но его самого поймали, наркоз, гипноз и такую программу, что он потом на них перевел все деньги.
- Сплетни.
- Почему? - Гость встал. - Куда далеко ходить - вот он я! Четыре трехканальных стимсивера. Сейчас редко встретишь человека, чтобы без электродов. У некоторых так нафаршировано, что и не понять, чего там больше в черепе - мозгового вещества или металла. Каждый шаг машина контролирует.
- Сколько бы их ни было, неважно. Все равно информацию человек получает через органы чувств от внешней среды. Личность формируется окружающей действительностью, и ничем больше.
- А действительность-то! Разве она естественная сегодня? - Гость заходил по комнате. - Телевидение, книги, газеты, радио, реклама, кинобоевики - вот чем у нас в ФРГ тебе баки забивают, как хотят, по своему усмотрению. Такого, что самостоятельно в жизни увидишь и поймешь, только ничтожная часть от суммы ежедневных впечатлений. Ну из квартиры вышел, с соседом поздоровался, в метро опустил талон. Как при этом говорить, что личность еще существует, что она суверенна? Частичка сознания общества, как две капли воды между собой, схожая с другими частичками… Э-эх, кому-то так надо! Все стараются насчет прибыли, насчет власти. Им бы вживить электроды и такую программу через компьютер, чтобы стали посмирнее. Только не выйдет. - Гость усмехнулся. - Живут за стальными стенами, с посторонними только сквозь пуленепроницаемое стекло. Либо по телевизору - мне приятель рассказывал, был на таком приеме. Приходит, в пустом зале кресло. Сел, подождал, на стене зажегся экран. Там физиономия крупным планом - пожалуйста, толкуй… Когда в кабине мобиля сидишь, сколько вдоль трассы глухих каменных заборов. Что за ними - или блоки ЭВМ, что держат людей на привязи, или дворцы таких капиталистов.
Приезжий замолчал, потом, покраснев, обтер ладонью подбородок.
- Что-то разговорился вдруг. Прямо как лектор… Ладно, прощай. Понимаешь, ехал сюда и думал, что хоть одни из наших прежних школьников живет по-человечески - я ведь подозревал, что в моем бывшем теле кто-то из старых знакомых. У нас дома о тебе, то есть о Сетере Кисче, часто говорили. Имеется, мол, такой счастливец, у которого увлекательная работа, путешествия, природа, который свободен и благоденствует. Ребятам ставили тебя в пример. А ты, оказывается, пятнадцать лет в подвале, не выходя. Но если уж у тебя такое положение, нам с Роной и думать нечего о хорошем. Одна дорога - последние деньги собрать и отдаться в какую-нибудь «Уверенность».
Гость вынул из кармана желтый листок, протянул хозяину.
- Погляди.
- Я знаю. - Хозяин мельком посмотрел на листок и отстранил. - Но ты это брось, особенно не угнетайся. По-моему, у нас скоро многое переменится.
- Откуда оно переменится? У нас-то! Понимаешь, теперь стало вместо выживания приспособленных, по Дарвину, приспособление выживших. Прежде была борьба за существование, в которой выживали наиболее приспособленные виды. А сейчас тех, кто выжил, дотянул до сегодняшнего дня, как мы, например, приспосабливают к технологическому миру. В прошлом году я был у друга, у Чисона. Комната на пятнадцатом этаже возле аэродрома. Рядом эти гравитационные набирают скорость, рев убийственный. Мне мучительно, а он даже не замечает. И после выяснилось, что все местные прошли через операцию - им понизили порог звукового восприятия… то есть, наоборот, повысили. Понятно, что значит. Не человек технику для себя, а его для техники. И ничего не сделаешь. Такая сила кругом, пушкой не прошибить.
- Нет-нет, не преувеличивай. - Хозяин тоже поднялся. - Трудно тебе объяснить как следует, но я-то чувствую, скоро многое будет по-другому. Вот ты, например, недоволен жизнью, да? Тебе все это не нравится?
- Чему тут нравиться?
- Но ведь твое сознание действительно часть того, которое недовольно буржуазным строем. Даже притом, что реклама, телевидение, газеты твердят, будто мы вышли в золотой век. Они твердят, а на тебя не действует. Или с настроением. Оно у тебя сейчас плохое?
- С чего ему быть хорошим? - Гость закусил губу, посмотрел в сторону. - Душа болит. Даже если она сгусток символов.
- Ну вот. А сам утверждаешь, что на поводке и настроение не может быть плохим. Как же так? - Хозяин похлопал гостя по спине. - Думаю, мы с тобой еще встретимся при лучших обстоятельствах. Держись, старина!
- У вас что-нибудь случилось?
Сетера Кисч, подлинный Сетера Кисч поднял голову. Рассеивался туман - Кисч даже не заметил, когда эту муть навело вокруг в воздухе. Он стоял в коридоре неподалеку от большого зала, и давешняя девица в алюминиевых брюках держала его под руку. У нее были черные брови и синие глаза.
- По-моему, вы сильно расстроены. Побывали у Кисча, да? - Девушка смотрела на него испытующе. - Вы уже минут пять так стоите. Может, вам чем-нибудь помочь?
- Н-нет, не беспокойтесь.
- Но вы очень бледный. Сердце схватило?
- Нет, пожалуй. - Он вдохнул и медленно выпустил воздух. - Вообще никогда такого не бывает. В принципе здоровый тип.
Мимо сновал народ. Гул голосов доносился из зала.
- Вам надо чем-нибудь поддержаться. Пойдемте выпьем кофе.
Но когда зал остался позади и они поднимались узкой лестницей, девушка вдруг остановилась, резко обернувшись.
- Да, послушайте! Чуть не забыла. А вы случайно не шишка?
- Какая шишка?
- Ну, может быть, опухоль?
- Что за опухоль?
- Какой-нибудь чин. Крупный делец, который явился навести наконец порядок и переделать все по-своему. Хотя, честно говоря, непохоже.
- Нет. Я просто так.
- А почему вы вообще попали к Кисчу?
- Мы в школе вместе учились. Я взял да и приехал. Оказалась вот такая штука. Ошеломился.
- Тогда все нормально. А то мне пришло в голову, что зря перед вами рассыпаюсь… Нам вот сюда. Идем в другое кольцо, куда лично мне вход воспрещен. К начальству. Но сейчас там в буфете должно быть пусто. И кофе лучше.
Коридоры, переходы. В комфортабельной буфетной, со стенами, обшитыми натуральным деревом, не было никого, кроме официанта, который за стойкой щелкал на арифмометре. Он улыбнулся девушке.
- Привет. - Девушка кивнула. - Нам по чашечке твоего специального. И два пирожка.
Они уселись. Девушка вынула из сумки зеркальце, поправила помадой губы. Потом, потянувшись вдруг вперед, к приезжему, взяла верхнюю перекладину со спинки его стула. С ее конца свисал тонкий проводок. Девушка поднесла перекладину ко рту, пощелкала языком.
В ответ на недоуменный взгляд Кисча она объяснила:
- Подслушка. Тут везде аппаратура, чтобы подслушивать и мониторить.
Голос из микрофона сказал:
- Кто это?… Ниоль, ты?
- Я. Здравствуй, Санг. Как там, вашего гения нет где-нибудь поблизости?
- У себя в кабинете составляет отчет. Все спокойно.
- Приходи сегодня на гимнастику. Я буду.
- Ладно. Кто это с тобой?
- Школьный друг Сетеры Кисча. Привела его выпить кофе.
Девушка положила перекладину обратно.
- У них начальник - ужасная дубина. Принимает эти ритуалы всерьез. Ну а те, которые сидят на подслушивании, такие же люди, как мы. Поэтому вся система получается сплошной липой. - Она поднялась, чтобы взять со стойки кофе. - Между прочим, вы не первый, кому стало плохо, когда он это увидел.
- Что «это»?
- Ну Кисча с двумя головами. Вернее, конечно, Кисча и Арта в одном теле. Обычно так и происходит: сначала ничего-ничего, а потом сердечный припадок или приступ меланхолии. Тут был одни мальчишка. Пруз, сын того Пруза, который, знаете, «Водная мебель». Вышел от Арта и через две минуты грохнулся.
Сетера Кисч отпил глоток кофе - действительно хороший. Сердце как будто успокоилось, по в мыслях неотрывно стоял желтый листок. Чтобы как-то поддержать разговор, он спросил:
- Сын самого Пруза? Такого воротилы? Неужели он здесь работает?
- Нигде не работает. Я вам говорю, мальчишка. Хипарь. Ушел от отца, бродит с гитарой… Представляете себе, как там, в верхнем слое, конкуренция, напряжение, друг друга стараются съесть. Поэтому всегда за свою шкуру дрожат. Либо сами не выдерживают, все бросают, либо дети от них отрекаются.
- Но вот этот мальчишка. Отец же мог взять его на поводок - закомпьютировать против плохого настроения.
- Во-первых, не всякий отец решится начинять дитя металлом. А во-вторых, мальчик предупредил, что, если у себя в мозгу обнаружит что-нибудь или у него срок из жизни необъяснимо выпадет, он сразу с двадцатого этажа. Это часто получается - старшее поколение лезет наверх, никого не щадя, а младшему ничего не надо, и жертвы напрасны.
От девушки веяло уверенностью и деловитостью даже притом, что она в данный момент ничего не делала. Цвет лица у нее был умопомрачительный и в основном определенно свой.
- А зачем он сюда приходил, младший Пруз?
- К Арту. Мальчику нужны знакомые его возраста, друзья. Поэтому тут и стараются кого-нибудь приводить. Теперь он часто заходит с новыми песенками.
Кисч отпил еще кофе. Из-за присутствия девушки мир стал чуть-чуть другим - поспокойнее и не столь угрюмый.
- Кто этот Арт? Вы уже два раза о нем упоминаете. И как это понимать: «Кисч и Арт в одном теле?»
- Как понимать?… Вы же видели у Кисча на плечах еще одну голову?
- Я?… В общем, видел. Там эти зеркала…
- Так это и есть Арт.
- Арт?… Подождите! Разве это не Кисча головы? Мне-то казалось, оттого у него и успехи такие последнее время, что он в две головы работает.
- Ну что вы! - Девушка пожала плечами. - Если б так, все было бы проще. Но комбинацию «две головы, одно тело» нельзя рассматривать в качестве тела с двумя головами. Правильно - две головы при общем теле.
- Но личность ведь та же? Тем более если личность образуется средой. Среда-то у обоих сознании одинаковая… Хотя я уже ничего не понимаю…
- Откуда среда у них возьмется одинаковая? Кисч сам родился, как все, один. Детство тоже было нормальное - вы же знаете, раз в школе вместе. А Арт! Его сознание тут и возникло, под землей. В лабораторном окружении. У них с Кисчем опыт впечатлений совсем разный… Я вижу, вы главного не поняли. Или у вас об этом разговора не зашло. В том-то и трудность, что две непохожие личности при одном теле, которым они пользуются по очереди, посменно. Один контролирует, а другой отключается - спит или думает о своем. Иногда, правда, могут вместе читать одну и ту же книгу. Но тогда уже каждый в себя. По-своему воспринимая.
- Пресвятая богородица, час от часу не легче! - Приезжий вздохнул. - Действительно, не уловил главного. Значит, еще одно самостоятельное сознание?
- Причем развивающееся! Растущее. Ребенка назвали Арт, потому что он возник как бы артеногенезом. А теперь это уже подросток. Четырнадцать лет.
- И что же он, формируется нормально? В умственном, конечно, отношении.
- Более или менее. Сначала Кисчу было ужасно тяжело, потому что Арт все время овладевал руками, ногами. Знаете, какая витальность у маленьких - постоянно двигаются. А потом ума набрался, понял, что у них с отцом одно тело на двоих.
- С отцом?…
- Все-таки Кисч ему что-то вроде отца. Он и старается дать побольше - кинофильмы, книги, телевидение. Сначала и сказки рассказывал. А теперь мальчишка рисует, у него два иностранных языка, спортом занимается - видали турник в комнате… Кисч, пожалуй, только и выдержал здесь благодаря этим заботам.
- Вы сказали «спорт»?
- Да, спорт. Если тело в данный момент под его контролем, почему не заниматься? Кстати, гимнастику с ним как раз начинала я. Как бы на общественных началах. А теперь он на турнике солнце крутит, соскоки по олимпийской программе - специальный тренер спускается к ним.
- Но значит, и Кисч крутит? Одновременно. Поскольку тело-то на двоих.
- Ну где же ему в пятьдесят-то лет? - Девушка замялась и чуть покраснела, глянув на собеседника. - То есть я хочу сказать, что он не такой уж молодой, верно? А в гимнастике все зависит от специфической мозговой автоматики, которая с возрастом теряется. Не от мышц. Конечно, Кисч пользуется той гибкостью, которую Арт выработал в суставах. Но его автоматизм и мальчика - разные вещи… Вообще ситуация адская, когда вот так двое, но в качестве эксперимента открыла массу непознанного. Вот, например, занимаюсь я с Артом гимнастикой. Он работает несколько часов на брусьях, на турнике. С него пот градом. А Кисч за это время выспится. Затем Арт отключится, тело достается отцу. И, знаете, оно, как новенькое.
- Не может быть, - сказал приезжий. - Там же изменения. Кислота накапливается в мышцах.
- И моментально исчезает, как только к этим мышцам подключился свежий мозг. В том-то и странная штука, что само понятие усталости относится лишь к сознанию. Тело может хоть год без перерыва. Как двигатель внутреннего сгорания - подавай топливо, смазку и эксплуатируй, гоняй месяцы подряд…
- Да. Удивительные вещи.
- Конечно. - Девушка будто намеренно не замечала его состояния. - …Или взять рояль. Моя подруга у них преподавательница, и я тоже несколько раз была на уроках. Начинали Кисч и Арт вместе. Мальчик теперь приличный пианист, а Кисчу и «Курочку» не сыграть одним пальцем. Но ведь руки те же. Представьте себе, преподавательница показала упражнение. Арт берет на себя контроль и легко повторяет. Отключился. Кисч пытается сделать то же самое, и ничего похожего… Вы, кстати, понимаете, что значит отключаться? Это просто, как сидеть в покойном кресле или лечь. Расслабляешься, размякаешь, и можно отдаться посторонним мыслям. А вот если б они захотели по-разному, то есть один руку сюда, второй - в другую сторону, тогда чей импульс сильнее. Они часто так балуются. Сначала, конечно, Кисч сразу побеждал, а теперь Арт уже здорово сопротивляется… Хороший мальчишка. Его весь институт любит. И вот что интересно. К математике никаких способностей. В этом смысле не пошел в отца.
- Ну и как же они дальше будут? Можно ведь кого-то отсадить.
- В конце этого года должны расщепиться. Если б раньше, для Арта очень большой шок. Развивающемуся сознанию нужна стабильность. А то получится, как с ребенком, которого родители таскают из одной страны в другую - нет культурного фона, чтобы ему строить личность… Вы, кстати, наверное, их обоих сразу не видели. Когда приходит свежий человек, они включают систему зеркал, чтобы не слишком ошарашивало. А если она выключена, довольно неожиданное ощущение. Кажется, будто тело принадлежит то одному, то другому. Если к Арту обращаешься или его слушаешь, руки, ноги, туловище - все его. А голова Кисча кажется дополнительной. Мешающей. Но стоит Кисчу что-нибудь сказать, ситуация меняется мгновенно. Понимаете, они как будто все время прыгают в глазах. Вроде картинки, которая показывает иллюзии зрения. Когда в одном и том же контуре можно увидеть и старуху и девчонку в зависимости, как сам настроишься. Но никогда ту и другую сразу.
Буфетчик принес еще по чашечке кофе. Кисч задумчиво закурил. Что-то обнадеживающее было в том, что его старый знакомый все-таки не оказался жертвой несчастного случая, а взял ситуацию под свой контроль. Тут был даже подвиг - полюбить такое странное дитя, воспитать его. Во всяком случае, все это бросало новый свет на Лэха.
- Скажите, а этот другой мальчик, с гитарой. Как его пускают к Арту? Все ведь засекречено.
- А вас как пустили? - спросила девушка.
- Случайность. У меня при себе было письмо от Кисча. А в проходной как раз кто-то ответственный отсутствовал. Вышел заправить зажигалку.
- Ну-ну. А тот лейтенант, который на посту, не перелистывал брошюру насчет миллионеров?
- Да… Лейтенант разве он? Форма странная.
- Внутренняя стража. Фирма держит у нас целое войско. Для охраны секретов. Огромный вооруженный контингент и тоже звания: сержанты, лейтенанты, полковники. Но в большинстве свои парни. Тот лейтенант постоянно держит рядом эту книжку, чтобы со стороны казалось, будто он ни о чем другом не думает. А насчет зажигалки - код. Когда о зажигалке, это означает, что пришел порядочный, по мнению лейтенанта, человек. Вообще пускают всякого, кто им понравится. Но зато если какая-нибудь комиссия, члены правления, часа три проволынят, ко всякой мелочи будут придираться. Я, между прочим, в этом же отделе. Вы, наверное, и вообразить не в состоянии, какая у меня роль. Называюсь выходящая девушка.
Кисч невольно подумал, что роль подобрана удачно. Как раз такой и выходить, а не скрываться. Фигура у девушки была, как с чемпионата по художественной гимнастике - тонкая талия, пышные бедра, гибкая спина. А про лицо с синими глазами и говорить нечего.
- Моя обязанность время от времени выходить при белом передничке в садик наверху и заниматься цветами. Обязательно в юбке, не в брюках. Нюхать розы, вздымать глаза к небу, вздыхать, смущенно отворачиваться, если кто смотрит с улицы. Этот домик, где у нас первый пост, должен ничем не отличаться от других. Но в городе меня-то каждая кошка знает. Так что все делается для тех самых инспекций от Совета Директоров, которые и так прекрасно осведомлены о подземном хозяйстве. - Девушка вкусно хрустнула пирожком. - Я, правда, люблю ухаживать за цветами. Хотя кто же не любит?
Она глянула на часы, и лицо ее изменилось.
- Да, послушайте! Вы что, попали сюда вообще безо всяких документов?
- Ну как? Со мной идентификатор.
- А пропуск?
- Нет.
В глазах девушки выразилась тревога.
- Черт! Нас только что предупредили - ожидается внеочередная проверка. Знаете, у начальства бывают такие конвульсии. Сейчас звонок, а через пять минут пустят собак. К этому времени всем нужно освободить коридоры и засесть в рабочих помещениях… Что же нам делать?
Она протянула руку, взяла перекладину со спинки стула.
- Санг, у нас такая история…
- Я все слышал, - раздался голос. - Тоже растяпы на первом посту. Могли бы хоть что-то выписать… Скажи, Ниоль, этот твой приятель способен бегать?
Девушка посмотрела на Кисча.
- Пожалуй, да.
- Срывайтесь прямо сейчас и на Четвертый Проход. Я передам ребятам, чтобы задержали заслон на минуту. Могут, правда, и с той стороны пустить собак. Тогда в Машинную - маленькая дверь слева за переходом… Бегите. Только осторожно в Машинной, не заблудитесь!
Девушка встала.
- Бежим! За мной!
Она была уже возле двери, когда Кисч начал неуверенно подниматься. Куда бежать - все было ему как-то безразлично.
Девушка гневно обернулась.
- Вы что, хотите попасть в Схему? Это ведь жизнь, не что-нибудь.
Пронзительный дребезжащий звон, состоящий из множества голосов и одновременно слитный, пронзил помещение. Чудилось, что звенят стены, предметы, даже человеческие тела. Нарастающее ощущение тревоги, телесная тоска. Прочная действительность разрушалась, назревало извержение вулкана, землетрясение, может быть, даже война. У Кисча застучало сердце, все вокруг начало было опять заволакивать туманом. Превозмогая слабость, он бросился к девушке. Они выскочили из буфетной.
Ниоль - Ниолью ее как будто было звать, так понял Кисч - обрушилась вниз по лестнице. В большом коридоре было полно народу - лишь редких звонок застал на рабочем месте. Девушка активно проталкивалась, и Кисч за ней, роняя на ходу извинения.
Звон становился все громче, нервировал, пугал. Постепенно людей становилось все меньше, с железным лязганьем захлопывались двери. Ниоль нырнула в узкий коридор, на лестницу, в другой широкий коридор, опять в узкий. Вверх, вниз, направо, налево, вперед, назад. Кисч едва поспевал. Проскакивал по инерции мимо того места, где девушка повернула, и вынужден был возвращаться. Ниоль все ускоряла темп.
- Быстрее! Быстрее!
Подошвы ботинок скользили на гладком металлическом полу, приходилось прилагать двойные усилия, работать всем корпусом. Начало колоть в боку, от живота на грудь поднималось жжение.
Звон сделался таким сильным, что не стало слышно уже никаких других звуков. Девушка впереди оборачивалась, беззвучно открывала рот - кричала, жестом показывала, чтоб Кисч не отставал. Новой волной звон опять усилился, показалось, что в мире-то ничего нет, кроме этого всеобъемлющего, убивающего звука.
Усилился и… оборвался!.. Оглушающая тишина. Вокруг Кисча будто разомкнулась плотная давящая среда, он будто вынырнул, лишился опоры, попал в пустоту. Вдруг осознал, что в коридорах уже никого нет, только они с девушкой бегут вдвоем, гулко грохоча.
- Еще скорее!
Пронесся вслед за Ниолью сквозь овальную арку. Девушка перешла на шаг, потом остановилась, привалившись к прозрачной стене, за которой маячили какие-то лестницы.
- Посмотрите!
Кисч обернулся. За его спиной в арке бесшумно опустился ребристый полированный заслон.
- Ф-ф-фу, успели! - Грудь Ниоль поднималась и опускалась рывками. - Давно так не спешила. - Она с восхищением посмотрела Кисчу в глаза. - Вы прекрасно держались. Просто не думала. Бежать вторым ведь гораздо труднее, если не знаешь куда.
Сквозь частое, прерывистое дыхание он спросил:
- А действительно надо было? Ну, допустим, обнаружили бы меня. И что?
- Как что? Пошли бы по Схеме. И не только вы. Лейтенант, который пускал, Сетера Кисч за то, что принял и вообще показался вам. Понимаете, фирма умеет выставлять дело так, будто вы вторгаетесь в государственные интересы, если нарушили ее собственные. А тут ведь только попасть в рубрику. Дальше все идет автоматом.
Они шли теперь по коридору, который, прямой, как натянутая проволока, уходил в бесконечность.
- Схема - это механизм, - сказала девушка. - Любой предшествующий процесс вызывает следующий по своей собственной логике, которая постигается только постфактумом. Предвидеть что-нибудь невозможно, а как оглянешься, понимаешь, что иначе и не могло быть. У каждой организации своя структура мышления, и Надзор, например, считает, что любой человек в чем-нибудь да виноват.
Она внезапно замерла.
- Он, что это?!
Сквозь прозрачную правую стену видно было, как по лестнице бегут через две ступеньки трое в жестких неуклюжих комбинезонах и с масками на лице - водители собак. Два огромных длинношерстных пса поднимались рядом, натягивая поводки, а третья, отпущенная собака уже поворачивала на тот марш, что вел к коридору.
- С этой стороны пустили! - Ниоль отчаянно огляделась. - Вон та дверь!
Двое бросились назад, где маленькая дверца темнела возле арки. Кисч дернул за ручки. Дверь не открывалась.
- Заперто!
- Толкайте! В ту сторону, внутрь!
Дверца распахнулась. Помещение занимала гигантская конструкция спутанных, переплетенных труб, толстых, средних, тонких, сквозных лесенок, воздушных переходов. Даже не было самого помещения. Только эти трубы и переходы, чья неравномерная сетка простиралась вверх, вглубь и вниз, теряясь в тусклом свете.
Ступившие на маленькую металлическую площадку у дверцы Кисч и девушка чувствовали себя, как на уступе перед пропастью.
Кисч захлопнул дверцу. Замка на ней не было.
- Может, просто держать изнутри?
- Что вы! - Девушка схватила его за руку. - Охранники сейчас же будут за собакой.
Во всем этом был оттенок нереальности. Ниоль кинулась вниз по висящим в воздухе металлическим ступенькам. Кисч, помедлив мгновение, заторопился за ней.
Опять вверх, вниз, влево, вправо. Позади гулко залаяла собака. Алюминиевые блестящие брючки и белая кофточка мелькали в нескольких шагах впереди. Возник ровно-переливчатый шепчущий шумок, который становился сильнее по мере того, как двое продвигались в глубь сооружения.
Ступеньки, перекладины, перила. Рука хватается, нога переступает. Кисч с девушкой были теперь в гуще сложно пересекающихся труб. Кое-где приходилось перелезать, в других местах подползать на четвереньках, а то и прыгать. Шум усиливался.
- Эй, послушайте!
Кисч остановился. Девушка была близко, но на другом переходе. Их разделяло метров пять.
- Идите сюда! Я вас подожду! - Она кричала, сложив ладони рупором.
Кисч кивнул, шагая по своему переходу. Но лесенка вела его вниз и в сторону от Ниоль. Стало ясно, что раньше, торопясь, он проскочил на другую тропинку. Пришлось вернуться.
- Где-то мы разделились! Давайте попробуем назад.
Он показал ей рукой, и девушка сделала знак, что поняла. Кисч вышел на площадку, от которой вели две лесенки. Правая как будто приближала его к Ниоль. Он стал подниматься, но неподалеку от него девушка теперь опускалась. Вскоре он увидел ее у себя под ногами. Они продолжали двигаться и через две минуты поменялись уровнями. Опять между ними было около трех метров, но таких, что преодолеешь разве только на крыльях. Еще раз пустились в путь. Кисч вошел в галерею, огороженную сверху и по сторонам проволочной сеткой. Белое пятно кофточки было впереди. Наконец-то! Он заторопился, девушка тоже побежала. Через мгновение они были рядом.
Но разделенные сеткой. Мелкой и прочной.
Ниоль погрузила пальцы в ячейки.
- Пожалуй, лучше остаться так. Проверка кончится, и ребята нас разыщут. А то совсем…
Следуя за ее остановившимся взглядом, Кисч повернул голову. Черная с белым собака, ловко перебирая лапами, поднималась к его галерее. Он бросился вперед, вымахнул на какую-то площадку, замешкался. Перекладины вверх и вниз, но такие, что черно-белый зверь их одолеет.
Рычание раздалось за спиной.
Не раздумывая больше, он прыгнул с площадки на ближайшую трубу, обхватил ее руками, съехал метра на два до ответвления. Пробежал по четырехгранной балке, с чего-то соскользнул, через что-то перескочил.
И собака тоже прыгнула. Плотное тело мелькнуло в воздухе, зверь тяжко стукнулся о трубу, сумел удержаться, взвыл от злобы.
Кисч в панике кинулся внутрь трубной спутанности. Сгибаясь, когда надо, дотягиваясь, если приходится, он уходил все дальше от проволочной галереи. Собака отстала, откуда-то снизу он услышал ее жалобный визг.
Еще несколько шагов и перебежек, Кисч пролез сквозь густое переплетение и оказался в не менее густом. Сел верхом на балку, спустив ноги, собираясь с силами. Было похоже, что он находится внутри гигантского флюидного усилителя. Трубы, ребристые и гладкие, вертикальные, горизонтальные и косые, окружали со всех сторон. В одних направлениях расположенные свободнее, в других теснее. Небрежно брошенные полосы хемилюминесцента скудно освещали бесчисленные сочленения. Не думалось, чтобы кто-нибудь мог уловить систему, вообще разобраться в этой трубной чаще, не говоря уж о том, чтоб ее построить.
Куда теперь? Он не мог сообразить, где та площадка, с которой он прыгал.
Покричать девушку?
Набрал воздуху в легкие, открыл рот и… закрыл. Ровный, пошептывающий шум обволакивал все вокруг. Такой, в котором потонет любой посторонний звук, пролетев лишь два-три шага.
Сделалось как-то очень неуверенно. Во все стороны взгляд упирался в те же трубы - ближние или подальше. Обзор был очень ограничен. Неизвестно, куда его поведет, если он начнет двигаться, - в глубь системы или к ее краю. И какова вообще эта глубь?
- Ну пусть. Только не сидеть.
Став на ноги, Кисч прошел по толстой трубе, придерживаясь за параллельную тонкую. Уперся в такое переплетение, где было не пролезть, вернулся. Прошагал в другую сторону и увидел, что толстая горизонтальная труба кончается, включившись в вертикальную. Двинулся тогда вправо, перепрыгивая с одной трубы на другую. Искусственная чаща не отпускала, держала подобно перемещающейся клетке. Удивительно было, что он так сразу забыл, с какого же края попал сюда.
Трубы начали редеть, Кисч, обрадовавшись, заторопился. Поспешно перескочил двухметровый пролет, схватился за косую трубу и, вскрикнув, отпрянул. Труба была словно кипяток. Секунду он отчаянно боролся, стараясь удержать равновесие, крутя руками. Ухитрился повернуться на сто восемьдесят градусов, прыгнул вниз. На толстой трубе почувствовал пышущий жар даже через подошвы ботинок, вцепился в тонкую, обжегся. Очутился на какой-то рядом, съехал - его развернуло, стукнуло грудью. Сумел обнять толстую трубу, только теплую, к счастью, съехал до сочленения, оказавшись зажатым.
А внизу вдруг открылась бездна - тусклая, чуть ли не космическая пустота, редко-редко пересеченная теми же трубами.
Кисч весь дрожал от испуга, боли, обиды и чуть не расплакался.
- Черт возьми, это ж издевательство!.. Я же человек, отец семейства.
Потом воспоминание о Роне и мальчишках придало ему мужества. Сжал зубы, осмотрелся.
Та же гуща металла и кигона. Теперь он был значительно ниже той площадки, откуда начал, и окончательно потерял ориентацию. Двигаться в горизонтальной плоскости не имело смысла. Его задача была - найти конец этого помещения, какую-нибудь стену, которая в конце концов привела бы его к самой начальной площадке. Но чаща труб не давала никаких ориентиров, в любой, данный момент было непонятно, движется ли он, куда ему надо, не крутится ли на месте. Перемещаться точно по прямой, не сбиваясь, он мог только в двух направлениях - отвесно вверх и отвесно вниз. Вверх карабкаться было бы слишком тяжело, оставался один путь - на дно, как бы далеко оно там ни лежало.
Но даже этот путь был непрост. Спускаясь по одиноко расположенной тонкой трубе, Кисч добрался до места, где она присоединялась к другой, тоже вертикальной, но такой толстой, что не обхватить. Он оказался в пустоте и лишь с великим трудом сумел взобраться назад. В другой раз он еле выбрался из чащи горячих труб, а позже попал в сплетение таких холодных, что пальцы стыли, делались как бы чужими, отказывались повиноваться, держать. Когда ему попалась теплая и толстая горизонтальная труба, он сел на нее, обессиленный. Впервые тревожно подумалось, что так можно и неделю и месяц проплутать, никого не встретив.
- Но неделю-то здесь не протянешь. Джунгли цивилизации - вот что это такое.
Им вдруг овладела злоба на Ниоль и ее приятелей. Ведь он может погибнуть, как раз их спасая. Впустить впустили, а о безопасности не позаботились. Но он сразу одумался. Никто не виноват, ведь Кисч сам же хотел повидаться со старым знакомым, попросить совета.
Вдалеке мелькнул яркий свет. У Кисча екнуло сердце, он направился туда, перебираясь с трубы на трубу с помощью всех четырех конечностей. Свет приблизился. Он исходил от сияющего флюоресцентного провода, который, опутывая трубы, уходил куда-то в глубь и вниз конструкции.
Сделалось повеселее. Кисч спустился еще на один ярус, еще. Руки уже ныли, пальцы начали слабеть, делались как ватные. Светящийся провод ветвился. Новое усилие, другое, и наконец Кисч ощутил твердый кигоновый пол под ступней.
Все!
Пошел наобум между большими, словно катафалки, металлическими ящиками. Все поверхности здесь были покрыты чуть замаслившейся железной пылью. Но тревожило, действительно ли на самое дно он попал. Трубы почему-то не изгибались здесь, не заканчивались, а так прямыми и вонзались в кигон. Как будто внизу под этим полом было еще что-то.
Показалось четырехугольное строение, в нем железная дверь. Кисч подошел, осмотрел дверь, открыл ее, взвизгнувшую. Внутри было темно. Но, может быть, как раз тут и надо искать выход к людям?
Огляделся. Потянул к себе ближайшую жилу светящегося провода, зажмурившись, с трудом открутил-отломал в одном месте, потом в другом. Держа кусок в сторону и подальше от глаз, вступил в здание. Сделал несколько шагов, и ощутилось странное облегчение. Как будто с него сняли тяжесть. Остановился, спрашивая себя, в чем дело, и понял - ослабевает непрерывный шумок. Прошел еще вперед и оказался в низком помещении, заполненном механизмами. Огромные зубчатые колеса, рычаги, шатуны - все было неподвижным. Темнота робко, неслышно отступала перед его светильником, тени испуганно метались, сложно перекрещивались.
Ступеньки вниз - Кисч спустился, люк - Кисч обошел его, система зубчаток - взял правее, железные коромысла - повернул налево. С каждым шагом нарастала надежда, что вот сейчас в какой-то окончательной стене он отворит дверь, за которой светлый человеческий коридор, чистый, без жирной металлической пыли.
Миновал частокол железных столбов, поднялся на какую-то платформу и тут заметил, что кусок провода в руке отчетливо потускнел.
Проклятье! Выходило, что это один из тех старых флюоресцентов, которые нуждаются в постоянной подпитке. Нахмурив брови, Кисч смотрел на провод, потом сообразил, что некогда предаваться сожалениям. Бросился назад. Тени запрыгали. При взгляде с обратной стороны все выглядело иначе, чем было, когда он шел вперед. Налетел на столб, чуть не провалился в люк, споткнулся на ступеньках. Темнота сгущалась, холодный провод в пальцах сиял уже только красным светом, почти не освещая. Лестница кончилась, Кисч ударился головой обо что-то, зацепился карманом пиджака, рванул. Полная тьма кругом. Стараясь не поддаваться панике, сделал шаг, второй, третий туда, где, по его расчету, был выход. Темнота, ужасные мгновения страха. Еще шаг, и он увидел дверь.
Выйдя из здания, он привалился к стене, чтобы отдышаться. Вот это эксперимент - последним идиотом надо быть, чтобы предпринимать такие. Трясущимися пальцами вынул из кармана сигаретку, зажег, чиркнув кончиком о стену. Закурил. Было похоже, что надо снаружи исследовать это здание. Может быть, оно примыкает к главной стене всего помещения? Затоптал окурок, пошел, огибая кладку крупного кигонового кирпича. Правда, не очень-то ему верилось, что под его ногой последний, окончательный пол.
Здание кончилось, как обрезанное, и тут же кончилась платформа. За невысокими перильцами был провал. Вблизи и вдали трубы уходили вниз, в неизвестность, подобно лианам в тропическом лесу. Не было видно, где они кончаются.
Кусок провода, теперь лишь красноватый, был зацеплен у Кисча за карман. Перегнувшись через перильца, Кисч отпустил его над пропастью. Тот полетел, быстро уменьшаясь, исчез, как растворился в бездонности.
Кисч закусил губу, стараясь подавить слезы. После всех трудов он находится только в середине дьявольской системы. Вернее, даже не знает, в каком месте ее. Добрался всего лишь до кигонового острова, что висит в пространстве. Вот здесь-то и есть разница между естественными и технологическими джунглями. В природном, подлинном лесу заблудишься только на одном уровне, на земле. А здесь уровней может быть еще сколько угодно. Даже если его, Кисча, будут искать, разве найдешь?
Он вернулся ко входу в здание, посмотрел на светящиеся провода там, где он вырвал кусок. Не стали ли они тоже тусклее?
И верно! Два висящих конца были красными.
Кисч махнул рукой, отгоняя жуткую мысль. Ведь это просто невозможно, чтобы он мог нарушить всю систему освещения, прервав ее в единственном месте.
Вздохнул, перевалился через ограду и, схватившись за ближайшую трубу, начал новый спуск. Теперь он уже несколько разобрался в обстановке, установил, что горячими были только латунные трубы, что легче идти по кигоновым, где не скользят подошвы. Местность вокруг менялась - иногда он натыкался на такие густые переплетения, что приходилось подолгу искать пути вниз, а порой повисал почти что в пустоте. Не верилось, что где-то есть наземная жизнь, небо, ветер, колышущаяся нива пшерузы. Дважды в стороне видел кнгоновые острова, но даже не старался приблизиться к ним, съезжая, сползая, скатываясь. Час прошел, а может быть, и три, если не четыре. Наконец внизу показались какие-то баки, очертания непонятных конструкций. Кисч спустился по тонкой липкой трубе, зажав ее ногами. Стал на крышку бака, оборванный, грязный. Грудь, брюки, ладони и даже щека в масле, пиджак разорван, измят, лицо мокрое от пота, волосы нависли на глаза - совсем не тот человек, который еще так недавно сидел в ресторанчике на старинном стуле.
Слез по металлической лесенке, попробовал пол. Камень, настоящий природный камень, а не кигон. Скала, земная твердь.
Дно. Настоящее.
Сделал несколько шагов и сел. Вверх уходило безмерное пространство, рядом что-то негромко клокотало в баках. Духота, жара, тяжелый спертый воздух, насыщенный мириадами масляных капелек, масляной пылью.
Ни живой души.
Кисч поднял руку. Часов не было - оторвались и упали где-то там, выше. Пересохло в горле, сосало в желудке. Он подумал, что не вот этот технический, а настоящий лес дал бы ему какие-нибудь семена, плоды, подвернул бы под ногу ручеек, в крайнем случае позволил бы облизать росу с листьев.
А тут попробуй оближи трубу!
Поднялся, побрел, не зная куда. Баки кончились, их сменили бетонные кубы. Что там, внутри - может быть, компьютеры, и как раз одна из тех систем, что держит его на поводке? То, что соединено с электродами в его, Кисча, мозгу. Дверцы кубов были плотно задраены. Но ни ручки, ни выпуклости наружного замка, ни дырочки внутреннего. Как будто налеплены, и все.
Незаметно сверху надернулся потолок. Теперь Кисч был в коридоре. Послышался новый шум, непохожий на прежний, - металлический грохот движения. Кисч остановился на перекрестке, определил направление. Пошел, торопясь, и вскоре опять ступил на открытое пространство.
Из отверзтого жерла в стене выходила канатная дорога и поднималась косо вверх, исчезая в темноте. Подрагивали толстые стальные нити. Одни вагонетки выплывали из стены, осветившись на выходе проводом, неторопливо следовали вверх. Другие, скатываясь, ныряли в стену.
И ни следа человеческого. Созданная, засеянная однажды здесь, под землей, технология властвовала и развивалась, не испытывая нужды в своем творце.
Удивительно вообще было, что дикое положение, в которое он попал, образовалось совершенно естественным путем. Ведь это разумно, что ему захотелось увидеть нынешнего Сетеру Кисча. По-человечески также можно понять, почему, несмотря на запрет, лейтенант впустил его. И так же естественно, что позже они с девушкой постарались избегнуть проверки, что сам он, Кисч, спасаясь от огромной свирепой собаки, прыгнул на трубы. Все было логично, Кисч не мог упрекнуть себя, что хоть раз глупо поступил. Но вот теперь все эти само собой разумеющиеся вещи вдруг сложились в одну ужасающую гигантскую неестественность. Почему?…
Коридоры ветвились, образовывая иногда на перекрестке маленький зал. Порой дорогу преграждали кигоновые балки, приходилось перелезать. Кисч пробовал выдерживать одно направление, запоминая свои повороты, но его все уводило и уводило в сторону от магистральной линии, которую он в самом начале прочертил в уме. Мучила жажда.
Остановился, задрал голову, подняв взгляд к световедущим проводам на потолке. Уже нельзя было сомневаться, что они стали тусклее. Заметно. Когда он только спустился, можно было видеть метров на тридцать вдаль. Теперь же в десяти все сливалось в серую муть.
Вдруг заныло, зачесалось тело. Схватился за голову. Господи, ведь это же сон, сон! Вот он крикнет, издаст отчаянный вопль, и наваждение разрушится.
Но не крикнул. Отнял руки от лица, серые стены смотрели укоризненно, насмешливо. Провод на сгибах уже закраснелся. Два, а быть может, только час до полной темноты.
Побежал было, потом перешел на шаг. Новые четверть часа застали его в узком коридоре бредущим, задевающим то одну стену, то другую. Услышал какое-то посапывание впереди, устремился на звук.
Железная дверь, и опять никаких признаков замка, опять без ручки. Постучал - никакого ответа. Толкнул что было сил, но это получилось все равно, как пытаться сдвинуть скалу. Его только отбросило назад. Забарабанил кулаками и вскрикнул, потирая ушибленные пальцы.
Равномерное посапывание внутри сменилось клацаньем. Прозвенел звоночек, что-то прожужжало, щелкнуло, потренькало, и опять посапывание. Машины разговаривали за дверью на своем машинном языке, не слыша, не имея даже возможности как-то почувствовать его присутствие. Даже если б железная дверь была открыта.
Со стоном он опустился на пол. Пришло в голову, что по-правильному надо было оставаться там, где он оторвал кусок флюоресцента. Хоть теплилась бы надежда, что станут разыскивать поврежденное место, придут, наткнутся на него. (Про охрану, про Схему, в которую можно попасть, теперь даже не думалось - любой ценой выбраться!) Но, с другой стороны, неизвестно, сколько пришлось бы ждать там, в темноте над бездной, и дождешься ли когда-нибудь. Вполне возможно, что свет тут нужен был, лишь когда монтировали конструкцию, а теперь люди сюда вообще не ходят. Да и, кроме того, теперь уж не поднимешься на сотни метров наверх, не найдешь во мраке, в жуткой путанице тот первый кигоновый остров.
- Может быть, оно и к лучшему, - сказал он вслух. - Наша цивилизация все равно идет под откос.
Вздохнул. Ну верно же! Где-то в середине века человечество достигло зенита. А теперь впереди одна только пустота, грохочущая металлом. Ребят вот жалко, мальчишек. Много им придется еще доказывать кому-то, объяснять, когда они попробуют поступать по-человечески и наткнутся на враждебное удивление. А потом тоже уснут где-нибудь под машиной.
Вдруг понял, что по-настоящему-то он сейчас и не хочет видеть людей. Во всяком случае, если это будут торговые агенты, сотрудники Надзора, судьи, или палачи, или бандюги из мафии. Все они заодно. Лучше он умрет и когда-нибудь его обнаружат тут, не предавшего.
Под локтем было что-то мягкое, податливое. Кисч поднял это «что-то». Еще не понимая, почему, ощутил, что тело как оплеснуло бодрящей, прохладной волной.
В его руке была белая кофточка Ниоль. Сделанная из немнущейся, негрязнящейся ткани, она и сейчас сияла, будто только из магазина.
Значит, девушка тоже здесь!
Вскочил, оставив на полу все мрачные мысли.
- Эй!.. Э-эй!
Звук коротко заметался, стукая в темноте о стены, и оборвался, упав у ног Кисча.
- Э-э-э-эй!
Побежал вперед.
Тупик.
Повернулся, выскочил на перекресток. Почему-то казалось, что Ниоль сейчас должна быть где-то здесь, совсем рядом, а через миг уйдет далеко.
Прислушался, держа кофточку у груди как доказательство для судьбы, что имеет право ждать ответа.
Ничего.
Побежал в глубь коридора, еще раз уперся, бросился назад. Повороты мелькали, все одинаковые. Уже было совсем непонятно, вдоль, поперек или вкось от той первой мысленной линии он торопится.
Еще через час примерно, охрипший, побитый, он сел на балку, пересекающую узкий коридор. Провод на потолке лишь тлел в темноте красной нитью. Мягкий слой пыли на балке показывал, что в этом месте годами никого не бывает. От жажды и крика першило в горле, пересохший язык ощущался во рту посторонней деревяшкой.
Подумал, что надо бы написать предсмертные слова - может быть, через год, через десять лет передадут жене и ребятам. Сунул руку в карман, там нащупался гибкий листок «Уверенности». Его передернуло, даже зубами скрипнул от злости.
- У-у, сволочи! Нарочно буду идти, пока не сдохну.
Попробовал разорвать листок, тот не поддавался. Бросил на пол, плюнул, растер подошвой. Ноги заплетались, но упрямо побрел, вытирая плечом стену. В темноте не то чтобы увидел, а как-то почувствовал дыру внизу, на уровне коленей. Нагнулся, всунулся, кряхтя, попробовал на корточках, но лаз был слишком тесным, клонился книзу. Стал на четвереньки, почувствовал, что здесь свежее, чем в коридоре. Лаз сжимался, пришлось лечь и ползти - понятно было, что тут и не повернешься, не выберешься обратно. Да и не на что было надеяться в этом «обратно».
Благодаря уклону ползти было нетрудно. Усмехнулся.
- Превратился в червяка. Или термита.
Лица вдруг отчетливо коснулся ветер. Впереди в кромешной тьме что-то забрезжило.
Полуповорот. Приоткрытая решетка.
Кисч отодвинул ее, выглянул. Выбрался в какую-то нишу, поднялся на ноги.
Вправо и влево уходил ярко освещенный просторный туннель с зеленоватыми стенами. И метровой ширины рельс тянулся посередине.
Магнитная дорога. А он, Кисч, находится в одном из ремонтных углублений.
Справа послышался коротко нарастающий свист. Перед глазами замелькало, и тут же его воздухом дернуло так, что еле успел ухватиться за решетку. Сыпались неясные пятна, ветер тянул и рвал. Потом все это кончилось. Тишина.
- Так. Прекрасно. Прошли вагоны…
Осмотрелся зорко, с решительной деловитостью, неизвестно откуда взявшейся. Вернулись все силы - даже те, каких отродясь в себе не знал. Уж отсюда-то он выберется, хотя бы двое суток пришлось идти до станции. По всему пути должны быть рассеяны ниши, надо только определить промежуток между поездами. Не оказаться застигнутым составом, который мчится километров на двести в час.
Кисч принялся отстукивать в уме секунды. Насчитал трижды по пятьдесят, услышал свист, отступил поглубже в свой проход.
Еще раз все то же самое, и еще… Поезда проносились с интервалом в три с половиной минуты.
- Хорошо. Значит, бежать полторы, и если не увижу впереди ниши, вернусь.
Переждал еще один состав, отметив, что вагоны вплотную приходятся к стенам туннеля. Выскочил, зайцем кинулся по широкому рельсу. Десять секунд, двадцать… Минута, вторая… Уже начал задыхаться. Вдруг сообразил, что пропущен контрольный срок - полторы минуты. Зеленоватые шлифованные стены ровно блестели. Кисч наддал, справа в стене показалось темное пятно. Добежал, втиснулся в нишу, и в этот же момент резко свистнуло, ветер дернул, потащил с мягкой, неуступчивой силой. Вагоны неслись автоматной очередью.
Когда все стихло, он покачал головой, отдуваясь.
- Уж слишком впритык.
Сообразил, что можно скинуть ботинки, пробежал новый пролет босиком. Вышло лучше, он даже накопил секунд тридцать форы. Сбросил пиджак, переложил идентификатор в брючный карман. Бежать стало еще легче, жизнь поворачивалась хорошей стороной. Через два пролета он приспособился так, что успевал отдышаться всего за один интервал между поездами. Даже стал прикидывать, много или мало пассажиров в каждом составе, видит ли его, Кисча, машинист, и если видит, то что думает.
На седьмом своем отрезке он несколько расслабился, опомнился затем, отчаянно нажал и бросился в нишу уже под грозный свист.
Чья-то рука схватила через пояс, крепко притянула. Он забился в панике, пытаясь вырваться. Рука не отпускала, вагоны промелькнули в его боковом зрении.
Ветер стих. Тот, кто держал Кисча, ослабил хватку, отпустил. Кисч шагнул назад. В нише стояла Ниоль.
Секунду они смотрели друг на друга.
- Ловко, - сказала девушка. - Знаете, я не сомневалась, что встретимся. Здорово, да?
- Ну и рука у вас. - Кисч чувствовал, что его физиономия расплывается в самой глупейшей улыбке. Он оглядел девушку. Ниоль была вся измазана маслом и почти обнажена. Только маленький лифчик и трусики. Ужасно захотелось обнять и расцеловать ее.
Под его взглядом она пожала плечами.
- Все скинула, чтобы дать вам знак. Серьги, туфли, брюки, чулки. Вы нашли что-нибудь?
- Кофточку… А как вы попали вниз?
- Полезла вас искать. Заблудилась и решила, что вы будете спускаться до самого низа.
Так просто это у нее прозвучало: «Полезла вас искать». Как будто не бывает на земле ни равнодушия, ни трусости, ни предательства.
- Жуткое место, да?
Он кивнул.
- Вы, наверное, не знаете, куда ведет эта дорога… Никуда. В этих краях начали строить пригород, потом вдруг прекратилось поступление денег. Именно на этот пригород, причем в середине строительного цикла, когда уже фундаменты, водопровод, в таком духе. А откуда эти деньги раньше шли, никто не смог разобраться. Все ведь в компьютерах, в блоках памяти, да еще каждая фирма держится за свои секреты. Не знали даже, где искать документацию. А вот дорога продолжает работать. Сама.
Кисч откашлялся. Ему хотелось сказать Ниоль что-нибудь совсем другое, но он спросил:
- А кто же теперь здесь ездит?
- Ни единого человека никогда. Здесь, на линии и вообще под землей, ни единой человеческой души. Но энергия поступает, всяческая автоматика работает. Кажется, ведется даже строительство новых дистанций. Эти переходы, где мы с вами плутали, - служба дороги… Да, слушайте, ваши часы! Я их подобрала у бункера, где выходят вагонетки.
Она подняла руку с браслетиком.
- Вы прелесть, - сказал Кисч. - Я-то, честно говоря, уже там докатился до полного упадка. Но вы действительно чудо.
Девушка смотрела на него, затем, протянув руки, порывисто обняла, прижала к себе.
В ту же секунду обоим в уши ударил свист, вагоны летели за спиной Кисча, ураганный ветер тянул за рубашку, за обшлага брюк, пытался раздеть, вырвать из объятий Ниоль. Кисч наконец схватился за решетку.
Поезд проскочил, они разъединились.
Ниоль, глубоко вздохнув, сказала:
- Эти штуки не рассчитаны на двоих… Вы сколько пролетов пробежали? Я три. Если за вами больше, давайте в вашем направлении. А я пропущу два и за вами.
Станция показалась после пятнадцатого пролета. На гладкой стене возник коротенький выступ платформы. Кисч успел добежать и нырнуть под нее как раз к моменту, когда вдали темной точкой материализовался, мгновенно вырос, приблизившись, и остановился поезд.
Наверху в полную мощь сияли люстры, лоснился искусственный мрамор, блики неподвижно сияли на геометрических узорах пола. Тишина, молчание, ни человеческого голоса, ни шороха шагов. Пусто. Центр просторного зала занимала двойная дорога эскалатора.
Но неподвижная, застывшая.
Кисч подошел. Нити эскалатора поднимались в бесконечность, сходясь там, наверху. Заныли все усталые мышцы, когда он подумал о пешем подъеме на высоту тридцати, может быть, этажей.
- Алло!
Девушка стояла возле эскалатора. Она задрала подбородок, показывая наверх.
- Представляете себе, какая высота?… Думаю, больше километра.
- Километра?
- Да. И по высоким ступенькам… Давайте доедем до другой станции, все равно терять нечего. Посмотрим заодно.
Очередной состав, прозрачный, весь из стекла, бесшумно подошел. В унисон прошелестев, раздвинулись стены пустых вагонов. Уже ощущая себя беззаботными туристами, девушка и Кисч вскочили весело, попадали на мягкие скамьи, сразу блаженно вытягивая ноги. Поезд стремительно набрал скорость, обоих потянуло вбок - только это и показывало, что они не стоят на месте.
- Поспать бы, - мечтательно сказала Ниоль. - Знаете, сколько мы путешествуем? Восемь часов. В коридоре встретились в одиннадцать, а сейчас семь… Ох уж эти трубы! По-моему, всю жизнь буду не доверять трубам. Даже бояться их… Интересно, приближаемся мы сейчас к нашему городишку или наоборот?
Кисчу-то казалось, что не восемь часов, а месяцы прошли с тех пор, как он подъехал на своем стареньком мобиле к железнодорожному переезду. Собственно, первый раз в жизни он увидел вот такое враждебное, бездушное лицо технологии. Да тут еще Лэх со своими двумя головами. И вообще…
- Странно, - сказал он. - Никому не нужная дорога. Сама для себя. Когда наша цивилизация окончательно лопнет, туннель останется памятником бесцельного труда. Это, между прочим, тоже форма закабаления людей - гигантские бесполезные работы. Вроде Хеопсовой пирамиды. Если б таких не предпринимали, жизнь была бы гораздо лучше. Какой удивительный парадокс - у нас каждый экономический элемент рационален, приносит доход, а все вместе создают массу никому не нужных вещей.
- А здесь люди не работали. - Ниоль подняла палец. - То есть где-то там, сзади, есть человеческий труд, но сама подземка спроектирована и построена уже без участия человека. Теперь сама по себе развивается, куда-то движется, обходит препятствия. Причем никто не знает, из каких источников энергия. То есть раньше это было известно, конечно, а потом кто-то умер, кто-то перешел в другую фирму. И получилось, что сейчас дешевле предоставить ей самостоятельность, чем разыскивать, что откуда. Потому что такие розыски - квалифицированный труд, дорогой.
- А если сломать? Взять да и взорвать какой-нибудь узел? Например, депо. А то ведь она и под город подкопается.
- Сломать нельзя. Это же частная собственность. Правда, сейчас не определить, чья именно, поскольку все ужасно запутано. А потом, не очень-то сломаешь, она ведь сама чинится, ремонтируется. И наконец, кто этим будет заниматься? Вы же не придете сюда со взрывчаткой, и я не приду. Поэтому проще ее забыть или считать как бы природным явлением… Да и вообще ее потеряли. Сейчас только редкие знают, где она. Я расскажу в отделе, что ездила тут, на меня вот такими глазами станут смотреть.
Состав замедлил ход, двери-стены раздернулись. Кисч с девушкой вышли, их сразу обрадовал глуховатый рокот. Безлюдный перронный зал, как и на предыдущей станции, сиял чистотой. С правого конца эскалатор шел наверх, с левого - стекал вниз. Двое ступили на гибкую ступенчатую ленту, их повлекло. Здесь не было ни поручней, ни бортика. Только круглый наклонный туннель со шлифованными стенками, где дно - быстро бегущая кверху лестница. Сначала Ниоль и Кисч стояли, затем сели на ступеньки.
- Вот вы говорите взорвать. - Девушка вернулась к начатому разговору. - Это ведь даже опасно. Куда пойдет огромное количество энергии, если ее не потребит дорога? Тут взорвали, а в Мегаполисе выход из строя каких-нибудь агрегатов или что-то совсем неожиданное вроде валютного кризиса. Один мой приятель считает: технологию вообще уже нельзя трогать - у нее, мол, свои экологические цепи и циклы.
- Мораль, - сказал Кисч, - в том, что технологию можно развивать только до той степени, пока она поддается контролю. Не дальше.
- Факт… Или взять положение специалистов. Большинство работает, представления не имея, чем они, в конце концов, заняты. Человека принимают в фирму и знакомят с непосредственными обязанностями. А объяснять, зачем он будет делать то или иное, слишком долго или вообще нельзя из-за секретности. Мура, одним словом. Как-то это все должно кончиться, потому что каждому опротивело.
Назад и вперед туннель эскалатора сходился в точку. Они ехали уже минут десять, ощущение подъема прекратилось, как только внизу исчез зал. Лишь прикоснувшись к стене, можно было убедиться, что рокочущая лестница не стоит на месте. Да еще по легкому вздрагиванию ступенек.
- В желудке ужасно гложет, - сказала девушка. - В ресторанчик бы сейчас. - Она посмотрела на Кисча. - Да, между прочим, пора бы нам познакомиться. Меня зовут Ниоль.
- Я знаю. - Кисч почему-то покраснел. - Ваш приятель так к вам обращался… То есть это ваше имя. А я Лэх… Вернее, Сетера Кисч.
- Как?… Сетера ведь…
- Если по-настоящему. Видите ли, дело в том…
- У вас с ним был обмен, да? А родились Сетерой Кисчем именно вы?
- Ага… Впрочем, даже лучше, если вы будете звать меня Лэхом. Больше привык.
- Лэх так Лэх. Очень приятно. Знаете, когда я вас первый раз увидела, вы мне почему-то напомнили Хагенауэра.
- Какого Хагенауэра?
- У Моцартов был друг. Добрый, скромный. Все время им давал в долг деньги. Они никогда не возвращали, а он опять. Это я недавно прочла роман о жизни Вольфганга Моцарта. У меня в голове постоянно мелодия из Тридцать восьмой. Помните?
Диковато прозвучало имя Моцарта в этой обстановке.
- Вы, наверное, не способны долго сердиться? - спросила девушка.
- Пожалуй… А по-вашему, это плохое качество?
- Наоборот, замечательное! Я, впрочем, тоже. Обозлишься на кого-нибудь, а потом думаешь: «Черт с ним!»
Наверху показался наконец потолок верхнего вестибюля. Лэх и Ниоль встали. Устье туннеля ширилось, приближаясь. Ступеньки сглаживались, лестница с урчанием уходила в гребешок приемника.
Двое сделали несколько шагов в большом круглом зале, отделанном под красный мрамор. Осмотрелись.
Из зала не было выхода.
Дверей на противоположной стороне не было, там зал оканчивался стеной желтоватой породы.
Ловушка. Продолжение кошмара.
Девушка нахмурилась.
- Неудачно. - Обернувшись, она посмотрела на бегущую в туннеле лестницу. - Похоже, что спуститься будет нелегко.
И действительно, теперь механика эскалатора выступала против них. Они поднялись, воспользовавшись ею, но спускаться пришлось бы, преодолевая ее бездушную силу. По-сумасшедшему нестись против хода ступенек, зная, что малейшая задержка, несколько секунд отдыха отберут все, что завоевано.
Не стеной, не решеткой, а встречным движением их заперло в мраморном зале, и его мрачный цвет как раз сулил теперь беду, гибель.
На миг у Лэха в глазах мелькнуло видение запыленных коридоров, путаница труб. Только не обратно!.. Кроме того, он ведь сам разрушил там всю систему освещения.
- Ни за что! - Бросился туда, где косо поднималась от пола желтая порода, нагнулся.
- Слушайте! Это же песок! Он сухой и легкий. Надо копать. Наверняка тут рядом двери, выход.
Полез наверх, с каждым движением обрушивая маленькие лавины. Под верхним слоем песка там было влажно. Лэх принялся отбрасывать песок руками. Через минуту стала обнажаться стена, затем показался край притолоки. Лэх рыл с ожесточением собаки, считающей, что именно в этом месте она вчера спрятала кость. Наверху образовалась дырка. Пахнуло свежестью. Отверстие ширилось. Хлынул поток дневного света.
- Сюда! Скорее!
Помогая друг другу, двое выбрались из-под притолоки и оказались на дне песчаного кратера. А над ними вечереющее, но еще светлое, беспредельно глубокое небо.
- Вперед! Да здравствует! - Ниоль обняла Лэха, затем, раскинув руки, упала на спину и тут же скатилась метров на двадцать вниз, обратно в мрачный зал.
Через пять минут они выбрались на обрез кратера. Покуда хватал глаз, перед ними простирались груды щебенки, канавы, поваленные краны, завалы бетонных плит, торчащие из земли трубы - первобытный хаос строительства. Все это уходило к горизонту, и на всем пространстве не было заметно ни кустика, ни деревца, ни единого живого существа.
- Величественно, - сказала Ниоль.
Лэх повернул голову и даже отступил от удивления, чуть не обрушившись в кратер. Всего лишь метрах в ста от них тонкую синеву неба косо прорезала высоченная башня, подпертая сбоку кружевом лесов. Та, что он еще рано утром видел с дороги.
Все окна здания светились электрическим светом.
- Это гостиница. - Ниоль переступила с ноги на ногу. - Честное слово. Мне рассказывали, хотя города нет, но гостиница существует и действует.
У великолепного подъезда - он тоже был несколько набок - стоял молодой мужчина. На приближающихся Лэха с девушкой он смотрел без улыбки. Лицо, загорелое, словно вырезанное из темного камня, обращало на себя внимание неподвижной определенностью черт. Индивидуальность, какая-то упрямая, фанатическая, лезла наружу четко, как на портретах Возрождения, - бери ее рукой, словно огурец.
- Здравствуйте, - сказала Ниоль. - Мы убежали, чтобы не попасть в Схему. Можно у вас передохнуть?
- Конечно. - Мужчина не без восхищенного удивления глянул на Ниоль и скромно отвел взгляд в сторону. Он был странно одет. Нечто вроде рубахи из грубого, жесткого серого материала, такие же штаны, неуклюжая, бесформенная обувь. - Отель к вашим услугам. Я здесь смотритель… и хозяин практически. Откуда вы взялись?
- Из подземки.
- Из подземки? Она что, близко?
- Конечно. Вон там дыра.
Вблизи было видно, что мужчина не так уж пышет здоровьем. Под глазами зияли отчетливые черные круги - знак нервного расстройства или хронического недосыпания.
- Жалко, - сказал он. - Только что в пустыню ушла экспедиция на ее розыски.
- В какую пустыню?
- В эту. - Мужчина кивнул на горизонт. - Три дня копошились здесь со своей аппаратурой, а именно на это место как-то не попали… Ну идемте. Я вас накормлю, вымоетесь, переоденетесь. - Он опять смущенно отвел взгляд от Ниоль.
Вестибюль был огромен, как большой готический собор или ангар для ракеты на Марс. Стены, облицованные алюминиевыми плитами цвета старого золота, колонны рельефного окрашенного кигона, диваны и кресла с гнутыми в старинном стиле ножками. Все горизонтальные и вертикальные плоскости сместились под углом градусов в пятнадцать. Шагать приходилось, подогнув одну ногу. Словно на покатой крыше.
- Отель собирали в лежачем положении, - пояснил смотритель. - Начали поднимать, немного недотянули, когда все кончилось. Но службы работают.
Вошли в косой лифт. Мужчина нажал кнопку.
- Лучше я устрою вас на третьем этаже. У меня только там приготовлены свечи.
- Свечи?
- Что-то перепутано в механике освещения. Днем включено и светит. А когда становится темно, гаснет. - Объясняя, он не смотрел на Ниоль. - Я пытался разобраться, не вышло. Тут автономная система освещения.
- Вы что, один на весь отель?
- Уже восемь лет. Но работы не так много. Уборка автоматизирована, белье и посуда одноразового пользования. - Он вдруг глянул на Лэха и девушку с неожиданным подозрением. - Вам как, в одном номере или в разных?
- В разных, - сказала Ниоль. - Только, знаете, мы совсем без денег. Все вышло как-то случайно.
- Не имеет значения. Я вам говорю, что все службы действуют, хотя никто и не живет. Доставка продуктов и прочее. Даже товары регулярно поступают в универмаг. У меня половина времени уходит на то, чтобы все это закапывать и сжигать. Вообще гостиница принадлежит другой системе, отдельно от строительства, и функционирует нормально, за тем исключением, что нет постояльцев. Собственно, вы первые настоящие гости.
В коридоре стены были украшены сложным белым лепным орнаментом, изображающим рыб и водоросли на голубом фоне.
- Сейчас заканчивает ежегодную проверку комиссия из НОСРГ. Можете поужинать вместе с ними. Но тогда консервированными продуктами. А если хотите настоящих свежих овощей и мяса, я готов приготовить. - Смотритель все-таки посмотрел на Ниоль. - Час подождете, и сделаю. Не больше часа.
Девушка вздохнула.
- Нам бы что скорее.
- Тогда с комиссией. Поставлю еще два прибора в пляжном зале и попрошу их подождать. Это здесь, на этаже.
Номер, куда мужчина впустил Лэха, оказался двойным. Из окна открывался широкий вид на пустыню. У противоположной стены, разделенные туалетным столиком, стояли две кровати - Лэх сообразил, что смотритель поставил их так, чтобы наклон получился как бы килевым, а не бортовым. На столике высился грубо сделанный подсвечник со свечой. Над ним встроенный аквариум, где меланхолично скользили красные рыбки. Обнаружив в ванне несколько купальных полотенец, Лэх зарычал от удовольствия. Правда, из-за уклона резервуар можно было наполнять только на треть. Когда Лэх сел в глубокий угол, то погрузился с головой, а в мелком был вынужден сидеть на обнаженном дне.
Вымывшись и отмякнув, он вернулся в комнату и нашел там синий безразмерный костюм с такими же ботинками. Тут же в дверь постучался смотритель.
- Ну как, подходит?… Девушку я впустил в универмаг, чтобы сама выбрала. Как ее зовут?
- Ее? Ниоль.
- Хорошая девушка. Меня зовут Грогор.
- Лэх. Рад познакомиться.
Пожав друг другу руки - Лэху при этом показалось, что его пальцы попали в осторожные стальные тиски, - они вышли в голубой коридор. Опускающееся солнце окрасило тритонов и акул на стене в желто-розовый. Было понятно, что убранство этажа сделано в морской тематике.
Прогулялись. Из-за наклонности пола Лэх то и дело натыкался на своего спутника. Тот сказал:
- Если бы все время в одном направлении, перекосило бы позвоночник. Но если куда-нибудь идешь, потом-то все равно обратно.
- Не тоскливо без людей?
- Без людей? - Смотритель вдруг остановился, прислонившись к стене, уткнулся лбом в выступающую голову белого тритона, закрыл глаза. Потом через секунду поднял голову. - Что вы сказали?
- Я спросил, не скучно ли одному?… Вы нездоровы?
- Почему? Просто заснул. - Грогор тряхнул неровно подстриженными светлыми волосами. - Нет, не скучно. У меня есть занятие. Но главное - свобода. Надо мной ведь никого.
- Часто бываете в городе?
- Ни разу за все время.
- Но дорога тут есть?… Какая вообще связь с городом?
- Дорога была. Ее как раз начали расширять, когда все остановилось. Теперь там не проехать - загорожено, завалено. Поэтому гостиничная фирма перешла на снабжение по воздуху. Так и будут, пока у компьютера не кончится программа. Но когда это произойдет, неизвестно. Комиссию, кстати, тоже вертолет должен забрать - они на три дня приехали.
Ниоль появилась в красном, переливающемся, как бархат, платье. Вместе с ней пришло облако духов. Глаза сияли.
- Как в сказке. Никогда в жизни не имела такого выбора. Неужели вы все уничтожаете?
- Куда же девать? - Смотритель пожал плечами. - Приходится как-то обеспечивать место для новых партий. За продуктами вот только приходят дикие племена из пустыни. Но вещей не берут.
- Дикие племена?
- Тут их три, по-моему. Оседлое и два кочевых. Оседлые мощно едят. У них, впрочем, и народу больше. Канон они себя называют. Особенно-то я не интересовался.
Пляжный зал и впрямь был похож на пляж. Пол из клееной гальки и голышей, длинный стол армированного песка, составленное из световедущих нитей солнце на потолке. В центре помещения из фонтана извергалась синяя вода, образовывала лужу и вдоль стены утекала в угол.
Потягивая глютамионный коктейль, за столом сидело четверо членов комиссии. Когда вошла Ниоль, все встали. Полный мужчина, поклонившись, представил компанию:
- Мы от НОСРГ: Национальное объединение строительства ресторанов и гостиниц.
- Инспекция из ТЧК, - бойко отрекомендовалась Ниоль. - Собственно, ТЧК и ЗПТ. Расшифровке не подлежит.
Полный мужчина с пониманием наклонил голову.
Закусили зернистой икрой из нефти, весьма пикантной. Извлекая все из специального окна в стене, Грогор подавал синтетические отбивные, бактериальный крем, всевозможные гарниры. Каждое блюдо шло в растворимой тарелке, и растворимыми оказались вилки с ножами. Смотритель, помещавшийся во главе стола, был единственным, не принимавшим участия в трапезе. Лэху бросилось в глаза, что время от времени тот клал голову на руки и засыпал на три-четыре секунды. (Черные круги под глазами как будто стали еще отчетливее к позднему часу.) Посуду все выкидывали в синюю воду, где она тотчас же расходилась без следа. Из-за наклонности стульев сидеть приходилось напряженно - согнув корпус, упираясь одной ногой в пол. Поверхность жидкости в стаканах стояла под косым углом к стенкам.
Сбив первый голод, заговорили.
Полный мужчина подвинул ближе к Лэху чашу с искусственной вареной картошкой.
- Обратили внимание на орнамент в коридоре? Производит впечатление объемности, а на самом деле полифотографическая живопечать. Тоньше папиросной бумаги Вся стена доставлена одним рулоном, который весил семьсот граммов.
- Моя гордость, - подхватил другой, - бойлерная система. Вростные трубы без единого шва, представляете себе?
- Да, - начал Лэх, - но вот эта кри…
Ниоль поперхнулась с набитым ртом, сделала Лэху «большие глаза» и поспешно проглотила.
- Отличные трубы. Я их не видела, но уверена.
- Абсолютно исключена возможность утечки. - Тот, который гордился бойлерной системой, проворно подхватил заскользивший к краю стола стакан.
- Как представитель архитектурного надзора, - начал третий, - могу сказать, что ремонтные скрытные работы документированы превосходно.
В коридоре девушка накинулась на Лэха:
- Послушайте, что вы там хотели устроить? Митинг о судьбах цивилизации?
- Но это же сумасшествие - рассуждать о трубах и орнаменте в такой ситуации.
- Почему? Люди на работе, не знают, кто мы с вами такие, и, конечно, выглядят болванами. Но попробуйте потолковать в другой обстановке, каждый может оказаться умнейшим, интереснейшим человеком. Просто они вынуждены поддерживать ритуал. Если кто-нибудь из них откажется, вы лично не станете же платить ему зарплату, а потом и пенсию.
- Да-а…
- Кроме того, толстяк, возможно, сам конструировал стену. Изобретал, вдохновлялся, мучился. Ему надо хоть одно слово похвалы услышать, тем более если его произведение попало в такое место, где его вообще никто не видит. - Ниоль дотронулась до плавника какой-то рыбы. - Слушайте, в самом деле оно не выпуклое. Посмотрите.
Лэх попробовал взяться за плавник, но пальцы скользнули по совершенно гладкой поверхности. Он посмотрел сверху и снизу - иллюзия объема сохранялась, за «более выпуклыми местами» скрывалось то, что было «во впадинах». Приложил щеку к стене, и только тогда белый рельеф слился в сплошное.
- Черт его разберет.
- Ну отлично. - Ниоль подавила зевок. - Давайте отдыхать, а? Возвращаться надо будет, видимо, через пустыню пешком. Я тут поговорила с нашим хозяином. Он считает, до городка километров тридцать пять. Придется выйти с восходом. Компаса у него, к сожалению, нет. Но, по-моему, не собьемся, если будем шагать на солнце. Все-таки лучше так, чем обратно в подземку.
- Еще бы!
- Тогда спокойной ночи.
Однако едва Лэх успел блаженно вытянуться и забыться, как почувствовал, что его трясут за плечо. Рядом с кроватью стоял Грогор.
- Извините.
- Угу…
- Я стучал, но вы не откликнулись.
- Задремал, наверное. А что?
- Вы не хотели бы посмотреть мое хозяйство? Я вам могу показать.
Лэх встал, шатнувшись, еще не вполне понимая, чего от него хотят. С горечью посмотрел на выдавленное и согретое его телом углубление в постели.
- Ладно, пойдемте. То есть я хочу сказать, что с удовольствием.
Возле лифта смотритель остановился.
- Что, если нам пригласить Ниоль?
- Давайте.
- Может быть, вы тогда постучите к ней, скажете?
- А почему вы не хотите постучать? Скажите сами.
Чеканное лицо Грогора покраснело под загаром. Он опустил глаза.
- Стесняюсь. Почти не приходится общаться с женщинами. Тем более такая девушка.
- А-а… Ну хорошо.
Ниоль еще не успела лечь и, к удивлению Лэха, отозвалась на предложение без всякой досады.
Солнце клонилось к горизонту, когда трое вышли из величественного подъезда. Огромная тень здания изломанно лежала на грудах мусора. Вечерний ветерок поднял, пронес, бросил обрывок древнего чертежа.
Следуя за смотрителем, Лэх с девушкой обогнули отель. По грудам неровных кигоновых обломков Грогор шагал, словно горец, с детства привыкший к своим крутым дорожкам. Они миновали сборище полуразрушенных кирпичных колонн, пробрались сквозь толпу застывших бульдкранов, чьи полуистлевшие приводы змеями вились под ногами.
Влезли на гребень щебеночной дюны.
Здесь Лэх и Ниоль восхищенно замерли, потом Лэх выдохнул:
- Вот это да!
Прямоугольный котлован со сторонами метров на пятьсот был затоплен зеленью и перехлестнут ею с противоположного от наблюдателей края. В первый момент ковер растений представился однообразным, но тут же взгляд начал различать здесь рощицу, там лужок, в одном месте вольную заросль кустарников, в другом - аккуратную посадку. Примерно посреди участка к небу тянулась тонкая труба, укрепленная тяжами. Рядом краснела черепицей крыша небольшого дома. Ни дать ни взять крестьянская усадьба двухсотлетней давности. И труба не портила эффекта благодаря своему легкому светлому кремовому цвету.
- Оазис среди пустыни. - Ниоль пощелкала языком.
- Посмотрите на меня, - быстро сказал Грогор, пользуясь произведенным впечатлением. Он оттянул ворот своего неуклюжего одеяния. - Вот эта рубаха. Полностью своя! Вырастил хлопок, спрял нитку и соткал… Или вот обувь. Знаете, из чего сделана?… Из кожи.
- Понятно, что из кожи. - Ниоль недоуменно посмотрела на странной формы неуклюжий ботинок. - Вальзамит, видимо. Или что-нибудь углеродистое.
- В том-то и дело, что нет! Просто кожа.
- Я вижу, что кожа. Но из чего она?
- Из свиньи. Свиная. Прочел в старинной книге, как дубить, и сделал. На мне нет ничего искусственного. Это принцип.
- Значит, вы убили свинью? - Ниоль поморщилась.
- Сначала усыпил уколом. Вообще иначе нельзя, потому что слишком размножаются… Вот сюда, по этой тропинке.
Они вступили в зеленое царство. Воздух был наполнен острым пьянящим запахом тмина, липы, сосны, который после подземного путешествия тем отчетливее чувствовался Лэху и Ниоль. Крупная, тяжелая пчела на глазах снялась с цветка, полетела гудя - чудом живой природы держащийся в воздухе черно-желтый комочек, - пропала на фоне листвы. Под стволом сосенки высилась игольчатая рыжая куча, вся переливающаяся коричневыми беглыми точками.
- Муравейник, - объяснил Грогор. - Это один, а там дальше второй. Вообще насекомых много - без хвастовства. Вредители даже есть. Бабочки-капустницы, яблочные тли… Вредителей, правда, очень трудно доставать. Хотел на картофельном поле развести колорадского жука. Но не добудешь. Уничтожили во всем мире. Только по военным лабораториям и удержался где-нибудь. В небольших количествах.
- Зачем вам колорадский жук? - спросил Лэх.
- Для естественности… Вот это поле пшерузы. На чистом черноземе, между прочим. И знаете, как делал? Все своими руками. В этой местности почвенного слоя совсем не осталось. Какой раньше был, перемешан со щебенкой, цементом, кирпичом. Поэтому я сначала покрыл котловину смесью из клочьев волнопласта с песком и глиной. Высеял люцерну и сахалинский бамбук вперемешку, поливал раствором фосфора, калия, азота. Три года подряд весь урожай скашивал, запахивал сюда же. И потом только начал сажать кусты, всякое такое. Сейчас у меня перегноя девять сантиметров. Ну это, правда, с навозом - навоз все время добавляю. В роще внизу все переплетено корнями. Некоторые деревья такие, что даже не качнешь.
Они вошли во фруктовый сад. Вишневые деревья краснели ягодами, ветви яблонь клонились к земле, трава была усеяна паданцами.
- Вам нравится? - Грогор обращался только к девушке. - Ешьте, пожалуйста. Вы же видите, все пропадает, гниет.
- Спасибо. - Ниоль передала яблоко Лэху, сорвала другое.
- Вы тоже ешьте… Понимаете, когда человек высадил сад, у него, по всяком случае, есть уверенность, что выращенными им растениями возмещается тот кислород, который он сам потребляет из атмосферы. Но дело не только в этом. Главное, что я полностью обеспечен. Если этот компьютер вдруг прекратит подвозить продукты и вообще обслуживать отель, если вся наша технологическая цивилизация вообще даст трещину, я тут прекрасно прокормлюсь, оденусь, освещусь.
- А вам кажется, все треснет? - спросил Лэх.
- Ничего не кажется. Просто хочу быть самостоятельным. Вот представьте себе: раньше люди гораздо меньше зависели от технологии, чем мы теперь от природы. Не вышло с одним, спокойно брались за другое. Предположим, десять тысяч лет назад, в неолите. У кого-то поле не уродило, мог прокормиться охотой. Дичи нет, перебивался, собирая дикие плоды, жуков, грибы, лягушек. Как-никак кругом все было живым, съедобным. А сейчас? Попробуйте в городе хоть одну службу остановить на недолгий срок. Подачу воды или, скажем, уборку мусора. Через месяц сто миллионов погибнет. Я не говорю, что такое может случиться - система многократно гарантирована. Но все равно противно сознавать, что твое существование подчинено исправности мусоропровода или водопровода… А у меня на участке ручей и, кроме того, цистерна закопана.
- Ой, глядите! - Ниоль протянула руку. - Микки Маус.
Меж космами травы маленький зверек, вытянувшись столбиком, понюхал воздух острым носом, затем свернулся в шарик, укатился.
- Мышей полно. - Смотритель удовлетворенно усмехнулся. - Одно время даже крыс развел. Риккеттиозом от них заразился, еле выгребся… Так о чем мы говорили, о самостоятельности?
Он подвел Ниоль и Лэха к трубе, которая, стоя, уходила вверх метров на двадцать. Основание на кигоновом постаменте, и от него в землю кабель.
- Во-первых, энергия. Из-за разности температур сверху и снизу внутри трубы постоянный ветер. Я туда поставил двигатель с генератором. Воду качать, трактор вести - все пожалуйста. Причем штука безотказная при любой погоде… Щетки сотрутся, у меня запасных ящик. Подшипник расплавится, найду, чем заменить… Теперь питание. Пшерузной муки, овощей, фруктов участок дает в десять раз больше, чем я могу использовать. Да еще оранжерея и пруд, где карпы. А в подвале шампиньонная плантация. Насчет свиней я уже говорил. К этому прибавьте коровье стадо на шесть голов и два десятка овец. Понятно, к чему сводится?… Законченная экология, замкнутый цикл. Если меня накрыть колпаком, могу существовать сколько угодно.
Грогор победно посмотрел на девушку и Лэха.
- Пусть весь мир провалится, а я останусь. Все равно как в запаянном аквариуме.
- А вы бы хотели накрыться колпаком?
Смотритель нахмурился.
- Не знаю… Теперь пойдемте в дом.
Дом оказался двухэтажным, просторным. Грогор рассказал, что сам изготовлял огнеупорный кирпич, в одиночку клал стены. Он был уже суетливым, то и дело забегал впереди Ниоль с Лэхом и возвращался. Его несло, неподвижное лицо оживилось, глаза остро поблескивали.
Осмотр начали с подвала.
- Вот это синтетическое молоко. Ящики по сто килограммов… Я сначала натаскал продуктов из отеля, а сейчас постепенно заменяю тем, что произвожу сам. Но ящики пока оставил - молока примерно года на три, если пить, не жалея. - Он взял один - легко, словно подушку с дивана, - переложил с низкого штабеля на высокий. - Вот здесь под молоком соевое мясо. Но вот те окорока в углу уже свои… Вернее, не свои, а свиные, настоящие. Продукты пока в искусственной таре, но у меня план заменить на такую, которую сделал сам. Понимаете, цель в том, чтобы овладеть всеми производствами. Человека ведь что лишило самостоятельности - разделение труда. Сам умеет только что-нибудь одно, а в остальном зависит от других. А у меня как раз не так. Надо проволоку или напильник - пожалуйста, учусь тянуть проволоку, насекать напильник. В любом деле стараюсь начать с нуля. Гончарную профессию уже освоил - видите сосуд с оливковым маслом?
Лэх и Ниоль глянули на кособокую глиняную бочку. В этом углу помещения стоял тяжелый, удушливый запах.
- Это сало. В том чану варю сало, чтобы делать свечи. - Грогор говорил все скорее. - За чаном прялка, а за ней агрегат - ткацкий станок. Вот это тиски - губки сам отливал, а винт, правда, нарезал на токарном станке. Верстак пришлось пока сделать пластмассовый, но, когда сосны в роще подрастут, распущу на доски и пластмассу всю буду выносить в пустыню.
Смотритель двигался уже с такой скоростью, что было даже трудно уследить за его перемещениями, - только что тут и сразу там. Он открыл дверь в кирпичной стене, за ней был темный коридор.
- Подземный ход.
- Куда? - Вопрос вырвался у Ниоль и Лэха одновременно.
- Туда, за щебенку. Наружу. Он еще не окончен. Собираюсь стену поставить вокруг участка, а ход пойдет за нее.
- Зачем?
- Мало ли что бывает. Всегда приятно знать, что можешь незаметно выйти. Разве не так?
- А стена? Чтобы дикие не приходили?
- Да нет! Они вообще-то слабые, ничего не могут сделать. Которые из канона, наладились было в сад. Сначала. Но я предупредил, что перестану давать консервы. Они тогда отреклись. Консервы же для них удобней - никак не надо готовить.
Из подвала поднялись сразу на второй этаж. Там комнаты были тоже завалены припасами - главным образом продукцией сада и оранжереи. Высились горы гороха, сушеных яблок, изюма. Все было покрыто пылью, грязное, частью порченное. Со стороны яблочной кучи выскочила огромная крыса, метнулась через ботинок Лэха. Смотритель со звериной быстротой прыгнул за ней, нагнулся, сумел поймать за хвост. Стукнул головой об стену и выкинул в окно. Все это произошло в течение секунды, и он уже стоял возле подоконника, показывал на большой луг, где в одном загоне паслись коровы, а посреди другого слитной волнистой массой лежало овечье стадо.
- Раньше доил коров и сепарировал молоко. Теперь бросил - времени не хватает. У них сейчас телята до года сосут и больше.
Почти треть первого этажа занимала кухня, и почти треть кухни - кирпичная с металлическим темным покрытием плита. На ней, однако, возвышалась современная высокочастотная печь на восемь программ.
- Пока варю на электричестве. Когда будет побольше хворосту, удастся иногда протапливать плиту. Зато деревянное корыто естественное - сделал из большой колоды, которую художники сюда зачем-то привезли, но бросили, когда энергия кончилась. Получилось точно как было раньше - надо только наладить производство мыла, и хозяйка может стирать руками… Тряпка для мытья пола подлинная, из хлопка, как в девятнадцатом веке. Сковородки сам отливал из чугуна. Толстые, правда, получились.
Он тревожно посмотрел на Ниоль.
- Как вам кухня?
- Ничего… - Девушка состроила неопределенную гримасу. - Никогда, впрочем, не пыталась стирать руками. Наверное, даже занятно.
Смотритель просиял.
В начале экскурсии хозяйство Грогора просто-таки очаровало Лэха. Но постепенно он начал ощущать в самой личности смотрителя что-то натужное, даже злое. Было чувство, будто он ждет катастрофы, которая только и дала бы его затее полный смысл и оправдание. Непонятным оставалось лишь, что откуда: то ли убежище сформировало характер Грогора, то ли он сам наложил на созданное им индивидуальное царство отпечаток собственного сознания.
Смотритель, однако, не замечал настроения гостей. Он повел их в спальню и в детскую.
- Смотрите, все приготовлено. Люльки для самых маленьких, кроватки, когда подрастут. Вот здесь лекарства. - Открыл вместительный шкаф. - Любые. Против каждой болезни, какая только упоминается в медицинской энциклопедии.
- А где же дети? - спросил Лэх. - Вообще семья.
- Собственно… - Грогор запнулся. - Собственно, нету. Еще не успел. Но семья должна быть. Это запланировано.
Странно было видеть его, крепкого, какого-то выносливого, вдруг смутившимся, словно школьник. Он бросил исподлобья взгляд на Ниоль.
- Думаю, что здесь каждой придется по душе. Я ведь сил не жалел. Обязательно семья и много детей. Иначе что с таким хозяйством делать одному?
В новой комнате, где стены были скрыты за книжными полками, стояли крупногабаритный телесет, электропианино с компьютерной приставкой, письменный стол, несколько кресел.
- Все брал в рассрочку - зарплата-то мне идет. Когда новые товары поступают, я сжигаю или раздаю. А уж за то, что себе, вот тут квитанции, пробитые в кассе.
Прошелся вдоль книжных полок.
- Мировая культура. Литература, музыка, искусство… Если даже мир погибнет, оно останется. В этом ряду классики: Аристотель, Дюма, Достоевский, Шекспир, Байрон там, Сетон-Томпсон. В таком духе. Книги все бумажные - мини не признаю. Тот проем - художественные альбомы. Живопись, скульптура, архитектура - представлены все страны в главных направлениях. А тут, - смотритель присел на корточки, - видеокассеты. Пятьсот пятьдесят фильмов. Вставляй в сет и смотри. Чарли Чаплин, пожалуйста, этот… как его… такой маленький, дергается, Фюнес. В общем, на любой вкус. Комедии, историческое. Потрудились как следует на участке, а вечером смотри, слушай музыку. И никого не надо. Людей вообще не надо… Вот это, например, что?
- Он вынул кассету в коробочке, затем недоуменно глянул в сторону от Лэха.
- А где же девушка?
Лэх посмотрел назад. Ниоль за его спиной не было.
Смотритель поднялся.
- Может быть, в детской осталась? Сейчас посмотрю.
Он вышел из комнаты, затем шаги его протопали вверх и вниз по лестнице.
- В доме нету. И в саду тоже.
- Вероятно, пошла спать. - Лэх пожал плечами. - Мы за день устали жутко.
- Да? - Грогор растерянно осмотрелся. Оживление сразу покинуло его. Он даже как-то съежился. Взгляд потускнел, круги под глазами стали еще чернее. - Значит, ей тут не показалось. Почему? Как вы думаете?
- Ну… Дело в том, что…
- Стараешься-стараешься, в все зря. - Грогор присел на стол с кассетой в руке.
- Почему зря?
- Мне же надо завести семью. Что я тут буду раком-отшельником.
- И заводите! За чем дело стало?
- Как завести, если ей тут не понравилось?
- Кому?
- Ну этой девушке, Ниоль. Она же ушла.
- Послушайте! - Лэх оторопел. - Вы же до этого дня вообще не были знакомы. Не знали, что такая вот вообще существует на свете.
- Теперь-то познакомились…
- Но вы… Но такого знакомства ведь недостаточно. И кроме того… Что тут, женщин никогда не бывает? Сами же говорили, что приходят из канона.
- Приходят. - Грогор уныло покивал. - Только они нечистые. У них в племени групповой брак, свободная любовь. Наркотиками занимаются, и ни одна работать не хочет. Шляются голые по пустыне, только наесться и насчет того самого… А вот Ниоль мне сразу понравилась. - Смотритель подошел к полке. - Удивительно как-то. Все ведь есть, что человеку может потребоваться. Здесь вот детективы, там путешествия. Классики все до одного.
- А вы их сами читаете?
- Кого? Классиков?
- Ну да! Книги.
Смотритель недоуменно посмотрел на Лэха.
- Смеетесь вы, что ли? Откуда у меня силы возьмутся? И время. Какое там читать, когда я уже несколько лет в сутки сплю по три часа? Такое хозяйство поднять! Посмотрите на руки. - Грогор швырнул кассету на стол, повернул кверху ладони все в янтарных мозолях, как черепаший панцирь. - Кругом же один. Это вам не город, где свои двести минут в конторе отсидел, а потом тросточку в зубы и пошел приключений искать. Не то что читать, тут буквы позабываешь, как они выглядят. Хозяйство затягивает же, верно? Сделал запас чего-нибудь на год, потом начинаешь думать, почему не на десять. Чем-нибудь другим занимаешься, а мысль-то гложет. Взять воду хотя бы. Вон там цистерна на пятьдесят тысяч литров. Сначала бульдозером, экскаватором подготовил для нее место, потом ее самое разыскал в пустыне, трактором волок через весь этот хаос. За что ни возьмись, все работа. От недосыпа голова раскалывается, ходишь как очумелый. А вы говорите - «читать»! Я и фильмов-то этих не видал, альбома по искусству не открывал ни разу. Подойдешь только иногда, потрогаешь корешок осторожно, чтоб не запачкать грязной рукой.
- Ну спасибо. - Лэх вздохнул после паузы. - Пожалуй, тоже пойду.
- Коровник не хотите посмотреть? Как раз заканчиваю там автоматизацию.
- Устал. Прямо не держусь на ногах.
Долину уже затопило тенью. От земли несло влагой и прохладой. У пшерузного поля Грогор вдруг остановился.
- Скажите…
- Что?
- Только откровенно.
- Ну-у… конечно.
- Может, я с ума сошел? Вам не кажется?
- Что вы? - Лэх попятился. - Конечно, нет.
- У меня тут какой-то Ноев ковчег. Чем больше запасаешь, тем больше открывается, что, мол, такого-то еще надо и такого-то. Нет конца.
За щебеночной горой бесчисленные окна несуразной гостиницы ярко горели на фоне темного неба. Потом они все разом погасли.
В вестибюле смотритель зажег свечу - маленькое желтое пламя повисло во мраке огромного помещения, как в пустоте космоса. Возле широкого лестничного марша, вручая Лэху подсвечник, Грогор потоптался.
- Пойду все-таки к себе. Надо кончать в коровнике. Вообще дел невпроворот. Овцы тоже не поены… Если у вас возникнет какая-нибудь нужда, нажмите в номере кнопку возле двери. Ко мне на участок проведена сигнализация с автономным питанием. Так зазвонит, что я везде услышу.
Снова Лэх завалился в постель. Но не суждено было. В двенадцать его разбудил собачий лай из коридора.
Лай, рычание, шаги - все приближалось. В тревоге Лэх сел на постели.
Дверь отворилась. На пороге были смотритель и высокий мужчина с бакенбардами. В руке он держал белую маску, на нем был жесткий комбинезон с петлицами, на которых единицы и нолики.
- Пришлось привести к вам еще одного постояльца. - Грогор от своей свечи зажег ту, что была на туалетном столике. - Заблудился в подземке, только что вышел. А в других номерах у нас тут полная тьма.
Здоровенная черно-белая собачища - точная копия той, что загнала его на трубы, - протиснулась между ногами вошедших и принялась обнюхивать колени Лэха. Голова у нее была больше, чем у человека. Обнюхав, она подняла на Лэха внимательный, испытующий взгляд. Лэх окаменел.
- Она ничего, - сказал бакенбардист. - Кусает только на охраняемой территории… Ложись, Бьянка… Вы не возражаете против вторжения?
Собака несколько раз покрутилась на ковре за своим хвостом, улеглась, положив голову на лапы, не сводя взгляда с Лэха.
- Пожалуйста. - Лэх сам слышал, как дрожит его голос. - Какие там возражения?
Смотритель не уходил.
- Простите. Можно вас на минуту?
- Меня? - Лэх поднялся. (Собака тоже встала сразу же.) - Сейчас оденусь.
- Да не надо. В коридоре никого нет.
Лэх вышел в трусиках. Собака сунулась было за ним, бакенбардист оттащил ее.
Грогор отвел Лэха в сторону от двери.
- Извините меня еще раз.
- Ну-ну?…
Смотритель уперся пальцами в ложновыпуклый завиток на стене.
- Скажите, она замужем?
- Кто, Ниоль?
- Да.
- Не знаю. По-моему, нет… Впрочем, совершенно не представляю себе. Ничего не могу сказать.
- Она вам ничего про меня не говорила? Что я, мол, не совсем в себе.
- Мы о вас вообще не разговаривали.
- Вы к ней не заходили вот сейчас вечером?
- Нет.
- И она к вам?
- Тоже не заходила. Думаю, спит уже давно.
- Хорошая девушка. А где она работает?
- В городке. Какая-то у них там организация. Фирма.
Грогор ударил себя кулаком по лбу.
- Черт!.. Как вы думаете, может, мне все это бросить? Экологию.
- М-м-м… Понимаете, м-м-м-м…
- Ладно. - Грогор вдруг сунул Лэху свою железную ладонь. - Спасибо за совет. Может быть, я так и сделаю.
Когда Лэх вошел в номер, мужчина с бакенбардами уже сидел на постели раздетый.
- Меня зовут Тутот. Я из Надзора.
- Лэх…
- Где вы работаете?
- ИТД, - сказал Лэх, ужасаясь собственной глупости. Но, несмотря на все усилия, ничего другого не приходило в голову. - ИТД. Инспекция.
Однако мужчина с бакенбардами лишь вздохнул укладываясь.
- Где только люди не состоят. У меня есть знакомый, так на вопросы, где служит, кто такой, отвечает, что олух. Серьезно. Потому что это какая-то Объединенная лаборатория углубленных характеристик… Вы как добирались сюда?
- Пешком… То есть вертолетом.
- Мне тоже придется вызывать по радио вертолет. Другая возможность как будто отсутствует. Хотите, подвезу вас завтра? Правда, только до городка.
- Спасибо. Но я приехал не один. И дела еще.
- Курите?
- Нет… Вернее, да.
Закурили. Тутот вытянулся на постели, глядя в потолок. Сигарета зажата в зубах.
- Блаженство вот так - ноги кверху. Вымотался до конца. Гнались за нарушителями, попал в подземную технологию. И там постепенно погас свет. Представляете себе, оказался в полном мраке. Если б не вывела Бьянка на магнитную дорогу, не знаю, чем кончилось бы. У нас в прошлом году двое заблудились - не здесь, а западнее, с бетонного старого шоссе. До си-х пор никаких следов… Не приходилось бывать на магнитной?
- Да… Вернее, никогда не бывал. Ни разу.
Мужчина с бакенбардами внимательно посмотрел на Лэха.
- С кем вы тут?
- Один наш сотрудник. Женщина.
- Молодой? То есть молодая?
- Почти. Не старше сорока. Девушка, в общем… Правда, их не очень разберешь сейчас. Может быть, двадцать три. - Лэх почувствовал, что запутался. - Простите, давайте спать.
Лег и отвернулся к стене. Сердце стучало, как ему казалось, на весь коридор. Слышно было, как Тутот возится на кровати, умащивается, гасит свечу.
Лэх отсчитал примерно час, потом, стараясь не производить ни малейшего шума, сел на постели. Натянул подаренные Грогором штаны, ногой нашел один ботинок. У него был план разбудить Ниоль и сразу же, ночью, уходить в пустыню. Мозг кипел злобой на смотрителя - нашел кого подселить в номер, меланхолик несчастный.
Он нагнулся за вторым ботинком, щека ткнулась во что-то мокрое. Поднял руку, нащупал в темноте огромную шерстистую голову и понял, что мокрое было собакиным носом.
В тот же момент вспыхнул огонек зажигалки и передвинулся. Зажглась свеча.
Собака стояла рядом с Лэхом, а Тутот сидел на своей кровати напротив.
- Не спится? - сочувственно сказал сотрудник Надзора. - Мне тоже. Когда устанешь, это всегда. Впрочем, у меня вообще бессонница. Может быть, поболтаем?
Он встал, прошелся по комнате. От двери к окну ему приходилось спускаться, обратно - шагать вверх.
- Знаете, чем я занимаюсь по ночам, когда вот так вне дома? Злюсь… Лежу с открытыми глазами и произношу нескончаемые внутренние монологи. Мысленно ругаюсь с начальниками, мысленно спасаю тех, за кем гоняюсь в светлое время суток… Собственно, я ночной опровергаю себя дневного. Вам знакома такая ситуация?… Кстати, может быть, вам неизвестно, но наша служба может преследовать нарушителей только в пределах юрисдикции фирмы. На любой другой территории действует презумпция невиновности или принцип «не пойман - не вор». Даже если б я, допустим, встретил сейчас нарушителя, которого узнал бы в лицо, - мужчина с бакенбардами остановился посреди комнаты, воззрившись на Лэха, - всякая попытка схватить его с моей стороны исключена. Я даже не имею права следить или выступать с какими-либо обвинениями… Но это все между прочим: я уже говорил, что ночью превращаюсь в совершенно другого человека.
Опять он стал прохаживаться взад-вперед. Собака села на ковер рядом с Лэхом, привалилась к его ноге крепким, неожиданно тяжелым телом.
- Да, ночь… Интересное время. Вы заметили, что именно ночью люди пытаются осмысливать свои дневные занятия и вообще мир, где мы живем. Днем-то ведь нам постоянно некогда. Однако нашу действительность осмыслить, понять нельзя. Знаете отчего?… Оттого, что она не представляет собой связного и гармонического целого. Оттого, что девяносто процентов следствий есть результат всего одного процента причин. На мир влияет не то, что делаем, думаем мы - вы или я, - живущие в многоквартирном доме. Существенны лишь решения, которые принимаются в особняках за каменными оградами. Но там-то все происходит тайно, а мы встречаемся с хаосом разрозненных явностей, которые еще офальшивлены коммерческой рекламой, личными интересами всяких тузов, их борьбой. Вы не согласны?
- М-м-м… э-э… Если мы только думаем и даже не делимся своими мыслями ни с кем, это, конечно, ни на что не влияет.
- Правильно. Другими словами, видимая действительность безрадостна, непостижима, и мое единственное утешение - старинные поздравительные открытки.
Он подошел к Лэху.
- Никогда не увлекались старинными открытками?
- Открытками?
- У меня дома превосходная коллекция - не самих старинных открыток, естественно, поскольку они невообразимо дороги, а их современных подделок-перепечаток. Котята с бантиками, Санта Клаус с рождественскими подарками, цветочки и все в таком духе. Кроме того, я владею одним оригиналом. Это ненецкая поздравительная открытка, Мюнхен-1822, которая является копией древненемецкой политической листовки эпохи начала протестантизма. Здесь довольно сложная символика. Изображены два льва - один с раздвоенным хвостом, второй с двумя головами. Ввиду исключительной ценности открытки я всегда ношу ее с собой. Вот посмотрите.
Нагнувшись к комбинезону, повешенному на спинку кровати, мужчина с бакенбардами достал из внутреннего кармана темный футлярчик, вынул оттуда неровный, с шероховатыми краями картонный прямоугольник. Бережно положил под свечой.
- Посмотрите поближе. Кстати, это удачно, что свеча. При свечах такие открытки выигрывают.
Лэх тупо глянул на прямоугольничек. На темной поверхности не было видно решительно ничего.
Тутот прикурил от спички, потряс ее, гася, снова заходил.
- Я не утомляю вас, нет? Если что, вы скажите… Так вот, если вам нескучно, могу рассказать, как я понимаю эту символику. Оба льва сидят на помосте и соединены цепью. На голове одного папская тиара…
Лэх схватился руками за собственную голову. На миг ему показалось, будто пол и потолок поменялись местами и сотрудник ходит наверху как муха. И без того за один день было слишком много всякого, а тут еще открытки со львами. Он отпихнул собаку, как был, в брюках и в одном ботинке, упал на постель. Поставил звоночек часа на четыре тридцать, закрыл глаза.
Словно через вату, к нему доносилось:
- У льва-папы раздвоенный на конце хвост, что свидетельствует… На другом разукрашенном помосте… Второй лев двухголовый. Первая увенчана курфюрстской короной, на второй колпак, обозначающий…
Сквозь сон Лэх сказал:
- Такого льва нельзя рассматривать в качестве одного двухголового. Только как двух общительных львов.
И провалился окончательно.
Небо за окном было зеленовато-перламутровым, когда он проснулся. Сотрудник лежал на спине, громко похрапывая. В свете раннего утра его лицо с резкими чертами выглядело помоложе, чем ночью. Открытку он так и оставил на столе.
Лэх вымылся и оделся. Собака ни на секунду не спускала с него пристального спрашивающего взгляда. Лэх взял картонный прямоугольничек, посмотрел, положил на прежнее место. Решительно ничего нельзя было различить на темной поверхности.
Вышел в коридор. И собака вышла вместе с ним. Лэх почесал в затылке, вернулся в номер. Собака тоже вернулась. Он попробовал выскочить проворно. Но собачья голова оказалась в щели еще раньше его самого.
Надо было что-то решать. Он потряс мужчину с бакенбардами за плечо.
- Эй, послушайте! Ваша собака…
Тутот, не открывая глаз, взял со стола открытку, уложил в футляр, сунул его в карман висящего комбинезона. Пробормотал что-то во сне, накрыл голову углом сбившейся простыни.
Собака стояла рядом с Лэхом, рослая, широкогрудая. Половина морды была у нее черной, половина белой.
- Тебе чего надо?
Собака вильнула хвостом, как парусом.
- Черт с тобой! Хочешь идти, пошли.
Ниоль в своем номере у зеркала рассматривала себя в новом платье. Она расширила глаза на собаку. Лэх рассказал о Тутоте.
- Точно. - Девушка кивнула. - Вчера забыла вас предупредить, что уже не надо опасаться. Грогор эту механику знает, поэтому привел человека к вам.
- Повернулась к собаке. - Как ее звать?
- М-м-м… Бьянка.
- Поди ко мне, Бьянка.
Собака посмотрела на Лэха, как бы спрашивая разрешения, перевела взгляд на Ниоль и вильнула хвостом.
Снаружи было свежо, даже холодно, когда они ступили на каменистую тропинку, ведущую через сад смотрителя. Грогора не было видно, да и вообще казалось, что весь отель опустел.
Что-то изменилось на участке с вечера - Лэх не мог сообразить, что именно. Они миновали пшерузное поле. Затем Лэх увидел поверженную трубу, понял, чего не хватало. Грогор разрушил свое энергетическое хозяйство, перерубив тяжи, которые держали трубу в вертикальном положении. Спутанным клубком лежала система тросов, и тут же валялся топор.
Не сказав друг другу ни слова, девушка и Лэх продолжили свой путь. Зелень осталась позади, с вершины холма перед ними открывался неземной пейзаж. Безжизненные асфальтовые такыры, песчаные кратеры, бетонные каньоны - все было залито багровым мрачным светом туманного восхода. Черным силуэтом высились там и здесь ржавеющие строительные краны, словно деревья чужой планеты. С ближайшего снялась птица, вяло махая крыльями, полетела к востоку, где еще чуть-чуть сохранилось леса и степи.
А солнце быстро всходило. Через минуту после того, как открылся его сияющий шар, небо стало голубеть, пустыня на глазах теряла угрюмый вид, окрашиваясь в желтые, бурые, синие оттенки. Сразу сделалось заметно теплее.
- Может, нам надо было воды запасти? - сказал Лэх. - Только взять не во что, если вернуться.
Но Ниоль была против:
- Неохота задерживаться. По-моему, тут должно быть много колодцев… то есть выходов водопроводных труб. Скорее всего те дикие племена и кочуют от одного источника к другому.
Они бодро зашагали. Собака убегала вперед, скрывалась за кучами битого кигона и возвращалась.
Тропинка сворачивала влево от направления на восток, и Лэх остановился.
- Лучше нам по дорожкам, а? Если просто так, заплутаемся еще. Даже носороги в заповеднике, я читал, ходят в джунглях по тропинкам.
- Не стоит. Напрямик быстрей доберемся. Мне, кстати, вечером надо быть на работе - поливать цветы в саду.
Полдень застал их среди необозримых завалов щебня обессиленными. Лэх и Ниоль, по их расчету, оставили за собой километров тридцать, и сначала те давались не слишком тяжело. Дважды они попадали на отрезки засыпанной песком, затянутой глиной дороги - то ли предполагаемой автострады, то ли улицы; последний отрезок продвинул их разом километров на восемь. Вообще идти было интересно, потому что местность все время менялась. То долина, рассеченная кигоновыми фундаментами, то огромные белые штабели каких-то плит, то почти непроходимые заросли ржавых проволочных сеток, то песчаные либо гравийные дюны. Иногда, спустившись в центр очередного котлована, Лэх чувствовал себя как в первобытном мире. Вот они двое, мужчина и женщина, пара, которой снова зачинать род человеческий среди дикости строительного запустения. И даже собака с ними - представитель фауны. Правда, начисто отсутствовала флора. Но можно было думать, что на базе техники, которую теперь уже следовало считать самой природой, удастся создать искусственные растения.
Однако позже он слишком замучился, чтобы размышлять о таком. Около часа они брели по всхолмленной щебеночной равнине, где однообразие окружающего лишь изредка прерывалось огромной бесформенной бетонной глыбой, безжизненным, окостеневшим телом маленького компрессора или трупом могучего бульдозера, полузасыпанного, погибшего как раз в тот момент, когда он взялся толкать перед собой кучу каменных обломков. Было ужасно жарко, контуры щебеночных барханов подергивались, смущаемые струящимся вверх горячим воздухом. Лэх попытался плюнуть просто для опыта, но с трудом собранную, густую, липкую слюну невозможно было вытолкнуть из пересохшего рта.
Почва здесь понизилась, косая башня скрылась за низким горизонтом.
- Не могу больше, - хрипло сказала Ниоль. - Давайте отдохнем.
Она присела на кожух компрессора и тотчас вскочила.
- О-ой! Как сковорода! - Огляделась. - Сесть-то не на что. Придется постоять… Вы уверены, что правильно выдерживаем направление?
- Надеюсь. Мы же все время на солнце.
Девушка задумалась, потом подняла на Лэха тревожные глаза.
- Слушайте, ужасная мысль! Ведь солнце тоже двигается.
- Ну? И что?
- Оно на востоке только восходит. А к двенадцати должно быть уже на юге. А мы-то что делаем?
Лэх ошеломленно уставился на солнце.
- Да… Похоже, что мы все время поворачиваем, идем дугой. Поэтому и городка не видно. Как нам раньше не пришло в голову?
- Конечно. А если так и следовать за солнцем, мы бы к ночи вернулись в отель. Значит, теперь нам надо идти, чтобы солнце было на правом плече.
Лэх, расстроенный, кивнул. Сгустившаяся кровь громко билась в висках, он боялся, что потеряет сознание.
- Еще как-то по азимуту определяют направление. По-моему, азимут - это угол между чем-то и чем-то.
Ниоль усмехнулась.
- Я тоже всегда так думала… Вы не сердитесь, что не взяли воды?
- Нет, что вы!
- И если мы тут пропадем, все равно не будете сердиться? Похоже, тут можно пропасть.
- Конечно, не буду.
Собака, коротко и часто дышавшая, села рядом с Лэхом. В шерстяной шубе ей было жарче всех. Влажный язык она вывалила - Лэх никогда не думал, что у собак такой длинный язык. Едва только он заговаривал, собака принималась неотрывно глядеть ему в глаза. Как будто ей всего чуть-чуть недоставало, чтобы преодолеть рубеж, после которого человеческая речь станет для нее совсем понятной.
Сверху послышался отдаленный гул. Голубой самолетик, почти невидный в чаше неба, уходил к югу. Нелепым казалось, что пассажиры сидят там благополучные, в комфорте, совсем и не подозревающие, что двое внизу, в пустыне, провожают их тоскливым взглядом.
Ниоль вздохнула и посмотрела на собаку.
- Идея! Знаете что, пусть она ищет! Может быть, учует воду.
- Бьянка?
- Конечно. Она, наверное, думает, мы просто гуляем.
- Ищи! Ищи, Бьянка!
Собака заметалась, поскуливая.
- Ищи воду! Ищи людей!
Собака замерла, потом галопом бросилась прочь. Парусный хвост мелькнул несколько раз, уменьшаясь, исчез за ближайшим холмом. Прошла минута, другая… пять минут, десять. Жара становилась окончательно невыносимой. Ниоль и Лэх старались не смотреть друг на друга - страшно было услышать или высказать, что собака вообще не вернется.
Но вдали раздался лай, начал приближаться. Лэх и Ниоль просияли.
Собака вымахнула на пригорок. Двое заторопились к ней. За этим пригорком обрывалась наконец опостылевшая щебенка. Даже не так стала давить жара, когда они вышли из серого однообразия. Спустились в долинку. Собака бежала, оглядывалась, останавливалась, поджидая. Потом вовсе стала, опустив морду к земле.
- Человеческий след!
Двое заторопились за собакой вдоль долины. Но путь преградила гигантская заваль пустых консервных банок, влево уходящая за горизонт. Было страшной мукой идти по ним - при каждом шаге нога проваливалась, банки с грохотом выскакивали из-под ступни, ржавчина столбами повисала в неподвижном воздухе. Лэх и Ниоль несколько раз сваливались поодиночке, потом взялись за руки. Собака прыгала впереди, подняв нос, принюхиваясь, видимо, брала след чутьем. Разговаривать было нельзя из-за непрерывного шума.
Банки кончились, их главный массив простерся к востоку. Начались пакеты из-под молока. Упругие, они тоже выстреливали из-под ног, но здесь хоть падать было легче. Потом Лэх и девушка оказались в теснине среди неоконченных строений, тоже затопленные пакетами.
Силы быстро покидали обоих, они остановились отдышаться.
- Эй!
Ниоль и Лэх обернулись.
На кигоновой стене стоял человек в ярко-зеленом комбинезоне.
Через полчаса, напоенные, накормленные, они блаженно возлежали на брезентовой подстилке в палатке начальника экспедиции. То была группа, разыскивающая подземную магнитную дорогу. Узнав, что туда можно проникнуть возле отеля, зеленый начальник отдал распоряжение свертываться своим зеленым сотрудникам, а сам, обрадованный, словоохотливый, все подливал гостям в стаканы зельтерскую из морозильника.
- Пейте, пейте. Угостить путника - закон пустыни. Для нашей группы счастье, что вы на нас вышли. Четвертую неделю разыскиваем дорогу - правительственное задание. В каких-то блоках памяти есть, конечно, полная информация о ней, но попробуй отыщи. Вообще так дальше продолжаться не может. Сложнейшая технология требует именно централизованного, единого руководства. Нельзя же, чтобы один в лес, другой по дрова, а третий знает, да не скажет, потому что невыгодно.
- Как вы ищете дорогу?
- Обыкновенно. Бурим. Думаете, легко найти? Во-первых, она очень глубоко. А потом тут вся почва нашпигована - трубы, кабели, всевозможные резервуары, склады. Буры все время приходится менять, потому что натыкаемся на металл… Пустыня сама, кстати, мало изучена. Карт нету. Собирались делать топографическую съемку, но дальше разговоров не пошло. Из Географического общества один путешественник взялся было исследовать Великую Баночную Заваль, которая тут рядом начинается. Обошел ее кругом за несколько недель, а внутрь - потыкался-потыкался и отстал. По этим банкам никакой транспорт не идет. Он просил верблюдов из зоологического сада, не дали… Я, например, знаю, что на северо-западе есть озера машинного масла и поблизости перфокартные горы. Облетел их на вертолете, но сверху-то не определишь глубину структур, их особенности. В одном самом большом озере масло отработанное, в других нет. Черт их знает, откуда они взялись.
Поскольку пустыня чуть не погубила их, Лэху и девушке хотелось знать о ней побольше. Они охотно поддерживали разговор.
- Но есть местные племена. Разве не могут помочь?
- Дикие, что с них проку? Кочевые - только от одной водоразборной колонки до другой. Оседлое племя, канон, тут, правда, недалеко. Это вам повезло, кстати, что вы на них не наткнулись.
- Почему?
- Берут в плен, и не вырвешься. Такая у них религия. Считают, что наступил конец света, и в последний час цивилизации все должны отказаться от всего человеческого. Там командует женщина-гипнотизер. Кто к ним попал, стараются сразу наркотиками накачать.
- А чем же они тут питаются? - спросил Лэх. - Я думал, живут возле отеля. И оттуда пользуются пищей.
- Ездят. Приручают машины и ездят.
- Как приручают?
- Переделывают на ручное управление. Электровагонетку поймали - она тут ходила сама по себе, автоматизированная, по узкоколейке. Переоборудовали… Вообще у них жутко. Пляшут, завывают, пляшут. Оргии - не поймешь, кто мужчина, кто женщина. Сами развратные и считают, весь мир должен быть таким.
- Бр-р-р-р-р! - Ниоль с деланным ужасом передернула плечами. - А кочевые племена?
- На них никто не обижается. Это главным образом литературоведы, театральные критики. Тощие все, как из проволоки. Вождь у них - одичавший лауреат искусствоведения. Почти ничего не едят, а только спорят. Я однажды заблудился, сутки провел в стойбище. Лег усталый у них в шалаше, но до утра глаз не сомкнул, потому что всю ночь над головой «трансцендентность», «антисреда», «сенсейт», «субъект-объект», «сериндибность», «алиенация» - обалдеешь. В этом племени самое жестокое наказание - лишить слова. Один нашел банку консервов, съел, не поделившись. Приговорили неделю молчать. Завязали рот, отвязывали только, чтобы покормить. И, представьте себе, умер, задушенный теми возражениями, которые у него возникали, когда другие высказывались. В целом они ничего. Иногда приходят в город наниматься на временную работу. Исполнительные, честные. Но делать ничего не умеют, вот беда. У меня на буровой один тоже есть сейчас. Только ему поручать чего-нибудь настоящего нельзя - стараться будет, но не справится… А вообще-то людей не хватает ужасно. - Это была больная тема у начальника, он нахмурился. - Вот смотрите, выйдем сейчас на подземную дорогу, а как мы будем разбираться без физика-электронщика? Нам электронщик до зарезу нужен. Однако попробуй найди для такого дела. Все специалисты разобраны по монополиям. Конечно, у монополий денег больше, и они могут предложить людям лучшие условия, чем на государственной службе. Наш бюджет все время режут.
Конечно, эта чертова технология сбилась и стала над нами, раз специалисты все в частном секторе и работают, по существу, друг против друга. Если серьезно говорить, в наших условиях прямая война идет - или промышленно-технологический аппарат окончательно поработит человека, или человек сделает его своим другом. Про себя-то не думаешь, черт с ним! Но ведь дети, внуки - в каком мире им жить?
Он прошелся по тесной палатке, задевая плечами и локтями торчащие детали всяческого оборудования.
- У вас электронщика знакомого нету? Добровольца - чтобы на нищенскую зарплату… А то войдем в подземку, не будем знать, за что с какого конца браться…
Буровая вышка была снята, лагерь упаковался, и после сытного обеда начальник экспедиции вывел гостей на проторенную тропинку.
…Розовая улица, Тенистая. На Тенистой было неожиданно оживленно. Десяток молодых людей в элегантных, неуловимо схожих костюмах и в чем-то схожими физиономиями, сбившись в кучки и негромко переговариваясь, изучающим взглядом проводили Лэха с Ниоль, оборванных, обожженных солнцем. Один еле слышно свистнул собаке, та огрызнулась. Лэх и его спутница еле волокли ноги, однако на Сиреневой обоим с собакой пришлось прямо-таки пробиваться сквозь толпу шикарных мобилей и людей. Только у дома номер пятьдесят было посвободнее. Грузный мужчина, одетый, будто только что с витрины самого дорогого и модного магазина, и с лицом столь выхоленным и властным, что Лэх и не видал никогда, пытался что-то доказать владельцу старой шляпы и огромного рта.
- Но у меня есть пропуск.
- Не имеет значения.
- И выпуск. Мои секретари просто не знали, что потребуется еще и запуск.
- Незнание закона не отменяет его. - Мужчина в старой шляпе равнодушно сплюнул в сторону. - Тем более что у нас чрезвычайное положение…
Кто-то тронул Лэха за плечо.
- Добрый день. Значит, Бьянка с вами?
Рядом стоял Тутот. Сотрудник Надзора извлек из кармана ошейник и намордник, с ловкостью фокусника надел их на собаку и прицепил ее, зарычавшую, на поводок.
- Рад снова повидаться с вами. Неправда ли, хорошо потолковали ночью?… Как добрались? Я вертолетом. - Он взял Лэха под руку. - Между прочим, внутри ограды садика уже юрисдикция фирмы. Сообщаю вам об этом чисто информативно. Если б я, скажем, увидел там человека, за которым гнался вчера среди труб, мне пришлось бы приступить к исполнению служебных обязанностей. В то же время на улице, вот здесь, где мы стоим, по эту сторону ограды, такому человеку ничто не угрожает.
Перепалка возле калитки продолжалась.
- Но почему нам не оформили перепуск, если перепуск, как вы утверждаете, необходим?
- Мне-то какое дело?
- Позовите вашего начальника.
Тутот подал Лэху визитную карточку.
- Заходите. Посмотрите коллекцию открыток.
Ниоль недоуменно осматривалась.
- Что-то у нас произошло. Столько народу никогда не накапливали. Давайте прощаться, Лэх.
Девушку увидел большеротый мужчина, удивительным образом рот его тут же сделался нормальным, подошел, оставив лейтенанта, заговорил шепотом:
- Слушай, где вы пропадали? (Кивнул Лэху.) Ребята устроили аварию, выключили Силовую. (Тутот деликатно отступил, тащя упирающуюся собаку.) Беги скорей и скажи, что вы нашлись.
Ниоль повернулась к Лэху:
- Выбирайтесь отсюда, подойдите к садику с той стороны. Я сейчас же буду.
Лэх начал выталкиваться.
На узкой улочке было совсем тихо. Лэх оперся на деревянную ограду. Небольшой садик зарос густо, пышно - выходящая девушка старалась не напрасно.
Ниоль появилась на заднем крыльце. Уже в длинной, ниже коленей юбке с кофточкой и белом передничке. В руке лейка.
Подбежала к Лэху. Остановилась.
- Ну вот… Ребятам рассказала. Все передают привет.
Лэх кивнул. Они смотрели друг на друга.
- Мы с вами никогда ведь не забудемся, верно? Вообще замечательно, что мы встретились.
- Конечно. - Так приятно было смотреть на нее, ловкую, ладную. И эти синие глаза под черными бровями.
- Напишете Кисчу, вложите листок для меня. Я отвечу… Всегда будем друзьями.
Над низенькой оградой Ниоль обняла Лэха. Они поцеловались, и Лэх побрел на перекресток, где вчера оставил мобиль. Городок словно вымер. Покойно спали заборчики, вывеска парикмахера, красные и бурые черепичные крыши, промытые, радужно искрящиеся старые стекла в окошках. Бодрый старик, не признающий лекарств, издали помахал рукой Лэху.
Он подошел к своей машине, положил руку на капот.
- Уф-ф-ф-ф…
Заполненные были два денечка, ничего не скажешь.
- У-у-уф-ф-ф-ф…
Окружил запах собственного мобиля: привычный табак, бензинчик, который он по старинке использовал для запуска, выцветший зонтик Роны. Все это придвигало к дому, предвещая конец путешествия. Приближало если не по географии, то психологически.
- О-хо-хо-хо-хо!..
Зажег сигаретку. Надо было что-то решать - дома жена ждет с ответам, то есть как раз с решением. Поднял к груди руку, чтобы вынуть из кармана желтый листок «Уверенности», и сообразил, что тот остался в подземелье.
- Ладно.
Он, собственно, знал уже, что будет делать.
Сел за руль и только включил мотор, как увидел спешащих к нему через площадь Ниоль с собакой. Не в такт взлетали белый передничек и белый хвост.
Открыл дверцу, выбрался.
- Повезло, что вы еще не уехали… Такое дело, Бьянка не хочет спускаться под землю. Возможно, слишком напугалась, а может быть, и работа не нравится. Ее тащили-тащили.
Собака вертелась вокруг Лэха, поскуливая. Вдруг поднялась на задние лапы, оказавшись ростом с него самого, положила передние лапы ему на плечи, лизнула в нос. Он еле удержался на ногах. Отступил, наткнувшись на мобиль.
- Тутот просил узнать, может, вы ее возьмете.
- Взять?… Как, совсем?
- Да. Хорошая ведь собака.
- ?…
- !..
- Ну пусть. Возьму.
Открыл заднее отделение. Собака - будто у нее все было уже давно продумано - прямо с земли прыгнула на сиденье. Легла, заняв его целиком, положила голову на лапы, примериваясь. Подняла голову, поерзала большим туловищем, опять положила.
- Только потом не откажитесь. А то куда ей?… Впрочем, вы не откажетесь.
- Нет. Хорошая собака. Жена ее полюбит. А мальчики-то…
- Не будет трудно с ней в городе?
- Ничего… Нам в городе, пожалуй, мало и придется. Больше в палатке.
- В палатке?… - Ниоль смотрела недоуменно, потом начала краснеть. Поняла. Шагнула вперед, прижалась своей щекой к его. - До свидания. Раз так, может быть, до скорого. Обязательно прочтите книгу о Моцарте - там есть про Хагенауэра. Вообще она вам понравится… Да, как вам отвечать на письмо? Останетесь Лэхом или вернетесь к первоначальному? К Сетере Кисчу?
- Скорее всего вернусь.
…Ресторан в столетнем почти что особнячке, древняя пороховая пушка за чугунной оградой, качающиеся булыжники центральной площади, редакция, крайние домики городка.
Открылся полевой простор. Сетера Кисч переключил на четвертую, автомобиль пошел быстрее нырять и переваливаться по выбоинам бетонки.
Опускающееся солнце стояло прямо над вытянувшимся вперед шоссе. Кисч ехал на закат. Позолотились с одного края стебли пшерузы, стволы и кроны деревьев, подпорки изгородей. В теплом воздухе медленно опускалась пыль, поднятая шаркающим шагом усталого прохожего. Запах клевера веял с лугов.
Все-таки пока еще неплохо на земле.
Навстречу неторопливо проплыл плакат на двух столбиках. Последовательность рекламных надписей с этой стороны была противоположной.
А ВАМ НЕ СТЫДНО?
Это насчет дурного настроения. А какое у него сейчас?
Он почувствовал, что дрожь продернулась по спине, а где-то в самой глубине сознания возник победный светлый ритм и рвется наружу.
Неопределенное настроение. Но дело не в этом. Долото в том, что вчера не один, не два раза оно было плохим до отчаянности. Однако ведь он на привязи - фирма гарантировала, такого не может быть.
Вот не может, а было! Неужели же он совсем избавился от надзора машины?
Похоже, что да. Хотя электроды так и сидят, как сидели… Взять хотя вчерашний день. Разве не радостно, что ему стало по-настоящему тяжело, когда он увидел Лэха двухголовым? Разве это плохо, что ему стало нехорошо в коридоре? Ведь прежде-то такого вообще не было; он и размышлять не мог совсем из-за этих стимсиверов. Едва начал раскидывать мозгами, потер лоб, нахмурился, тотчас сигнал туда-обратно, и накатывает простодушное наслаждение бытием. Только с металлическим привкусом во рту. Хочется бегать, прыгать. Случалось, они с Роной прочтут биржевой бюллетень, расстроятся, а через минуту друг другу улыбки, все забывается, и взбрыкивают, словно молодые телята. Но в последние годы уже не так. И он и жена стали больше принадлежать себе - могут и волноваться и беспокоиться. А вчера, когда заблудился там, в технологических джунглях, никакая насильственная радость ему не мешала. Был полностью самовластным человеком - понимал, что может погибнуть, и искал выхода.
Но почему оно все так переменилось? Откуда у мозга берется способность противостоять тому, что навязывает машина?… Приходится думать, что мозг сумел-таки сохранить, сберечь себя. Мобилизовал небось всю невообразимую, миллионом веков выработанную сложность против монотонной электрической команды, создал структуры, связи, что позволяют ему обойти влияние компьютера. И побеждает… Впрочем, естественно. В конце концов, не машина выдумала мозг, а он ее.
Однако если так, то замечательно. Тогда выходит, что привязь не слишком-то крепкая.
Вместе с тем вот вопрос - зачем все это мозгу? Ведь, казалось бы, веселее веселиться, не переставая, радостней радоваться… Возможно, мозг отстаивает право на самостоятельность, потому что он творение общества и в качестве такового радеет не только за данную личность, а за всех людей. С точки зрения отдельного человека чего уж лучше - лежи на боку и блаженствуй. Но с точки зрения Homo sapiens… Возможно, разум сегодняшнего человека не отдельная секция, лишь этим днем и этим местом обусловленная, а сфера, куда вошли опыт и чаяния разных стран и сотни столетий. Как-никак у большинства современников есть представление о подлинной человечности.
Вот Ниоль, например, помнит о Хагенауэре. Тот в своем заштатном Зальцбурге и думать не думал, а не пропало доброе, переходит из века в век.
Но если так, тогда Рембрандты, Моцарты, Пушкины не зря бодрствовали по ночам, бескорыстно добиваясь совершенства, исступленно замазывая, перечеркивая, чтобы приняться снова. И те, которые в себя чуму из пробирки, грудью на амбразуру, тоже живут, опять встают с нами в битве за Человека. Ничего не пропало, и понятно теперь, в чем их непреходящая заслуга, этих донкихотов…
Уже наступал конец трудового дня, по обочинам шагали люди - сгущения образов. Жители городка, которые попозже соберутся в обшитом деревом зале ресторана, где-нибудь в саду, будут самостоятельно музицировать, танцевать, общаться - сгусток символов разговаривает с другим сгустком, одна система образов влюблена в другую систему.
Кисч закурил.
Немного жаль, что сдернулась еще одна кружевная занавесочка, погасла «божественная искра». Но, правда, по-настоящему-то он и раньше знал, что божественной искры нет. Просто искра была его последним прибежищем, потому что казалось, что идея денег совсем победила. Держался за искру, как утопающий за соломинку, - они, мол, все над нами могут, а искра не в их власти. Но теперь ясно, что цивилизация прибыли разваливается - от нее вон целые куски отпадают. И можно признать: человек - временная материально-информационная структура, с рождением рождается, со смертью умирает. Но не просто, а оставив другим пережитое. Добавляя в тот великий потенциал знания, понимания, который копится и в определенных условиях позволит каждому новому поколению жить лучше, щедрее, красивей. Вот тут предназначение человечества, о котором в последние десятилетия и думать забыли… И тайна! Скажем, он, сам, Сетера Кисч. Любит Рону и ребят, тревожится за них. Но существуют ли тревога и любовь в материальной форме?… Если нет, то в какой? Что-то зовущее в непостижимой действительности мысли, что с такой скоростью ширится на нашей планете. Загадочно, как маленький разум все вмещает - от молекул до галактик, не растягиваясь, не имея размеров. Все может оплодотворить, абсолютно себя не расходуя. Является составляющей мира, однако не повинуется ни одному из тех законов, которых не преступить твердым и жидким телам, плазменным и газообразным. Это величественно, если вдумаешься, зовет ширить простершуюся в каком-то ином измерении необъятную сферу мышления, не терять с того прошлого края, растить вперед…
ДУРНОЕ НАСТРОЕНИЕ
СЕГОДНЯ - БОЛЬ
Опять рекламный щит.
Да бросьте вы к черту! Только неудовлетворенность и двигает. А то сидели бы в пещерах.
Возле будочки железнодорожного переезда черная кошка облизывалась на скамье. Что-то вдруг завозилось за спиной Кисча, сердце сжалось от неожиданности. Собака гавкнула над ухом так гулко, словно бухнула в бочку. Кошку будто чем-то невидимым сдуло со скамьи, а Кисч, приходя в себя, уважительно глянул на Бьянку. Надо же, никогда, наверное, не видела кошки, а все равно понимает обязанность.
Мобиль влег теперь в другой темп, он мчался длинными, на десятки километров, отрезками, на ходу переводя дыхание и пускаясь в новый кусок равномерного движения.
Кисч откинулся на спинку сиденья, лишь слегка придерживая руль. Многое еще надо было продумать. Возьмет ли зеленый начальник экспедиции такого отставшего специалиста? Взять-то он возьмет, и его и Рону, но это будет от безвыходности, оттого, что людей нет. А позже Кисч покажет ему, что кое в чем может разбираться. В институте его не зря считали способным. Только потом он потерял ко всему этому интерес… Во всяком случае, что надо первое сделать, это подкупить литературы и посидеть плотно месяца два…
Небо становилось мутнее, майрисовые поля уступили место кирпичным пустырям, бетонным площадкам. Автомобиль несся мимо всего этого, а может быть, все это неслось мимо него, застывшего, терло шуршащие колеса, заставляя их бешено вращаться. Что есть силы убегали назад груды маслянистой щебенки, конец извилистого троса, барабан от кабеля, кучи оранжевого песка.
Стоп! Да ведь это пустыня!
Кисч притормозил вселенную, подогнав ее обочиной дороги под днище мобиля. Вылез из шоферской кабины, подождал, пока в глазах успокоится торопящийся по инерции мир.
Выскочившая за ним собака бурно встряхивалась всем телом.
Действительно пустыня. И косая башня тонкой черточкой задралась на линии горизонта.
Десять шагов от бетонной ленты, еще десять… Как обыденно и безопасно здесь, если знаешь, что рядом за спиной шоссе!
Толстая железная труба наклонным жерлом выглядывала из земли. Кисч содрогнулся - вот по таким, безжалостным, он вчера в этот час лазил, потеряв человеческий облик.
Ощущая необходимость реабилитироваться, он решительно направился к трубе.
- Смир-р-но! Не разговаривать!
Собака, поддакивая, строго рявкнула позади. Тоже ведь натерпелась от таких вот.
Труба скромно молчала.
- То-то!
Подошли с собакой ближе. Кисч присел на край трубы, похлопал ладонью по приржавленной щеке - ладно, мол, все бывает. Огляделся. Вынул из пачки сигаретку, уже рот раскрыл, чтобы вставить, но рука сама опустилась.
Слева метрах в десяти окаймленный низким парапетом спуск в подземелье. И зиял чернотой вход.
Сумеет ли он преодолеть страх?
Подошел. Покосившиеся кнгоновые ступени вели вниз, во мрак.
Спустился. Желтый трепетный огонек вырвал из темноты люк, перила металлической лестницы. Ну правильно. Здесь вся земля должна быть нашпигована технологией.
Посмотрел назад. Собака, стоя темным контуром наверху, тихонько повизгивала.
Хватит ли у него волн спуститься?
Десять ступенек, еще десять…
Из низкого помещения расходились три коридора. Правый перегораживала доска с табличкой, где звезды между волнистых линии - международный знак повышенной радиации. В левом брезжил вдали красноватый свет. Возможно, те двое бесследно пропавших, о которых говорил Тутот, отсюда и начали.
Ступил в центральный абсолютно темный коридор. Вытягивая вперед носок, словно танцор классического стиля, ощупывая перед собой пол, сделал десять осторожных шагов. Остановился.
Рядом послышалось частое короткое дыхание. Собака дрожащим туловищем прижалась к его колену. Он огладил ее большую голову.
- Ничего, привыкнешь. Будем с тобой уходить, может быть, на целые недели. Брать запас воды, еды, света. С инструментами. Работы много.
Четко повернулся на сто восемьдесят. И компас инерционный, конечно, надо. Даже компасный пояс, который начинает жечь с правого бока или с левого, как только сходишь с курса. Тот, который у водолазов-глубинников, с которым геологи в джунглях.
Наверху было неожиданно прохладно после затхлой духоты подземелья. Мобиль на дороге казался совсем маленьким среди запустения.
- Что, поехали?
Собака прыгнула на водительское сиденье. Подобралась, освобождая пространство у руля.
- Хочешь рядом?
Мотор зашелестел. Опять назад побежали смятый кожух компрессора, кигоновые плиты, мотки проволоки, песчаные такыры.
Вспыхнул на мгновение заключительный плакат серии.
между
ПЛОХИМ НАСТРОЕНИЕМ
Свяжитесь же
Связаться?… Пусть поищут другого. Работать надо, ребята. Делать настоящее дело. И тогда правильное настроение.
У него было чувство, будто нарыв прорвался. Долгие годы ведь жил придавленный. Махинации с переменой тела, с электродами в башке были попыткой сложить ответственность, уйти от себя. Признанием, что среда победила. А с этой «Уверенностью» они с Роной вознамерились сдаться. Но теперь-то ясно, что не так всесилен гигантский аппарат прибыли, у которого мощь всех машин, хитрый ум лабораторий, тяжкая железная поступь механизированных армий, научно разработанная система Надзора. Не так силен, потому что он против Человека. Даже безразличие Кисча было хоть слабеньким, но протестом, свидетельством кризиса. Как раз не прав Тутот, считающий важным для действительности лишь то, о чем договариваются во дворцах. Ерунда! Существенны не эти решения, а реакции на таковые со стороны тех, кто населяет многоквартирный дом. Это ведь непросто, что сотрудник Надзора по ночам становится другим человеком, да и днем предупреждает законную жертву, чтобы она ему в руки не попалась. И не за здорово живешь доктора наук уходят бродяжить в пустыню. Мозг не может научиться ничему не учиться. Все оставляет след, вызывает отклик, как правило, совсем не тот, на какой рассчитывали те, укрывшиеся за стальными стенами.
Но, конечно, надежда возлагается не на исключения. Не на отпавших, как Грогор, одичавшие искусствоведы. Даже не на городишко, отрекшийся от новшеств технологии. Это лишь симптомы, но не самая суть. Надежда в таких, как Ниоль и ее друзья, начальник геологической экспедиции, Лэх, сумевший полюбить столь странное дитя. Вот здесь, в этой среде, вырастает новое и противостоит навязанным сверху угнетающим ритуалам прибыли…
У переходки возле государственного шоссе Кисч остановил автомобиль, перелез на заднее сиденье. Набрал программу.
Мобиль фыркнул и начал обращать пространство во время. Каждые тридцать километров в трехминутку. Те тридцать, которые сам Кисч и Ниоль сегодня били ногами от зари до зенита. Борозды кигонового покрытия слились в прямые линии, все, что по бокам, в ровную серую плоскость. Только далеко-далеко баки газохранилищ поворачивались голубым строем.
Вот она, истинная технология! Неужели отказываться от такого, снова разбить мир на маленькие пешеходные замкнутые пространства, сломать самолетам крылья, кольца магнитным поездам? Неужели перерезать волны радио, телевидения и в замолчавшем доме зажечь лучину? Пример Грогора показывает, что значит, на одного себя положившись, отвернуться от добытого умом, искусством людей - страшный багрово-черный круг под глазом, ладонь в костяных мозолях, годами без книги, годами не омывая сердце музыкой. Нет, можно, пожалуй, и тело менять, когда не от скуки, а по веской причине. И электроды в лобных долях прекрасны, если излечивают болезнь…
Справа, вблизи у шоссе, надернулся высокий каменный забор и моментально исчез, словно встречный поезд. Ничего, мы еще повоюем!
Стремительное движение, импульс силы и воли. Боже мой, ведь какие озарения за любым открытием в науке! Какой счастливый жар волной по груди, когда изобретатель наконец нашел, понял! А мы-то набрасываемся на технологию, взращиваем злобу против нее.
В душу попросился мотив, возвысился и опал волнами. Что-то полузабытое, мелодия из той поры, когда Кисч был молод, смел и уверен. Мелодия силилась проникнуть в первый ряд сознания, звала, чтоб он вспомнил.
Собака впереди привстала на сиденье, глубоко вздохнула, как человек, легла. Кисч погладил ее.
Трасса выгнулась хищной дугой. Мобиль Кисча и сотни других чуть замедлили ход. Со стороны в провале вставал мегаполис миллионом прямоугольных вершин, меж которых миллион прямоугольных пропастей. Целых полнеба сделало темным его дыхание.
Сердце стукнуло сильнее, и… оно прорвалось наконец - начало Тридцать восьмой симфонии. Полилось жемчужными, искрящимися струями. Откуда?… Из давнего прошлого, от зеленых холмов вокруг старого Зальцбурга, его извилистых, тесных улочек, от изъеденных плит фонтана перед университетом. От той любви, с которой пестовал сына скромный Леопольд, от помощи друзей семейству бедных музыкантов, от ревности, мук и надежд самого Вольфганга Моцарта.
Но встретятся же они когда-нибудь - гений искусства, несущий идеал, и суровый, могучий гений техники, который воплощает идеал в жизнь!
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
Чему обязан своими успехами человек? Каким человеческим усилиям обязана своим устройством наша жизнь?.. Что - в человеческом смысле - зависит от людей, от нас с вами, от них с ними? От чего зависят люди?
Все!.. И от всего.
Однако это еще надо доказать.
Жестоко дул ветер из края в край бесконечной, только с восхода холмами окаймленной равнины, и безнадежно маленькими были два человека в самом центре полулеса-полутундры, такой однообразной, что каждый шаг ни к чему не приближал и не отдалял ни от чего. Снег, проткнутый черными мокрыми ветвями низких кустарников, лежал там и здесь островами, грудами, клочьями - при взгляде вдаль эти острова на всех направлениях сливались в одно. Таяло. Среди мхов стояли озерца и лужи, по большей части соединенные между собой. Наверху, закрывая солнце, сумятицей в несколько слоев катили черные и белые облака, огромная панорама неба ежеминутно перестраивалась, и лишь изредка мелькал где-нибудь голубой просвет.
Неуютный, злой мир. Ни единого местечка, чтобы согреться, - снег, чавкающая, насыщенная ледяной водой почва. Но двое, медлительностью своего движения прикованные к тому краю, где родились, никогда не видели другого, только слышали от старших, что прежде было лучше. И не холод тревожил их, они были скорее дети холода, чем тепла
Десять тысяч лет назад.
Север Европейского континента…
Люди приближаются, и мы можем их рассмотреть. Это молодые мужчина и женщина, им примерно по восемнадцать, но трудности борьбы за жизнь заставляют их выглядеть старше, чем наши современники в такие же годы. Оба исхудали, но оба хорошо сложенные и высокие, особенно мужчина, длинноногий, с развитой грудью, мощным плечевым поясом, одинаково способный и на длительный бег, и на большое мгновенное усилие. И он и она одеты в звериные шкуры, но не сейчас, не ими выделанные, а вытертые уже, порванные, скрепленные на трещинах, такие, что почти не удерживают теплоту тела, а лишь загораживают его от ветра. На женщине, кроме рубахи из оленьей кожи, еще что-то вроде куртки, сшитой из телячьих шкурок, - она на первых месяцах беременности и защищает от стужи не только себя. За плечами сверток больших шкур, в руке примитивно сплетенная корзинка, доставшаяся ей от матери, старая, потемневшая. Мужчина вооружен. На ременном поясе висит колчан с тремя толстыми деревянными стрелами, маленький мешок, где кремниевые рубила, скребки и предметы для добывания огня, В одной руке у него грубый, ничем не украшенный лук и копье, в другой - каменный топор на длинной костяной рукоятке, который нам теперь показался бы скорее молотком.
Женщина, опустив голову, смотрит себе под ноги - она собирательница. Мужчина - охотник, он бредет, оглядывая даль.
Но ничего нет ни рядом, ни в отдалении. Живая, движущаяся животная жизнь кажется исключением здесь среди снега и воды. Трудно помыслить, что эта бесплодная почва способна создать и прокормить существо с горячей кровью, упругой плотью. Правда, мужчина видит вдалеке, почти у горизонта, несколько темных точек. Но это рослые широкомордые волки, тоже охотники. Уже несколько дней они терпеливо преследуют двоих, ожидая, пока те ослабеют. А двое без пищи уже давно, их движения все неуверенней, их шаги шатки.
Вот двое подошли совсем близко. Женщина с коротким вздохом сбрасывает со спины сверток, садится на него. Мужчина опускается на корточки. Женщине хочется есть и хочется кислого, она обламывает черную веточку с куста, пробует пенный, жгуче-горький сок, роняет, срывает перышко голубого мха, опять пробует Она вся здесь и теперь, ее чувства и мысли конкретней, непосредственней, чем у мужчины, который в эти минуты отдыха рассматривает рисунок, вырезанный на рукояти топора, поворачивая его и так и этак с бережной осторожностью, даже странной для его больших заскорузлых кистей. Он вспоминает прошлое и, поглядывая на дальнюю гряду холмов, прикидывает будущее.
Люди! Почти такие же, как мы, только сто столетий назад. Одинаково с нами способные научиться чтению и письму, понять или хотя бы ненадолго для экзамена запомнить формулы химии и математики, примениться к цивилизованному бытию.
Наши родственники в самом прямом смысле. Население Европы того времени составляет едва ли десяток тысяч человек, а это значит, учитывая множество пресекшихся родов, что каждая человеческая пара той эпохи дала частицы своей крови миллиону или двум наших современников.
Поменьше пятисот поколений отделяют нас от задумавшегося мужчины. Как интересно было бы выстроить во времени шеренгу двадцатилетних отцов (всего лишь пехотный батальон по числу), молодых, у которых впереди еще целая жизнь и глаза светятся.
Вот он первый, ближайший к нам, в солдатской гимнастерке Великой Отечественной войны. Он пригнулся с друзьями в окопе, нервно, быстро докуривает махорочного бычка, бросает вскипевший, трещащий огонек на влажную землю и по привычке раздавливает, прикрутив подошвой тяжелого сапога. Сейчас атака. Ну, конечно, он останется жив - ведь ему еще встретиться с нашей будущей матерью и в мгновение нежности, страсти, оглушающе стучащего сердца зачать нас.
За ним отец - строитель начала 20-х годов. И следующий уже выглядывает из шеренги, в косоворотке фабричной бумазеи навыпуск под ремень, темных брюках, заправленных в сапоги, в картузе - рабочий в 1900-м.
Через одного задумался парень в холщовой рубахе и лаптях - скоро волю дадут от барина. А дальше через одного примеривает французскую кирасу воин 1812 года - только восемь поколений от нашего.
Шеренга стоит. Все крестьяне, крестьяне, отцы, отцы, и во многих пока еще угадываются черты того солдата, который в окопе принял от товарища остаток махорочной скрутки. Что же они сделали для сегодняшнего дня, эти парни, кроме того, что произвели на свет нас?
Тот, которого привезли в Москву с Дона, с Украины?…
Тот, кто несколькими поколениями раньше бежал на Дон от помещичьей кабалы? (Тоже наш дальний отец, от него у нас в характере вольная, степная развязка).
Тот, кто с проклятой туретчины сумел вернуться домой?…
Тот, который с арканом на шее, не сопротивляясь, пошел в татарский плен?
Лишь сорок поколений, сорок шагов вдоль шеренги, и вот стоит плечистый княжеский дружинник в железной сетке-кольчуге. На сто тридцатом шаге исчезнет металл, на двухсотом - домотканую шерсть сменит тщательно выделанная звериная шкура. Но по-прежнему на обветренных лицах все та же упорная надежда.
Не правда ли, странная ответственность налегает на плечи каждого из нас, если задумаешься, как много отцов и матерей обменялись первым несмелым взглядом и словом, чтобы на свете стало «я». Ответственность и величие в любом.
…Безлюдней и безлюдней вокруг. С полусотней шагов мы оставляем позади тысячелетие, снова тысячелетие, и наконец перед нами опять двое, затерявшиеся на голой равнине. Если б они могли предвидеть, какой длинный ряд потомков оберегается сейчас под сердцем женщины, сколь разительно переменится в будущем окружающая их холодная пустыня! Но им не дано знать такого, они дошли до самого последнего рубежа своего времени, впереди одиночество и гложущая неизвестность.
Гложущая, потому что мужчина и женщина - современники великой передвижки. Всего за несколько поколений мир стал другим, прежний навык не отвечает новым условиям. В руках все расползается, из-под ног уходит, нужно найти что-то или погибнешь.
Двое - первые люди в этой части земного глобуса. Их привела сюда жуткая катастрофа, которая втрое-впятеро срезала население материка, оставляя там и здесь вымирающие орды, едва не приведя человека в Европе на грань исчезновения. Солнце отказывается светить как раньше, облачная мгла затянула ясное небо, потемнели чистые снежные поля, с юга налезает непроходимая чаща неведомых растений.
Прежде жили охотой на оленей, что приходили стадами на ближние равнины. Шкурами одевались, мясо запасали в пещерах на долгую зиму. Мужчина помнит эти загонные охоты: быстрый бег, пенные морды животных, удар копьем, торжествующий крик, исторгшийся из собственной груди. В его памяти и рассказы стариков о том, что их отцы добывали еще более крупного зверя, злобного, которого заманивали в яму. И мужчина верит, что такой зверь был, потому что огромные кости изобильно валяются вокруг стойбища, а изображения его украшают рукоятки старых топоров.
Но стада оленей постепенно уменьшались, однажды весной они не пришли совсем. Черная масса кустарников и деревьев, сквозь которую ничего не увидишь и не прорубишься, подступила к обжитым холмам, поглотила их. Год от году становилось теплее, большие животные исчезли совсем, других в орде не умели добывать. Питались падалью, грибами - от этого многие умерли.
И когда орда сократилась вчетверо, молодой мужчина решил покинуть стойбище, отыскать тот край, где далеко видно на снежных просторах и олени ревут, вскидывая рога, убегая от сильного охотника.
Но легко ли? Попробуй найди!
Сегодня нам кажется, будто проблемы, стоящие перед предками, были далеко не столь громоздки и насущны, как те, с которыми встречаемся мы. Вроде все было проще в буйные рыцарские времена, в лихие мушкетерские. Вскочил в седло и умчался от любой нависшей беды - только стук копыт и лица отшатнувшихся врагов. Или рабовладельческая эпоха - разве трудно поднять восстание, а если его и подавят, половина земного шара еще не заселена и свободна для тебя. Но все так лишь отчасти. Действительность и на самом деле была проще, зато проще и умирали. Люди всегда могли прожить и держались только обществами, а они жестоко, ни о чем не спрашивая, оборонялись от кочующих чужаков-одиночек - ножом, стрелой, дубиной. Мир во все времена был миром нехватки и скудности. Всякая вещь ценилась дорого, владелец держался за нее до последнего дыхания. Да кроме того, неизвестность, обступающая того, кто ушел от своих. И голод. Достаточно не есть неделю, и после уже не хватит сил добыть себе пищу. Довольно даже пяти дней.
Но мужчина пошел. Вместе со своей подругой - от наступающего леса, спиной к солнцу, которое стало теперь слишком жарким для людей. Через полмесяца двоих встретил холодный ветер, вскоре он сделался непрерывным, и двое поняли, что идут верно. Но собранный запас пищи кончился, оленей все не было, мужчина и женщина начали слабеть. Потом к ним прицепились волки, которые осмелели, озлобились, тоже лишенные прежней добычи.
Теперь во всем окрестном мире, покуда хватал глаз, их было две группы - человеческая пара и хищники. Безлюдье на сотни километров вокруг, абсолют безлюдья впереди. Медлительный шаг по лишенной ориентиров сырой пустыне, где нечем огородиться, негде спрятаться.
Мужчине известна бездушная неотвратимость охоты, которую ведут волки. Он знает, что перед концом от них не отобьешься. Свирепый, неприступный желтый глаз, ошеломляюще неожиданный бросок сзади, и в агонии забьется тело, которое рвут. Но сейчас, в минуты отдыха, мужчина позволяет себе отвлечься мыслями от страшащей реальности. Он поворачивает рукоять топора, рассматривая вырезанное на ней изображение шерстистой морды с хоботом и бивнями. Ему не представить себе настоящих размеров зверя, мужчине кажется, что тот не больше крупного оленя. Один крепкий удар, и падает груда вожделенного мяса.
Он сжимает отшлифованную многими ладонями кость.
Сжимает, и…
Женщина, вдруг застывшая, издала тихий, придавленный горловой звук. Еле слышный, рассчитанный, что едва коснулся слуха мужчины и не ушел дальше. Следуя за ее остановившимся взглядом, мужчина повернул голову, тоже затаил дыхание, опустил топор, медленно-медленно потянулся к лежащему рядом луку.
В полутора десятках шагов от них северный заяц, рыжевато-коричневый, с любопытными выпуклыми глазами, вынырнул из кустарника, сел, глядит на две незнакомые ему фигуры. Прыгнул ближе и снова сидит, стал на все четыре лапки, грызет черную веточку - видно, как мягкая верхняя губа передергивается у него со стороны на сторону.
Вот она, возможность спасения, единственная.
Время как будто замерло, двое слышат биение собственного сердца. У мужчины стрела положена на тетиву, женщина перестала дышать. Мужчина натянул лук, подался вперед, выстрелил. Но неумело, неудачно. Грубая стрела полетела мимо цели. Однако заяц, испугавшись, именно в этот момент скакнул и косо наткнулся мордочкой на каменный наконечник.
Женщина метнулась с места рысью, упала на дергающегося зверька. Схватила, поднесла ко рту, перегрызла горло.
И двое пьют теплую кровь, этот концентрат животной жизни, который человек еще так трудно собирает с больших площадей жизни растительной.
Если б они сумели зафиксировать в памяти ситуацию - выстрел, направленный не в самую цель, а с упреждением. Но еще несколько поколений минует до времени, когда изловчившиеся охотники начнут из легкого лука бить мелкого зверя на бегу и птицу на лету. А двое не поняли, что произошло, упустили. Они развели костер, поджарили мясо, съели, сидя на корточках. Вернулась энергия, движения стали свежими.
Дальше!
Они пошли, кое-где перепрыгивая через лужи, кое-где шагая по ним. Равнина теперь повышалась к северу, еще плотнее дул в лицо ветер. Вскоре мужчина увидел на горизонте гряду белых гор. Все более влажными делались воздух и земля. Повсюду текли ручейки, сливаясь в маленькие речки. Начали попадаться глыбы камня и глыбы льда. Порой они образовывали такие завалы, что невозможно было пройти. Льда становилось все больше, он лежал целыми лугами. Затем почва вовсе скрылась, направо и налево от двоих простерся край бесконечного ледяного поля, которое впереди полого поднималось.
Мужчина остановился и огляделся. Это было ново и тревожно. Он присел на корточки, раздумывая, потом решительно встал. Где лед, там холод, где холод, там снег, а значит, и олени.
Дальше!
На равнине к погасшему костерку тем временем подбрели тощие, облезлые волки. Почуяв кровь, они сразу оживились, сгрызли заячий череп, поспешно, вырывая друг у друга, поглотали обрывки шкуры с шерстью, повертелись, принюхались и неторопливой рысью побежали за людьми. Их ничто не могло сбить с этого следа, и нечему было отвлечь от последнего, быть может, шанса на жизнь. Они приблизились ко льду и вступили на лед.
Двое поднимались долго, отдохнули, потом еще раз долго. Все выше вставал горизонт позади, равнина превратилась в огромную серую чашу. Мужчина и женщина вошли в пояс тумана, а когда миновали его, их ярко осветило солнце, склоны вокруг заблестели глянцем, и стало казаться, что рукой подать до гребня, за которым богатая охота. Здесь было совсем безветренно и тепло. Лед вытаял пещерами, утесами, лежал застывшими реками, провалился ущельями. Идти становилось все труднее, женщине не хватало воздуха, она вдыхала тяжело и часто. А гребень все отодвигался всякий раз как будто на то расстояние, какое двое проходили от передышки до передышки.
Потом кончилась полоса разнообразного льда, опять он разлился полями, уходящими к небу. Мужчину взяла оторопь: знать заранее, как тяжек путь он не осмелился бы на подъем.
Может быть, вернуться?
С высоты туман смотрелся как облака, и шесть точек, мелькнувших в белесой мгле, подсказали двоим, что волки не оставили их.
Вперед!
Теперь гребень начал приближаться ощутимее. Стена в человеческий рост, кое-где ниже, а за ней только небесная голубизна. Десяток шагов, еще десяток, уже и мужчина ослабел, дышал хрипло. Солнце перевалило зенит, начало опускаться. Равнина внизу только сквозила через облака, и далеко-далеко к югу лежала темная полоса - вал наступающих высоких растений.
Мужчина и женщина подошли к последнему ледяному уступу. Там должен был начаться спуск, за которым и олени, и мохнатый зверь.
Мужчина взобрался наверх, выпрямился. Женщина видела, как он сделал шаг вперед и, отшатнувшись, замер. Она с трудом влезла за ним и тут же села, испуганно глядя перед собой.
Ни снежной равнины, на которую надеялись.
Ни леса, которого боялись.
Ни льда.
Двое никогда еще не были в своей жизни на такой ужасающей высоте; быть может, вообще люди в Европе никогда еще не поднимались на такую.
И здесь, над облаками, начинаясь сразу от синих босых ступней мужчины, от его замерзших, окостеневших пальцев с искореженными, обломанными ногтями, разлилась под небом и сияющим солнцем бесконечная ровная поверхность холодной темной воды.
Во все стороны она уходила, теряясь вдали. Невысокие тяжелые волны округлыми валами неторопливо катили на мужчину и успокаивались у самых его ног.
Море, повисшее в трех километрах над уровнем моря, простершееся на миллионы квадратных километров. Безмерные массы пустых вод, где ни рыбы, ни водорослей, ни даже бактерий.
Двое, конечно, не знали всего этого. Не знали, что и полжизни им не хватило бы, чтобы кругом дойти до противоположного берега. Уничтоженные, они смотрели на необъятное водяное поле, сходившееся у горизонта с небом, и рассыпался, исчезал образ оленьего стада, пасущегося на снежных лугах.
Сильно пригревало, и было совсем тихо. Но легкие, неощутимые ветры все же бороздили гладь моря в отдалении - там черные пространства лежали вперемешку с голубыми и серыми. Слева от людей вода почему-то парила, поднимались и рассеивались в воздухе белые быстрые клубы. Неспешно плыла льдина, высунувшаяся торчком из глубины. Ее изъело солнцем, жаркие лучи выгрызли что-то вроде гигантских сотов на неровных откосах. Она кренилась постепенно, затем вдруг пошла решительно переворачиваться - верхняя часть, всплеснув, скрылась под водой, а оттуда вынырнул другой бок, размытый, отшлифованный, белый.
Что-то происходило в этом на первый взгляд недвижном мире. Тысячелетиями что-то готовилось и теперь назрело.
Лед, хотя и повсюду лед, был неодинаков в разных местах - синие оттенки перемежались с зеленоватыми, даже желтыми. Здесь он иззернился, там шерстил, присыпанный вмерзшим снегом.
Волна от перевернувшейся льдины докатила к берегу, омыла ступни мужчины. Он вздрогнул, очнувшись, осмотрелся по сторонам. Сотнями роились солнечные блики. Ледяная кромка, отделявшая море от пологого склона, кое-где была широкой, громоздилась утесами, кое-где сужалась, плоская, до двух метров или метра, как мы измерили бы теперь.
Угрюмо, медленно мужчина снял с себя пояс с колчаном, взял у женщины две свернутые шкуры, служившие обоим как шатер для ночлега. Он развернул и бросил шкуры у самой воды, опустился на них. Женщина легла рядом, свернулась в комок и сразу уснула, потому что была сыта и смертельно устала. А мужчина не мог и не хотел спать, ему нужно было решить, куда теперь. Он подобрал ноги, обнял колени, просидел несколько минут задумавшись. Ему казалось, что где-то тут должны быть олени, но путь к ним преградила огромная вода, которую двое и помыслить не могли перейти.
Мужчина встал с коротким сдавленным восклицанием, прошелся взад и вперед, потом взял в руки топор - он чувствовал себя уверенней, когда пальцы охватывали костяную рукоять.
Неподалеку послышался шорох - подтаявший ледяной нарост сорвался с утеса.
В этом месте кромка берега была совсем узенькой - с одной стороны рядом море, с другой - далеко внизу потонувшие в провале смутные кустарники полулеса-полутундры. Мужчина остановился здесь. Без мыслей взлетел топор, ударил по льду раз, другой, третий.
И вот уже вода заполнила бороздку, первые капли стекают за край гигантской чаши.
Снова удар, изливается струйка и быстро-быстро делается ручейком.
Это привычно мужчине - сбрасывать воду. В стойбище весной так приходилось делать в пещерах, где по зимнему времени не жили, не жгли костров, а только хранили мясо.
Еще удар, ручеек набухает. Пока безмолвный, он бежит между ногами мужчины, который стал сейчас лицом к солнцу, к равнине Поблизости пришла в движение поверхность воды, а движущаяся вода - совсем не то, что стоящая. У нее другая сила, ее молекулы трутся о молекулы льда, расшатывают, срывают. Р-раз, и рухнул запирающий кусочек, безмолвие сменяется переливчатым шепотом! Р-раз, и выламывается маленькая глыба! Ручеек заговорил, зажурчал, стал вдвое шире.
А мужчина - на каком берегу ему остаться? Чрезвычайно важен выбор, хотя человек и не подозревает о том. С правой стороны струйки он сделается предком норманнов, которым обживать неприветливые фиорды Скандинавии. С левой - ему начать славянский корень, его дальние правнуки будут, возможно, воздвигать златоглавый Киев, столицу древней Руси. Кто-то из них в страшную для русской истории осень 1240 года увидит, как на низком берегу Днепра собираются верткие широкоскулые всадники в долгополых тулупах и больших шапках-треухах - отряды неисчислимых полчищ Батыя. Но уйдет в лес, останется жив, семя и страсть свою передаст тому, кто через столетия в розовый утренний час на поле Куликовом… Это если влево. Вправо же быстроходный драккар, неумолчный скрип уключин, пенная морская волна, а потом овцы на горном лугу, домик у чистого озера, музыка Грига.
Удивительная альтернатива и вариант определяются всего одним шагом.
Вправо или влево?
Мужчина переступает вправо. Он подходит к своей подруге. Чуткая, она сразу просыпается и встает. Вот они возле ручья. Это уже именно не ручеек, а ручей, который с каждым мгновением ширится, превращаясь в стремительную речку. Струя шириной в полтора метра падает с ледяного вала и дальше внизу растекается пленкой. Но начинает и там определяться ложе течения.
Уже не остановить, не закрыть бегущую воду, даже если б мужчина и захотел. Изменились пути течений поблизости, пробуждены силы, которые невозможно теперь обуздать.
Мужчина перепрыгивает на ту сторону, обратно и снова туда. Отломился еще кусок льда, мелькнул сквозь водопад. Речка стала наполовину шире, ее переливчатый говор сменяется рокотом, нужно кричать, чтобы понять друг друга.
Мужчина зовет женщину на свою сторону. Она подступает к струе, мерит ее взглядом, отрицательно качает головой. Мужчина смотрит вниз. Вода нашла себе дорогу, она катит мелким ущельем, от минуты к минуте размывая его и делая глубже. Поток уже разделил склон пополам.
А волки? Где они?
Вот стая - всего в двух сотнях шагов ниже. Так близко хищники еще ни разу не подходили днем, голод сделал их смелыми, ожесточил.
Звери справа от бегущей воды и отступают от ее разлива. Значит, людям надо на левую сторону.
Мужчина берет брошенные на лед шкуры, прыгает с ними через поток. Он показывает женщине на волков. Скорее же, скорей!
Тем временем обламывается еще кусок льда. Поток расширился, напор сильнее.
Женщина колеблется, затем отступает для разбега, примеривается Несколько быстрых шагов, прыжок Нога попала на самый край ледяного уступа, руки взмахнули в воздухе. Короткий неслышный крик, и женщина падает. За несколько секунд ее уносит, сталкивает на два десятка метров вниз, и на разливе ей удается задержаться. По колени в ледяной воде женщина не осмеливается сделать и шага, она подалась вперед, наклонилась. Холодные струи вымывают дно под ней, она еле удерживается на ногах.
А все еще яркий день. На высоте ничем не загороженное солнце заливает ослепительным светом бесконечный склон, неохватную поверхность нависших вод и ту льдину, которая наверху развернулась и царственно направляется к истоку реки.
Мужчина швырнул копье и топор в сторону. Длинными прыжками он спускается, падает, вскакивает, устремляется к женщине. Вот они рядом, обжигающе холодная вода по пояс обоим. Они бредут, держась друг за друга. К счастью, здесь маленькое плато, где река растеклась. Мгновение отдыха, и дальше влево. Опять глубина, женщина вдруг проваливается с головой, мужчина пытается вытащить ее и тоже скрывается весь в потоке. Их несет по глубокой ложбине.
Все полноводнее река, сильнее напор. На какой тонкой нити повисли будущие отцы-охотники, отцы-земледельцы, княжеский дружинник, крестьяне, солдат…
Оба выныривают. Мужчина яростно борется Обоих прижимает к ледяному выступу. У женщины плотно сжаты губы, она не сказала ни слова, не крикнула с того мгновения, как упала. Задыхаясь, чувствуя, что отнимаются занемевшие руки и ноги, мужчина отчаянно оглядывается.
Что это? Напор резко ослабел, он иссякает вдвое.
Льдина, подплывшая там наверху к берегу, частично заперла реку. Однако верхний слой теплой, нагретой за день воды точит и точит новый проход.
Мужчина и женщина выходят из потока, тяжело дыша, побитые, обессиленные, дрожащие.
Но топор! Лук и стрелы… Все осталось на другой стороне. А без оружия, одежды, инструментов обрывается связь двоих с прошлым, с человечеством. Они сразу скатываются на положение голых, слабых животных, которым не спастись в бесплодной тундре.
Женщина, побелевшая и синяя, бежит наверх, туда, где оленьи шкуры. Мужчина, не раздумывая, бросается обратно в воду. Через минуту и он начинает подниматься. Топор, колчан, мешок с рубилами и скребками - все прижато к груди. Разбег, беззаветный прыжок. Женщина подхватывает мужчину, вдвоем они отбегают дальше по узкой кромке у моря.
Вовремя. Льдина стала торчком, переворачивается и выламывает, падая, огромный кусок берега. С ревом обрушивается стена воды, ее серое долгое тело устремляется вниз. Переплетаются тугие струи, брызги взлетают и блещут. Водяная пыль поднялась над проломом, кусок радуги засвечивается, меркнет, опять засвечивается. Эшелонами низвергаются тяжкие массы, за ними, не прерываясь, следуют другие. Трещит лед округлая линия перелома воды протянулась уже на полкилометра.
Где там волки - они сгинули! Сбежали, испуганные, и быстрыми тенями уходят, скачут к северу.
Новые течения возникли на ближнем участке моря, плывут и исчезают воронки водоворотов. Взметнулся бурун и подтачивает высокий береговой утес.
В трех километрах ниже, на равнине, вода пришла, ударила в почву, образовала озеро, которое ширится с катастрофической скоростью. Брызнула в разные стороны живность, что не видели, не умели увидеть люди - охотники за крупным зверем и волки-охотники. Скачут зайцы, бежит песец, трясогузка взлетает над затопленным гнездом. Но никому не уйти. Низкорослый ивняк скрыт с верхушкой, крутят водовороты, всплывают глыбы льда, колеблются каменные надолбы
Грохочет и пенится вся извилистая дорога воды. В одних местах расходясь, в других сжимаясь, современный весенний Днепр падает с заоблачных высот.
А там наверху к провалу подтащило айсберг. Ледяная гора поднимается, нависает, перемалывая, сминая ледяные утесы берега, и Волга, целая Волга обрушивается в бездну. Воздух дрожит. На десятки километров разносится пушечный грохот. Полная радуга перебросилась на высоте через стремительную реку, чье течение каждый миг проносит вниз новые сотни тысяч тонн воды.
Солнце, белые льды, горизонт моря, горизонт суши внизу и два человека…
Что же происходит?
Кончается ледниковый период в Европе, вот что! Создается Балтийское море.
Около миллиона лет назад на планету с ужасающей быстротой надвинулся холод. Там, где прежде стояли тропические леса, простерлась белая, гладкая, мертвая, как на луне, ледяная пустыня. Возникшая у полюсов область высокого давления повернула горячие ветры экватора с меридионального направления на широтное. Лед вобрал невообразимые массы планетарной воды, иссушил моря, понизил уровень океанов, разъединяя их, обрезая морские течения, что прежде разносили тепло по земному шару. Сфера жизни на суше резко сократилась, и человек, впервые вступивший в Европу, был вынужден бежать. Четырежды, по крайней мере, климат делал людей на континенте своей игрушкой, приглашая в периоды потепления волны человеческого нашествия, а затем изгоняя первобытных охотников. Челнок с размахом в тысячи километров и сотни тысяч лет из Африки, из Азии в Европу, а потом снова в Азию, Африку. Но раз от разу люди становились изобретательнее Жестокий холод остановил эволюцию неандертальцев, однако другие ветви человеческого рода, следуя за мамонтом и оленем, проникли далеко на север и принесли с собой развитую культуру камня.
Но снова катастрофа, снова климат меняется, теперь уже под влиянием ледника отступающего.
А что же управляет оледенениями?
Процессы, происходящие на Земле.
Возможно, что изменения активности Солнца.
Вероятно, периодический (через 300 миллионов лет) выброс гигантских масс вещества из центра Галактики.
Не исключено, что воздействие других галактик и их скоплений на ту, где мы.
Грандиозный масштаб, но пусть он не пугает нас. Напротив, прекрасно, что наша историческая судьба зависит от столь многого. Громоздятся горы, дышат огнем вулканы, зеленеет лес, сияет солнце, звезды идут по своим кругам, и все это (пожалуй, даже взрывы сверхновых) влияет на человека Значит, мы не сбоку, не просто так, не отщепенцы, а часть безмерного целого, именуемого вселенной.
Вот они, двое, на самом краю заоблачного моря. Быть может, в дальнем космосе, в недоступной звездной чаще началось то, что привело их сюда.
А они сами, что сделали они?
Тысячелетиями истаивал изнутри ледник, покрывший север Европы. Чаша, наполненная талой водой, образовала гигантский морозильник, определяющий климат материка. Но ударил топор, струйка превратилась в ручей, в реку, в огромный водопад. Как сто Ниагар, он будет реветь теперь недели, месяцы, десятилетия. Обрушившиеся воды уже намечают современную береговую линию Балтийского моря, они соединятся с Атлантикой, перемешаются с ее нагретыми солнцем волнами, и оттуда на север придет тепло. Освободившиеся от давления вечного антициклона горячие ветры экватора повернут внутрь континента, принося туда океанскую влагу Чахлая полутундра сменится дубравами, лугами, на зеленой опушке пчела зажужжит над цветком, крупные стадные животные откочуют далеко на север, на восток, и вынужденно свершится в Европе великая революция - от охоты человек перейдет к земледелию, от сбора пищи - к ее производству. Создастся устойчивый, легко сберегаемый излишек еды, поднимутся первые города, начнется цивилизация.
Если б им знать, двоим!
Нет, они ничего не знают, их страшат, не радуют жаркое солнце, белые облака - вестники другой эпохи. Мрачно, глядя под ноги, мужчина завязывает пояс с колчаном и мешком. На его мускулистом плече сочится кровью рваная ссадина - рана, косой шрам пересек лоб.
Женщина свернула шкуры, закинула их за спину. Она кивает мужчине - слов не услышать в оглушительном реве, - и двое начинают свой путь кромкой моря, туда, к холмам, что огораживают затопляемую равнину. Они делают шаг вниз, на склон, мужчина останавливается и бросает последний взгляд на неохватную поверхность льдистого океана. Его губы сжаты, брови нахмурены, но на миг гордый и горький вызов выражается в глазах - все-таки двое достигли самого края. Не их вина, что некуда дальше.
И вот люди удаляются от нас. Очень медленно, так что целый час им нужен, чтобы стать пятнышком на пустом белом фоне льда и снегов. Все меньше, меньше пятнышко и наконец исчезает совсем. Двое ушли к югу, в скифскую степь будущего, к славянскому лесу, в глубину пространств и времен.
Ушли, но вернутся, не пропадут. По водам отворенного ими моря поплывут корабли, на его берегу Петербург раскинет свои дворцы. Кровь этих двух молодых, хоть и многократно растворенная, влилась к нам в жилы, просочившись сквозь толщу десяти тысячелетий.
Двое свершили. А мы?… Где оно, наше Балтийское море?
Да вот оно! Каждую секунду проливается первая струйка, начинается исток - только мы не умеем увидеть. Дыхание, жест, слово, незаметный поступок дают начало таким развитиям, которых последствия не измерит никто.
Может показаться, что первобытный охотник лишь потому приблизил конец ледника, что тогда мир менялся, был в состоянии великой передвижки.
Но мир всегда меняется, и постоянно мы на последнем, решающем рубеже своего времени. Не будем беспокоиться - ничто наше не пропадает. Человек, который сделал Балтийское море, - это вы, это я. Зависящие от всего, влияющие на все, по скрещению минутного с вечным, малого с безмерным люди идут головою в звездах. Нужно только хотеть и действовать.
Нам привычна мысль, что разум сильнее веры. Да, это бесспорно. Однако, прежде чем открыть, изобрести, начать, сделать, мы должны быть уверены в своей способности добиться успеха. Разум велик, но все-таки впереди идет вера - в себя.
1
Макс Рейман - деятель германского и международного рабочего движения.
(обратно)


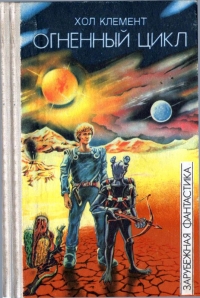
Комментарии к книге «Человек, который сделал Балтийское море. Повести и рассказы», Север Феликсович Гансовский
Всего 0 комментариев