Дэн Симмонс Полый человек
Dan Simmons
The Hollow Man
© 1992 by Dan Simmons
© Гольдберг Ю. Я., перевод на русский язык, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *
Я благоговею перед Дэном Симмонсом.
Стивен Кинг
* * *
Благодарности
Автор хотел бы поблагодарить людей, превративших невыполнимую задачу в просто трудную.
Сью Болтон и Эдварда Брайанта за то, что прочли книгу, которая была написана вместо той, которую ждали другие. Табиту и Стива Кингов за долгий и непростой марафон чтения… и за слова поддержки, которые за ним последовали. Ники Гернольда за объяснение механизма телепатии. Бетси Митчелл за демонстрацию смелости наших общих убеждений. Эллен Датлоу за то, что полюбила (и купила) рассказ, с которого все началось, десять лет назад. Ричарда Куртиса, необыкновенный профессионализм которого помог избежать путаницы. Математика Иэна Стюарта, сумевшего вызвать страстный отклик у математически неграмотного человека. Карен и Джейн Симмонс за их любовь, поддержку и терпение, когда я упорно пытался снова превратить просто трудную задачу в невыполнимую.
Кроме этих чудесных людей, я должен поблагодарить и тех, кого с нами уже нет: Данте Алигьери, Джона Карди, Т. С. Элиота, Джозефа Конрада и Фому Аквинского. Все они исследовали – гораздо глубже и выразительнее, чем позволяют мне мои способности, – навязчивую тему…
* * *
Блуждание меж двух миров,
меж миром мертвым
и миром неродившимся.
Ты будешь знать, как горестен устам Чужой ломоть, как трудно на чужбине Сходить и восходить по ступеням. Данте. «Рай» XVII[1] Те глаза, что не смеют сниться, В сонном царстве смерти Мне не являются. Т. С. Элиот. «Полые люди»[2]Тень твоя вечером
Джереми Бремен вышел из больницы, где умирала его жена, и поехал на восток, к морю. В этот необычно теплый пасхальный уикенд жители Филадельфии устремились за город, и в плотном потоке машин Бремену приходилось внимательно следить за дорогой, оставив лишь тончайшую связь с сознанием жены.
Гейл спала. Болеутоляющее подействовало, но сны ее были беспорядочными и тревожными. Она искала мать в бесконечной анфиладе комнат, заставленных викторианской мебелью. В сознании ее мужа картины из этих снов смешивались с вечерними тенями сосновых лесов Пайн-Барренс. Гейл проснулась, когда он съезжал с автострады, и в те несколько секунд, когда она еще не чувствовала боли, Джереми увидел яркую полоску солнечного света на синем одеяле в ногах кровати, ощутил легкое недоумение, когда жене показалось – всего на секунду, – что теперь утро на ферме.
Мысли Гейл потянулись к нему, как только вернулась боль, пронзившая левый глаз, словно тонкая, но невероятно острая игла. Бремен поморщился и уронил монетку, которой собирался расплатиться за платный участок шоссе.
– Что-то не так, приятель? – спросил принимавший плату служащий.
Бремен покачал головой, выудил из кармана доллар и не глядя сунул его в руку мужчины в будке. Потом он бросил сдачу в захламленный бардачок своего «Триумфа» и сосредоточился на управлении маленьким автомобилем, пытаясь отгородиться от боли жены. Боль медленно затихала, но тревога захлестывала его, словно волна поднимающейся изнутри тошноты.
Гейл быстро взяла себя в руки, несмотря на полотнища страха, плескавшиеся на границе ее сознания.
Она мысленно заговорила с Бременом, сузив спектр передачи до симуляции голоса:
Привет, Джереми.
И тебе привет, малыш. Отправив эту мысль, мужчина свернул к острову Лонг-Бич. Потом поделился картинкой – яркая зелень травы и сосен под золотистым апрельским солнцем, тень спортивного автомобиля, прыгнувшая на плавный изгиб насыпи дорожной развязки. Ветер принес с побережья неповторимый запах соли и разлагающихся водорослей – им Бремен тоже поделился с Гейл.
Чудесно. Мысли умирающей женщины текли медленно, заторможенные болью и наркотиками. Почти лихорадочным усилием воли она цеплялась за образы, которые ей посылал муж.
Приморский городок выглядел не слишком привлекательно: обшарпанные рестораны с меню из морепродуктов, непомерно дорогие мотели, построенные из дешевых шлакоблоков, бесконечные пристани… Но привычный пейзаж успокаивал, и Бремен постарался передать его во всех подробностях. Жуткие приступы боли прошли, Гейл начала расслабляться, и на мгновение ее присутствие показалось Джереми настолько реальным, что он повернулся к пассажирскому сиденью, обращаясь к жене. И не успел скрыть разочарование и растерянность, которые тут же передались ей.
На подъездных дорожках к расположенным на берегу домам люди выгружали вещи из вместительных универсалов и тащили корзины с поздним ужином на пляж. Вечерние тени несли с собой холод ранней весны, но Бремен, направив машину на север, к Барнегат-Лайт, сосредоточился на свежем воздухе и теплых полосах солнечного света. Скосив взгляд направо, он увидел рыбаков, стоявших в воде у самого берега, – их тени резко выделялись на фоне белой пены прибоя.
Моне, – подумала Гейл, и Джереми кивнул, хотя на самом деле эта картинка вызывала у него ассоциации с Евклидом. – Математик до мозга костей. – Боль вернулась, и мысли женщины прерывались. Обрывки предложений разлетались, словно брызги от белых волноломов.
Бремен остановил «Триумф» около маяка, вылез из машины и зашагал через невысокие дюны к пляжу. Там он бросил на песок ветхое одеяло, которое они с Гейл столько раз приносили на это место. Мимо него к воде с криками промчалась стайка ребятишек. Они были в купальных костюмах – несмотря на холодную воду и быстро остывающий воздух. Девочка лет девяти с длинными белыми ногами и, вероятно, в прошлогоднем купальнике, из которого она уже выросла, резвилась на мокром песке, исполняя некий сложный, бессознательный танец в паре с морем.
Свет за окном, закрытым жалюзи, стал меркнуть. Медсестра, от которой пахло сигаретами и несвежей пудрой, сменила лекарство в капельнице и сосчитала пульс больной. Переговорное устройство в коридоре о чем-то громко и требовательно вещало, но усиливающийся туман боли мешал разобрать слова. Около шести пришел доктор Сингх и ласково заговорил с Гейл, но она не слушала его и смотрела на дверной проем, где должна была появиться медсестра с заветным шприцем. Прикосновение ватного тампона к руке обещало избавление от боли, и умирающая с точностью до секунды знала время, через которое морфий подействует в полную силу. Врач тем временем что-то говорил:
– …ваш муж? Я думал, он останется на ночь.
– Прямо здесь, доктор. – Гейл похлопала по одеялу и одновременно по песку.
Бремен натянул нейлоновую ветровку, защищаясь от ночного холода. Звезды были закрыты высокими облаками, сквозь которые изредка проглядывало небо. Далеко в море, у самого горизонта, медленно плыл неправдоподобно длинный нефтяной танкер. Окна домов на первой линии за спиной Джереми отбрасывали на песок дюн желтые прямоугольники света.
Ветер принес запах жарившегося на огне мяса. Бремен попытался вспомнить, ел он сегодня или нет. Желудок скрутило от боли – не слишком сильной, поскольку наркотик уже подействовал на Гейл. Нужно вернуться в ночной магазин у маяка и съесть сэндвич, подумал Джереми, но потом вспомнил, что в кармане его куртки все еще лежит шоколадный батончик, купленный на прошлой неделе в торговом автомате во время дежурства в больнице. Он стал жевать окаменевший арахисовый брусок, наблюдая за сгущавшимися сумерками.
Из больничного коридора доносилось эхо шагов. Как будто там маршировала целая армия. Топот ног, звяканье подносов, приглушенные голоса санитаров, разносящих ужин другим пациентам, – все это напомнило Гейл детство: она лежит в кровати и прислушивается к доносящимся снизу звукам вечеринки, которую устроили родители.
Помнишь вечеринку, на которой мы познакомились? – мысленно спросил Бремен.
М-м... – Его жене было трудно сосредоточиться. Морфин проигрывал сражение с болью, и черные пальцы паники уже хватались за край ее сознания. Игла позади глаза словно раскалилась докрасна.
Джереми попытался отправить Гейл образы с вечеринки Чака Гилпена, на которой они встретились десять лет назад, воспоминания о той первой секунде, когда их разумы открылись друг другу и они поняли: Я не одинок. И как следствие: Я не фрик. Там, в битком набитом людьми доме Чака Гилпена, среди бессвязной болтовни и еще более хаотичного потока мыслей преподавателей и аспирантов, их жизни навсегда изменились.
Едва переступив порог – хотя кто-то уже успел сунуть ему в руку стакан со спиртным, – Бремен вдруг почувствовал рядом собой еще один ментальный щит. Он осторожно прощупал этот щит, попытался преодолеть его, и мысли Гейл ударили в него, словно лучи прожектора в темной комнате.
Оба были потрясены. Первая реакция – укрепить ментальный щит, свернуться в клубок, как испуганный броненосец. Но вскоре каждый обнаружил, что беззащитен перед бессознательным и почти невольным прощупыванием другого. Они еще не встречали настоящих телепатов – только людей с примитивными, неразвитыми способностями. Оба считали себя не такими, как все люди, – уникальными и неуязвимыми. И вот они словно стояли обнаженными друг пред другом – в пустоте. Секунду спустя, сами того не желая, они затопили друг друга потоками образов, представлений, полустертых воспоминаний, секретов, чувств, предпочтений, ощущений, тайных грехов, неоформленных желаний и укоренившихся страхов. Они ничего не скрывали друг от друга. Неприглядные поступки, сексуальные эксперименты, предрассудки – все это смешивалось с воспоминаниями о прошедших днях рождения, бывших любовниках, родителях, а также с бесконечным потоком мелочей. Даже супруги, прожившие в браке пятьдесят лет, редко бывают так близки, как стали Джереми и Гейл в тот момент.
Минуту спустя они впервые увидели друг друга.
Луч маяка Барнегат проходил над головой Бремена каждые двадцать четыре секунды. Теперь в море было больше огней, чем вдоль темной линии берега. После полуночи поднялся ветер, и мужчина плотнее закутался в одеяло. Во время последнего обхода медсестры Гейл отказалась от укола, но ее мысли все равно путались. Контакт поддерживался исключительно силой воли Джереми.
Гейл всегда боялась темноты. За девять лет брака он много раз ночью тянулся к ней, рукой или мыслью, пытаясь успокоить ее. И теперь она снова была той маленькой девочкой, испуганной и одинокой, на втором этаже большого старого дома на Берлингейм-авеню. В темноте под ее кроватью притаилось что-то страшное.
Преодолев ее боль и страх, Бремен поделился с ней шумом волн. Он рассказал ей о проделках их трехцветной кошки Джернисавьен, а потом лег в углубление в песке, копируя положение тела Гейл на больничной койке. И она медленно расслабилась, уступила его мыслям. Ей даже удалось подремать несколько минут без морфия, и ее сны были наполнены звездами, мерцавшими в просветах между облаками, и резким запахом Атлантики.
Джереми рассказал о том, что успел сделать на ферме за неделю – немного, в перерывах между дежурствами, – и поделился изысканной красотой уравнений Фурье, написанных мелом на доске в его кабинете, а также солнечной радостью от посаженного у подъездной дорожки персикового дерева. Он передал Гейл воспоминания об их лыжной прогулке в Аспене год назад, свой испуг от неожиданно осветившего берег прожектора невидимого корабля. Потом стал мысленно повторять те немногие стихи, которые помнил, но слова ускользали, уступая место чистым образам и чувствам.
Ночь все не кончалась, и мужчина делился ее чистой свежестью, окутывая каждый образ теплым одеялом любви. Рассказывал о всяких мелочах, о надеждах на будущее. С расстояния семидесяти пяти миль он протянул руку и коснулся руки Гейл. А когда задремал на несколько минут, то поделился с ней своими снами.
Гейл умерла незадолго до рассвета, когда небо на востоке только начало светлеть.
Увидел стяг вдали
Через два дня после похорон Фрэнк Лоуэлл, заведующий кафедрой математики в Хэверфорде, явился домой к Бремену и заверил, что сохранит за ним место преподавателя на столько, на сколько потребуется, – даже на несколько месяцев.
– Серьезно, Джереми, – говорил Фрэнк, – тут тебе не о чем волноваться. Делай все, что нужно, чтобы снова наладить свою жизнь. Когда бы ты ни вернулся, место твое. – Он улыбнулся своей искренней, детской улыбкой и поправил очки без оправы. Складывалось впечатление, что борода Лоуэлла скрывает пухлые щеки и подбородок тринадцатилетнего мальчишки. Взгляд его голубых глаз был чистым и простодушным.
Удовлетворение. Соперник устранен. Никогда не любил Бремена… слишком умен. Исследование для Голдмана сделало его опасным.
Лицо молодой блондинки из Массачусетского технологического, которую Фрэнк интервьюировал прошлым летом и с которой спал всю долгую зиму.
Превосходно. Больше не нужно лгать Нелл или придумывать конференции, чтобы улетать на выходные. Шери может жить в городе, неподалеку от кампуса, и если Бремен пропадет надолго, к Рождеству она займет его место.
– Серьезно, Джер. – Фрэнк наклонился и похлопал коллегу по колену. – Времени у тебя сколько угодно. Мы оформим это как творческий отпуск и сохраним для тебя должность.
Бремен поднял на него взгляд и кивнул. Три дня спустя он отправил в колледж заявление об увольнении.
Дороти Паркс с кафедры психологии пришла на третий день после похорон, настояла, что приготовит ужин, и осталась до позднего вечера, объясняя вдовцу механизмы скорби. Они сидели на крыльце, пока темнота и холод не загнали их в дом. Казалось, зима снова возвращается.
– Пойми, Джереми, стремление избавиться от знакомой обстановки – самая распространенная ошибка, которую совершают люди, пережившие тяжелую утрату… – говорила Дороти. – Они берут слишком длинный отпуск на работе… слишком быстро меняют дом… Им кажется, что так будет легче, но это лишь очередной способ отложить неизбежное столкновение с тоской.
Бремен кивнул, делая вид, что внимательно слушает.
– В данный момент ты находишься на стадии отрицания, – продолжала Дороти. – Гейл прошла эту стадию, когда заболела раком, а тебе придется пройти ее со своим горем… пережить и преодолеть. Ты понимаешь, о чем я, Джереми?
Хозяин дома поднес сжатый кулак к нижней губе и медленно кивнул. Дороти Паркс уже исполнилось сорок, но одевалась она слишком легкомысленно для своего возраста. В этот вечер на ней была мужская рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, заправленная в длинную расклешенную юбку, и обувь на платформе высотой не меньше двадцати дюймов. Браслеты на ее руках звенели при каждом движении, а коротко постриженные волосы с прядями рыжего и фиолетового цвета были уложены с помощью мусса в петушиный гребень.
– Гейл хотела бы, чтобы ты как можно скорее преодолел это отрицание и стал жить своей жизнью, Джереми, – заявила Паркс. – Ты ведь это знаешь, правда?
Он слушает. Смотрит на меня. Наверное, не стоило расстегивать четвертую пуговицу… сегодня просто побыть психотерапевтом… надеть серый свитер. Ладно, черт с ним. Я видела, что он смотрел на меня в гостиной. Он меньше Даррена… выглядит не таким сильным… но это не столь важно. Интересно, хорош ли он в постели?
Мужчина с рыжеватыми волосами… Даррен… Скользит щекой по ее животу.
Ладно, он поймет, что нравится мне. Интересно, где тут спальня? Где-то на втором этаже. Нет, у меня дома… нет, в первый раз лучше на нейтральной территории. Часы тикают. Биологические часы. Черт, мужчине, придумавшему эту фразу, нужно отрезать яйца.
– …важно делиться своими чувствами с друзьями, с кем-то близким, – говорила она. – Отрицание может продолжаться так долго, что боль уйдет внутрь. Ты обе-щаешь позвонить? Поговорить?
Бремен поднял голову, кивнул. И в эту секунду твердо решил, что не будет продавать ферму.
На четвертый день после похорон Гейл пришли Боб и Барбара Саттон, их соседи и друзья, чтобы еще раз выразить ему свое сочувствие. Барбара тихо плакала. Ее муж беспокойно ерзал на стуле. Это был крупный мужчина со светлым ежиком волос, неизменным румянцем на круглом лице и толстыми и короткими, как у маленького ребенка, пальцами. Он думал о том, как бы вернуться домой вовремя и успеть к игре «Селтикс»[3].
– Ты же знаешь, Джереми, что Господь возлагает на нас только то бремя, которое мы в состоянии вынести, – произнесла миссис Саттон между всхлипываниями.
Бремен задумался над ее словами. Скользнул взглядом по пряди ранней седины в ее темных волосах, уходившей от лба, нырявшей под заколку для волос и исчезавшей из виду. Мысли Барбары были похожи на струю раскаленного воздуха из печи.
Свидетельствование. Пастор Миллер очень обрадуется, когда я приведу к Богу этого профессора колледжа. Если я процитирую Святое Писание, то оттолкну его… и Дарлин позеленеет от зависти, когда на вечернюю службу в среду я приду вместе с этим агностиком… атеистом… кем бы он ни был… готовым прийти к Христу!
– …Он дает нам столько сил, сколько нужно, и тогда, когда нужно, – говорила Саттон. – Даже когда мы не в состоянии понять такие вещи, у них есть причина. У всего есть причина. Милосердный Господь призвал к себе Гейл по какой-то причине, которую откроет, когда придет время.
Джереми рассеянно кивнул и встал. Удивленные, его гости тоже поднялись со своих мест. Он проводил их до двери.
– Если мы что-то можем для вас… – начал Боб.
– Да, пожалуйста, – сказал Бремен. – Не могли бы вы позаботиться о Джернисавьен – меня какое-то время не будет.
Барбара улыбнулась и нахмурилась одновременно.
– О кошечке? Да, конечно… Джерни дружит с моими двумя сиамскими… Мы с радостью… Но как долго вы рассчитываете…
Джереми попытался улыбнуться.
– Недолго. Просто нужно кое с чем разобраться. Мне будет спокойнее, если Джернисавьен останется с вами, а не в ветеринарной клинике или приюте для кошек на Конестога-роуд. Если не возражаете, я завезу ее утром.
– Конечно, – сказал Боб и снова пожал соседу руку. Осталось пять минут до предматчевого шоу.
Бремен помахал им с Барбарой рукой, наблюдая, как их «Хонда» разворачивается и исчезает за поворотом гравийной дорожки, а потом вернулся в дом и принялся медленно обходить все комнаты.
Джернисавьен спала на синем одеяле в ногах кровати. Трехцветная голова кошки дернулась, когда ее хозяин вошел в спальню, желтые глаза осуждающе сощурились – он ее разбудил. Бремен коснулся шеи кошки, подошел к шкафу, достал одну из блузок Гейл, прижал ее на секунду к щеке и зарылся в нее лицом, глубоко дыша. Потом вышел из спальни и зашагал по коридору к своему кабинету. Стопка брошюр с тестами для студентов лежала на том же месте, где он бросил ее месяцем раньше. На доске остались уравнения Фурье, наспех нацарапанные мелом во время двух утренних вспышек вдохновения за неделю до того, как Гейл поставили страшный диагноз. Везде горы рукописей и непрочитанных журналов.
Бремен какое-то время стоял посреди комнаты и тер виски. Даже здесь, в полумиле от ближайшего соседа и в девяти милях от города или автострады, его голова гудела и потрескивала от чужих мыслей. Как будто он всю жизнь слушал радио, тихо бормочущее в соседней комнате, а потом кто-то вставил приемник ему в голову и выкрутил громкость на максимум. В то утро, когда умерла Гейл.
Шум стал не только громче, но и мрачнее. Джереми понимал, что теперь он исходит из более глубокого, скрытого источника – это уже не случайные мысли и эмоции, которые он слышал с тех пор, как ему исполнилось тринадцать. Словно почти симбиотические взаимоотношения с Гейл служили щитом, буфером между его сознанием и острыми, как бритва, осколками миллионов беспорядочных мыслей. До прошлой пятницы ему требовалось сосредоточиться, чтобы уловить смесь образов, чувств и неоконченных фраз, из которых состояли мысли Фрэнка, Дороти, Боба или Барбары. А теперь ему нечем было защититься от агрессии. То, что они с Гейл называли ментальным щитом, – простой барьер, позволявший заглушить фоновое шипение и треск чужих мыслей, – теперь просто исчезло.
Бремен взял губку и прикоснулся ею к доске, собираясь стереть уравнения, но затем передумал и спустился на первый этаж. Вскоре Джернисавьен пришла к нему на кухню и потерлась о его ноги. Мужчина понял, что, пока он сидел за столом, на улице уже стемнело, но свет зажигать на стал, а просто открыл банку кошачьих консервов и покормил трехцветную кошку. Джернисавьен с укором посмотрела на него, как будто осуждала за то, что он не ест вместе с ней или не включает свет.
Потом, когда Бремен лег на диван в гостиной и стал ждать рассвета, кошка устроилась у него на груди и замурлыкала.
Джереми обнаружил, что когда закрывает глаза, то чувствует головокружение и нарастающее ощущение ужаса… Ему казалось, что Гейл где-то здесь, в соседней комнате или на лужайке возле дома, и что она зовет его. Он как будто слышал ее голос. Бремен не сомневался, что если заснет, то пропустит тот момент, когда ее голос достигнет его ушей. Он лежал без сна и ждал, а дом стонал и потрескивал, тоже не находя себе места, пока шестая бессонная ночь не превратилось в серое и холодное утро – седьмое утро без Гейл.
В семь часов Джереми встал, снова покормил кошку, включил на полную громкость радио на кухне, побрился, принял душ и выпил три чашки кофе, после чего позвонил в службу такси и договорился, чтобы через сорок пять минут машина забрала его из автомастерской на Конестога-роуд. Затем посадил Джернисавьен в переноску – кошка недовольно била хвостом, потому что после катастрофического путешествия в Калифорнию к сестре Гейл клетка использовалась только для визитов к ветеринару – и отнес ее на пассажирское сиденье «Триумфа».
В понедельник, перед похоронами, Бремен купил восемь канистр керосина. Теперь он поставил четыре канистры на заднее крыльцо и открутил крышки. В холодном утреннем воздухе разнесся резкий запах. Судя по небу, к вечеру пойдет дождь.
Джереми начал со второго этажа – полил керосином кровать, одеяло, шкафы для одежды вместе с содержимым и кедровый комод, а затем снова кровать. В кабинете темнела и съеживалась от пахучей жидкости из второй канистры белая бумага. Потом он полил керосином ступени лестницы и темные балясины перил, которые они с Гейл пять лет назад с таким трудом очистили от старой краски и обновили.
Оставшиеся две канистры Бремен разлил внизу, ничего не пощадив, – даже рабочую куртку жены, все еще висевшую на крючке у двери, – а с пятой канистрой обошел вокруг дома, поливая переднее и заднее крыльцо, садовые стулья, дверные косяки и сетки от комаров. Последние три канистры пошли на дворовые постройки. «Вольво» Гейл стоял в амбаре, который они приспособили под гараж.
Отъехав по дорожке ярдов на пятьдесят, Бремен остановил «Триумф», вылез и вернулся к дому. Он забыл спички, и пришлось идти на кухню и рыться в ящике стола, забитом всяким хламом. От паров керосина по его щекам бежали слезы и все вокруг немного расплывалось, словно кухонный стол, пластиковая стойка и высокий старый холодильник были чем-то нематериальным, просто миражом в жаркой пустыне.
А потом, когда в забитом всякой всячиной ящике обнаружились два коробка спичек, Джереми вдруг озарило: он понял, что должен делать.
Стой тут. Зажги их. Ложись на диван.
Он уже достал две спички и собирался чиркнуть ими о коробок, но у него закружилась голова. Остановил его не голос Гейл – это была сама Гейл. Словно пальцы отчаянно царапали плексигласовую пластину, которая их разделяла. Пальцы царапали крышку гроба из красного дерева.
Ты не в гробу, малыш. Тебя кремировали – как ты просила три года назад, на Рождество, когда мы напились и сокрушались по поводу смертности человека.
Бремен подошел к столу и поднес две спички к крышке коробка. Головокружение усилилось.
Кремация. Это правильно. Мы оба станем пеплом. Твой я рассыпал в саду за амбаром… Может быть, ветер принесет туда немного моего.
Джереми принялся чиркать спичками о коробок, но царапанье усилилось, проникая в его череп и превращаясь в сильнейшую мигрень, от которой картинка перед глазами рассыпалась на тысячи светлых и темных точек, а слух наполнился шорохом крысиных лапок, скребущих по линолеуму.
Открыв глаза, Бремен увидел, что стоит снаружи, а пламя уже бушует на кухне, освещая окна на фасаде дома. Он постоял немного, ощущая пульсирующую в такт с ударами сердца головную боль и размышляя, не вернуться ли в дом, но когда пламя показалось в окнах второго этажа, а дым повалил из противомоскитной сетки на заднем крыльце, повернулся и направился к надворным постройкам. Гараж вспыхнул с приглушенным хлопком, опалив его брови, и он пошел к машине мимо пылающего дома.
Стая ворон, громко крича и бранясь, поднялась с садовых деревьев в небо. Джереми запрыгнул в «Триумф», дотронулся до клетки, словно успокаивая встревоженную кошку, и поспешно уехал.
Глаза Барбары Саттон, которой он отдал кошку, были красными от слез. Деревья заслоняли столб дыма из долины, откуда он только что уехал. Джернисавьен съежилась в своей переносной клетке, настороженная и не отрывавшая взгляда от Бремена. Он не поддержал попыток Барбары завязать светскую беседу, сказав, что у него встреча, и поехал в автомастерскую на Конестога-роуд, где продал «Триумф» своему бывшему механику по заранее оговоренной цене, после чего сел в такси и поехал в аэропорт. Когда машина выехала на шоссе, ведущее в Филадельфию, навстречу промчались пожарные машины. Джереми отставал от графика всего на пять минут.
В аэропорту Бремен подошел к стойке «Юнайтед эйрлайнз» и купил билет на ближайший рейс. Когда «Боинг-727» оторвался от земли, Джереми немного расслабился, откинул спинку кресла и почувствовал, что может позволить себе заснуть. И случившееся навалилось на него всей своей тяжестью.
Тогда-то и начался настоящий кошмар.
Глаза
В начале было не Слово.
По крайней мере, для меня.
В это трудно поверить и еще труднее объяснить, но существуют вселенные опыта, не зависящие от Слова. Такие, как моя. Тот факт, что в ней я был Богом… или, по меньшей мере, одним из божеств… пока не имеет значения.
Я не Джереми и не Гейл, хотя когда-нибудь я разделю с ними всё, что они знают, всё, кем они были или хотели стать. Но это не делает меня ими – точно так же, как просмотр телевизионного шоу не превращает вас в поток электромагнитных импульсов, из которых состоит сигнал. Кроме того, я не Бог и не какое-то мифическое существо, хотя был и тем и другим до неожиданного столкновения с событиями и людьми – до той встречи параллельных прямых, которые не должны пересекаться.
Я начинаю мыслить математическими категориями, как Джереми. На самом деле в начале было и не Число. Для меня. Такого понятия не существовало… Не было ни сложения, ни вычитания, ни других удивительных откровений, из которых состоит математика… Что есть число, как не дух разума?
Ладно, пора отбросить ложную скромность, пока не создалось впечатление, что я – некое бестелесное инопланетное существо, прилетевшее из космоса. (На самом деле это недалеко от истины, даже несмотря на то, что понятия космоса для меня тогда не существовало… и даже теперь оно кажется абсурдным. Что касается чужого разума, то его не обязательно искать в космосе, свидетельством чего могу служить я сам и о чем скоро узнает Джереми Бремен. На земле, среди вас, достаточно чужих разумов, которые вы не замечаете или не понимаете.)
Но в это апрельское утро, когда умирает Гейл, все это не имеет для меня смысла. Мне незнакомо само понятие смерти, не говоря уже о многочисленных нюансах и вариациях.
Теперь я об этом знаю – какими бы невинными и чистыми ни были душа Джереми и его чувства этим апрельским утром, в них всегда жила тьма. Порождение обмана и необыкновенной (хотя и непреднамеренной) жестокости. Его не назовешь жестоким человеком – это качество так же чуждо его натуре, как и моей, но тот факт, что он много лет скрывал от Гейл свою тайну, притом что они не могли спрятать друг от друга ни одной мысли, а также тот факт, что эта тайна отрицает все желания и стремления, которые были у них общими на протяжении прожитых вместе лет… Жестокостью является сама тайна. И она глубоко ранила Гейл, которая об этом не догадывалась.
Ментальный щит, который Бремен якобы утратил, когда сел в выбранный наугад самолет, на самом деле частично сохранился – Джереми по-прежнему мог оградить свое сознание от случайных телепатических потоков чужих мыслей, – однако защита оказалась бессильной против этих «темных волн», которые вскоре атакуют его. Теперь это уже не «общий ментальный щит» или просто общая с Гейл жизнь, которая защищала его от жестокой изнанки бытия.
Начиная спуск в ад, Джереми несет с собой еще одну тайну – скрытую даже от него. Именно эта вторая тайна, невидимый потенциал, контрастирующий с прошлой невидимой бесплодностью, будет так много значить для меня.
Для нас троих.
Но сначала позвольте познакомить вас еще кое с кем. В то утро, когда Бремен сел в самолет, чтобы отправиться в неизвестность, микроавтобус забрал Робби Бустаманте, чтобы, как обычно, отвезти его в школу для слепых в восточной части Сент-Луиса. Робби был не просто слепым – он с рождения был слепоглухонемым и умственно отсталым. Будь он чуть более нормален, к списку диагнозов прибавился бы и «аутизм», но для абсолютно слепого, глухого и умственно отсталого ребенка это уже лишнее.
Бустаманте всего тринадцать, но весит он уже восемьдесят килограммов. Запавшие глаза – если их можно назвать глазами – безнадежно слепого похожи на темные пещеры. Зрачки хаотично дергаются, почти невидимые под набрякшими, слишком длинными веками. У него отвислые, пухлые губы, редкие и гнилые зубы. Над верхней губой уже появился темный пушок. Темные волосы растут клоками, густые брови сходятся на переносице широкого носа.
Обрюзгшее тело Робби неуклюже балансирует на тонких белесых ножках. Он научился ходить в одиннадцать лет, но до сих пор самостоятельно может сделать лишь несколько шагов – а потом падает. Когда он двигается своей неуклюжей голубиной походкой, его короткие и толстые руки плотно прижаты к телу, словно сломанные крылья, запястья вывернуты под неестественным углом, пальцы растопырены. Подобно многим слепым и умственно отсталым людям, он любит подолгу раскачиваться и проводить ладонью перед запавшими глазами, словно заслоняя от света эти колодцы тьмы.
Этот мальчик не умеет говорить – только рычит, как животное, иногда бессмысленно хихикает или протестующе верещит пронзительным фальцетом.
Как я уже говорил, Робби был слепым, глухим и умственно отсталым с самого рождения. Наркотики, которые его мать принимала во время беременности, и плацентарная недостаточность лишали ребенка всех чувств с такой же неотвратимостью, как задраиваются переборки в тонущем корабле, отрезая отсеки от внешнего мира.
Робби уже шесть лет посещал школу для слепых. О его жизни до школы никто толком не знает. Еще в роддоме власти обратили внимание на наркотическую зависимость его матери и прикрепили к семье социального работника, но в бюрократической машине произошел какой-то сбой, и на протяжении семи лет ими никто не занимался. Причиной появления соцработника была предписанная судом метадоновая терапия для матери, а не забота о ребенке. По правде говоря, суды, власти и медицинский персонал – абсолютно все – просто забыли о существовании мальчика.
Дверь в квартиру была открыта, и социальный работник услышал какие-то звуки. Потом женщина объясняла, что вошла внутрь только потому, что эти звуки напоминали жалобный писк какого-то маленького животного. И она почти угадала.
Робби был заперт в ванной при помощи куска фанеры, перегораживавшего нижнюю половину двери. Маленькие ручки и ножки ребенка атрофировались настолько, что он не мог ходить и даже ползал с трудом. Ему было семь лет. Голый, перемазанный собственными экскрементами, он лежал на устланном мокрыми газетами полу. Мальчик провел здесь несколько дней, не меньше. Из крана бежала тонкая струйка, и вода на полу поднялась сантиметров на десять. Робби копошился в грязи, издавая похожие на мяуканье звуки, и пытался держать лицо над водой.
Четыре месяца Бустаманте провел в больнице, потом – месяц в приюте, а потом его вернули матери. Согласно постановлению суда, его возили в школу для слепых – на пять часов в день, шесть дней в неделю.
Будущее тридцатипятилетнего Джереми, садившегося тем апрельским утром в самолет, было таким же предсказуемым, как изящная эллипсоидная траектория игрушки йо-йо. Тем же утром, на расстоянии более восьмисот миль, тринадцатилетнего Робби Бустаманте сажали в микроавтобус для короткого ежедневного путешествия в школу для слепых, и его будущее было плоским и однообразным, как протянувшаяся в бесконечность прямая, без надежды на пересечение – с кем-то или с чем-то.
Из мертвой земли
Командир отключил табло «Пристегнуть ремни» и объявил, что пассажиры могут передвигаться по салону, но если они останутся сидеть, то ремни лучше не отстегивать – на всякий случай. И тут для Бремена начался настоящий кошмар.
В первую секунду ему показалось, что на борту самолета взорвалась бомба, пронесенная террористом, – такой яркой была вспышка белого цвета и таким оглушительным явился внезапный рев ста восьмидесяти семи голосов в его мозгу. Ощущение, что он падает, еще больше усиливало убежденность в том, что самолет рассыпался на тысячи обломков и что среди этих обломков он кувыркается в стратосфере вместе с другими кричащими пассажирами. Джереми закрыл глаза и приготовился к смерти.
Но он не падал. Какая-то часть его сознания фиксировала, что под ним по-прежнему находится кресло, что его ноги стоят на полу, а слева через иллюминатор в салон проникает солнечный свет. Но крик не умолкал. Наоборот, он становился громче. Бремен понял, что его голос вот-вот присоединится к оглушительному хору, и впился зубами в костяшки пальцев.
Благодаря такому простому событию, как взлет самолета, сто восемьдесят семь разумов внезапно вспомнили о том, что смертны. Одни с ужасом признавали этот факт, другие предпочли отрицание, отвлекаясь на газеты и напитки, третьи находили опору в какой-нибудь привычной процедуре, но у всех в самой глубине сознания гнездился страх – им было страшно сидеть здесь, в этом длинном герметичном гробу, на высоте нескольких миль над землей.
Джереми беспокойно ерзал и морщился в своем пустом ряду кресел, а сто восемьдесят семь взбудораженных разумов топтали его своими подкованными копытами.
Господи, я забыл позвонить Саре перед вылетом…
Сукин сын знал, что написано в контракте. Или должен был знать. И не моя вина, если…
Если Барри не хотел, чтобы я спала с ним, то не позвонил бы…
Она лежала в ванне. Вода была красной. А запястья – белыми, как разрезанный клубень…
Чертов Фридриксон! Чертов Фридриксон! И Майерс с Ханиуэллом тоже! Чертов Фридриксон!..
Что, если самолет разобьется… проклятье, Господи Иисусе… что, если он упадет и они найдут портфель… проклятье, Господи Иисусе… пепел, обгоревшая сталь, куски моего тела… и что, если они найдут деньги и «узи», и зубы в бархатном мешочке, и пакеты, похожие на сосиски, в моей заднице и в кишках… пожалуйста, Иисусе… что, если самолет разобьется… И это было еще самое безобидное – обрывки фраз обрушивались на Бремена, словно тупые осколки металла. Образы – вот что резало и проникало внутрь. Как скальпель. Джереми открыл глаза и увидел обычный салон самолета, солнечные лучи, падающие из иллюминатора слева от него, двух немолодых стюардесс, начавших разносить завтрак, а также спавших или читавших пассажиров… Но поток пронизанных страхом картин не иссякал, а голова кружилась так сильно, что Бремен расстегнул ремень безопасности, поднял подлокотник и прилег на соседнее кресло, сжавшись в комок под градом звуков, форм и кричащих красок тысяч непрошеных мыслей.
Зубы, скользящие по шиферу. Запах озона и сгоревшей эмали, как будто дантист слишком долго не убирает бор от гнилого зуба. Шейла! Боже, Шейла… Я не хотел… Зубы, медленно скользящие по шиферу.
Кулак раздавливает помидор, и мякоть просачивается сквозь испачканные пальцы. Только это не помидор, а сердце.
Трение и влага, медленные ритмичные движения секса в темноте. Дерек… Дерек, я тебя предупреждала… Рисунки пениса и вульвы, как на стенах общественного туалета. Яркие краски и трехмерное изображение. Крупный план отверстия вагины, похожей на пещеру среди влажных лепестков. Дерек… Я предупреждала, что она поглотит тебя!
Вопиющая жестокость. Немыслимая. Жестокость без границ и остановки. Удар по лицу, словно расплющивают фигурку из сырой глины, только лицо настоящее, а не глиняное… Кость и хрящи трещат и расплющиваются, плоть рвется, превращаясь в кровавое месиво… Кулак не знает пощады.
– С вами всё в порядке, сэр?
Бремен заставил себя сесть, стиснул рукой правый подлокотник и улыбнулся стюардессе.
– Всё хорошо, – заверил он ее.
Женщина средних лет с загаром и макияжем, скрывающими морщины и усталость. В руках поднос с завтраком.
Черт. Только этого нам сегодня не хватало… придурка с эпилепсией или чем-то похуже. Мы никогда не накормим гусей, если мне придется держать этого парня за руку, пока он будет дергаться и исходить потом всю дорогу до Майами…
– Если вы больны, сэр, я могу попросить командира, чтобы он узнал, есть ли на борту врач, – предложила бортпроводница.
– Нет-нет. – Джереми улыбнулся, взял поднос с завтраком и разложил откидной столик на спинке кресла впереди. – Со мной всё в порядке, честное слово.
Ели этот чертов самолет упадет, они найдут сосиски в моей заднице, и ублюдок Галлего отрежет сиськи Дорис и скормит их Санктусу на завтрак.
Бремен отрезал кусочек омлета, поднес вилку ко рту, сделал глотательное движение. Стюардесса кивнула и двинулась дальше.
Убедившись, что никто на него не смотрит, Джереми выплюнул мягкую массу омлета в бумажную салфетку и положил ее рядом с подносом. Руки у него тряслись. Он откинул голову на спинку сиденья и закрыл глаза.
Папа… ой, папа… прости меня, папа…
Кулак превращает лицо в бесформенную массу, продолжает бить, пока единственными чертами на бугристой плоти не остаются вмятины от костяшек пальцев, потом снова бьет, превращая плоскую массу в грубое подобие лица, чтобы опять обрушиться на нее…
Двадцать восемь тысяч от «Пирс», семнадцать тысяч от «Лордс», сорок две тысячи от «Юнимарт-Селекс»… Белое запястье в ванне, похожее на разрезанный клубень… Пятнадцать тысяч семьсот от «Маркс», девять тысяч от булочной «Пирс»…
Бремен опустил левый подлокотник и стиснул его пальцами. Обе его руки напряглись. Он словно висел на вертикальной стене… Как будто ряд кресел был привинчен к отвесной скале, и только сила рук удерживала его от падения. Он может провисеть еще минуту… или две… Он продержится три минуты, прежде чем его смоет приливная волна образов и непристойностей, цунами ненависти и страха. Может, пять минут. Он заперт в этой длинной сигаре, под которой несколько миль пустоты; он не может сбежать, и ему некуда идти.
– Говорит командир. Хочу сообщить вам, что мы достигли заданной высоты в тридцать пять тысяч футов, и что сегодня на всем побережье ожидается ясная погода, а наш полет до Майами продлится… э-э… три часа пятнадцать минут. Я постараюсь сделать ваш полет максимально комфортным… И спасибо, что воспользовались услугами «Юнайтед».
На берегу печальном
Бремен не помнил остальной полет, не помнил аэропорт Майами, не помнил, как арендовал машину и поехал из города в Эверглейдс.
Хотя должен был помнить. Он был там… где-то там.
Взятая напрокат «Беретта»[4] стояла в тени невысоких деревьев у обочины гравийной дороги. Перед машиной и по обе стороны от нее поднималась зеленая стена из высоких пальм и буйной тропической растительности. Дорога была пустой. Джереми сидел, уткнувшись лицом в рулевое колесо, которое продолжал крепко сжимать обеими руками. Пот капал ему на колени и на пластиковую оплетку руля. Бремена била дрожь.
Он выдернул ключи, рывком распахнул дверцу и, пошатываясь, пошел прочь от машины. Оказавшись среди деревьев, упал на колени, больше неспособный сопротивляться спазмам в желудке. Его вырвало на траву, и он отполз в сторону, но следующие волны тошноты заставили его приподняться на локтях – приступ не стихал, пока желудок полностью не освободился от содержимого. Затем Бремен повалился на бок, откатился в сторону, вытер подбородок ладонью и стал смотреть на небо сквозь резные листья пальм.
Небо было свинцово-серым. Джереми слышал шорох далеких мыслей, а образы по-прежнему эхом отражались у него в голове. Он вспомнил цитату, которую однажды показала ему Гейл, – она нашла ее у спортивного комментатора Джимми Кэннона после того, как они с Бременом поспорили, можно ли считать профессиональный бокс спортом. «Бокс – грязное дело, и если вы занимаетесь им достаточно долго, ваш мозг превращается в концертный зал, в котором не умолкает китайская музыка».
Ага, – мрачно согласился Джереми, с трудом отделяя свои мысли от неумолчного фона чужих, – мой мозг точно похож на концертный зал. Жаль, что в нем играет не только китайская музыка.
Он поднялся на колени, увидел за кустами внизу проблеск зеленой воды, встал и нетвердой походкой принялся спускаться по склону. Перед ним в тусклом свете тянулась река или болото. С дуба свисал испанский мох, на берегу росли кипарисы, а несколько деревьев поднимались прямо из затхлой воды. Бремен присел, раздвинул пленку зеленой тины и вымыл щеки и подбородок, а потом прополоскал рот и сплюнул в воду, в которой просвечивали густые водоросли.
Под деревьями, ярдах в пятидесяти справа от него, виднелся домик – даже не домик, а хижина. Взятая напрокат «Беретта» стояла у начала тропинки, которая вела сквозь заросли к покосившемуся строению. Выцветшие сосновые доски хижины терялись среди вечерних теней, но Джереми удалось разглядеть вывески на обращенной к дороге стене: «ЖИВАЯ НАЖИВКА», «УСЛУГИ ГИДА», «АРЕНДА БУНГАЛО» и «ПОСЕТИТЕ НАШ СЕРПЕНТАРИЙ». Бремен побрел к хижине вдоль коричневато-зеленой воды – по берегу реки… или ручья… или болота…
Домик стоял на фундаменте из цементных блоков, из-под которых шел густой запах влажной земли. С противоположной стороны здания был припаркован старый «Шевроле», и теперь Бремен увидел широкую аллею, отходившую от дороги. У двери с москитной сеткой он остановился. Внутри было темно, и, несмотря на вывески, хижина была больше похожа на деревенский дом, чем на магазин. Пожав плечами, Джереми толкнул дверь, которая со скрипом открылась.
– Привет, – поздоровался один из двух мужчин, смотревших на него из темноты. Он стоял за прилавком, а второй мужчина сидел в полутьме у дверного проема, ведущего в другую комнату.
– Привет. – Бремен замер, почувствовав поток чужих мыслей, словно горячее дыхание какой-то гигантской сигареты, и уже поворачивался к двери, когда заметил большой электрический холодильник и почувствовал сильнейшую жажду, как будто не пил несколько дней. Холодильник был старым, со сдвигающейся крышкой, – бутылки с газированными напитками лежали на подтаявшем льду. Джереми выудил первую попавшуюся бутылку, «Эр-Си Кола», и направился к прилавку, чтобы расплатиться.
– Пятьдесят центов, – сказал стоящий мужчина. Теперь Бремен мог его рассмотреть: мятые слаксы, футболка, которая когда-то была голубой, но после многочисленных стирок стала почти серой, грубое лицо с красноватым загаром и синие глаза (не выцветшие), смотревшие из-под козырька нейлоновой кепки с сетчатым верхом.
Джереми порылся в кармане, но мелочи там не оказалось. Кошелек тоже был пуст. Бремен решил, что у него нет денег, но потом нащупал в кармане серого пиджака сверток купюр, судя по всему, двадцаток и пятидесяток, и вспомнил, что вчера заходил в банк и снял с их с Гейл общего счета 3865 долларов и 71 цент, оставшиеся после оплаты закладной на дом и счетов из больницы.
Черт. Еще один проклятый наркодилер. Наверное, из Майами.
Бремен слышал мысли стоящего мужчины так отчетливо, словно они были произнесены вслух, и поэтому ответил ему, вытаскивая двадцатидолларовую купюру и кладя ее на прилавок.
– Не-а, – прохрипел он. – Я не наркодилер.
Продавец моргнул, накрыл красной ладонью двадцатидолларовую купюру и снова моргнул. Потом прочистил горло.
– Я этого не говорил, мистер.
Теперь настала очередь Джереми удивленно моргнуть. Злость ярким раскаленным пятном пульсировала в мыслях стоящего перед ним мужчины. Бремену удалось выделить несколько образов среди сильного шума.
Проклятые торговцы наркотиками убили Норма-младшего, все равно что приставили пистолет к его голове. Парень никогда не понимал, что такое дисциплина или здравый смысл. Будь жива его мама, все могло быть иначе… Потом череда образов – маленький ребенок на качелях, смеющийся десятилетний мальчик с дыркой на месте переднего зуба. Этот же мальчик, ставший взрослым тридцатилетним мужчиной… Мешки под глазами, бледная, блестящая от пота кожа. Пожалуйста, папа… Клянусь, я отдам. Просто небольшая ссуда, чтобы я мог снова стать на ноги.
То есть стать на ноги, чтобы раздобыть очередную порцию кокаина, крэка, или как вы его теперь называете. Это голос Норма-старшего. Когда он ездил в округ Дэйд повидать парня. Норм-младший дрожит, он болен, по уши в долгах и готов залезть в долги еще глубже, лишь бы не отказываться от своей пагубной привычки. Деньги на это дерьмо ты получишь только через мой труп. Возвращайся домой, работать в магазине… так будет правильно. Мы поместим тебя в окружную больницу… Мальчик, теперь уже мужчина, смахивает тарелки и кофейные чашки со скатерти и, спотыкаясь, выходит из кафе… Воспоминания о том, как Норм-старший плачет – впервые за пятьдесят лет.
Бремен вздрогнул, увидев протянутую ему сдачу.
– Я… – начал он, но затем сообразил, что не может выразить свое сочувствие. – Я не наркодилер, – повторил он. – Да, со стороны это выглядит странно. Кассир выдал мне остаток двадцатками и пятидесятками… наши сбережения. – Джереми открутил крышку бутылки с колой и жадно глотнул. – Я только что прилетел из Филадельфии. – Он вытер подбородок тыльной стороной ладони. – В воскресенье у меня… умерла жена.
Эти слова Бремен произнес впервые, и они показались ему безжизненными и абсолютно фальшивыми. Он сделал еще глоток и сконфуженно опустил взгляд.
Мысли Норма бурлили, но яростное пламя исчезло. Может, и так… Какого черта… от смерти жены парень может одуреть не хуже, чем от наркотиков. Больно я стал подозрительным. Вид у него такой же, как был у меня, когда умерла Альма Джин… Парень совсем не в себе.
– Хотите порыбачить? – спросил Норм-старший.
– Порыбачить… – Бремен допил бутылку и окинул взглядом полки, заставленные наживкой и маленькими картонными коробками с поплавками и катушками. У дальней стены стояли бамбуковые и стекловолоконные удочки. – Да-а… – медленно протянул он, удивляясь своему ответу. – Пожалуй.
Норм-старший кивнул.
– Вам нужно снаряжение? Наживка? Лицензия? Или у вас уже есть?
Джереми облизнул губы, чувствуя, как в черепную коробку – пустую, дочиста вычищенную – начинают возвращаться мысли.
– Мне нужно все, – тихо, почти шепотом, ответил он.
– Ну, мистер, деньги у вас есть. – Норм улыбнулся и принялся демонстрировать покупателю рыбацкое снаряжение, наживку и удочки, которые можно было взять напрокат. Бремен не хотел ничего выбирать – он соглашался на первое, что предлагал продавец. Груда товаров на прилавке росла.
Джереми вернулся к холодильнику и взял вторую бутылку, почувствовав некоторое облегчение от мысли, что она тоже войдет в растущий счет.
– Хотите где-то переночевать? – спросил Норм. – Если вы собираетесь рыбачить на озере, удобнее остановиться на одном из островов.
Неужели это не болото, а озеро Эверглейдс?
– Переночевать? – повторил Бремен, читая неспешные мысли Норма-старшего, который думал, что он отупел от горя. – Да. Я хочу провести тут несколько дней.
Продавец повернулся к молчаливому мужчине на стуле. Джереми сосредоточился на незнакомце, но не увидел в его сознании почти никаких осмысленных фраз. Мозг мужчины был подобен очень медленной стиральной машине, в которой вращались обрывки образов, но слов там почти не было. Бремен едва удержался от удивленного восклицания – такого он еще не встречал.
– Вердж, тот парень из Чикаго уже освободил второй остров? – спросил Норм.
Вердж кивнул. Свет из единственного окна вдруг стал ярче, и теперь Джереми видел, что это беззубый старик с яркими коричневыми пятнами на морщинистом лице.
Норм-старший повернулся к Бремену.
– После удара Вердж плохо говорит… док Майерс называет это афазией… но мозги у него на месте. У нас есть одно свободное бунгало на острове. Сорок два доллара в день плюс аренда лодки и подвесного мотора. Или вас отвезет туда Вердж – бесплатно. Отличная рыбалка прямо на острове.
Джереми кивнул. Да. Он на все согласен.
Норм кивнул в ответ.
– Ладно, минимум три ночи, залог сто десять долларов. Вам на три ночи?
Бремен снова кивнул. Да.
Продавец включил на удивление современный электронный кассовый аппарат и принялся выбивать чек. Джереми вытащил несколько пятидесяток из комка купюр, а остальные сунул в карман.
– Послушайте, – Норм-старший задумчиво потер щеку, и Бремен почувствовал нежелание задавать личные вопросы. – Наверное, у вас есть одежда для рыбалки, но если… ну… вам еще что-нибудь нужно… или продукты…
– Минутку, – сказал Джереми и вышел из магазина.
По узкой тропинке, мимо того места, где его вырвало, он вернулся к арендованной «Беретте». На пассажирском сиденье лежал багаж – старая спортивная сумка. Бремен не помнил, как сдавал ее в аэропорту, но к сумке был приклеен багажный ярлык. Он взял сумку – она оказалась пустой, там болтался только маленький и тяжелый сверток – и расстегнул молнию.
В сумке лежал, завернутый в красную бандану, которую Гейл купила ему прошлым летом, револьвер «Смит-и-Вессон» калибра 38. Его подарил им брат Гейл, полицейский, когда они жили в Джермантауне и в их квартале начались ограбления домов. Ни Джереми, ни Гейл ни разу не стреляли из револьвера. Бремен всегда хотел его выбросить – вместе с коробкой патронов, которую Карл приложил к пистолету, – но почему-то не решался, а держал в запертом нижнем левом ящике письменного стола.
Бремен не помнил, как оружие оказалось в сумке. Он развернул бандану, уверенный, что по крайней мере не заряжал револьвер.
Револьвер был заряжен. Кончики пяти пуль торчали из круглых лунок барабана – серые, несущие в себе смерть. Джереми завернул пистолет, сунул его в сумку и застегнул молнию. А потом вернулся в магазин.
Норм-старший вопросительно поднял брови.
– Похоже, я не взял одежду для рыбалки. – Бремен попытался изобразить улыбку. – Поищу на полках.
Мужчина за прилавком кивнул.
– И продукты, – прибавил Джереми. – Мне нужен запас на три дня.
Норм-старший подошел к стеллажам в передней части магазина и начал доставать консервные банки.
– В бунгало есть старая печь. Но большинство парней пользуются только плитой. Супа, бобов и нарезки хватит? – Похоже, он понял, что Бремен не в состоянии сам принимать решения.
– Да, – кивнул Джереми.
Ему удалось найти брюки и рубашку защитного цвета всего на размер меньше, чем нужно. Он отнес одежду на прилавок и, нахмурившись, посмотрел на свои начищенные туфли. Окинув взглядом полки, понял, что в этом удивительном магазине нет ни ботинок, ни кроссовок.
Норм снова пробил чек на кассе, и Джереми достал несколько двадцаток, поймав себя на мысли, что уже много лет не испытывал такого удовольствия от покупок. Хозяин магазина сложил все вещи в картонную коробку – контейнеры с живой наживкой, хлеб и белый бумажный пакет с ломтиками вареного мяса – и протянул Бремену удочку из стекловолокна.
– Вердж уже разогрел мотор. То есть, если вы готовы…
– Готов, – сказал Джереми.
– Наверное, лучше убрать машину с дороги. Можете припарковать ее за магазином.
То, что произошло потом, стало неожиданностью для самого Бремена. Он протянул Норму-старшему ключи, нисколько не сомневаясь, что машина будет в целости и сохранности.
– Вас не затруднит? – Джереми был не в силах скрыть своего нетерпения.
Норм удивленно вскинул брови, а потом улыбнулся.
– Без проблем. Сейчас переставлю. Когда захотите уехать, ключи будут здесь.
Бремен вышел вслед за ним через заднюю дверь и оказался на маленькой пристани, которую не было видно с дороги. Старик сидел на корме маленькой лодки, улыбаясь беззубым ртом.
Джереми почувствовал, как его грудь заполняет тоска – подобно тому, как тропическая птица расправляет крылья после сна, открывая яркое оперение. Ему с трудом удалось сдержать слезы.
Норм-старший передал Верджу коробку с покупками и подождал, пока Бремен неуклюже спустится в лодку и устроится в центре, осторожно уложив стекловолоконную удочку на сиденья.
– Вам должно понравиться, слышите? – Норм подергал козырек своей кепки.
– Да, – прошептал Джереми, глубоко вдохнув запах озера, моторного масла и даже остатков керосина на своей одежде. – Да. Да.
Глаза
Наверное, никто из живущих на земле людей не понимает работу человеческого мозга так хорошо, как Джереми. Кроме того, имея доступ к чужому сознанию с тринадцатилетнего возраста, Бремен затеял исследование, которое показывает истинный механизм мышления. Или по крайней мере дает достаточно хорошую метафору для него.
За пять лет до смерти Гейл Джереми наконец закончил свою диссертацию, посвященную анализу волнового фронта, но тут на его рабочем столе в Хэверфорде появляется статья Джейкоба Голдмана. Записка Чака Гилпена, бывшего соседа по комнате в общежитии, сообщает: «Полагаю, тебе будет интересно взглянуть, что об этом думают другие».
Джереми возвращается домой в таком волнении, что едва может говорить. Джернисавьен смотрит на него и выбегает из комнаты. Гейл наливает ему чай со льдом и усаживает его за кухонный стол.
– Медленнее, – просит она. – Говори медленнее.
– Ладно. – Ее муж втягивает в себя воздух, едва не поперхнувшись кубиком льда. – Знаешь мою диссертацию? О волновом фронте?
Гейл закатывает глаза. Как она может не знать о диссертации, которая вот уже четыре года заполняет их жизнь и отнимает все свободное время?
– Да, – терпеливо отвечает она.
– Так вот, она устарела, – с неуместной улыбкой сообщает Джереми. – Чак Гилпен сегодня прислал мне материал одного парня по имени Голдман, из Кембриджа. Весь мой анализ Фурье устарел.
– Ой, Джереми… – Гейл по-настоящему расстроилась.
– Нет, нет… это потрясающе! – Бремен почти кричит. – Это чудесно, Гейл. Исследование Голдмана заполняет все пробелы. Я все делал правильно – только выбрал не ту задачу.
Гейл качает головой. Она в растерянности.
Джереми наклоняется к жене, лицо его пылает. Чай со льдом проливается на разделочный стол, а Бремен пододвигает к жене статью.
– Смотри, малыш, тут все есть. Помнишь, о чем моя работа?
– Анализ волнового фронта памяти, – автоматически отвечает Гейл.
– Да. Только я сглупил и ограничился памятью. А Голдман и его команда занимаются исследованием холистических параметров волнового фронта для аналогов человеческого сознания в целом. Начало этому направлению положил анализ, выполненный одним русским математиком в тридцатых годах – на основе данных об аномалиях реабилитации после инсульта, – и это привело прямо к моему анализу Фурье для функции памяти… – Джереми, сам того не осознавая, подключается к сознанию Гейл. Поток его мыслей смешивается со словами, образы следуют один за другим, словно распечатки с перегруженного терминала. Бесконечные кривые Шредингера, язык которых гораздо точнее слов. Спад кривых вероятности в биноминальной последовательности.
– Нет! – вскрикивает Гейл и качает головой. – Говори. Объясняй словами.
Бремен пытается, прекрасно понимая, что математика, которую его жена считает слишком формальной, рассказала бы все гораздо яснее.
– Голограммы, – говорит он. – В основе работы Голдмана – исследование голограмм.
– Как и твоего анализа памяти. – Гейл слегка хмурится – как всегда, при обсуждении его работы.
– Да… верно… Только работа Голдмана выходит за пределы анализа синоптической функции памяти, обоб-щая все до аналога человеческой мысли… черт, даже до всего сознания!
Гейл делает глубокий вдох, и Бремен видит, что до нее постепенно доходит. Ему хочется заменить чистой математикой те искусственные языковые конструкции, с помощью которых она прокладывает путь к пониманию, но он подавляет свое желание и сам пытается найти более точные слова.
– Значит… – Гейл умолкает в нерешительности. – Получается, что работа Голдмана объясняет наши… способности?
– Телепатию? – улыбается Джереми. – Да, Гейл… да. Черт возьми, она объясняет почти все, во что я тыкался, словно слепой! – Он умолкает и допивает остатки чая со льдом. – Команда Голдмана выполняет множество сложных исследований с использованием ЭЭГ и сканов мозга. У него масса первичных данных, но сегодня утром я взял его материал и применил к нему анализ Фурье, а затем вставил в разные модификации волнового уравнения Шредингера, чтобы посмотреть, не образуется ли стоячая волна.
– Джереми, я не очень понимаю… – говорит Гейл. Бремен видит, как она пытается пробиться через математическую путаницу его мыслей.
– Черт возьми, малыш, это сработало! Продольное исследование Голдмана с использованием магниторезонансной визуализации показывает, что человеческая мысль может быть описана как фронт стоячей волны. И не только функция памяти, с которой я игрался, а все человеческое сознание. Та часть нас, которая и составляет нашу суть, может быть почти точно выражена в виде голограммы… а если точнее, в виде суперголограммы, содержащей несколько миллионов голограмм меньшего размера.
Гейл подается вперед, ее глаза блестят.
– Кажется, понимаю… Но в таком случае, что такое разум, Джереми? А мозг?
Джереми улыбается, пытается сделать еще глоток, но его губы ловят лишь кубики льда. Он со стуком ставит бокал на стол.
– Думаю, лучший ответ состоит в том, что греки и все помешанные на религии были правы, разделяя эти два понятия. Мозг может рассматриваться как… что-то вроде электрохимического генератора волнового фронта и одновременно интерферометра. А разум… разум… это нечто более прекрасное, чем кусок серого вещества, которое мы называем мозгом. – Бремен снова начинает мыслить формулами: синусоидальные волны пляшут под изящную музыку уравнения Шредингера. Вечные, но изменчивые синусоидальные волны.
Гейл снова хмурится.
– Значит, душа действительно существует… Некая частица нас, способная пережить смерть? – Ее родители, особенно мать, были глубоко верующими людьми, и теперь в ее голосе появляются раздраженные нотки, как всегда, когда речь заходит о религиозных идеях. Гейл ужасает мысль о слащавом маленьком херувиме души, на крыльях летящем к вечному покою.
Теперь очередь Джереми хмурить брови.
– Пережить смерть? Ну, не совсем… – Он сердится оттого, что снова приходится выражать свои мысли словами. – Если работа Голдмана и мой анализ верны и человеческая личность представляет собой сложный волновой фронт вроде последовательности низкоэнергетических голограмм, интерпретирующих реальность, то личность не может пережить смерть мозга. Шаблон будет разрушен – вместе с генератором голограмм. Этот сложный волновой фронт, который и есть мы… Под сложностью, Гейл, я подразумеваю выявленный моим анализом факт, что число вариаций «волна – частица» превышает количество атомов во Вселенной… Этот волновой фронт нуждается в энергии, чтобы не исчезнуть, как и все остальное. Со смертью мозга волновой фронт может рухнуть, словно воздушный шар без горячего воздуха. Рухнуть, расколоться, рассыпаться и исчезнуть.
Гейл мрачно улыбается.
– Милая картинка, – тихо замечает она.
Джереми не слушает. Его взгляд становится отсутствующим – как всегда, когда он захвачен какой-то мыслью.
– Важно не то, что происходит с волновым фронтом после смерти мозга, – продолжает он таким тоном, каким обычно разговаривает со студентами. – Дело в том, как это открытие… Господи, это настоящее открытие… Как оно связано с тем, что ты называешь нашей способностью. С телепатией.
– И как же оно связано, Джереми? – Голос Гейл едва слышен.
– Все достаточно просто, если представить мысль человека в виде череды фронтов стоячих волн, создающих интерференционные картины, которые можно запоминать и передавать в голографических аналогах.
– Ну конечно.
– Нет, это на самом деле просто. Помнишь, мы с тобой делились впечатлениями о своих способностях, когда познакомились? И пришли к выводу, что невозможно объяснить мысленную связь тому, кто ее не испытал. Это как описывать…
– Цвета слепому от рождения человеку, – заканчивает за мужа Гейл.
– Да. Точно. Ты ведь знаешь, что мысленная связь совсем не похожа на то, что описывают во всех этих глупых научно-фантастических романах, которые ты так любишь.
Гейл улыбается. Научная фантастика – ее тайная страсть, отдых от «серьезного чтения», и она уважает этот жанр и обычно ругает Джереми за пренебрежительное к нему отношение.
– Обычно там описывают нечто вроде передачи и приема радио- или телевизионного сигнала. А разум – это своего рода приемник, – говорит она.
Ее муж кивает.
– Но мы знаем, что все не так. Это больше похоже на… – Ему вновь не хватает слов, и он пытается поделиться с женой математическими образами: синусоидальные волны медленно смешиваются, и в пространстве вероятности их амплитуды меняются.
– Вроде дежавю с чужой памятью, – говорит Гейл, отказываясь покидать неуклюжий плот языка.
– Точно. – Джереми хмурится, а потом повторяет: – Точно. Но дело в том, что еще никто не задавался вопросом… до Голдмана и его команды… как человек читает собственные мысли. В неврологических исследованиях ответ на этот вопрос пытаются получить с помощью нейротрансмиттеров или других химических веществ или рассуждают в терминах дендритов и синапсов… как если бы кто-то пытался понять принцип работы радио, разбирая отдельные микросхемы или рассматривая транзисторы, но не пытаясь собрать все воедино.
Гейл идет к холодильнику, возвращается с кувшином в руке и наполняет бокал чаем со льдом.
– А ты собрал радиоприемник?
– Голдман собрал, – улыбается Джереми. – А я включил.
– И как же мы читаем собственные мысли? – тихо спрашивает его жена.
Джереми начинает размахивать руками. Его пальцы трепещут, словно неуловимые волновые фронты, которые он описывает.
– Мозг генерирует эти суперголограммы, которые содержат полный набор пакетов… память, личность и даже волновой фронт для обработки пакетов, чтобы мы могли интерпретировать реальность… Но одновременно с генерацией этих волновых фронтов мозг работает как интерферометр, разбивая волновые фронты на фрагменты, которые нам нужны. «Читает» наш собственный разум.
Гейл в волнении сжимает и разжимает кулаки, сопротивляясь желанию грызть ногти.
– Кажется, понимаю…
Муж хватает ее за руки.
– Конечно, понимаешь. Это многое объясняет, Гейл… почему люди восстанавливаются после инсульта, используя другие области мозга, а также ужасные последствия болезни Альцгеймера и даже почему младенцам нужно много спать, а старикам не нужно. У младенца волновой фронт личности гораздо сильнее нуждается в интерпретации реальности в этом голографическом симуляторе…
Бремен умолкает. Он заметил, как при упоминании о ребенке на лице жены промелькнула легкая тень. И еще крепче сжимает ее руки.
– В любом случае, ты должна видеть, как это объясняет наши способности.
Гейл смотрит ему в глаза.
– Кажется, вижу, Джереми, но…
Он допивает чай со льдом.
– Возможно, мы – генетические мутанты, малыш, как мы и предполагали. Но даже в этом случае наши мозги мутантов делают то же самое, что и мозги всех остальных людей… Разбивают суперголограммы на доступные для понимания схемы. Просто наши мозги способны интерпретировать волновые фронты других людей, а не только свои.
Гейл быстро кивает – она поняла.
– И поэтому мы постоянно слышим чужие мысли… то, что ты называешь нейрошумом… так, Джереми? Мы все время разбиваем на составляющие мысленные волны других людей. Как ты называешь эту штуку, которая обрабатывает голограммы?
– Интерферометр.
– То есть мы родились с неисправными интерферометрами, – улыбается Гейл.
Джереми подносит к губам ее пальцы и целует их.
– Или слишком чувствительными.
Его жена подходит к окну и смотрит на амбар, пытаясь осознать услышанное. Джереми оставляет ее наедине со своими мыслями, поднимая ментальный щит, чтобы не мешать ей. Проходит несколько секунд.
– Есть еще кое-что, малыш.
Она отворачивается от окна, обнимает себя за плечи.
– Причина, по которой у Чака Гилпена оказалось это исследование. Ты помнишь, что Чак сотрудничает с группой фундаментальной физики из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли?
Гейл кивает.
– И что?
– Последние годы они охотились за элементарными частицами все меньшего и меньшего размера, изучали их свойства, чтобы добраться до реальности. Настоящей реальности. А когда преодолели глюоны и кварки, шарм и цвет, когда заглянули в самые основы реальности, знаешь, что они там увидели?
Гейл качает головой и еще крепче обнимает свои плечи. Ответ она видит раньше, чем прозвучат слова.
– Серию вероятностных уравнений, описывающих фронт стоячей волны, – тихо говорит ее муж, чувствуя, как его кожа покрывается мурашками. – Те же самые закорючки и каракули, которые находит Голдман, когда заглядывает в мозг в поисках разума.
– Но что это значит, Джереми? – в ужасе шепчет Гейл.
Бремен отставляет чай с тающими кубиками льда и идет к холодильнику за пивом. Открывает банку и жадно пьет, один раз прервавшись на отрыжку. За спиной Гейл вечерний свет раскрашивает яркими красками вишневые деревья позади амбара. Космос, – мысленно обращается Джереми к жене, – и наш разум. Такие разные… и одинаковые. Вселенная подобна фронту стоячей волны, хрупкому и невероятному, как детские сны.
Подавив отрыжку, он говорит вслух:
– И это меня до смерти пугает, малыш.
Оставь надежду, всяк сюда входящий
На третий день Бремен проснулся и вышел на свет. Позади бунгало был сооружен маленький причал, всего две доски на сваях, и именно здесь Джереми стоял и, моргая, смотрел на восход солнца. На болоте за его спиной слышался птичий гомон, а в реке перед ним к поверхности поднималась рыба.
В первый день он с радостью позволил Верджу провезти его по реке и показать рыбачью хижину. Мысли старика давали отдых истощенному мозгу: мысли без слов, образы без слов, медленные эмоции без слов, ритмичные и успокаивающие, как тарахтенье древнего навесного мотора, который толкал их лодку по медленной реке.
Бунгало оказалось роскошнее, чем Бремен ожидал за сорок два доллара в день. Причал упирался в крыльцо, а в крошечной гостиной с окнами, затянутыми москитной сеткой, стояли пружинный диван и кресло-качалка. Маленькая кухня была оборудована портативным холодильником – здесь есть электричество! – массивной печкой и обещанной плитой, а довершал картину узкий стол с выцветшей клеенкой. В хижине имелась спальня размерами чуть больше встроенной кровати с единственным окном, выходившим на ветхий туалет. Душ и раковина располагались в открытой нише у задней двери. Но одеяла и сложенное стопкой постельное белье были чистыми, три электрические лампочки исправно горели, и Джереми рухнул на диван, испытывая нечто похожее на радость от возвращения домой… Если только можно испытывать радость одновременно с сильнейшей, на грани головокружения, тоской.
Вердж вошел и устроился в кресле. Вспомнив о правилах гостеприимства, Бремен порылся в пакетах с едой, нашел упаковку с пивом, которую положил ему Норм-старший, и протянул старику банку. Тот не стал отказываться, и Джереми наслаждался его бессловесными мыслями, пока они сидели под теплыми лучами вечернего солнца и потягивали такое же теплое пиво.
Бремен не смотрел на часы и не знал, сколько они так просидели. Потом, когда провожатый ушел и стало совсем темно, Джереми пошел на кухню и приготовил себе на ужин сэндвич с беконом, салатом и помидором, который запил еще одной банкой пива, после чего вымыл посуду, принял душ, лег в постель и впервые за четыре дня заснул – и спал без сновидений, в первый раз за многие недели.
Во второй день Бремен встал поздно, все утро ловил рыбу с причала, ничего не поймал – и чувствовал себя таким же умиротворенным, как накануне вечером. После раннего ланча он прогулялся по берегу почти до того места, где река впадала в болото, или наоборот… непонятно… и еще несколько часов просидел с удочкой на берегу. Выпустив всю пойманную рыбу, он увидел змею, лениво плывшую между торчащих из воды кипарисов, и впервые в жизни не испугался ее.
Вечером второго дня ниже по течению реки послышалось тарахтенье лодочного мотора. Вердж причалил и знаками показал Бремену, что хочет отвезти его порыбачить на болоте. Джереми замялся – он не знал, готов ли к встрече с болотом, – но потом протянул старику свою удочку и осторожно спрыгнул на нос лодки.
На болоте было темно, а с веток деревьев свисал испанский мох, и Бремен не столько удил рыбу, сколько смотрел на огромных птиц, лениво паривших над своими гнездами, слушал вечерний концерт тысяч лягушек и наблюдал за двумя аллигаторами, медленно рассекавшими расцвеченную закатом воду. Мысли Верджа пульсировали в одном ритме с мотором и болотом, и Джереми обрел покой, переключившись с хаоса своего сознания на ущербную ясность поврежденного разума старика. Каким-то непонятным образом он определил, что не очень грамотный и не получивший формального образования Вердж в молодости был своего рода поэтом. Теперь, после перенесенного удара, его поэтический дар проявлялся в изящной череде бессловесных воспоминаний, а также в стремлении отказаться от самих воспоминаний в пользу более требовательного ритма настоящего.
Не поймав ничего стоящего, они покинули темное болото – на востоке над кипарисами уже всходила полная луна – и вернулись к бунгало. Легкий ветерок сдувал комаров, и они в дружеском молчании сидели на крыльце, допивая пиво Бремена.
Теперь, на третье утро, Джереми встал и вышел на свежий воздух. Щурясь от лучей утреннего солнца, он раздумывал, не порыбачить ли немного до завтрака. Потом спрыгнул с причала и прошел по берегу метров сто на юг, к травянистой полянке, которую обнаружил вчера после полудня. От реки поднимался туман, в воздухе разносились требовательные крики птиц. Бремен ступал осторожно, опасаясь змей или аллигаторов, которые могли выскочить из камышей у воды. Солнце поднималось над деревьями, и воздух быстро прогревался. В груди мужчины распускалось чувство, очень похожее на счастье.
Большая река двух сердец – неожиданно пришла к нему мысль от Гейл.
Бремен остановился, едва удержавшись на ногах. Он замер, осторожно дыша и закрыв глаза, чтобы сосредоточиться. Это была Гейл и в то же время не Гейл: фантомное эхо, от которого бросало в дрожь, как если б эти слова прошептал настоящий голос. Головокружение усиливалось, и Джереми пришлось сесть на поросший травой холмик, чтобы не упасть. Он опустил голову между коленей и попытался медленно и глубоко дышать. Через какое-то время звон в ушах утих, сердце перестало выскакивать из груди, а приступ дежавю, граничивший с тошнотой, прошел.
Бремен поднял лицо к солнцу, попробовал улыбнуться и поднять удочку.
У него не было удочки. В это утро он взял с собой револьвер.
Джереми сидел на прогретом солнцем берегу и смотрел на оружие. Вороненая сталь при ярком свете казалась почти черной. Он нащупал рычажок, откидывающий барабан, и посмотрел на шесть латунных кружков. Затем защелкнул барабан и поднял револьвер почти к самому лицу. Боек взвелся неожиданно легко и встал на место. Бремен приставил короткий ствол к виску и закрыл глаза, чувствуя на лице теплый луч солнца и прислушиваясь к гудению насекомых.
Он не думал, что пуля, вошедшая в череп, освободит его… перенесет в другой мир. Они с Гейл не верили в жизнь после смерти. Однако он понимал, что пистолет и эта единственная пуля – средство избавления от боли. Палец нащупал спусковой крючок, и Джереми со всей ясностью осознал, что слабое нажатие положит конец бездонной пропасти горя, притаившейся под этой краткой вспышкой радости. Легкое нажатие навсегда остановит нескончаемую агрессию чужих мыслей, которые даже теперь жужжали на периферии его сознания, словно мириады мух, кружащихся над гнилым мясом.
Бремен усилил нажим, чувствуя пальцем идеальную металлическую дугу спускового крючка и, сам того не желая, превратил тактильное ощущение в математический конструкт. Он представил скрытую кинетическую энергию, содержащуюся в порохе, быстрое превращение этой энергии в движение и последующее разрушение такой сложной структуры, как изящный танец синусоидальных колебаний и фронтов стоячих волн в его черепе, которая умрет вместе со смертью мозга, генерирующего эти волны.
Именно мысль об уничтожении этой прекрасной математической конструкции, о безвозвратном разрушении уравнений волнового фронта, которые Джереми считал гораздо более красивыми, чем несовершенная и травмированная человеческая психика, которую они описывали, и заставило его опустить, а затем швырнуть револьвер в реку, за высокий камыш.
Бремен стоял и смотрел на расходящиеся по воде круги. Он не чувствовал ни радости, ни печали, ни удовлетворения, ни облегчения. Вообще ничего не чувствовал.
Чужие мысли Джереми уловил за несколько секунд до того, как повернулся и увидел незнакомца.
Мужчина стоял в старой плоскодонке метрах в десяти от Джереми и, действуя веслом как шестом, выталкивал лодку с отмели в том месте, где река впадала в болото (или наоборот). Его костюм еще меньше подходил для речной прогулки, чем одежда Бремена три дня назад: белая пиджачная пара и черная рубашка с острым воротником, лежащим на широких лацканах, словно крылья ворона. Несколько золотых цепочек спускались на грудь незнакомца, поросшую черными волосами, под цвет атласной рубашки. Мужчина был обут в дорогие туфли из мягкой кожи, ходить в которых можно было разве что по ковру. Из кармана белого пиджака торчал розовый шелковый платок, брюки поддерживал белый ремень с большой золотой пряжкой, а на левом запястье поблескивали часы «Ролекс».
Бремен открыл было рот, собираясь поздороваться, но внезапно увидел все.
Его зовут Ванни Фуччи. Он выехал из Майами в начале четвертого утра. С мертвецом в багажнике, с необычным именем – Чико Тартугян. Ванни Фуччи выбросил тело в трех метрах от места, где теперь находится плоскодонка, среди кипарисов, где болото темное и относительно глубокое.
Джереми растерянно заморгал – в том месте, где Чико Тартугяна, обмотанного пятьюдесятью фунтами стальной цепи, столкнули за борт, на воде еще расходились круги.
– Эй! – крикнул Ванни Фуччи и, едва не перевернув лодку, снял одну руку с весла и сунул ее под белый пиджак.
Бремен попятился и замер. На мгновение ему показалось, что револьвер калибра 38 в руке этого человека – это его оружие, то самое, что подарил ему шурин, которое он только что швырнул в реку. Но в том месте, куда упал револьвер, еще не улеглась рябь, хотя она постепенно стихала, сталкиваясь с течением реки и с небольшими волнами от раскачивавшейся лодки Фуччи.
– Эй! – снова крикнул Ванни и взвел курок. Звук был отчетливо слышан.
Джереми попытался поднять руки, но обнаружил, что ему удалось только поднести их к груди – жестом, означавшим не столько покорность или мольбу, сколько раздумье.
– Что, твою мать, ты тут делаешь?! – крикнул Фуччи, и плоскодонка накренилась так сильно, что револьвер, нацеленный в лицо телепата, теперь смотрел ему под ноги.
Бремен понимал, что если спасаться бегством, то теперь самое время.
– Я спрашиваю, что ты тут делаешь, долбаный придурок! – заорал мужчина в белом костюме и черной рубашке. Его курчавые волосы были такими же черными и блестящими, как эта рубашка. Лицо, покрытое искусственным загаром, побледнело, пухлые, как у купидона, губы, растянулись в подобие оскала. В мочке левого уха Ванни Фуччи Джереми заметил сверкающий бриллиант.
Лишившись на мгновение дара речи, – скорее от непонятного возбуждения, чем от страха, – Бремен покачал головой. Руки он по-прежнему держал перед грудью, так что их пальцы почти соприкасались.
– Что ты видел, придурок? Что ты видел, твою мать? – Второй вопрос Фуччи подкрепил движением револьвера, словно тыкал им в лицо Бремена.
Джереми молчал. Почему-то он был очень спокоен. Он думал о Гейл в те последние дни и ночи, когда она лежала в палате интенсивной терапии в окружении приборов, а из ее тела торчали катетеры, дыхательные трубки и линии внутривенных вливаний. Крики гангстера отогнали образы изящного танца синусоидальных волн.
– Забирайся в долбаную лодку, ублюдок! – прошипел Ванни.
Бремен снова заморгал, искренне не понимая, зачем. Мысли Фуччи представляли собой раскаленный добела поток ругательств, смешанный со страхом, и какое-то время телепат не воспринимал его слова.
– Я сказал, забирайся в долбаную лодку, ублюдок! – рявкнул Ванни Фуччи и выстрелил в воздух.
Джереми вздохнул, опустил руки и осторожно шагнул в лодку. Фуччи жестом приказал ему сесть на носу плоскодонки, а затем стал неуклюже отталкиваться от дна веслом, держа в другой руке револьвер.
В тишине – если не считать криков птиц, потревоженных выстрелом, – они плыли к противоположному берегу.
Глаза
Меня интересует смерть. Для меня это новое понятие. Идея о том, что можно просто перестать быть – самая удивительная из всех, с которыми меня познакомил Джереми.
Я почти не сомневаюсь, что первое осознание смертности человека самим Бременом было жестоким: смерть его матери, когда ему исполнилось всего четыре года. Тогда его телепатические способности проявлялись редко и случайно – просто вторжение чужих мыслей и ночные кошмары, которые, как он потом понял, тоже были чужими, – но в ночь смерти матери эти способности дали о себе знать особым образом.
Ее звали Элизабет Саскинд Бремен, и в ночь смерти ей было двадцать девять лет. Она возвращалась с «девичника», как они в последнее время называли свои встречи. Компания женщин, от шести до десяти человек, начала собираться один раз в месяц много лет назад, когда большинство из них еще были не замужем, и в тот вечер они поехали в Филадельфию, рассчитывая попасть на открытие художественного музея, а потом послушать джаз. Они проявили предусмотрительность и выбрали того, кто не будет пить и развезет всех по домам, хотя в то время такая практика была еще редкой, и Кэрри, давняя подруга Элизабет, не прикасалась к спиртному. Четыре подруги жили недалеко друг от друга, в получасе езды от дома Бременов в округе Бакс, и все они сидели в универсале Кэрри, когда на шоссе Скулхил пьяный водитель выехал на встречную полосу.
Машин было много, и универсал занимал левую полосу – поэтому с того момента, как пьяный водитель пересек разделительную линию в том месте, где ремонтировали дорожное ограждение, до момента столкновения прошло не больше двух секунд. Удар был лобовым. Мать Джереми, ее подруга Кэрри и еще одна женщина по имени Марджи Ширсон погибли на месте. Четвертую пассажирку, новую знакомую Кэрри, которая в тот вечер в первый раз поехала на девичник, выбросило из машины через лобовое стекло, и она выжила, хотя и осталась парализованной. Пьяный водитель – его имя Джереми никогда не вспоминает, хотя в последующие годы не раз видит в документах – отделался легкими травмами.
Джереми просыпается и начинает кричать, так что отец бегом бросается к нему на второй этаж. Двадцать пять минут спустя, когда приезжает полиция, мальчик все еще кричит.
Он помнит все мельчайшие подробности следующих нескольких часов: как их с отцом привезли в больницу, где никто не мог сказать, куда отправили тело Элизабет Бремен, как он стоял рядом, когда Джону Бремену показывали женские трупы в больничном морге, чтобы «идентифицировать» пропавшее «неустановленное лицо», как им сказали, что тело матери не привозили вместе с телами остальных жертв, а отправили в морг соседнего графства. Джереми помнит долгую поездку посреди ночи под дождем, лицо отца в зеркале, освещенное индикаторами приборной панели, и песню по радио – «Апрельскую любовь» в исполнении Пэта Буна, – а потом попытки найти здание морга в одном из районов Филадельфии, похожем на заброшенную промышленную зону.
Маленький Бремен помнит, как смотрит на тело матери. На нем нет простыни, как в фильмах, которые он видел в последующие годы; есть только прозрачный пластиковый мешок, напоминающий занавеску для душа, через который просвечивает изуродованное лицо и изломанное тело Элизабет Саскинд Бремен. Сонный санитар грубым движением расстегивает мешок и откидывает пластик, обнажая грудь мертвой матери Джереми. На коже еще не засохла кровь. Джон Бремен подтягивает пластик выше – таким движением он всегда поправляет одеяло, укладывая сына спать, – и молча кивает, подтверждая идентификацию. Глаза матери приоткрыты, как будто она подсматривает за ними, играя в прятки.
Конечно, в ту ночь отец не взял с собой Джереми. Мальчика оставили у соседей, уложив на диван в гостевой спальне, пропахшей средством для чистки ковров, но, лежа на чистых простынях и глядя широко раскрытыми глазами на медленно ползущие по потолку полосы света от проезжавших машин, шины которых шелестели по мокрому асфальту, он разделял с отцом каждую секунду этого ночного кошмара. Джереми понимает это через двадцать лет, после того как женится на Гейл. На самом деле понимает Гейл – она прерывает его рассказ о печальных событиях того вечера, – и именно Гейл доступны фрагменты памяти Джереми, закрытые для него самого.
Бремен не плакал, когда ему было четыре; он плачет другой ночью, двадцать один год спустя: почти час он плачет на плече Гейл. Это плач по матери и по отцу, уже покойному, который умер от рака, не прощенный сыном. Плач по себе.
Насчет первого телепатического столкновения Гейл со смертью я не уверен. Есть воспоминания, как она в возрасте пяти лет хоронит своего кота Лео, но необычные ощущения в последние часы жизни животного, сбитого машиной, могли быть просто болью из-за отсутствия пушистого, теплого, мурлыкающего существа, а не настоящим контактом с сознанием кота.
Родители Гейл были глубоко верующими христианами, причем становились все фанатичнее по мере того, как их дочь росла, и в семье почти все разговоры о смерти велись в терминах «перехода» в царство Христово. В восемь лет, когда умерла ее бабушка, – сухая, чопорная дама, от которой странно пахло и с которой внучка редко виделась, – Гейл поднимают, чтобы та посмотрела на тело в зале для гражданской панихиды, и отец шепчет ей на ухо: «Это не настоящая бабушка… Бабушка на небесах».
В раннем возрасте, еще до смерти бабушки, Гейл пришла к выводу, что небеса – это горшок с дерьмом. Так говорил ее двоюродный дедушка Бадди: «Вся эта благочестивая болтовня – просто горшок с дерьмом. Все эти небеса, хоры ангелов… горшок с дерьмом. Мы умираем и удобряем землю, как кот Лео на заднем дворе. Единственное, что нам известно о смерти, – мы помогаем расти цветам и траве, а все остальное – горшок с дерьмом». Гейл так и не поняла, почему двоюродный дедушка Бадди называл ее Бини, но предполагает, что это как-то связано с его сестрой, которая умерла, когда они были детьми.
Гейл рано решает, что смерть – это просто. Человек умирает и помогает расти траве и цветам. Все остальное – горшок с дерьмом.
Мать Гейл слышит, как девочка делится своей философией с подругой, – они хоронят умершего хомяка, – после чего отправляет подругу домой, а потом больше часа втолковывает дочери, что написано по этому поводу в Библии, а также что Библия – Божье слово на земле, и глупо думать, что человек просто исчезает. Упрямая Гейл смотрит на мать и слушает, но отказывается повторять. Мать называет двоюродного дедушку Бадди алкоголиком.
И ты тоже, думает девятилетняя Гейл, но не произносит этого вслух. Девочка знает о слабости матери вовсе не благодаря своим способностям – она научится управлять ими через четыре года, когда достигнет половой зрелости. Просто догадалась по спрятанному под полотенцами в ванной консервному ножу, по заплетающемуся языку по вечерам, хотя обычно мать отличалась четкой дикцией, и по голосам, доносящимся с первого этажа во время вечеринок, которые родители устраивают для своих новоявленных друзей.
По иронии судьбы, первым близким человеком, умершим после того, как Гейл осознала свои телепатические способности, был двоюродный дедушка Бадди. Она села на автобус и приехала в Чикаго, в больницу, где он умирал. Говорить старик не мог – ему вставили дыхательную трубку, которая пропускает воздух в изъеденные раком легкие, минуя изъеденное раком горло, – но Гейл сидит с ним шесть часов, когда время для посещений уже давно закончилось, держит его за руку и пытается передать Бадди свои мысли через колышущийся туман боли и наркотиков. Неизвестно, слышит ли он ее безмолвные послания, но сама Гейл ошеломлена пестрой мозаикой его грез и воспоминаний. Все они пронизаны чувством печали и утраты, сосредоточенным на его сестре Бини, которая была для дяди Бадди единственным другом в этом враждебном мире.
Дядя Бадди, – снова и снова мысленно обращается к нему девушка, – если это не горшок с дерьмом… небеса и все такое… отправь мне знак. Отправь мысль. Эксперимент волнует и пугает ее. Она не спит три ночи, жалея, что отправила эту мысль умирающему другу, и каждую ночь втайне надеясь, что к ней придет его призрак. Но и на четвертую ночь после смерти Бадди ничего не происходит – ни его хриплого шепота, ни тепла мыслей, ни ощущения его присутствия «где-то». Только тишина и пустота.
Тишина и пустота. Так Гейл представляет царство смерти всю оставшуюся жизнь, в том числе в те последние недели, когда не может скрыть своих мрачных мыслей от Джереми. Он не пытается разубедить ее, но делится с ней солнечным светом и надеждой, хотя почти не видит света и совсем не чувствует надежды.
Тишина и пустота. Вот что такое смерть в представлении Гейл.
А теперь и Джереми.
Где мертвецы порастеряли кости
Ванни Фуччи вывел Бремена на берег, а потом провел его через редкий лес на обочину дороги, где стоял белый «Кадиллак». Револьвер он опустил, но держал на виду. Открыв дверцу пассажирского сиденья, жестом приказал пленнику садиться в машину – тот не протестовал и ничего не говорил. Сквозь заросли кипарисов виднелся маленький магазин, где Норм-старший пил свою вторую чашку кофе, а Вердж сидел на стуле и курил трубку.
Фуччи проскользнул на водительское сиденье и повернул ключ зажигания. «Кадиллак» взревел и понесся по асфальту, оставив после себя облачко пыли и летящий из-под колес гравий. Дорога была пустой. Лучи восходящего солнца освещали верхушки деревьев и телеграфных столбов. Справа блестела вода. Гангстер пристроил револьвер у левой ноги на сиденье из мягкой кожи.
– Попробуешь вякнуть, – сказал он, – и я отстрелю твою долбаную башку.
Бремену и не хотелось разговаривать. Пока «Кадиллак» неспешно, со скоростью пятьдесят пять миль в час, двигался на восток, он откинулся на спинку сиденья и стал рассматривать меняющийся пейзаж в окне справа. Они покинули болота и лес и выехали на открытую местность, поросшую меч-травой и карликовыми соснами. Среди полей виднелись невзрачные фермерские дома, а у дороги попадались импровизированные прилавки – пустые, без людей и товара. Ванни Фуччи что-то пробормотал и включил радио; он нажимал кнопки до тех пор, пока не нашел станцию с нужной программой рок-н-ролла.
Проблема Джереми заключалась в том, что он ненавидел мелодраму. Просто не верил в нее. Из них двоих только Гейл получала удовольствие от книг, телевизора и фильмов; Бремену же изображаемые ситуации казались неправдоподобными и даже абсурдными, действия и персонажи – ненастоящими, а сама мелодрама – банальной до чрезвычайности. Время от времени он говорил, что жизнь человеческих существ вращается вокруг мелочей – вынести мусор, накрыть на стол, посмотреть телевизор, – а не вокруг автомобильных аварий и угроз оружием. Гейл кивала, улыбалась и в сотый раз повторяла: «Джереми, у тебя воображение, как у дверной ручки».
Воображение у Бремена имелось, только он не любил мелодраму и не верил в построенные на ней выдуманные миры. И поэтому не очень верил в Ванни Фуччи, несмотря на то, что мысли гангстера были достаточно определенными. Беспорядочными и взбудораженными, но определенными.
Очень жаль, подумал Бремен, что мозг людей не похож на компьютер, из которого можно извлекать информацию по своему усмотрению. «Чтение» мыслей напоминает скорее попытку разобрать торопливые каракули на клочках бумаги, разбросанных по бурному морю, чем на вывод строчек информации на терминал. Люди не думают о себе четкими фрагментами памяти, чтобы облегчить задачу телепатам, которые случайно натолкнутся на их мысли, – по крайней мере, те люди, которых встречал Джереми.
В частности, Ванни Фуччи, хотя Бремен без труда узнал его имя. Фуччи думал о себе в третьем лице, в абсолютно эгоцентричной и в то же время необычно отстраненной манере, словно жалкая жизнь гангстера была фильмом, который он только смотрел. Итак, Ванни Фуччи избавился от этого жалкого ублюдка – такой была первая мысль, которую Джереми прочел на острове. От одежды и волос Чико Тартугяна на поверхность все еще поднимались пузырьки воздуха.
Бремен закрыл глаза и сосредоточился. Они двигались на восток, потом на север, а потом снова на восток. Вероятно, он должен следить за направлением, хотя ему этого не хотелось. Он не любил мелодраму.
Мысли Ванни прыгали, как блохи на раскаленной сковородке. Он волновался, хотя вовсе не потому, что избавился от тела Чико, и не из-за того, что ему, возможно, придется пристрелить незнакомца. Просто он, Ванни Фуччи, не хотел убивать сам.
Фуччи был вором. Джереми уловил достаточное количество образов и фрагментов, чтобы понять разницу. За долгую карьеру в преступном мире – Бремен видел отражение Ванни в зеркале, с длинными бакенбардами и в нейлоновом спортивном костюме, какие носили в семидесятых, – Ванни Фуччи никогда не стрелял в человека, если не считать того случая, когда Донни Карплетто, так называемый партнер, пытался надуть его после ограбления ювелира в Глендейле и Фуччи отобрал у сопляка автоматический пистолет калибра.45 и прострелил ему коленную чашечку. Из его же пистолета. Но тогда Ванни разозлился. Это было непрофессионально. А он гордился своим профессионализмом…
Бремен заморгал, с трудом подавив приступ тошноты – от попытки прочесть эти обрывки среди бурного моря мыслей своего похитителя, – и снова закрыл глаза.
Джереми узнал больше, чем хотел, о последних десяти годах жизни гангстера. Он увидел глубокое и страстное желание Фуччи «войти в круг избранных», понял, что это значит для жалкого итальянского мафиозо, и покачал головой, осознав всю грязь и ничтожество его жизни. Подростком Ванни передавал сообщения для Хессо и продавал сигареты из краденых грузовиков Большого Эрни. Первая его работа – винный магазин в южной части Ньюарка – и медленное вхождение в круг крутых, сообразительных, но плохо образованных людей. Бремен уловил удовлетворение Фуччи, что его приняли эти люди, эти глупые, жалкие, жестокие, эгоистичные и заносчивые люди, а еще он узнал, что Ванни Фуччи всегда оставался верен себе. В конечном итоге Джереми увидел, что этот человек был верен только себе. Все остальные – Хессо, Карпецци, Тутти, Шварц, Дон Леони, Сэл и даже Шерил, нынешняя подруга Фуччи, – были разменной монетой. Такой же, по мнению Фуччи, как Чико Тартугян, владелец ночного клуба в Майами и жалкий червяк, которого он видел всего один раз, за ужином в клубе Дона Леони в Бруклине. На юге Ванни оказался по просьбе Дона Леони. Он не любил Майами и не любил самолеты.
Спусковой крючок нажал не Фуччи, а зять Дона Леони, Берт Каппи, двадцатишестилетний сопляк, считавший себя следующей инкарнацией Фрэнка Синатры. Тартугян нанял Каппи в качестве певца, чтобы сделать приятное Дону Леони, и держал парня, несмотря на жалобы клиентов и возражения барменов, хотя и знал, что Каппи – шпион. Чико продолжал присваивать часть поступлений с юга, надеясь, что желание Берта сделать музыкальную карьеру пересилит верность дяде.
Не пересилило. Бремен увидел, как Фуччи ждет в переулке, а Каппи отправляется поговорить с Чико Тартугяном после окончания последнего шоу. Три выстрела из револьвера калибра.22 прозвучали буднично и глухо, не оставив после себя эха. Ванни закурил сигарету, выждал минуту и вошел в дом с занавеской для душа и цепями. Парень поставил Тартугяна на колени в душевой кабине своей личной ванной – в точности выполнив указания Дона Леони. Все следы за тридцать секунд смывались проточной водой.
– Какого хрена ты тут делаешь, а? Какого хрена ты делаешь на этом долбаном болоте в такую долбаную рань? – спросил Фуччи Бремена.
Тот посмотрел на него.
– Рыбачу, – сказал он… или подумал, что сказал.
Ванни с отвращением покачал головой и включил музыку погромче.
– Долбаный лох.
Теперь они были в городе, размерами чуть больше нескольких деревень в Эверглейдс, мимо которых проезжали раньше, и Джереми пришлось закрыть глаза, защищаясь от волны чужих мыслей. Хуже всего были стоянки трейлеров, поселки из домов на колесах и кондоминиумы для пенсионеров. Здесь мысли пожилых людей обжигали израненное сознание Бремена – ему приходилось слушать, как за соседней дверью старик отхаркивает мокроту после сна.
Ни письма, ни телефонного звонка. Шони не позвонит, пока я жива…
Всего лишь маленькая шишечка, сказала Мардж. Сказала месяц назад. Всего лишь маленькая шишечка. А теперь ее нет, умерла. Всего лишь маленькая шишечка, сказала она. С кем я буду играть в маджонг?
Четверг. Сегодня четверг. В четверг в культурном центре играют в пинокль.
Не обязательно слова, а зачастую просто образы, передававшие тревоги, печали и угрюмость старости, немощь и одиночество – все это обрушилось на Бремена, пока «Кадиллак» медленно двигался по широкому шоссе. Четверг, как узнал Джереми, был днем пинокля в большинстве трейлерных стоянок и кондоминиумов этого города, а также следующего, через который они проезжали. Но всем этим людям предстоит пережить долгие дневные часы и липкую флоридскую жару, прежде чем опустится вечерняя прохлада и они окажутся в комфорте и безопасности культурного центра. В тысячах домов на колесах и кондоминиумов мерцали экраны телевизоров и гудели кондиционеры – пенсионеры и инвалиды устраивали поудобнее свои старые кости и ждали, пока спадет дневная жара и они смогут провести еще один день в кругу друзей.
Бремен увидел в мыслях Ванни Фуччи внезапную, ничем не спровоцированную вспышку – вор разозлился на Бога. Ужасно разозлился на Бога.
В тот долбаный день, когда Нико…
Его младший брат, увидел Джереми, с такими же темными волосами и карими глазами, только красивее и мягче.
В тот долбаный день, когда Нико принимает постриг, я забираюсь в эту долбаную церковь Святой Марии и краду эту долбаную чашу для причастия. Ту самую чашу, которую я подавал отцу Доменико, когда был долбаным служкой. Ту же самую долбаную чашу. Никому она не нужна. Никто не хочет прикасаться к этой долбаной штуке. Долбаные психи, так их… Нико принимает свой долбаный постриг, а я брожу по долбаным улицам Атлантик-Сити с этой долбаной чашей в спортивной сумке. Никому не нужна эта долбаная штуковина. Образ плачущего Ванни Фуччи, бросающего чашу в затопленное приливом болото позади череды казино. Руки его протянуты к небу, кулаки сжаты, большие пальцы просунуты между средними и указательными. Фига… fica… Бремен понял. Ванни показывал Богу кукиш – самый неприличный жест, известный в то время юному вору.
Будь ты проклят, Бог. Пропади ты пропадом, грязный старикашка.
Джереми заморгал и тряхнул головой, пытаясь избавиться от нейрошума, идущего со стоянки трейлеров, мимо которой они проезжали. Не похоже, что Ванни Фуччи намерен его убить. Пока. Фуччи не хотел осложнений и уже жалел, что не оставил ошалевшего ублюдка на острове. Или не взял с собой Окурка. Окурок завалил бы этого чокнутого прямо с лодки и даже не оглянулся бы.
Бремен стал придумывать хитрый план. Используя то, что он уже знает, можно завести разговор с Ванни, сказать, что его, Джереми, тоже прислал Дон Леони, которому просто требовалось подтверждение, что дело сделано. Бремен представил, как отвечает на вопросы похитителя. Окурок? Да, конечно, он знает этого психованного ублюдка, коротышку Педро Рикана. Помнит ту ночь, когда Окурок расправился с братьями Арманци, – старшим, с пластиковым протезом вместо ноги, потерянной на Второй мировой, и тощим младшим в его блестящем синтетическом костюме. Ему даже не понадобился пистолет или нож – только свинцовая труба, которую он возил в багажнике. Окурок встретился с братьями Арманци, привез в Бронкс, зашел сзади и расколол им черепа, прямо на глазах той польской бабушки с жирными белым лицом, черным шарфом и пластиковым пакетом, из которого на мокрый тротуар посыпались долбаные апельсины…
Бремен покачал головой. Нет, он этого не сделает.
Они миновали цепочку озер, и теперь их окружали ранчо, где за пасущимися стадами шагали белые цапли, выискивая насекомых, потревоженных коровьими копытами. Внезапно Ванни Фуччи остановился у придорожной телефонной будки, поднял пистолет на уровень глаз пленника и тихо сказал:
– Только попробуй выйти из машины – клянусь Богом, пристрелю на месте. Понял?
Джереми кивнул.
Разговор он не слышал, но без труда читал мысли гангстера. Люди обычно сосредотачиваются на речи, когда говорят по телефону.
Послушай, я не собираюсь приканчивать этого жалкого ублюдка прямо здесь. Это не мое дело, черт возьми…
Да, я знаю, что он меня видел, но это не мое долбаное дело. Это проблема Каппи и Леони, и я не собираюсь из-за какого-то долбаного рыбака…
Да… нет… нет, он не проблема. Просто какой-то чокнутый. Думаю, дебил или что-то вроде того. На нем долбаные штаны, слишком короткие, долбаная рубашка-сафари и долбаные модельные туфли, как будто один дебил одевал другого.
Бремен заморгал и посмотрел на свою одежду. Рабочие брюки и рубашка защитного цвета, купленные три дня назад в магазинчике Норма-старшего. Брюки действительно были короткими, а модельные туфли покрылись слоем пыли и грязи. Джереми похлопал себя по карманам, но рулон купюр – основная часть из 3865 долларов, которые он снял со сберегательного счета – остался в кармане пиджака, брошенного на стул в крошечной спальне рыбацкой хижины. Потом Бремен вспомнил, что переложил несколько двадцаток и, возможно, одну или две пятидесятки в бумажник, когда покупал продукты, но не стал проверять, сколько там денег. Он чувствовал выпуклость бумажника под ягодицей, и пока этого было достаточно.
Да, я приеду на эту долбаную встречу вовремя, но привезу дебила с собой. Пусть… Эй, не перебивай меня, твою мать!.. Пусть Сэл знает, что этот ублюдок – их забота. Понял?.. Нет, погоди. Я спрашиваю, ты меня понял? Ладно, ладно. Тогда увидимся через час или два. Да.
Ванни Фуччи со стуком опустил трубку на рычаг и пошел вдоль края шоссе, пиная гравий и стискивая кулаки. Его белый костюм запылился. Потом Фуччи повернулся и посмотрел на Бремена через лобовое стекло. Его черная шелковая рубашка и набриолиненные волосы блестели под лучами солнца.
Прикончи его сейчас. Прямо сейчас. Ни долбаных машин. Ни долбаных домов. Просто прикончи его здесь – и дело с концом.
Джереми скосил взгляд на замок зажигания, хотя и так знал, что гангстер взял ключи с собой. Можно выкатиться из машины и побежать в поле, надеясь, что он оторвется от Фуччи, а дальность стрельбы из револьвера… Надеясь, что на дороге появится машина и Ванни прекратит погоню. Бандит курил, а Бремен – нет… Пленник взялся за ручку дверцы и приготовился.
Черт, черт, черт! Ванни Фуччи принял решение. Он подошел к дверце водителя, сел, сжал пальцами рукоятку заткнутого за пояс револьвера и в упор посмотрел на Джереми.
– Сделаешь какую-нибудь глупость, скажешь кому-нибудь, куда мы едем, – и клянусь, я пристрелю тебя прямо на глазах у всех. Понял?
Бремен молча смотрел на него. Ладонь сползла с ручки двери.
Ванни повернул ключ зажигания, и «Кадиллак», взвизгнув шинами, выехал на дорогу. Проезжавший грузовик громко просигналил. Бандит левой рукой показал водителю неприличный жест.
Они проехали десять миль на север по шоссе 27, а затем поднялись по эстакаде на автомагистраль 4, направляясь на северо-восток.
В мешанине мыслей Фуччи Джереми выловил пункт назначения – и не смог сдержать улыбки.
Глаза
Вместо свадебного путешествия Джереми и Гейл отправляются в поход – на байдарке и пешком.
Никто из них раньше не ходил в туристические походы и не плавал на байдарке. Но на первый вариант – Мауи – у них нет денег. И на второй – Париж – тоже. Не хватает даже на восьмой вариант – мотель в Бостоне. Поэтому в ясный августовский день, через несколько часов после свадебного обеда в саду их любимой деревенской таверны, Джереми и Гейл прощаются с друзьями и едут на северо-запад, к горам Адирондак.
Туристические лагеря есть и поближе: по пути к горам Адирондак они проезжают Блу-Маунтинс с несколькими национальными парками и заповедными лесами, но Джереми недавно прочел статью об Адирондакских горах и хочет туда.
У их «Фольксвагена» барахлит мотор… всегда барахлил… и после ремонта машины в Бингемтоне, штат Нью-Йорк, они уже потратили лишние восемьдесят пять долларов и отстают от графика на четыре часа. Ту ночь пара провела в национальном парке на озере Гилберт, между Бингемтоном и Ютикой.
Идет дождь. Лагерь маленький и тесный – свободным осталось одно-единственное место рядом с туалетом. Джереми ставит под дождем двадцатичетырехдолларовую нейлоновую палатку и идет к грилю, чтобы посмотреть, как Гейл справляется с ужином. Она использует свое пончо вместо брезента, защищая от дождя те несколько веток, которые им удалось собрать, но «костер» все равно состоит из горящей газеты и дымящего сырого дерева.
– Нужно было поесть в Онеонте, – говорит Бремен, щурясь от дыма. Еще нет восьми, но дневной свет уже растворился в серых облаках. Похоже, дождь нисколько не мешает комарам, которые с жужжанием залетают под пончо. Джереми пытается раздуть огонь, Гейл отмахивается от комаров.
Молодожены ужинают чуть теплыми хот-догами в мокрой булке, стоя на коленях в палатке, признать поражение и укрыться в относительной роскоши салона автомобиля они отказываются.
– Я все равно не голодна, – лжет Гейл. Бремен видит, что она лжет, а она видит, что он это видит.
Он также видит, что она хочет заняться любовью.
В девять вечера они уже забираются в два соединенных спальных мешка, хотя дождь к этому времени прекратился и туристы по обе стороны от их палатки высыпают из своих домов на колесах, включают радио-приемники на полную громкость и принимаются готовить поздний ужин. Запах жарящегося на углях стейка доходит до Бременов, увлеченных ласками, и они смеются: каждый из них чувствует, что партнер отвлекается.
Джереми прижимается щекой к животу Гейл и шепчет:
– Думаешь, они с нами поделятся, если сказать им, что мы новобрачные?
Голодные новобрачные. Гейл ерошит его волосы.
Джереми целует нежную округлость ее живота. Ну, ладно… легкое чувство голода еще никому не повредило.
Гейл хихикает, а потом умолкает и делает глубокий вдох. Дождь возобновляется, слабо, но настойчиво барабанит по нейлону палатки, отгоняя насекомых, шум и запах еды. Какое-то время во всей Вселенной нет ничего, кроме тела Гейл, тела Джереми… а потом их общего тела, не принадлежащего никому.
Они и раньше занимались любовью… в ту первую ночь после вечеринки Чака Гилпена… но это все так же странно и чудесно, и в тот вечер, в палатке под дождем, Джереми по-настоящему перестает быть собой, и Гейл перестает быть собой, и их мысли соединяются и смешиваются так же, как и тела. Потом, после вечности растворения друг в друге, Джереми чувствует нарастающий оргазм Гейл и переживает его, как свой, а Гейл взлетает на вздымающейся волне его кульминации, такой непохожей на ее собственную, но тоже разделяемой ею. Они вместе достигают вершины, и на мгновение Гейл кажется, что она со всех сторон окружена телом своего любимого. Он постепенно расслабляется, а она удерживает его руками и ногами.
Наконец они откатываются друг от друга на примятых спальных мешках. Воздух в палатке влажный от их дыхания и пота. Снаружи уже совсем темно. Гейл расстегивает клапан, и они высовываются из палатки под мелкую морось, чувствуя капли дождя на лице и груди, вдыхая прохладный воздух и ловя ртом небесную влагу.
Теперь Бремены не читают мысли друг друга, не проникают друг другу в сознание – они просто стали друг другом, мгновенно разделяя каждую мысль и каждое ощущение. Хотя нет, это описание не совсем точное: отдельных его и ее просто не существует, и осознание себя приходит к ним постепенно, подобно тому, как медленно отступает утренний прилив, оставляя после себя артефакты на мокром берегу.
Охладившись и освежившись под дождем, они снова ныряют в палатку, вытирают друг друга пушистыми полотенцами и устраиваются в спальниках между слоями гусиного пуха. Гейл кладет голову на плечо Джереми, а его ладонь удобно ложится на ее поясницу, словно это место всегда было предназначено для его рук.
Они идеально дополняют друг друга.
На следующий день Джереми и Гейл завтракают в Ютике и снова едут на север, в горы. В Олд-Фордж они арендуют байдарку и исследуют цепочку озер, о которой читал Джереми. Озера застроены гораздо сильнее, чем он предполагал, и от домов на берегу доносится шипение и потрескивание нейрошума, но молодожены находят безлюдные острова и песчаные косы для трех ночевок, перемещаясь между озерами на веслах и волоком. Правда, на пятый день двухдневный ливень и переправа волоком длиной в две с половиной мили прогоняют их с Лонг-Лейк.
Гейл и Джереми находят таксофон и возвращаются в Олд-Фордж с бородатым молодым человеком из фирмы проката байдарок. Потом усаживаются в свой фыркающий «Фольксваген» и углубляются в горы, сделав семидесятимильный крюк к озеру Сарама и деревне в Кин-Вэлли. Здесь Джереми покупает путеводитель с пешеходным маршрутом, они впервые надевают рюкзаки и через лес идут к месту под названием Биг-Слайд.
Путеводитель сообщает, что продолжительность маршрута составляет всего 3,85 мили по тропе средней сложности под названием «Братья», но слово «средний» тут явно не подходит, поскольку тропа ведет их прямо на скалы, мимо водопадов, через гребни и небольшие вершины. Вскоре Джереми понимает, что «3,85 мили» – это напрямую, если измерять с самолета. Кроме того, он признает, что рюкзаки получились слишком тяжелые. Гейл предлагает выбросить мешок с древесным углем и вторую упаковку пива, но ее муж избавляется от нескольких пакетов смеси сухофруктов и орехов, настаивая на необходимости сохранить все, что нужно для цивилизованного путешествия.
На отметке 2,2 мили они проходят мимо красивой березовой рощи и взбираются на «Третьего брата», низкую вершину, едва возвышающуюся над безбрежным морем листвы. Отсюда им виден конечный пункт – гора Биг-Слайд – и Бремены улыбаются друг другу, хватая ртом воздух.
– Нам туда? – с трудом выговаривает Гейл.
Джереми кивает – дыхание у него еще не восстановилось.
– Может, просто сфотографируем и скажем, что были там? – предлагает она.
Он качает головой и со стоном надевает рюкзак. Примерно полмили пара спускается в седловину. Тропа петляет, иногда возвращаясь назад, но чаще просто спускается по скалам или крутым склонам. Прямо под вершиной Биг-Слайд последний участок тропы заканчивается, и последние три десятых мили, похоже, ведут прямо вверх.
Бремен понимает, что добрался до вершины, лишь когда обнаруживает, что не видит перед собой скал – только воздух. Он ложится на спину, прямо на рюкзак, раскинув руки и ноги. Гейл предусмотрительно снимает рюкзак, прежде чем упасть ему на живот.
Они лежат так минут пятнадцать, показывая друг другу необычные облака и парящих в небе ястребов, пока дыхание не восстанавливается и они вновь не обретают способность говорить, хотя бы шепотом. Почувствовав легкий бриз, Гейл садится, и Джереми видит, как ветер ерошит ее короткие волосы, и думает: Я этого никогда не забуду. Гейл улыбается в ответ, видя свое отражение в его мыслях.
Бремены ставят палатку у южного края площадки среди искривленных от ветра деревьев под нависающим козырьком, но подстилки из пенопласта и спальные мешки кладут на краю обрыва. Костер из древесного угля они разводят в естественном углублении в скале неподалеку от линии деревьев – решетка гриля прекрасно подходит по размеру. Гейл извлекает из маленького переносного холодильника стейки, Джереми достает две банки холодного пива и открывает их. Его жена уже положила на угли завернутые в фольгу кукурузные початки, и теперь Бремен наблюдает, как она накрывает на стол: выкладывает на две тарелки свежий редис, салат и картофельные чипсы, а потом вытаскивает из рюкзака двойной пакет, завернутый в полотенца, и осторожно достает из него два бокала и бутылку «Каберне совиньон» с виноградников Болье-Вайнъярдс. Вино она ставит охлаждаться к остальным банкам пива.
Они ужинают, когда летний день уже клонится к вечеру, – сидя на самом краю площадки и свесив ноги в пропасть. Над их головами бегут облака, и западная часть неба сияет розовыми и лиловыми красками. Уступ, на котором они сидят, тянется вдоль южного склона горы, и молодые супруги наблюдают, как сумерки постепенно превращаются в ночь. Стейков много, и они едят медленно, часто наполняя бокалы. Гейл захватила с собой два больших куска шоколадного торта – десерт.
Когда они убирают решетку для гриля и бросают бумажные тарелки в пакеты для мусора, поднимается ночной ветер. Джереми не хочет разводить костер и скидывает потухшие угли в расщелину в скале, стараясь оставить как можно меньше следов своего пребывания здесь. Надев куртки с шерстяной подкладкой, Бремены чистят зубы и удаляются в туалет, устроенный среди деревьев у северного края площадки, но когда на небе появляются звезды, они уже лежат в спальных мешках у южного склона.
Все правильно. Поначалу они не могут понять, кому первому пришла в голову эта мысль. На юг, насколько хватает взгляд, тянутся лес, горы и темнеющее небо. Ни огни автострад, ни светящиеся окна домов не тревожат лиловые сумерки долины – видны лишь несколько костров, разведенных туристами. Проходит еще несколько минут, и небо становится светлее, чем долина, – небесный купол над головами заполняется звездами. Без городских огней звезды кажутся очень яркими.
Два спальных мешка соединены, но свободного места внутри все равно мало. Стянув с себя одежду, Джереми и Гейл складывают ее аккуратными стопочками и подсовывают под ноги спальных мешков, чтобы усиливающийся ночной ветер не унес белье, а потом ныряют в спальники с головой и обнимаются – гладкие тела и теплое дыхание, – оставляя холодный ветер снаружи. Сегодня их любовь медленная и очень нежная, и они доводят друг друга до экстаза, которого никогда прежде не испытывали.
Всегда. – Джереми понимает, что теперь это мысль Гейл.
Всегда, – то ли шепчет, то ли просто думает он в ответ.
Согревшиеся и защищенные от ветра, они глубже зарываются в спальники, а звезды над их головой вспыхивают ярче, словно транслируя одобрение Вселенной.
В сумрачном царстве
Они оставили машину в ряду с надписью GRUMPY и сели в длинный прицепной вагончик, доставивший их к воротам парка. Ванни Фуччи снял свой белый пиджак и перебросил его через руку, спрятав под ним револьвер калибра.38.
– Только попробуй рыпнуться, – тихо сказал он Бремену, пока они ждали вагончик, – и я пристрелю тебя прямо на месте. Клянусь долбаным Христом, пристрелю.
Джереми посмотрел на вора, чувствуя, как решимость борется в нем с раздражением.
Ванни принял его взгляд за недоверие.
– Не веришь, что я прикончу тебя прямо здесь, на этой долбаной парковке, и буду в долбаной Джорджии еще до того, как кто-то поймет, что тебя пристрелили?
– Я тебе верю, – сказал Бремен, чувствуя возбуждение бандита. В убийстве на людях, особенно здесь, для Ванни Фуччи было что-то притягательное, хотя он предпочел бы поручить это чокнутому Берту Капи или своему приятелю, такому же чокнутому Эрни Санза. Неважно, кто это сделает, – он сам, Берт или Эрни, – но это будет чертовски круто… прикончить этого парня прямо здесь.
Приехал вагончик, и Джереми с Фуччи сели в него. Ствол револьвера, закрытый пиджаком, упирался в бок пленника. Во время короткого путешествия к воротам парка Бремен смог выудить из сознания похитителя подробности его плана.
Встречу, на которую они ехали, назначили по другой причине. Собственно, это была встреча между главным человеком Дона Леони на данной территории, Сэлом Эмполи – Берт и Эни выступали в качестве поддержки, – и какими-то чокнутыми долбаными колумбийцами… Именно так Ванни Фуччи каждый раз думал о них: чокнутыми долбаными колумбийцами… Портфель с деньгами Дона Леони должны были обменять на портфель с первоклассной дурью этих чокнутых долбаных колумбийцев, чтобы распространять среди ниггеров на севере, на территории Фуччи. Уже несколько лет они производили обмен в парке «Мир Уолта Диснея».
Сэл займется этим долбаным придурком. Не волноваться, не дергаться и не суетиться.
– Плати за себя сам, – прошептал Ванни, купив билет и ткнув Бремена под ребра.
Джереми порылся в карманах. Три дня назад он сунул в них несколько пятидесяток. Шесть штук, если быть точным. Он протянул одну купюру в окошко, объяснил, что ему нужен только входной билет на день, и подождал сдачи, которой оказалось меньше, чем он ожидал.
Вор вел его сквозь толпу, одной рукой держа под локоть, а другую пряча под пиджаком. С точки зрения Бремена, они выглядели очень подозрительно, но никто не обращал на них внимания.
Пленник почти не отреагировал, когда Ванни Фуччи привел его к монорельсовой дороге, тянувшейся мимо лагун к далекому скоплению зданий и лесу из шпилей, среди которых высилась, как минимум, одна искусственная гора. Вагончик монорельса остановился, и гангстер, подняв Бремена на ноги, вытолкнул его наружу, после чего они стали пробираться сквозь толпу, которая становилась все многолюднее. Нейрошум вокруг Джереми сначала усилился от шепота до крика, а затем превратился в непрерывный рев. Причем это был особенный, странный рев, отличавшийся от обычного нейрошума, как звук Ниагарского водопада отличается от звука водопада поменьше. Особенностью его была всеобщая и какая-то лихорадочная тоска, такая же всепроникающая и сильная, как запах разлагающейся плоти.
Бремен покачнулся, прижал ладони к вискам и закрыл уши в тщетной попытке блокировать волны безмолвного звука, безмолвной речи. Ванни Фуччи подтолкнул его дальше.
Я представлял это совсем не так… Стоило ждать тридцать пять лет… Совсем не то, на что я надеялся…
Столько еще нужно посмотреть! Столько мест посетить! Не хватает времени! Всегда не хватает времени! Поторопитесь… Поторопи их, Сара. Быстрее!
Ну, это для детей. Для малышей. Но проклятые дети половину времени истерят, а вторую половину впадают в оцепенение, как чертовы зомби… Скорее! Поторопись, Том, а то мы окажемся в хвосте очереди…
Бремен закрыл глаза и позволил Ванни Фуччи вести его сквозь толпу, а чужое разочарование волнами накатывало на него, словно морской прибой. Ему казалось, что все накопившееся в парке нетерпение… желание веселиться, веселиться, черт возьми!.. обрушилось на него, как тяжелые волны на узком пляже.
– Открой глаза, ублюдок, – прошептал Фуччи на ухо Джереми, еще сильнее вдавив ствол револьвера ему в бок.
Бремен открыл глаза, но все равно ничего не видел – такой сильной была боль от нейрошума… настойчивого, лихорадочного, идущего отовсюду, раздраженного (Поторопись, а то мы окажемся в конце очереди!) желания получить удовольствия любой ценой. Джереми хватал воздух открытым ртом и изо всех сил боролся с тошнотой.
Похититель подгонял его. Сэл, Берт и Эрни должны были уже встретиться с чокнутыми долбаными колумбийцами, а от Ванни требовалось доставить придурка к «Космической горе». Вот только Фуччи не был на сто процентов уверен, что знает, где находится эта «Космическая гора» – обмен обычно происходил на аттракционе «Путешествие по джунглям», и в прошлые визиты сюда он направлялся прямо в «Страну приключений». Брал у Сэла портфель и шел к монорельсу. Фуччи не знал, почему Сэл сменил долбаное место встречи на долбаную «Космическую гору», но знал, что она находится в долбаной «Стране будущего».
Ванни попытался сориентироваться. Ладно, мы на долбаной главной аллее, рядом с детством нашего дорогого мертвого Уолта. Точно… это просто предмет детских мечтаний. Долбаный предмет мечтаний. Ни одна главная улица города никогда не выглядела так, как это долбаное место. Там, где я вырос, на главной улице были долбаные фабрики, долбаные франшизы и долбаные «Меркурии» 57-го года на долбаных чурбаках, потому что их долбаные шины прокалывали долбаные ниггеры…
Ладно, мы теперь на долбаной главной аллее. Этот долбаный замок на севере. Долбаный указатель говорит, что долбаная «Страна будущего» где-то позади замка. Как попасть из «Страны мечты» в долбаную «Страну будущего»? Могли бы нарисовать долбаную схему или еще что-нибудь!
Фуччи обошел большой замок из стекловолокна, заметил справа космический корабль и какое-то футуристическое дерьмо, и подтолкнул Бремена в том направлении. Минут через пять они с придурком доберутся до Сэла и парней.
Джереми остановился. Они были в «Стране будущего», в тени немного старомодного сооружения, в котором находились американские горки «Космическая гора». Бремен замер.
– Шевелись, сукин сын! – прошипел бандит и вдавил ему в ребра револьвер.
Пленник заморгал, но не сдвинулся с места. Он не собирался бросать вызов Ванни Фуччи – просто больше не мог сосредоточиться на нем. Неудержимый натиск нейрошума ошеломил его, и он перестал быть собой, словно растворился в лавине чужих мыслей.
– Шевелись! – Голос Ванни достиг ушей Бремена, после чего послышался тихий щелчок взводимого курка. Последней отчетливой мыслью Джереми было: Мне не суждено умереть здесь. Дорога ведет вниз.
Бремен отошел от гангстера. Теперь он смотрел на себя глазами женщины средних лет.
Вор чертыхнулся и снова прикрыл револьвер пиджаком.
Бремен продолжал пятиться.
– Я, блин, не шучу! – крикнул Фуччи и, похоже, поднял обе руки под пиджаком.
Семья из Хаббарда, штат Огайо, остановилась и с удивлением смотрела на странную процессию – Джереми медленно пятится, а маленький человечек следует за ним с поднятыми на уровень груди руками, причем выпуклость под пиджаком смотрит прямо в грудь Бремену, – и тот тоже разглядывал себя их любопытными глазами. Младшая дочь откусила кусочек сахарной ваты и не моргая уставилась на двух мужчин. Белые сахарные нити прилипли к ее щеке.
Джереми по-прежнему пятился.
Ванни Фуччи хотел броситься за ним, но путь ему преградили три смеющиеся монахини, проходившие мимо. Увидев, что Бремен идет по лужайке к стене здания, вор побежал. Ствол револьвера выглядывал у него из-под пиджака. Не хватало еще из-за этого долбаного придурка испортить отличный пиджак!
Джереми видел свои многочисленные отражения, словно стоял среди кривых зеркал в комнате смеха. Томас Гир, девятнадцати лет, увидел пистолет и остановился в удивлении – его ладонь выскользнула из заднего кармана джинсов Терри.
Миссис Фрида Хакстейн и ее внук Бенджамин столкнулись с Томасом Гиром, и воздушный шарик Бенни в форме Микки Мауса улетел в небо. Ребенок заплакал.
Их глазами Бремен смотрел на себя, прислонившегося к стене. Смотрел, как Ванни Фуччи поднимает пистолет. Сам Джереми ничего не думал, ничего не чувствовал.
Глазами маленького Бенни он увидел надпись на двери за своей спиной: «ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ», а ниже «РАБОТНИКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ КАРТОЙ ДОСТУПА». В металлической коробке на стене имелась прорезь, вероятно для карт доступа, но дверь была приоткрыта – в щели между ней и косяком торчала палочка.
Миссис Хакстейн шагнула вперед и принялась отчитывать Томаса Гира за то, что они потеряли воздушный шарик Бенджамина. И на секунду заслонила Бремена от Ванни Фуччи.
Джереми проскользнул внутрь, ногой выбил палочку и закрыл за собой дверь. Тусклая лампочка освещала бетонную лестницу, ведущую вниз. Бремен спустился на двадцать пять ступенек, повернул направо, а затем сделал еще десяток шагов вниз. От лестницы отходил длинный коридор. Издалека доносились какие-то механические звуки.
Морлоки[5], – подумала Гейл.
Беглец задохнулся, как от удара в живот, присел на третью ступеньку и стал тереть глаза. Не Гейл. Нет. Он читал о фантомных болях в ампутированной руке или ноге. Но это было хуже. Гораздо хуже. Джереми заставил себя встать и пошел по коридору, пытаясь притвориться своим. Нейрошум ослаб, и Бремен почувствовал себя еще более пустым, чем прежде.
Коридор, разветвляясь, шел мимо других лестниц. Стрелки под загадочными надписями на стенах указывали на «АУДИОЖИВЛАБ 6-10», «ТРАНСМУСДИСП 44–66» или «КОМНОТДЫХПЕРС 2–5». Джереми показалась, что последняя надпись выглядит безопаснее, и он свернул в тот коридор. Внезапно из другого прохода послышался звук, похожий на стрекот гигантского насекомого, и Бремен поспешил вернуться назад, шагов на десять, и подняться по пустой лестнице, пропуская электромобиль для гольфа. Ни человек, ни полуразобранный робот, сидевшие в этой тележке, даже не посмотрели в его сторону.
Он снова спустился в коридор и медленно двинулся дальше, прислушиваясь, не едет ли еще один электромобиль. Внезапно из-за следующего поворота послышался смех. Бремен сделал еще пять шагов и повернул, надеясь увидеть очередную лестницу, но там оказался другой коридор, только гораздо более узкий.
Джереми зашагал дальше, сунув руки в карманы и борясь с желанием насвистывать. Смех и голоса за его спиной стали громче, как будто кто-то свернул в коридор, который он только что покинул. Куда направляются люди и в чем он ошибся, Бремен понял одновременно.
Коридор заканчивался двумя широкими дверьми, над которыми висело объявление: «НЕ ЗАБУДЬТЕ СНЯТЬ ГОЛОВУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВХОДИТЬ». На самих дверях виднелась сделанная по трафарету надпись «КОМНАТА ОТДЫХА 3 ДЛЯ ПЕРСОНАЖЕЙ», а под ней значок «Не курить». Из-за дверей тоже доносились голоса. У Джереми было три секунды до того, как люди позади него повернут в этот коридор.
На глухой серой двери слева было написано одно слово: «МУЖСКОЙ». Бремен вошел в нее, и в ту же секунду в длинном коридоре появились трое мужчин и женщина.
Туалет был пуст, но высокая фигура у дальней стены заставила Джереми вздрогнуть. Он заморгал и понял, что на крючке рядом с раковинами висит костюм Гуффи высотой не меньше шести с половиной футов.
Голоса в коридоре стали громче, Бремен проскользнул в кабинку и со вздохом облегчения запер дверь на задвижку. Здесь никто не потребует от него бейджика с фамилией. Послышался звук открывающейся двери, и голоса переместились в комнату отдыха для сотрудников парка, изображавших диснеевских персонажей.
Джереми закрыл лицо ладонями и попытался сосредоточиться.
Что я делаю, черт возьми? – Его мысли были едва слышны за непрерывным ревом нейрошума от тысяч ищущих развлечений душ над его головой.
Бегу, – ответил он себе. – Прячусь.
Зачем?
Шипение нейрошума усилилось.
Зачем? Почему бы просто не сообщить властям о случившемся? Не привести полицию на озеро? Не рассказать им о Ванни Фуччи?
Давай, давай, давай… развлекайся, черт бы тебя побрал… Эти три дня обошлись мне в целое состояние…
Бремен сжал ладонями виски.
Ага. Расскажи властям. Пусть копы узнают твое имя и выяснят, что ты – тот парень, который сжег свой дом и исчез… а потом просто случайно оказался в том месте, где гангстер выбрасывает труп. И скажите на милость, сэр, откуда вам известны имена и гангстера, и мертвеца?
Почему я сжег дом?
Нет, потом. Подумай об этом потом.
Никаких копов. Никаких объяснений. Если ты думаешь, что тут ад, попробуй провести ночь или две в «обезьяннике». Представь, что творится в мозгах твоих соседей, лежащих на двухъярусных койках… Мечтаешь о парочке таких ночей, старина Джереми?
Беглец открыл кабинку, подошел к писсуару у стены и попробовал помочиться, но у него ничего не вышло. Тогда он застегнул брюки и склонился над раковиной. Холодная вода помогла. Увидев в зеркале свое бледное, изможденное лицо, Бремен вздрогнул.
К черту копов. К черту Ванни Фуччи и его парней. Просто уходи отсюда. Уходи.
Из коридора опять послышались голоса. Джереми резко повернулся – дверь в женский туалет в другом конце коридора со стуком открылась, но в мужской никто не зашел. Пока.
Беглец смахнул воду со щек. Проблема не в том, понял он, чтобы незаметно выбраться из этого лабиринта, – ему нужно выбраться из самого парка. Должно быть, Ванни Фуччи уже встретился с другими гангстерами – Сэлом, Бертом и Эрни, вспомнил Бремен – и они сторожат выходы.
Джереми нашел бумажное полотенце и вытер лицо. А потом вдруг вздрогнул и опустил руки. Из зеркала на него смотрели два лица, и одно из них улыбалось.
* * *
Электромобиль догнал Бремена в одном из коридоров. Крупный мужчина за рулем спросил:
– Подвезти?
Джереми кивнул и сел. Электромобиль, тихо урча, двинулся дальше, по синей полосе на бетонном полу. Дорогу им пересекали другие машины – они двигались по желтой полосе. В одной из них сидели три охранника.
Водитель тележки, в которой ехал Бремен, передвинул незажженную сигару в другой уголок рта.
– Эй, здесь носить голову не обязательно.
Его пассажир кивнул и пожал плечам.
– Дело твое, – усмехнулся служащий. – Тебе потеть. Внутрь или наружу?
Бремен указал вверх.
– Какой выход?
– Замок. – Джереми надеялся, что его голос звучит достаточно глухо.
– Замок? – нахмурился водитель. – Ты имеешь в виду внешний двор В-четыре? Или сторону А?
– В-четыре, – ответил Бремен, борясь с желанием почесать голову через плотную ткань.
– Ладно, едем туда, – сказал сидящий за рулем тележки мужчина и свернул в другой коридор. Через минуту электромобиль остановился у лестницы с надписью на указателе «ВНЕШНИЙ ДВОР В-4».
Джереми выскользнул из машины и благодарно отсалютовал водителю. Тот кивнул и снова передвинул сигару во рту.
– Не позволяй маленьким ублюдкам тыкать в тебя булавками, как в Джонсона, – посоветовал он, и электромобиль исчез за поворотом.
Бремен стал подниматься по лестнице, настолько быстро, насколько позволяли ограниченная видимость и огромные ботинки. Он уже почти добрался до выхода и теперь брел по фальшивой главной улице, когда вокруг него стали собираться дети.
Поначалу он игнорировал их и не останавливался, но их крики, а также страх, что на него обратят внимание взрослые, заставили его присесть на скамью. Он позволил малышне окружить себя.
– Эй, Гуффи, привет! – кричали они, прижимаясь к нему.
Бремен вел себя так, как, по его мнению, должны вести себя персонажи мультфильмов. Кривлялся, не вступая при этом в разговоры, подносил трехпалую руку в толстой перчатке к носу-картошке, имитируя смущение. Дети были в восторге. Они придвинулись ближе, пытаясь сесть ему на колени, обнять его.
Бремен обнимал малышей, играя роль Гуффи. Родители фотографировали их компанию и снимали на видео. Джереми послал им воздушный поцелуй, обнял еще нескольких ребятишек, а затем встал и принялся переставлять свои несоразмерно большие мультяшные ноги, направляясь к выходу.
Дети с родителями ушли, смеясь и оживленно жестикулируя. Бремен повернулся и увидел еще одну группу детей – совсем других. Их было не меньше десятка. Самому маленькому лет шесть, старшему не больше пятнадцати. Почти ни у кого не было волос, и большинство надели кепки и головные платки, а одна девочка – Мелоди – дорогой парик. Лица такие же бледные, как у отражения Джереми в зеркале туалета. Глаза широко раскрыты. Некоторые улыбались. Другие пытались улыбаться.
– Эй, Гуффи! – сказал Терри, девятилетний мальчик с последней стадией рака костей. Он был в инвалидной коляске.
– Привет, Гуффи! – крикнула Сестина, шестилетняя чернокожая девочка из Бетесды. Она была очень красива – огромные глаза и острые скулы подчеркивали ее хрупкость, а волосы – свои – заплетены в многочисленные косички с синими, зелеными и розовыми ленточками. У нее был СПИД.
– Скажи что-нибудь, Гуффи! – прошептал Лоуренс, тринадцатилетний мальчик с опухолью мозга. Четыре операции. На две больше, чем у Гейл. Лоуренс, недавно лежавший в темной послеоперационной палате и слушавший голос доктора Грейнемейра, который в коридоре объяснял его маме, что прогноз неблагоприятный и осталось самое большее три месяца. Это было семь недель назад.
Семилетняя Мелоди ничего не сказала – она просто шагнула вперед и крепко обняла Бремена, так что ее парик съехал набок. Бремен-Гуффи тоже обнял ее.
Дети разом бросились к нему, словно все отрепетировали заранее. Даже Гуффи не мог бы обнять всех сразу, заключить в кольцо своих рук, – но ему это удалось. Мультгерой обнял их и послал сигнал радости, надежды и любви каждому – точными телепатическими импульсами, похожими на луч лазера, такими же, какие он посылал Гейл, когда боль и наркотики затрудняли контакт с ней. Джереми точно знал, что дети не могут его слышать, не могут принимать его сообщения, но все равно посылал их, одновременно обнимая руками и шепча на ухо ласковые слова – не глупости мультяшного персонажа, а кое-что тайное и личное, хотя он и говорил голосом Гуффи, насколько у него это получалось.
– Всё в порядке, Мелоди. Мама знает об ошибке, когда ты играла на пианино. Она не переживает. Она тебя любит.
– Лоуренс, перестань волноваться из-за денег. Деньги – ерунда. Страховка – ерунда. Главное – ты.
– Сестина, котенок, они правда хотят быть с тобой. Тоби просто боится обнять тебя, потому что думает, что ты его не любишь. Он стесняется.
Родители, медсестры, спонсоры поездки… женщина из Грин-Бэй, работавшая в этом парке десять лет… Все стояли в сторонке, пока продолжались эти странные объятия и перешептывания.
Минут через десять Гуффи в последний раз погладил детей по щекам, бодро помахал им рукой, дошел до конца главной улицы и сел в вагончик монорельсовой дороги. Позже Бремен сошел у информационного центра, миновал билетные кассы, отсалютовал Сэлу Эмпони, Берту Каппи и побагровевшему Ванни Фуччи, которые внимательно разглядывали толпу, неспешно дошел до парковки и сел в автобус до отеля «Хайятт Ридженси». Пожилые туристы радостно приветствовали Гуффи и хлопали его по спине.
Берт Каппи повернулся к Фуччи:
– Думаешь, он выйдет здесь?
Взгляд Ванни не отрывался от потока людей, направлявшихся к автобусам.
– Заткнись, придурок, и смотри внимательнее.
За их спинами автобус до отеля «Хайятт» с шипением тронулся с места.
В лиловый час
На автобусный билет до Денвера Бремен потратил чуть больше половины оставшихся денег. Купив билет, он улегся спать в парке напротив отеля «Хайятт», где избавился от костюма Гуффи. Рейс отправлялся из Орландо в 11:15 вечера. Джереми подождал до последней минуты, потом вошел на автовокзал через служебный вход и направился прямо к автобусу, опустив голову и подняв воротник. Никого похожего на гангстеров он не заметил, и, что самое главное, среди потока нейрошума от случайных прохожих не было шока узнавания.
К часу ночи они уже преодолели полпути до Гейнсвилла, и Бремен начал успокаиваться. Он смотрел в окно на запертые магазины и ртутные светильники на улицах Окалы и еще десятка маленьких городов. Ночью нейрошум был не таким сильным. Долгие годы Бремен и Гейл считали, что действие так называемых циркадных ритмов на человека – это, по большей части, зачаточная телепатия, когда люди чувствуют, что все вокруг спят. И этой ночью Джереми с трудом заставлял себя не спать, хотя нервы его были напряжены до предела и вибрировали эхом мыслей двух десятков человек, не спавших в автобусе. Вклад в общий шум вносили и сны остальных пассажиров, хотя их сновидения представляли собой более глубокий, личный слой сознания, не всегда доступный.
И Бремен был благодарен им за это.
Когда после Гейнсвилла автобус свернул на шоссе 75 и поехал на север, Джереми принялся обдумывать ситуацию, в которой оказался.
Почему он не вернулся в рыбацкую хижину? Место, служившее ему домом последние три дня, казалось единственным надежным убежищем в мире. Почему же он не вернулся… хотя бы за деньгами?
Отчасти потому, что понимал: Ванни Фуччи, или Сэл Эмпори, или кто-то из их подручных следит за хижиной. И Бремен не хотел, чтобы из-за него у Норма-старшего или у старого Верджа возникли проблемы с гангстерами.
Он вспомнил об арендованной машине, оставленной у магазина. К этому времени Вердж и Норм уже обнаружили, что он пропал. И нашли деньги в хижине. Их хватит, чтобы расплатиться с фирмой проката. Позвонил ли Норм-старший в полицию, сообщил ли о его исчезновении? Вряд ли. А если позвонил? Бремен не называл своего имени, не показывал водительское удостоверение. Норм с уважением отнесся к его частной жизни и мало что мог рассказать полиции – только описать внешность.
Но имелась и практическая причина не возвращаться – Джереми просто не знал дороги. Ему было известно лишь, что рыбацкая хижина расположена где-то на берегу озера или болота, ближе к Майами, чем к Орландо.
Бремен подумал, не позвонить ли Норму-старшему из Денвера и не попросить ли его переслать деньги на адрес какого-нибудь почтового ящика, но вспомнил, что не видел фамилии на вывеске маленького магазина, а сам Норм не упоминал ее, когда Джереми подслушивал его мысли. Убежища в виде рыбацкой хижины у него больше не было.
От Орландо до Таллахасси было чуть больше ста пятидесяти миль, но только в шестом часу утра автобус проехал по залитым дождем улицам города и с шипением остановился. «Отдых», – объявил водитель и поспешно выскочил из кабины. Бремен откинулся на спинку сиденья и дремал, пока остальные выходили, а затем снова заходили в автобус. Он уже очень хорошо знал своих попутчиков, и их возвращение грохотало в его мозгу подобно громким голосам в металлической трубе. Автобус тронулся в 5:42 и стал неспешно возвращаться к шоссе 10, а Джереми стиснул ладонями виски и попробовал сосредоточиться на собственных мыслях.
В двух рядах позади него сидели молодой морпех Берк Стименс и молодой сержант из женского вспомогательного корпуса ВВС по имени Элис Джин Дерниц. До посадки в автобус в Орландо они не были знакомы, но теперь их связывало нечто большее, чем дружба. Последние семь часов оба не сомкнули глаз, и каждый рассказал о своей жизни больше, чем когда-либо рассказывал партнерам, прошлым и нынешним. Берк только что отбыл четырнадцать месяцев на гауптвахте за нападение с ножом на сержанта. Увольнению из морской пехоты с лишением прав и привилегий он предпочел лишние четыре месяца в тюрьме и теперь возвращался домой в Форт-Уэрт к жене, Деборе Энн, и двум маленьким детям. Он не рассказал Элис о Деборе Энн.
Сержант Дерниц через два месяца должна была с почетом уволиться из рядов ВВС и основную часть этого времени проводила в отпуске. Она два раза была замужем, причем второй раз – за братом бывшего мужа. С первым братом, Уорреном Биллом, Элис развелась, а второго, Уильяма Эрла, потеряла четыре месяца назад: он погиб, когда его «Мустанг» на скорости восемьдесят пять миль в час вылетел с дороги в горах Теннесси. Элис Джин не слишком переживала из-за этого. К тому времени они с братом номер два почти год жили раздельно. Она не рассказала Берку ни о Уоррене Билле, ни о покойном Уильяме Эрле.
Берк и Элис постепенно сближались, начиная с Гейнсвилла, и неподалеку от Лейк-Сити, на пересечении шоссе I-75 и I-10, перешли от казарменных историй к действию. Когда они проезжали Лейк-Сити, Дерниц сделала вид, что дремлет, и склонила голову на плечо Стименса, а тот обнял ее за плечи, и его ладонь «случайно» оказалась на ее левой груди.
В пригороде Таллахасси оба уже тяжело дышали. Ладонь Берка забралась под блузку девушки, а ее рука расположилась у него на бедре под курткой, которой он накрыл их обоих, как пледом. Элис Джин расстегнула молнию на его брюках, но тут водитель объявил остановку.
Бремен решил, что лучше посидеть на крошечной автобусной остановке, чем страдать от следующей стадии их медленных и мучительных ласк, но на его счастье морпех что-то прошептал на ухо Элис, и они вышли из автобуса. Берк неловко держал перед собой куртку. Они хотели попытать удачи в подсобке или… если ничего не выйдет… в женском туалете.
Джереми пытался вздремнуть, последовав примеру спящих в автобусе пассажиров, но смятение Стименса и Дерниц – все происходило в женском туалете – не давало ему покоя даже издалека. Их любовь была такой же банальной и недолговечной, как и верность нынешним и бывшим партнерам.
До Пенсаколы автобус добрался почти в десять. Все пассажиры в салоне уже проснулись, а шум на шоссе стал громче. На западе, куда они направлялись, нависали грозовые облака, но на востоке солнце яркими красками расцвечивало поля по обе стороны дороги, а впереди автобуса бежала его тень. Нейрошум был гораздо громче, чем шелест шин по асфальту.
По другую сторону прохода в трех рядах впереди Бремена сидела пара из Миссури. Насколько он смог понять, их звали Донни и Донна. Мужчина был сильно пьян, а его спутница глубоко беременна. Обоим было чуть за двадцать, но судя по тому, что сумел разглядеть Бремен – и по восприятию Донни, – Донна выглядела, как минимум, на пятьдесят. Они не были женаты, но Донна считала их четырехлетние отношения гражданским браком. В отличие от Донни.
Эта пара уже семнадцать дней колесила по стране, пытаясь найти лучшее место для рождения ребенка и при этом получить государственное пособие. Из Сент-Луиса они, последовав совету приятеля из Миссури, отправились на восток, в город Коламбус в штате Огайо, но обнаружили, что власти там ничуть не щедрее, чем в Сент-Луисе, после чего началась бесконечная череда путешествий на автобусе – за билеты они платили украденной кредитной картой мужа сестры Донны. Из Коламбуса парочка отправилась в Питтсбург, из Питтсбурга в Вашингтон… где их шокировало, как плохо столица относится к достойным жителям страны… а потом из Вашингтона в Хантсвилл, потому что они прочитали в журнале «Нэйшнл энквайр» о том, что Хантсвилл – один из самых дружелюбных городов страны.
Хантсвилл был ужасен. Больницы отказывались даже госпитализировать Донну – только в случае опасности для жизни или при подтверждении кредитоспособности. В Хантсвилле Донни начал сильно пить: он буквально выволок свою подружку из больницы, потрясая кулаком и осыпая проклятиями врачей, администраторов, медсестер и даже пациентов, удивленно смотревших на него со своих инвалидных кресел.
Путешествие в Орландо далось тяжело – лимит кредитной карты подходил к концу, а Донна утверждала, что у нее начались схватки, но Донни никогда не был в «Мире Уолта Диснея» и решил, что раз уж они оказались рядом, то какого черта?
Кредитная карта Дики, зятя Донны, позволила им попасть в «Волшебную страну», и из пьяных мыслей Донни Бремен понял, что парочка была в парке именно в то время, когда он убегал от Ванни Фуччи. Мир тесен. Джереми изо всех сил прижался щекой и виском к стеклу, пытаясь отогнать чужие мысли, воздвигнуть барьер между этими новыми волнами нейрошума и своим израненным сознанием.
Не помогло.
«Волшебная страна» не произвела на Донни особого впечатления, хотя он всю жизнь мечтал сюда попасть – чертова Донна, которая вечно все портит, отказывалась идти с ним в самые крутые места. Она лишила его удовольствия – стояла там, внизу, как беременная двумя телятами корова, и махала рукой, когда он садился на «Космическую гору», «Гору брызг» и другие экстремальные аттракционы. Донна оправдывалась тем, что через час после прихода в парк у нее отошли воды, но ее парень не сомневался, что она просто хочет позлить его.
Донна настояла, чтобы вечером они поехали в Орландо, утверждая, что начались настоящие схватки, но Донни оставил ее в кресле перед телевизором на автобусной станции, а сам принялся обзванивать больницы. По части оплаты они были еще хуже, чем в Хантсвилле, Атланте или Сент-Луисе.
Последние деньги с кредитной карты Дики были потрачены на билеты от Орландо до Оклахома-Сити. Беззубый старый пердун, сидевший около телефонных будок на автобусной станции, слышал сердитые вопросы Донни по телефону и – после того как молодой человек в последний раз с грохотом повесил трубку – посоветовал ему ехать в Оклахома-Сити. «Лучшее, черт возьми, место в этой Богом проклятой стране, чтобы появиться на свет, – прошамкал старый пердун, обнажив голые десны. – Там рожали две моих сестры и одна из моих жен. Больницы в Оклахома-Сити не заморачиваются, а просто вешают все на “Медикэр”».
Поэтому Донни с подружкой поехали в Хьюстон, взяв стыковочные билеты до Форт-Уэрт, а оттуда до Оклахома-Сити. Донна все время всхлипывала, повторяя, что схватки стали совсем частыми, с интервалом в несколько минут, но с увеличением количества выпитой браги у ее спутника крепло убеждение, что она лжет, чтобы испортить ему поездку.
Девушка не лгала.
Бремен чувствовал ее боль, как свою. Он следил за схватками по своим наручным часам: интервал между ними с семи минут в Таллахасси уменьшился до двух минут, когда они пересекли границу штата Алабама. Донна плакала и в темноте тянула Донни за рукав, но он отталкивал ее. Парень был занят разговором с мужчиной, сидевшим через проход, Мередитом Соломеном, беззубым старым пердуном, который посоветовал ехать в Оклахома-Сити. До Гейнсвилла Донни делился с ним брагой, а потом Мередит время от времени протягивал ему свою флягу с напитком покрепче.
Перед самым туннелем, ведущим в Мобиль, Донна заговорила – достаточно громко, так что ее слышал весь автобус:
– Черт бы тебя побрал, Донни Экли, если ты собираешься позволить мне родить чертова ребенка прямо в этом чертовом автобусе, по крайней мере, дай мне глоток того, что ты пьешь с этим беззубым старым пердуном!
Донни шикнул на нее, понимая, что водитель высадит их из автобуса, если услышит, что они пьют, а потом извинился перед Соломеном и дал ей сделать большой глоток из фляжки. Удивительно, но схватки у девушки стали реже, с интервалами как до Таллахасси. Донна заснула: теперь ее затуманенное сознание словно качалось на волнах схваток, которые захлестывали ее следующие несколько часов.
Донни продолжал извиняться перед Мередитом Соломеном, но старик снова обнажил в улыбке свои беззубые десны, сунул руку в грязную, засаленную сумку и вытащил еще одну бутылку самогонки.
Эти двое по очереди пили обжигающий напиток и обсуждали, какая смерть хуже.
Мередит считал, что хуже всего – завал или взрыв газа в шахте. Если только не убьет тебя сразу. Лежать там и ждать, в холоде, сырости и темноте, в миле от поверхности земли, когда фонарь на каске тускнеет, а воздух становится затхлым… наверное, это худшая смерть. Он-то знает, сказал Соломен, потому что сам работал в глубоких шахтах Западной Вирджинии, и мальчиком, и мужчиной, задолго до рождения Донни. Отец Мередита погиб в шахте, как и его брат Такер и зять Филлип П. Эджент. Старик допускал, что по отношению к отцу и брату Такеру это ужасно несправедливо, но ни один обвал не принес столько пользы человечеству, сколько тот, что в 1972 году забрал жизнь грубияна, пошляка и сквернослова Филлипа П. Что же касается самого шестидесятивосьмилетнего Мередита Соломена, то он пережил три обвала и два взрыва, но его всегда откапывали. И каждый раз он клялся, что ноги его больше не будет в шахте… что никто не заставит его снова спуститься под землю. Ни жены… у него их было четыре, одна за другой… Ну, ты понимаешь, даже молодые не выдерживают долго в болотах Западной Вирджинии, со всей этой пневмонией, родами и прочим… Ни жены, ни родственники… настоящие родственники, а не ублюдки свойственники вроде Филлипа П…. ни собственные дети, и взрослые, и еще босоногие, не уговорят его снова спуститься под землю.
Но в конечном счете он всегда возвращался, уговаривал себя снова спуститься в шахту. И продолжал спускаться, пока компания досрочно не отправила его на пенсию в возрасте пятидесяти девяти лет – просто потому, что его легкие были заполнены угольной пылью. Но черт возьми, объяснял старик Донни Экли, пока они передавали друг другу бутылку, все знают, что у тех, кто работает в шахте, легкие похожи на черные мешки для пылесосов, которые не меняли годами.
Донни не соглашался с ним. Он считал, что смерть в пещере от завала или взрыва газа – совсем не самая худшая. Парень стал перечислять ужасные смерти, о которых знал. Например, как тот байкер, Джек Коу, которого они называли Боровом и который работал на дорожный департамент, слетел со своей газонокосилки прямо на лезвия. Джек прожил в больнице еще три месяца, пока его не доконала пневмония, хотя Донни не стал бы называть это жизнью – паралич, слюни и торчащие из тела трубки.
А еще была первая подружка Донни, Фара, которая отправилась в бар, в район, где жили ниггеры, и которую изнасиловала шайка черных козлов, причем в конце они не ограничились своими членами – в ход пошли кулаки, ручки от метел, бутылки из-под кока-колы и даже острый конец монтировки, как рассказывала сестра Фары… и…
– Только не говори мне, что она умерла от изнасилования, – сказал Мередит Соломен, наклонившись в проход и забирая у Донни бутылку. Он говорил тихо, и язык у него заплетался, но Бремен отчетливо слышал его, словно находился в эхо-камере… Сначала медленное, пьяное выстраивание слов в мозгу бывшего шахтера, потом сами медленные, пьяные слова.
– Конечно, она умерла не оттого, что ее изнасиловали. – Эта мысль показалась Донни смешной, и он захихикал. – Фара застрелилась из обреза Джека Коу пару месяцев спустя… Она тогда жила с Боровом… и поэтому Джек нанялся на работу к парням, обслуживающим шоссе. Обоим всю жизнь не везло.
– Ну, обрез – не самый худший способ уйти, – прошептал Соломен, после чего вытер горлышко бутылки, глотнул и вытер рот – немного самогонки пролилось ему на подбородок. – Монтировка и все остальное не считаются, потому что это ее не убило. И все то дерьмо, о котором ты толкуешь, не идет ни в какое сравнение с тем, когда ты лежишь там, под землей, в миле от поверхности, и у тебя кончается воздух. Как будто тебя похоронили заживо. И это продолжается не один день.
Его собеседник хотел возразить, но Донна всхлипнула и дернула его за руку:
– Донни, милый, схватки опять стали чаще!
Парень протянул ей бутылку и подождал, пока она сделает большой глоток, а затем отобрал у нее выпивку и наклонился в проход, чтобы продолжить разговор. Бремен заметил, что интервалы между схватками сократились до одной минуты.
Выяснилось, что цель у Мередита Соломена не слишком отличается от цели Донни и Донны. Старик пытался найти в стране приличное место для смерти: такое, где власти достойно похоронят его косточки за счет средств графства. Он пытался вернуться домой, в Западную Вирджинию, но большинство его родственников умерли, уехали или не желали его видеть. К последней категории относились и дети – все одиннадцать, если считать двух незаконнорожденных от Бонни Мейбон. Поэтому Мередит искал гостеприимный штат и графство, где такой старый хрыч, как он, с легкими, похожими на два мешка с черной пылью, может бесплатно провести несколько недель или месяцев в больнице, а… когда придет время… к его костям проявят уважение, положенное косточкам белого христианина.
Донни пустился в рассуждения о том, что происходит с душой после смерти… Он верил в реинкарнацию, о которой узнал от зятя Донны, того, с кредитной картой… Яростный шепот двух пьяных мужчин перешел в яростный крик, когда Мередит принялся доказывать, что рай – это рай, и в нем нет места для ниггеров, животных и насекомых.
Впереди, через четыре ряда от двух спорящих пассажиров, сидел тихий, неприметный человек по имени Кушват Сингх, который читал книгу в мягкой обложке, освещаемую тусклой лампой индивидуального освещения. Слова книги скользили по поверхности его сознания: он думал о резне в Золотом храме несколько лет назад – индийские правительственные войска убили жену Сингха, его двадцатитрехлетнего сына и трех его лучших друзей. Власти заявили, что сикхские экстремисты планировали свергнуть правительство. Власти были правы. Теперь Кушват, уставший после двадцатичасового путешествия и предшествовавших ему нескольких бессонных ночей, повторял в уме список того, что он собирался купить в одном магазинчике рядом с аэропортом Хьюстона: пластиковая взрывчатка семтекс, осколочные гранаты, японские электронные таймеры и… если повезет… несколько переносных зенитно-ракетных комплексов, наподобие «Стингера». Достаточно, чтобы сровнять с землей полицейский участок, скосить толпу политиков, как острый серп косит пшеницу… Достаточно, чтобы рухнул на землю нагруженный под завязку «Боинг-747»…
Бремен прижал к ушам кулаки, но по мере того, как вдоль шоссе зажигались ртутные фонари, нейрошум становился громче. Когда они пересекли границу с Техасом, у Донны начались роды, и в последний раз Джереми видел их с Донни вскоре поле полуночи, на автобусной станции Бомонта: девушка лежала на скамье, корчась от боли, а ее дружок стоял рядом, широко расставив ноги и размахивая зажатой в кулаке бутылкой из-под самогонки Мередита. Бремен заглянул в мысли Донни, проложив телепатический луч сквозь фоновый шум, но тут же погасил этот луч. В сознании Донни Экли не было ничего, кроме обрывков его пьяного спора с Соломеном. Ни плана. Ни предположения, что он будет делать с женой и ребенком, который должен был вот-вот родиться. Ничего.
Джереми почувствовал панику и боль самого ребенка, как будто он… она… делала последнее усилие, чтобы появиться на свет. Сознание младенца прорезало серый туман нейрошума на автобусной станции, словно луч прожектора прорезает жидкий туман.
Во время остановки Бремен снова не вышел из автобуса – он слишком устал, чтобы бежать из этого котла с образами и эмоциями, бурлившими вокруг него. По крайней мере, Берк и Элис Джин, сексуально озабоченный морской пехотинец, только что покинувший гауптвахту, и такая же сексуально озабоченная сержант вспомогательной службы ВВС покинули салон в поисках убежища в окрестностях автобусной станции. Джереми пожелал им удачи.
В полночь они выехали из Бомонта. Мередит Соломен храпел, и его беззубые десны поблескивали в свете натриевых ламп. Старику снились шахты, крики людей среди холодного и влажного воздуха, а также чистая, белая, безболезненная смерть. Когда автобус миновал центр города и выехал на развязку шоссе, родовые схватки Донны угасли в мозгу Бремена. Кушват Сингх дотронулся до пояса с деньгами, где ждали превращения в месть сто тридцать тысяч долларов, собранные сикхами.
Сиденье рядом с Джереми было свободным. Он поднял подлокотник и свернулся в позе эмбриона, подтянув ноги на сиденье и прижав кулаки к вискам. В эту секунду он жалел, что выбросил подаренный зятем револьвер 38-го калибра, жалел, что Ванни Фуччи не смог доставить его к Сэлу, Берту и Эрни.
Бремен мечтал о смерти – без какой-либо мелодрамы, самокопания или сожалений. Тишина. Покой. Абсолютная неподвижность.
Но теперь он был заперт в живом теле и в измученном сознании. Оглушительный рев чужих мыслей не стихал, хотя автобус теперь двигался на юго-запад по дамбам над болотами и сосновым лесом, шелестя шинами по мокрому асфальту, – ночью дождь разыгрался не на шутку. Джереми постепенно открыл свое сознание для снов других пассажиров – этой маленькой вселенной спящего человечества, в автобусе, мчащемся сквозь ночь, – и их сны вспыхивали, как кадры из старого фильма, проецируемые на стену, на которую никто не смотрит. Замкнутое пространство салона кувыркалось, словно рассыпавшийся космический челнок «Челленджер» в полуночном свободном падении на Хьюстон, Денвер и глухие темные районы, которые Бремену по какой-то причине – он это чувствовал – было суждено увидеть.
Глаза
Из всех новых понятий, с которыми я познакомился благодаря Бремену, самые интригующие – любовь и математика.
По всей видимости, эти два множества должны иметь общие элементы, но, честно говоря, сравнения и подобия ничего не значат для того, кто не был знаком ни с тем, ни с другим. И чистая математика, и чистая любовь полностью зависят от наблюдателя – можно даже сказать, генерируются наблюдателем, и хотя в памяти Джереми я вижу утверждение нескольких математиков – например, Курта Геделя, – что математические сущности существуют независимо от человеческого разума, подобно тому, как звезды не погаснут, если исчезнут все наблюдающие за ними астрономы, я все равно предпочитаю отвергнуть платонизм Геделя в пользу формализма Джереми. То есть числа и их математические взаимоотношения представляют собой просто набор придуманных человеком абстракций и правил манипуляции с этими символами. Похоже, любовь – тоже набор абстракций и взаимоотношений этих абстракций, несмотря на частое взаимодействие с реальным миром. (2 яблока + 2 яблока действительно = 4 яблокам, но для того, чтобы уравнение было верным, яблоки не нужны. Точно так же сложный набор уравнений, определяющий течение любви, по всей видимости, зависит либо от источника, либо от объекта этой любви. Фактически я отверг платоническую идею любви в ее изначальном смысле – и предпочел формалистский подход к проблеме.)
Числа стали для меня удивительным откровением. В прошлом существовании, до Джереми, я знал, что такое вещь, но даже представить себе не мог, что вещь – или несколько вещей – имеют призрачное эхо числовых величин, привязанных к ним, как тень Питера Пэна. Например, если на обед мне позволено три стакана апельсинового сока, то для меня это просто сок… сок… сок… без намека на количество. Мой разум не считал соки – как и мой желудок. Точно так же я не имел представления о тени любви, прикрепленной к физическому объекту и в то же время отдельной от него. Я считал, что какими-либо свойствами обладает единственная вещь во Вселенной – мой плюшевый мишка, и моя реакция на эту единственную вещь проявлялась в форме удовольствия/страдания, с преобладанием удовольствия, так что я «скучал» по медвежонку, когда он потерялся. Понятия любви в этом уравнении просто не было.
Миры математики и любви, так часто пересекавшиеся у Джереми, прежде чем он пришел ко мне, поразили меня, словно молнии, осветив новые просторы моего мира.
От простого одиночного соответствия и счета к простым уравнениям, таким как 2 + 2 = 4, и не менее простому (для Джереми) уравнению Шредингера, которое для него было отправной точкой для анализа неврологических исследований Голдмана:
Все это открылось мне одновременно. Математика обрушилась на меня ударом грома, как Глас Божий в библейской истории о Савле из Тарса, сброшенном с лошади. Но, наверное, еще важнее тот факт, что я могу использовать знания Джереми, чтобы научиться вещам, которые сам он не осознает. Таким образом, базовые знания Бремена о логических вычислениях нейронных сетей, слишком простые для него, чтобы он их помнил, позволяют мне понять, как «обучаются» нейроны:
Возможно, речь не о моих нейронах, если учесть довольно пугающую теорию Джереми о голографических функциях обучения в человеческом сознании, а о нейронах… скажем… лабораторной крысы: некой простой формы жизни, которая реагирует почти исключительно на удовольствие и боль, вознаграждение и наказание.
То есть меня. По крайней мере, того меня, кем я был до Бремена.
Гейл безразлична математика. Нет, это не совсем точно, понимаю я теперь, потому что Гейл совсем не безразличен Джереми, а основная часть жизни и личности Джереми и самые глубокие его размышления связаны с математикой. Гейл любит эту особенность мужа, любит его любовь к математике, но сам по себе мир чисел не обладает для нее внутренней привлекательностью. Восприятие Гейл вселенной лучше всего выражается через язык и музыку, танец и фотографию, а еще – через ее вдумчивую и зачастую великодушную оценку других человеческих существ.
Оценка других людей Джереми – когда он вообще тратит на это время – зачастую не столь великодушна, а нередко просто пренебрежительна. Мысли других людей в целом навевают на него скуку… но не из-за врожденного высокомерия или эгоизма, а как следствие того простого факта, что большинство людей думают о скучных вещах. Когда ментальный щит – их с Гейл общий ментальный щит – мог отгородить его от беспорядочного нейрошума, он отгораживался. В этом действии было не больше оценочного суждения, чем в действии человека, погруженного в глубокие и плодотворные размышления, когда он встает и закрывает окно, приглушая звуки улицы.
Однажды Гейл поделилась своими размышлениями об отстраненности Джереми от обычных мыслей. Летним вечером он работает в своем кабинете. Гейл сидит на диване у окна и читает биографию Бобби Кеннеди[6]. Вечерний свет проникает в комнату через белые хлопковые занавески и яркими полосами ложится на диван и паркетный пол.
Джереми, я хочу, чтобы ты кое на что взглянул.
??? – Легкое раздражение, что его отвлекли от цепочки символов, которые он пишет мелом на доске. Джереми прерывает свое занятие.
Друг Бобби Кеннеди, Роберт Макнамара, говорил, что в нашем мире люди делятся на три группы…
Люди делятся на две группы, – перебивает Бремен жену. – Тех, кто думает, что люди делятся на группы, и достаточно умных, которые понимают, что это не так.
Помолчи минутку. – Мелькают изображения страниц и левой руки Гейл, которая ищет нужное место в книге. Ветерок, проникающий в гостиную через сетку на двери, приносит запах свежескошенной травы. В густом вечернем свете кожа пальцев Гейл кажется смуглой, в волосах у нее поблескивает простая золотистая лента. – Вот оно… нет, не читай! – Она захлопывает книгу.
Джереми читает предложения в ее памяти, пока она формулирует фразу.
Джереми, перестань! – Гейл старается сосредоточиться на воспоминаниях о том, как прошлым летом ей чистили зубные каналы.
Ее муж слегка отступает, позволяет восприятию слегка размыться, что играет роль ментального щита между ними, и ждет, пока она закончит формулировать мысль.
Макнамара был завсегдатаем тех вечерних «семинаров» в Хикори-Хилл… Ты же знаешь этот дом Бобби? Семинары проводил Бобби. Нечто вроде неформальных обсуждений… мужская компания… только Кеннеди приглашал туда лучших специалистов в той области, которая обсуждалась.
Джереми оглядывается на уравнение на доске, держа в уме следующее преобразование.
Это не займет много времени, Джереми, – продолжает Гейл. – В общем, Роберт Макнамара сказал, что делит всех людей на три группы…
Ее супруг морщится: Есть всего две группы, малыш. Те, кто…
Заткнись, умник. На чем я остановилась? Ах да, Макнамара говорил, что люди делятся на три группы: одни говорят в основном о вещах, другие – о людях, третьи – об идеях.
Бремен кивает и посылает Гейл изображение зевающего гиппопотама. Глубокая мысль, малыш, очень глубокая. А как насчет тех, которые говорят о людях, говорящих о вещах? Это особая подгруппа, или мы можем создать целую новую…
Заткнись. Макнамара хотел сказать, что Роберт Кеннеди не тратил время на людей из первых двух групп. Его интересовали только люди, которые говорили… и думали… об идеях. Важных идеях.
Пауза. И что?
Это же ты, дурачок!
Джереми стучит мелом по доске, записывая преобразование, пока оно не вылетело у него из головы.
Неправда.
Правда. Ты…
Основную часть рабочего времени трачу на обучение студентов, которым с младенческого возраста в голову не приходило ни одной идеи. Что и требовалось доказать.
Нет… – Гейл снова открывает книгу и постукивает длинными пальцами по странице. – Ты учишь их. Приводишь в мир идей.
В конце занятий у тебя с трудом получается выпроводить их в коридор.
Джереми, ты знаешь, что я имею в виду. Твоя отстраненность от мира… от людей… это нечто большее, чем стеснительность. Дело не только в твоей работе. Просто людей, которые основную часть времени размышляют над вещами, менее возвышенными, чем теорема неполноты Кантора, ты считаешь скучными… незначительными… Тебе хочется, чтобы все было космологическим, эпистемологическим и тавтологическим – а не прахом повседневности.
Геделя, – поправляет жену Джереми.
Что?
Геделя. Теорема неполноты Геделя. У Кантора континуум-гипотеза. – Бремен пишет на доске трасфинитные кардинальные числа и хмурится, рассматривая результат, потом стирает их и записывает на мысленную доску и начинает описывать защиту Геделя континуум-гипотезы Кантора.
Нет, нет, – прерывает его Гейл. – Суть в том, что ты немного похож на Бобби Кеннеди… нетерпеливый… считающий, что всем интересны абстракции, которые ты…
Джереми теряет терпение. Преобразование, которое он держит в уме, начинает ускользать. Слова мешают ясно мыслить. Японцам из Хиросимы уравнение E = mc2 не показалось такой уж абстракцией.
Гейл вздыхает. Сдаюсь. Ты не похож на Бобби Кеннеди. Ты просто невыносимый, заносчивый и бесконечно рассеянный сноб.
Ее муж кивает и записывает преобразование. Затем переходит к следующему уравнению, теперь точно понимая, как волна вероятности схлопывается в нечто подобное классическому характеристическому числу. Да, – мысленно соглашается он, уже ослабляя связь, – но я МИЛЫЙ невыносимый, заносчивый и бесконечно рассеянный сноб.
Гейл не отвечает. Она смотрит, как солнце садится за верхушки деревьев позади амбара. Теплый колорит этой вечерней картины, которой она делится с Джереми, перекликается с теплом ее не оформившихся в слова мыслей.
В крысином ходе
Бремена избили и ограбили через пятнадцать минут после того, как он вышел из автобуса в центре Денвера.
Они приехали поздно, после полуночи третьего дня, и Джереми пошел прочь от освещенного автовокзала, ежась от приносимых западным ветром снежных хлопьев и удивляясь, что в середине апреля здесь может быть так холодно. Он шел, сунув руки в карманы и наклонив голову навстречу ветру, – и вдруг оказался окруженным бандой.
Это была не настоящая банда, всего пять парней, черных и латиноамериканцев – всем не исполнилось еще и двадцати, – но за несколько секунд до того, как в воздухе замелькали кулаки, Бремен увидел их намерения, почувствовал панику и жажду денег. Однако хуже всего было их стремление причинить боль. Это было почти сексуальное возбуждение, и если б Джереми внимательно прислушивался к тональности ночного нейрошума, то заранее уловил бы чрезвычайную остроту их предвкушения. Но его застали врасплох, окружили и стали загонять в глухой переулок. Поток наполовину оформившихся мыслей и вызванное адреналином возбуждение помогли Бремену понять их план – загнать его в переулок, избить и ограбить – и убить, если он будет громко кричать. Но сделать он ничего не мог – лишь отступать в темноту переулка.
После первых же ударов Джереми упал, бросил грабителям оставшиеся у него деньги и свернулся в клубок. «У меня больше ничего нет!» – крикнул он, но тут же понял, что им все равно. Деньги их уже не интересовали. Их переполняло желание причинить боль.
И они в этом преуспели. Бремен пытался откатиться подальше от парня с ножом… хотя нож все еще был в кармане юноши… но в какую бы сторону он ни катился, везде его встречал удар ботинком. Он закрыл лицо, и тогда его стали бить по почкам. Такой боли Джереми еще никогда не испытывал. Он попытался закрыть поясницу и тут получил удар в лицо. Из сломанного носа хлынула кровь, и Бремен поднял руку, чтобы снова закрыть лицо, после чего его ударили в промежность. А потом кулаки – костяшки пальцев – снова обрушились на его голову, шею, плечи и ребра.
Бремен услышал треск, потом еще раз, а потом с него стали стягивать рубашку и рвать карманы брюк. Лезвие ножа полоснуло его по животу, но парень с ножом в тот момент как раз выпрямлялся, и рана получилась неглубокой. Впрочем, Джереми этого не понимал. Тогда он почти ничего не понимал… или вообще ничего.
* * *
Прошел час, прежде чем его нашли, а еще через два часа кто-то удосужился вызвать полицию. Полиция прибыла, когда сознание уже начало возвращаться к Бремену, и похоже, они удивились, найдя его живым. Джереми услышал треск рации – один из полицейских вызывал неотложку. Он закрыл глаза, а когда снова открыл их, санитары уже поднимали его, чтобы уложить на каталку. Их руки были в прозрачных полиэтиленовых перчатках, и Бремен заметил, что санитары стараются, чтобы его кровь не попала на них. Дорогу до больницы он не запомнил.
Отделение экстренной помощи было переполнено. Бригада, состоявшая из врача-пакистанца и двух измученных интернов, занялась ножевой раной: они сделали Джереми укол и начали зашивать порез еще до того, как успела подействовать местная анестезия, а потом занялись другим пациентом. Часа полтора Бремен ждал, то теряя сознание, то снова приходя в себя, пока они вернутся. Врача-пакистанца к тому времени сменила молодая чернокожая женщина с кругами усталости под глазами и набрякшими веками, но интерны были те же самые.
Они сообщили, что у него сломан нос, и пластырем прилепили ему на лицо металлическую пластинку; нашли два сломанных ребра и перебинтовали их, а затем стали прощупывать отбитые почки, так что Джереми едва не потерял сознание от боли, и заставили его помочиться в пластиковое судно. Бремену удалось открыть глаза и увидеть, что моча розового цвета. Один из интернов сказал, что у него вывихнута левая рука, и попросил поднять ее, пока они прилаживали поддерживающую повязку. Вернулась врач и осмотрела рот Джереми. Разбитые губы распухли настолько, что прикосновение медицинского шпателя вызвало жуткую боль, и Бремен едва сдержал крик. Врач объявила, что ему повезло – выбит всего один зуб. У него есть дантист?
Джереми издал разбитыми губами неопределенное мычание. Ему сделали еще один укол. Он чувствовал усталость врачей – она была такой же осязаемой, как толстая брезентовая ширма, отделявшая его от остальных пациентов.
Открыв глаза в следующий раз, он увидел рядом с собой женщину-полицейского. Лицо бесстрастное, на мощных бедрах ремень с кобурой, рацией, фонариком и прочими аксессуарами. Черные глаза, кожа в пятнах. Она еще раз спросила у Бремена его имя и адрес.
Он заморгал, подумав о властях и о Ванни Фуччи, хотя из-за обезболивающего с трудом вспомнил, кто такой этот Ванни, а потом назвал имя и адрес Фрэнка Лоуэлла, заведующего кафедрой математики в Хэверфорде. Своего приятеля, который обещал ему сохранить рабочее место.
– Далековато от дома, мистер Лоуэлл, – заметила сотрудница полиции. Левый глаз Джереми заплыл, а в правом все расплывалось, и прочесть ее имя на значке было невозможно. Бремен пробормотал что-то невнятное.
– Можете описать нападавших? – спросила она, роясь в нагрудном кармане в поисках карандаша. Джереми сумел сфокусировать взгляд и разглядел детский почерк в ее блокноте. Над буквами i она ставила маленькие кружочки, как самые инфантильные студенты, которых он обучал в Хэверфорде. Бремен описал избивших его людей.
– Я слышал, как один называл другого… самого высокого… Рэд, – сказал он, хотя твердо знал, что грабители не обращались друг к другу во время нападения. Но одного из них точно звали Рэдом.
Внезапно Бремен понял, что окружающий нейрошум доносится до него как бы издалека. Даже волны боли и паники от других пациентов отделения неотложной помощи, а также безмолвные крики и стоны из темных комнат над ним, заполненных страданием… все это ослабло. Джереми улыбнулся и благословил обезболивающее, как бы оно ни называлось.
– Ваш бумажник пропал, – сказала офицер полиции. – Ни удостоверения личности, ни карты страхования, ничего… – Она пристально разглядывала его, и Бремен даже сквозь туман обезболивающего чувствовал ее сомнения. Он похож на бродягу, но в больнице проверили его руки, бедра, ступни… никаких следов от инъекций… И хотя в моче было полно крови, следов алкоголя или наркотиков не обнаружилось. Джереми почувствовал, что женщина решила толковать сомнения в его пользу.
– Эту ночь вы проведете здесь, под наблюдением, – сказала она. – Вы говорили доктору Чалбатту, что в Денвере у вас никого нет, и поэтому доктор Элкхарт не хочет оставлять вас без присмотра. Как только освободится палата, вас туда переведут – ночью будут наблюдать за почками, а утром снова осмотрят. Завтра мы пришлем сотрудника и вы напишете заявление о нападении и избиении.
Бремен закрыл глаза и медленно кивнул, а когда снова открыл их, то уже лежал на каталке в гулком коридоре. Часы показывали 4:23. Подошла женщина в розовом свитере, поправила на нем одеяло и сказала, что совсем скоро его перевезут в палату. Потом женщина ушла, и Джереми постарался снова заснуть.
Назвать полиции имя и адрес Фрэнка Лоуэлла – полный идиотизм. Утром они позвонят Лоуэллу, получат описание, и тогда Бремена арестуют и заставят отвечать на вопросы о сгоревшей ферме… А возможно, и о теле, найденном в болотах Флориды.
Джереми сел, не удержавшись от стона, и свесил ноги с каталки. И едва не свалился на пол. Он посмотрел на свои голые ноги и вдруг осознал, что на нем тонкая, как бумага, больничная сорочка. А на левом запястье – пластиковый браслет.
Гейл. О боже, Гейл!
Бремен соскользнул с каталки, опустился на колени и здоровой рукой пошарил на полочке внизу. Там лежала его одежда – окровавленная и рваная. Пациент окинул взглядом коридор… Пусто, хотя из-за угла доносилось шарканье резиновых подошв… Потом он проковылял в туалет для персонала в конце коридора и стал одеваться, преодолевая боль… Наконец сдался и набросил рубашку поверх руки с поддерживающей повязкой. Прежде чем выйти из туалета, он порылся в баке для грязной одежды, выудил белую хлопковую куртку от униформы интернов и натянул ее на себя, понимая, что она не спасет его от холода на улице.
Выглянув в коридор, Бремен подождал, пока все стихнет, и быстро – как мог – пошел к боковой двери.
На улице шел снег. Джереми брел по переулку, не представляя, где находится и куда направляется. На небе, просвечивающем между темными утесами зданий, не было даже признака рассвета.
Глаза
Я не утверждаю, что Джереми и Гейл – идеальная пара, что они всегда соглашаются друг с другом, никогда не ссорятся и никогда не разочаровывают друг друга. Хотя случается, что телепатическая связь разделяет их, а не сближает.
Их близость подобна увеличительному стеклу, проявляющему самые мелкие недостатки. Гейл слишком вспыльчива, часто раздражается и еще чаще взрывается, и Джереми быстро устает от этого. Гейл бесит его неспешная скандинавская невозмутимость перед лицом даже самой нелепой провокации. Иногда они ссорятся из-за его нежелания конфликтовать.
В самом начале семейной жизни каждый из них приходит к выводу, что при вступлении в брак нужно проверять биоритмы, а не брать анализ крови. Гейл рано ложится и рано встает, а утро любит больше любого другого времени дня. Джереми засиживается допоздна, и лучше всего ему работается после часа ночи. Утро для него – настоящее проклятие, и в те дни, когда у него нет занятий, он редко просыпается раньше 9:30. Гейл предпочитает не устанавливать с ним мысленную связь, пока он не выпьет вторую чашку кофе, и даже тогда говорит, что это похоже на телепатический контакт с угрюмым медведем, не до конца проснувшимся после зимней спячки.
Их вкусы, дополняющие друг друга во многих важных областях, абсолютно не совпадают в других. Гейл любит читать и придает большое значение письменному слову, Джереми редко читает что-либо, выходящее за рамки его профессии, и считает романы пустой тратой времени. Он может бодро выйти из кабинета в три часа утра и с удовольствием смотреть документальный фильм, а у Гейл нет времени на документальные фильмы. Она любит спорт и осенью, по возможности, ходит по выходным на футбол, а на Джереми спорт навевает скуку, и он согласен с Джорджем Уиллом, который говорил, что футбол – это «осквернение осени».
Что касается музыки, то Гейл играет на пианино, валторне, кларнете и гитаре, а Джереми не в состоянии даже просто запомнить мелодию. Слушая музыку, он восхищается математической строгостью Баха, а Гейл нравится непрограммируемая человечность Моцарта. Оба любят изобразительное искусство, но их визиты в картинные галереи и художественные музеи превращаются в телепатическое сражение: Джереми восторгается абстрактной точностью серии «Во славу квадрата» Джозефа Альберса, а его супруга питает слабость к импрессионистам и раннему Пикассо. Однажды Бремен решает сделать Гейл подарок на день рождения и тратит все свои сбережения – а также большую часть ее денег – на маленькую картину Фрица Гларнера «Произведение искусства № 57». И слышит реакцию Гейл, когда едет по дорожке к дому на своем «Триумфе», в багажнике которого лежит картина: Боже, Джереми, ты потратил все наши деньги на эти… эти… КВАДРАТЫ?!
В отношении политики Гейл полна надежд, а Джереми циничен. В социальных вопросах она – либерал, в лучших традициях этого мира, ему все это безразлично.
Ты хочешь, чтобы в стране не было бездомных, Джереми? – однажды спрашивает Гейл.
Не особенно.
Почему, черт возьми?
Послушай, не я сделал этих людей бездомными, и я не могу дать им дом. Кроме того, почти все они сбежали из приютов… Жертвы либеральных благодетелей, которые обрекают их жить на улицах…
Не все они сумасшедшие, Джереми. Некоторым просто не повезло.
Давай, малыш. Ты сейчас говоришь с экспертом в области вероятности. Я лучше любого другого в нашей стране знаю, почему удачи не существует.
Возможно, Джер… но ты не знаешь людей.
Согласен, малыш. И у меня нет особого желания их узнавать. Хочешь глубже погрузиться в эту беспорядочную трясину, которую люди называют мыслями?
Они – люди, Джереми. Такие же, как мы.
Нет, малыш. Не такие. Но в любом случае я не стал бы тратить время на размышления о них.
А на что ты стал бы тратить время?
Гейл не сразу понимает, что это за уравнение, и терпеливо ждет, пока в мыслях Джереми сформируется некий словесный перевод.
Подумаешь! – Она искренне негодует. – Ты и еще один парень по имени Дирак могут решить релятивистское волновое уравнение. И чем это поможет людям?
Поможет понять Вселенную, малыш. А это больше, чем польза от подслушивания беспорядочных мыслей всех этих «обычных людей», которых ты так жаждешь понять.
Теперь Гейл уже не сдерживает свой гнев, который черным ветром обрушивается на ее мужа.
Господи, каким ты иногда бываешь высокомерным, Джереми Бремен! Почему ты считаешь электроны более достойным предметом для изучения, чем человеческие существа?
Джереми отвечает не сразу.
Хороший вопрос. – Он на секунду закрывает глаза и размышляет, отгородившись – насколько это возможно – от жены. – Люди предсказуемы, – наконец мысленно произносит Джереми. – В отличие от электронов. – И продолжает, не давая Гейл возразить: – Я не говорю, что действия людей полностью предсказуемы, малыш… Мы знаем, на какие извращения они способны… Но их мотивы составляют очень ограниченный набор, как и действия, являющиеся результатом этих мотивов. В этом смысле принцип неопределенности применим скорее к электронам, чем к людям. В сущности, люди скучны.
Гейл формулирует гневный ответ, но потом сдерживается. Ты серьезно, Джереми?
Муж отправляет ей изображение – самого себя, кивающего головой.
Она выставляет ментальный щит, чтобы подумать об этом. Не отгораживается от супруга полностью, но контакт ослабевает. Джереми хочет продолжить разговор, пытается если не оправдаться, то хотя бы объясниться, но чувствует, что Гейл погружена в собственные мысли, и откладывает разговор.
– Мистер Бремен?
Он открывает глаза и обводит взглядом студентов-математиков. Молодой человек, Арни, отступает от доски. Простое дифференциальное уравнение, но Арни с ним не справился.
Джереми вздыхает, поворачивается на своем вращающемся стуле и начинает объяснять.
В крысиной одежке, в шкуре вороньей, в поле на двух шестах
Бремен жил в картонной коробке под эстакадой на Двадцать третьей улице. Он выучил литанию выживания: встать до рассвета, подождать, позавтракать в столовой Армии спасения на Двадцать третьей улице после часового ожидания пастора, который обратится к ним с проповедью, и еще получасового ожидания, пока не прибудет подогретая еда… Потом, выйдя из столовой в 10:30, тащиться двадцать кварталов к маяку на ланч, тоже после долгого ожидания. На маяке набирают людей на разные работы, и сначала нужно отстоять очередь за работой, а потом – очередь на ланч. Обычно из шестидесяти мужчин или женщин отбирают всего пятерых или шестерых, но в апреле Бремен несколько раз попадал в их число. Возможно, потому, что он относительно молод. Работа, как правило, была неквалифицированной и не требовала умственного напряжения – убрать улицу вокруг конференц-центра или подмести сам маяк, – но Джереми безропотно соглашается на нее, довольный, что есть чем заполнить время, кроме ожидания и путешествий от одной бесплатной столовой до другой.
Обедает он в «ХриСтос Спасает!» или во дворе здания Армии спасения на Девятнадцатой улице. «ХриСтос спасает!» – это Христианский центр помощи, но все знают его по надписи на логотипе в виде креста, где средняя «С» в горизонтальном слове «ХриСтос» служит первой буквой вертикального «Спасает!» Бремен часто смотрит на пустое место над «С» на вертикальной планке креста, снедаемый желанием что-нибудь там написать.
В «ХриСтос Спасает!» кормят гораздо лучше, чем у Армии спасения, но и проповедь дольше – иногда она так затягивается, что основная часть слушателей засыпает и их храп смешивается с урчанием животов, прежде чем преподобный Билли Скотт и монашки разрешают слушателям выстроиться в очередь за едой.
Потом Бремен обычно присоединяется к компании, прогуливающейся вдоль торгового центра на Шестнадцатой улице, а к одиннадцати возвращается в картонную коробку под эстакадой. Сам он не попрошайничает, но когда стоит рядом с Папашей Солом, Мистером Паули или Кэрри Ти и ее детьми, ему тоже кое-что перепадает. Однажды чернокожий мужчина в дорогом шерстяном пальто дал Джереми десятидолларовую купюру.
В этот вечер, как это бывает чаще всего, он заходит в круглосуточный винный магазин, покупает бутылку крепленого фруктового вина и возвращается в свою коробку.
В «городе на высоте мили» апрель – настоящее бедствие. Позже Бремен понял, что мог погибнуть в эти последние дни денверской зимы, особенно в первую ночь после больницы. Шел снег. Джереми бродил среди темных зданий по темным переулкам и покрытым снежной кашей улицам. Наконец он оказался в квартале уничтоженных пожаром одинаковых домов и укрылся среди почерневших бревен. Все болело, но разбитые губы, треснувшие ребра и вывихнутое плечо были словно вулканы страдания, поднимавшиеся над океаном общей боли. От укола, который ему сделали несколько часов назад, клонило в сон, но лекарство уже не ослабляло боль.
Бремен нашел щель между кирпичным дымоходом и почерневшей от огня балкой, забрался в нее и отключился. Проснулся он от того, что его энергично трясли.
– Эй, приятель, у тебя нет пальто! Останешься тут – и замерзнешь, блин, насмерть, это уж как пить дать.
Джереми очнулся и, моргая, посмотрел на лицо, освещенное тусклым светом далекого уличного фонаря. Черное лицо, морщинистое и неухоженное, раздвоенная борода и темные глаза, едва видимые под надвинутой на лоб засаленной спортивной шапочкой. На мужчине было не меньше четырех слоев верхней одежды, и все они воняли. Он пытался поднять Бремена.
– Оставь… меня… в покое, – с трудом выговорил Джереми. Несколько минут сна, хоть и заполненные сновидениями, были почти свободны от нейрошума, чего не случалось со дня смерти Гейл. – Иди к черту! – Бремен высвободил руку и снова попытался свернуться в клубок. Снег падал сквозь дыру в потолке.
– Э, нет, Папаша Сол не позволит тебе сдохнуть здесь просто из-за того, что ты тупая маленькая белая дешевка! – Голос чернокожего был на удивление мягким, гармонирующим с этой тихой ночью и безмолвным вальсом снежинок на фоне черных балок.
Джереми не сопротивлялся, когда его ставили на ноги и вели к разбитой двери.
– Место у тебя есть? – снова и снова повторял незнакомец один и тот же вопрос. А может, он спросил только один раз, а его мысли эхом отражались в головах их обоих… Бремен не был уверен. В ответ он покачал головой.
– Ладно, сегодня останешься с Папашей Солом. Но только до восхода солнца, пока мозги у тебя не встанут на место. Идет?
Джереми ковылял рядом с чернокожим мужчиной через бесконечное число кварталов, мимо кирпичных зданий, освещенных адским оранжевым светом городских огней, отражавшимся от низких грозовых облаков. Наконец они добрались до высокой автомобильной эстакады и соскользнули по промерзшему склону вниз, в темноту. Там стояли шалаши из картонной тары и листов пластика, и среди брошенных автомобилей виднелись кострища. Папаша Сол повел Бремена в одно из сооружений побольше – настоящую хижину из пластика и деревянных поддонов. Бетонная опора эстакады служила ей стеной, а лист жести – дверью.
Телепат повалился на груду вонючих тряпок и одеял. Он дрожал от холода и никак не мог согреться, как бы глубоко ни зарывался в тряпье. Вздохнув, Папаша Сол снял с себя два слоя верхней одежды и напялил все это на Бремена, а сам улегся рядом. От него пахло вином и мочой, но Джереми чувствовал тепло его тела даже через одежду.
Все еще дрожа, хотя и не так сильно, Бремен провалился в сон.
Апрель был суровым, но в мае стало полегче. Зима, казалось, не хотела покидать Денвер, и даже в погожие дни на высоте 5280 футов по ночам было холодно. На западе в промежутках между зданиями виднелись настоящие горы. Белого цвета на их гребнях и склонах с каждым днем становилось все меньше, но на вершинах снег не сходил и в июне.
А потом внезапно наступило лето, и походы Джереми за пищей вместе с Папашей Солом, Кэрри Ти и остальными стали проходить среди волн горячего воздуха, поднимавшихся от тротуаров. Несколько дней все они провели в тени эстакад неподалеку от своей пластиковой деревни у реки Платт, за железной дорогой – в середине мая копы прочесывали их более удобное убежище под эстакадой на Двадцать третьей улице. Мистер Паули называл это «весенней уборкой». В эти дни они вылезали из укрытия только после наступления темноты и отправлялись в открытую допоздна католическую миссию во дворе здания законодательного собрания штата.
Алкоголь не избавлял Бремена от проклятия телепатии, но немного ослаблял его. По крайней мере, Джереми в это верил. От вина у него жутко болела голова – возможно, нейрошум приглушали именно головные боли. К концу апреля он уже пил постоянно – и Папаша Сол, и заботливая Кэрри Ти смотрели сквозь пальцы на его саморазрушение, поскольку сами прикладывались к бутылке, – но следуя извращенной логике, что чем больше дури, тем лучше, он едва не уничтожил себя в прямом и в переносном смысле слова, купив крэк у одного из подростков, торговавших наркотиками рядом с университетским кампусом «Орария».
Деньги Бремен тогда заработал за два дня участия в трудовой программе «Маяка». В свое убежище он вернулся, сгорая от нетерпения.
– Чему это ты улыбаешься в свое жалкое подобие бороды? – спросил Папаша Сол, но Джереми, не удостоив старика ответом, забрался в коробку. Он не курил с подросткового возраста, однако теперь разжег трубку, купленную у парня рядом с «Орарией», а потом, следуя инструкции, опрокинул стеклянный пузырек в отверстие и сделал глубокий вдох.
И обрел покой – но лишь на несколько секунд. А потом начался ад.
Джереми, пожалуйста… ты меня слышишь? Джереми!
Гейл?
Помоги мне, Джереми! Помоги мне выбраться отсюда! – И Бремен увидел последнее, что видела его жена: больничная палата, капельница, синее одеяло в ногах кровати. Несколько медсестер, окруживших ее. Боль была сильнее, чем он помнил… сильнее, чем в те часы и дни после избиения, когда у него срастались кости и рассасывались кровоподтеки… Боль Гейл не поддавалась описанию.
Помоги мне, Джереми! Пожалуйста.
– Гейл! – громко кричал Джереми. Он бился в припадке внутри своей коробки, молотил кулаками картонные стены, пока они не порвались, и тогда он в ярости набросился на бетон. – Гейл!
На закате того апрельского дня Бремен кричал и бесновался почти два часа. К нему никто не подошел. Следующим утром, когда они тащились на Девятнадцатую улицу, все избегали его взгляда.
Больше он не покупал крэк.
* * *
Сознание Папаши Сола было убежищем неспешной гармонии в море хаоса. Джереми старался как можно больше времени проводить рядом со стариком, пытаясь не слушать мысли других людей, – он всегда успокаивался, когда медленные, ритмичные, почти не оформленные в слова мысли Сола проникали сквозь его дырявый ментальный щит и оглушающий туман алкоголя.
Как выяснил Бремен, свое прозвище Папаша Сол получил в тюрьме, где провел больше трети века. В юности он был жесток и склонен к насилию – типичный представитель уличных банд того времени. Нож в кармане, злоба, задиристость. После одной из стычек в конце 40-х в Лос-Анджелесе трое малолеток отправились на тот свет, а Сол – отбывать пожизненное заключение.
Пожизненное в истинном смысле этого слова: оно изменило его жизнь. Папаша Сол избавился от уличной манерности, напускной бравады, щегольства, ощущения своей бесполезности и жалости к самому себе. Он быстро приобрел внутреннюю стойкость, необходимую для выживания в самом суровом блоке самой суровой тюрьмы Америки – готовность умереть, но не дать себя в обиду, – и нашел покой и даже безмятежность среди всего этого безумия тюрьмы.
Пять лет Папаша Сол молчал. Потом стал говорить только по необходимости, предпочитая держать свои мысли при себе. А мозг его все время трудился. Даже во время случайных телепатических контактов Бремен видел следы тех дней, месяцев и лет, когда его товарищ по несчастью работал в тюремной библиотеке или читал в своей камере. Он изучал философию – начал с краткого увлечения христианством, потом, в шестидесятых, когда в тюрьму хлынуло новое поколение чернокожих преступников, примкнул к «черным мусульманам», но затем переступил через догматы и перешел к настоящей теологии, настоящей философии. Папаша Сол читал и штудировал Беркли и Юма, Канта и Хайдеггера. Он примирил Фому Аквинского с этическими императивами бедных кварталов и отверг Ницше, как очередного никчемного, самовлюбленного щеголя, задиристого и болезненно обидчивого.
Философия самого Папаши Сола не поддавалась выражению в словах и образах. Она была ближе к дзен-буддизму или изящной чепухе нелинейной математики, чем чему-либо еще, с чем приходилось сталкиваться Бремену. Сол отверг процветающий в мире расизм и сексизм, а также ненависть любого рода, но отверг без гнева. Он плыл по волнам жизни со своего рода царственным величием – изящная египетская барка среди жесткого морского сражения между греками и персами – и до тех пор, пока в его мирную и бессловесную задумчивость не вторгались, позволял миру заниматься своими делами, а сам «возделывал свой сад».
Папаша Сол читал «Кандида»[7].
Иногда Джереми искал убежище в медленных мыслях старика, как маленькое судно укрывается под защитой скалистого острова, когда океан становится слишком бурным.
А воды жизни, как правило, были очень неспокойными. Даже для солипсических размышлений Папаши Сола. Так что убежище они давали ненадолго.
* * *
Бремен лучше любого из живущих на земле людей знал, что мозг человека не похож на радио – он не приемник и не передатчик, – но к концу лета, проведенного на задворках Денвера, у него возникло ощущение, что кто-то настраивает его разум на все более мрачные волны. Волны страха и бегства. Волны силы и присвоенной власти.
Волны насилия.
Нейрошум усиливался, превращаясь в крик, и Джереми все больше пил. Путаница в мыслях помогала, а головные боли отвлекали. Но лучше всякого алкоголя защищало присутствие Папаши Сола.
Однако крик не стихал – вокруг него и над ним.
Уличные банды демонстрировали свои цвета и разъезжали в микроавтобусах по чужой территории в поисках приключений или разболтанной походкой фланировали по эстакадам, группами по три-пять человек. Они были вооружены маленькими револьверами калибра.32, тяжелыми автоматическими пистолетами калибра.45, обрезами и даже похожими на игрушки «Узи» и «Мак-10». Нарывались на неприятности, искали повод для злости.
Бремен забирался в свою коробку, пил, сжимал ладонями пульсирующую болью голову, но жестокость захлестывала его, пронзала насквозь, словно укол злобного адреналина.
Стремление причинить боль. Жажда насилия. Порнографическая концентрация уличного насилия, приходившая в череде образов и криков, разворачивалась в замедленном темпе, словно любимое видео.
Джереми чувствовал, как от совсем простого действия вроде нажатия спускового крючка или выхватывания ножа бессилие превращается в силу. Он чувствовал возбуждение от страха жертвы, чувствовал вкус ее боли. Боль – вот что предлагалось другим.
Большинство жестоких людей, к сознанию которых прикасался Бремен, были глупыми… зачастую поразительно глупыми, а многие усиливали свою глупость наркотиками… Но хаос их мыслей и воспоминаний не шел ни в какое сравнение с пахнущей кровью ясностью их неотступной, вызывающей сердцебиение и сексуальное возбуждение потребности в тех секундах насилия, которыми они наслаждались. Память об этих действиях хранилась не столько в их мозгу, сколько в руках, в мышцах и в чреслах. Насилие поднимало самооценку. Насилие уравновешивало все те тоскливые часы, когда они ждали оскорблений или терпели их, бездельничали и смотрели телевизор, зная, что ничто из увиденной на экране роскоши им не доступно… Ни машины, ни дома, ни одежда, ни красивые женщины, ни даже белая кожа… И что еще важнее, эти секунды насилия были предметом зависти тех мелькающих в телевизоре или на киноэкране лиц… которые только изображали насилие, с его выхолощенными эмоциями и пакетиками с фальшивой кровью.
В своих лихорадочных снах Бремен слонялся по темным переулкам, заткнув за пояс пистолет, и искал кого-нибудь – не с тем цветом кожи, не с тем выражением лица. Он превратился в Посланца Боли.
Другие обитатели поселка из пластика и картона не обращали внимания на его ночные крики и стоны.
* * *
Ночные кошмары Джереми были заполнены не только бандитами и городской беднотой. По вечерам в конце июня, когда он сидел в прохладной тени у входа в переулок, его терзали мысли покупателей, гуляющих по ближайшему торговому центру на Шестнадцатой улице.
Белые. Средний класс. Невротики, психопаты, параноики, переполненные злобой и отчаянием, которые по силе не уступают бессильной ярости одурманенных крэком членов уличных банд. Все злятся на кого-нибудь, и этот гнев тлеет, затуманивая их мысли, словно едкий дым от тлеющих углей.
Бремен пил вино из бутылки, спрятанной в пакет из оберточной бумаги, поддерживая нескончаемую головную боль, и время от времени поднимал взгляд на проходящих мимо переулка людей. Иногда ему было трудно соотнести яркие вспышки злобных мыслей с серыми силуэтами их тел.
Вот женщина средних лет в шортах и в слишком тесной блузке по имени Максин – дважды пыталась отравить сестру, чтобы унаследовать пустующие земли отца в горах. Оба раза сестра оставалась жива, и оба раза Максин дежурила у ее постели в больнице, проклиная коварный ботулизм. В следующий раз, думала отравительница, она отвезет сестру в старый отцовский дом в горах, подсыплет унцию мышьяка в соус чили и будет сидеть там, пока сестра не умрет.
Маленький мужчина в туфлях на высоких каблуках и в рубашке «Армани»: Чарльз Лэдлоу Пирс. Адвокат, защитник гражданских прав различных меньшинств, спонсор нескольких благотворительных фондов Денвера, чья фотография – рядом с лучезарно улыбающейся женой Дейдрой – часто появлялась в газете «Денвер пост» в разделе «Общество». Чарльз бил жену, давая выход своим периодическим вспышкам ярости. На лице Дейдры не было синяков, поскольку муж соблюдал осторожность и не преподносил своих «уроков» накануне благотворительного бала или другого общественного мероприятия… А если ему все же было необходимо проучить жену перед выходом в свет, то «урок», по молчаливому согласию, преподносился с помощью носка с песком и не затрагивал лицо.
Чарльз Лэдлоу Пирс считал, что именно эти жестокие, доводящие до оргазма «уроки» позволяют ему сохранить брак – и рассудок. После избиения Дейдра отправлялась «отдохнуть» на неделю в их дом на фешенебельном горном курорте Аспен.
Бремен опустил взгляд и глотнул из бутылки.
Потом он резко поднял голову и стал всматриваться в толпу, пока не выделил в ней быстро шагавшего мужчину. Опустив бутылку в бумажный пакет, Джереми последовал за ним.
Мужчина шел на восток по Шестнадцатой улице, а потом задержался перед зданием из стекла и стали, торговым центром «Табор». На секунду он задумался, не зайти ли внутрь, чтобы взглянуть на костюмы «Брукс Бразерс», но отказался от этой мысли и продолжил свой путь на восток, через Лоуренс-стрит, в сторону торговых рядов. Вечерний ветерок с гор теребил молодые деревца вдоль полосы дороги, выделенной для автобусов, и немного смягчал городскую жару. Мужчина шел, не замечая бородатого бродягу, который тащился за ним, отставая на полквартала.
Бремен не выяснил его имени. И не хотел. Остальное было ясно как день.
В сентябре Бонни будет одиннадцать, но выглядит она на тринадцать. Черт возьми – на шестнадцать! С прошлого мая на ее киске стали расти волосы. Карла говорит, что в прошлом месяце у Бонни начались месячные… что теперь наша маленькая девочка стала женщиной… Если б Карла знала!
Мужчина был одет в мятый серый костюм. Он вышел из какого-то офисного здания на Пятнадцатой улице и собирался сесть на автобус до Черри-Грик. Согласно расписанию, автобус должен быть на остановке у торгового центра через восемнадцать минут. При таком росте, за метр восемьдесят, лишний вес этого человека был не слишком заметен. Волосы у него на затылке были собраны в хвост – такие часто носят мужчины среднего возраста, и Гейл называла их «козлиным хвостом».
Он вошел в «Брасс Рейл», декорированный деревом и медью бар для яппи через дорогу от северного конца «Табора». Бремен нашел тень между двумя зданиями, откуда он мог видеть панорамные окна бара. Яркий свет, заливавший Шестнадцатую улицу, сделал стекло прозрачным.
Но это не имело значения. Джереми точно знал, где сидит человек, за которым он следил, и что он пьет.
Уже два года с Бонни, а эта тупая сука Карла ничего не подозревает. Списывает слезы и боли в животе на подростковый возраст. Подростковый возраст! Да здравствует подростковый возраст! Мужчина отсалютовал кому-то невидимому традиционной порцией «Дьюарс». Он всегда заказывал «Дьюарс», и поэтому ему не наливали дешевый виски, который обычно пытаются всучить клиентам баров.
Сегодня еще один особенный вечер. Вечер Бонни. Вечер девочки Бонни. Мужчина рассмеялся и взмахнул рукой, чтобы ему снова наполнили бокал. Конечно, теперь уже не так, как в первый раз. Первый раз… Бархатистая кожа, рыжие волосы на маленьком холмике дочери, груди… тогда еще почти незаметные… и тихий плач в подушку. Его шепот: «Если никому не скажешь, все будет в порядке. Если скажешь, тебя заберут из дома и отправят в приют».
Не так, как в первый раз, но она кое-чему учится… Моя Бонни… Моя милая Бонни. Сегодня я снова заставлю ее поработать ртом…
Мужчина допил вторую порцию виски, посмотрел на часы и поспешил к выходу из бара, а потом быстрой, но несуетливой походкой двинулся на запад по Шестнадцатой улице. Он был уже рядом с автобусной остановкой, когда из тени за «Гарт Бразерс» появился какой-то пьяница, который направился прямо к нему. Мужчина подался вправо и недовольно посмотрел на пьяного. Поблизости больше никого не было, только они двое, частично скрытые бруствером из травы и бетона на лестнице ниже автобусной остановки.
– С дороги, приятель! – рявкнул мужчина и пренебрежительно махнул рукой, когда пьяный приблизился. У него была всклокоченная светлая борода и безумные глаза за стеклами скрепленных изолентой очков, а одет он был в плащ до пят, несмотря на жару. Пьяница продолжал идти прямо на него.
Мужчина покачал головой и попытался обойти бродягу.
– Торопишься? – Голос пьяного был хриплым и прерывистым, как будто он молчал несколько дней.
– Отвали, – сказал мужчина и повернулся к автобусной остановке.
Внезапно его потащили назад, в тень от лестницы. Он резко обернулся, высвобождая рукав из грязного кулака пьяного.
– Какого хрена…
– Торопишься домой изнасиловать Бонни? – тихо просипел пьяный. – Хочешь сегодня опять сделать с ней это?
Мужчина смотрел на него во все глаза. Челюсть у него отвисла. Струйки пота из-под мышек потекли вниз, пропитывая синюю хлопковую рубашку с воротником на пуговицах.
– Что?
– Ты меня слышал, ублюдок. Мы обо всем знаем. Все знают. Вероятно, полиция тоже знает. Вероятно, прямо сейчас они ждут тебя на твоей кухне, вместе с Карлой, ублюдок.
Мужчина не отрывал взгляда от пьяного, чувствуя, как шок превращается в безумный гнев и начинает пылать яростным напалмом. Кто этот шелудивый козел… Как он… как он узнал… Хотя неважно… Этот «синяк» все равно на шесть дюймов ниже и на восемьдесят фунтов легче. Он прихлопнет этого пьяного козла одной рукой…
– Может, попробуешь убить меня, любитель приставать к детям? – прошептал пьяница. Очень странно, но на лестнице и на тротуаре никого не было. Тени становились длиннее.
– Да, черт возьми, я…
Мужчина умолк, потому что, когда пьяный ухмыльнулся в свою спутанную бороду, пламя его злобы занялось сильнее, а затем вспыхнуло взрывом чистой ненависти. Он сжал кулаки и сделал три шага к бездомному, уговаривая себя быть осторожнее и не прикончить этого ничтожного ублюдка. Однажды он едва не убил парня, когда учился в коллеже. Нужно остановиться, когда пьяный козел перестанет дышать. Но с какой радостью он пройдется кулаками по этому небритому, грязному лицу…
Когда мужчина бросился на него с кулаками, Джереми Бремен отступил на шаг, сунул руку под плащ, достал кусок доски и замахнулся – этот удар слева позволил ему заработать 28,7 процента хитов на бите в последний год, когда он входил в команду колледжа по бейсболу.
В последнюю секунду мужчина поднял руки, пытаясь защитить лицо. Бремен обрушил длинный отрезок доски на эти руки, а затем, когда его противник упал на ступеньки, – на его плечи.
Мужчина что-то прорычал и, шатаясь, поднялся на ноги. Джереми ударил его в солнечное сплетение, и тот согнулся пополам. Следующий удар пришелся по затылку, после чего насильник, нелепо дергаясь, покатился по ступеням.
На автобусной остановке кто-то закричал. Бремен не оглядывался. Он подошел ближе, не выпуская из руки трехфутовый отрезок доски, и замахнулся им, как клюшкой для гольфа, – удар пришелся на широко раскрытый рот. Разлетевшиеся по улице зубы блеснули в последних лучах заходящего солнца.
Мужчина сплюнул, сел и поднял руки к лицу.
– Это за Бонни, – сказал, вернее, попытался сказать Джереми сквозь сведенные от ярости челюсти, а потом ударил его концом доски еще раз, теперь в промежность.
Мужчина закричал. От торговых рядов тоже донесся крик.
Бремен шагнул вперед и нанес последний удар, с такой силой, что доска раскололась. Его противник повалился ничком. Джереми размахнулся и пнул его ногой, всего один раз, представив, что его промежность – это футбольный мяч в превосходной позиции для завершающего удара.
Где-то поблизости, в районе Лаример-стрит, завыла сирена, но тут же смолкла. Джереми попятился, выпустил из грязных пальцев обломок доски, взглянул на всхлипывающего мужчину, повернулся и побежал.
Сзади послышались крики и топот ног – за ним гнались по меньшей мере двое.
В развевающемся плаще, с выпученными глазами – они были похожи на белки вареных яиц, вставленные в почерневшее от грязи лицо, – Бремен бежал к спасительному полумраку железнодорожной эстакады.
Глаза
Гейл и Джереми хотят ребенка.
Поначалу, во время затянувшегося на год медового месяца, им кажется, что ребенок появится слишком быстро, и Гейл принимает меры против нежелательной беременности – сначала таблетки, а затем диафрагма, когда появляются сомнения насчет побочных эффектов. Через восемнадцать месяцев после свадьбы они решают убрать диафрагму и позволить природе действовать своим чередом.
Следующие восемь месяцев Бремены ни о чем не беспокоятся. Любовью они занимаются так же часто и с такой же страстью, как и в первые дни, а ребенок у них не на первом месте. Потом Гейл посещают сомнения. Они поженились уже не слишком молодыми – Джереми было двадцать семь, а ей двадцать пять… Но врач заверяет, что у нее впереди еще десять лет благоприятного репродуктивного возраста. Однако через три года после свадьбы и через неделю после тридцатого дня рождения Джереми – они отпраздновали его игрой в софтбол с друзьями из колледжа – Гейл предлагает показаться специалистам.
Поначалу ее муж удивлен: если Гейл скрывала от него свою тревогу, значит, она может скрыть все, что угодно. Он подозревал, что жена на это способна, но, похоже, недооценивал ее. Летней ночью они лежат в постели рядом друг с другом и во время пауз в разговоре смотрят на полосы лунного света, проникающие в комнату сквозь кружевные занавески, слушают стрекот насекомых и крики ночных птиц за амбаром. И приходят к выводу, что пора обследоваться.
Сначала Джереми проходит через неловкую процедуру получения семени для анализа спермы. Кабинет врача находится в Филадельфии, в современном медицинском центре, где у лифта висит указатель: «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». В медицинском центре работают как минимум десять врачей, пытающихся помочь бесплодным парам реализовать их мечту о ребенке. Все это производит гнетущее впечатление на Бременов, но они дружно смеются, когда Джереми предлагают пройти в туалет для получения «образца».
Он посылает Гейл картинку: номера «Пентхауса», «Плейбоя» и еще нескольких глянцевых журналов в пластмассовой подставке на стойке около туалета. Рядом со стопкой журналов лежит листок с объявлением: «Учитывая расходы на замену пропавших журналов, мы просим не выносить их из этой комнаты».
В маленькой приемной, где она ждет своего врача, Гейл начинает хихикать. Можно мне посмотреть?
Отвали, – отзывается ее муж.
Ты шутишь? Остаться без такого потрясающего чужого опыта? Без таких острых ощущений?
Будут тебе острые ощущения… Булавкой в глаз, если не оставишь меня одного. Серьезно.
Да… серьезно. – Гейл изо всех сил сдерживает смех. Джереми видит, как ее врач входит в смотровую и застает пациентку, согнувшуюся пополам от хохота, с текущими по щекам слезами. – Серьезно, – мысленно повторяет она, а потом глазами Джереми смотрит на фотографии в первом журнале. – Боже милосердный, неужели эти молодые женщины могут позировать в таком виде?! – Она снова хихикает.
Раздраженный, Джереми не отвечает. Разговор отвлекает его. Он перелистывает страницы.
Проблема, Джереми?
Уходи. – Он захлопывает журнал и вздыхает.
Давай, я помогу. – Гейл ширмой отгораживается от двери и начинает раздеваться, наблюдая за собой в большое зеркало на стене.
Эй! Какого черта ты…
Гейл расстегивает последнюю пуговицу на блузке, снимает ее и аккуратно кладет на спинку стула, а потом указывает на больничную рубашку, лежащую на кушетке. – Медсестра сказала, что будет осмотр.
Послушай…
Тихо, Джереми. Читай свой журнал.
Джереми возвращает журнал на стойку и закрывает глаза.
Гейл Бремен – маленькая женщина, ростом всего пять футов и два дюйма, но у нее сильное, тренированное тело классических пропорций, чрезвычайно сексуальное. Она улыбается мужу в зеркало, и он думает, уже не в первый раз, что самый большой вклад в эту сексуальность вносит именно ее улыбка. Похожую улыбку, обворожительную, провокационную, но необыкновенно искреннюю, Джереми видел у одной-единственной женщины – гимнастки Мэри Лу Реттон. В неотразимой улыбке Гейл точно так же участвовали щеки, губы и белоснежные зубы; это было приглашение к легкому флирту, понятное без слов.
Гейл читает его мысли, перестает улыбаться и притворно хмурится, а потом подмигивает. Не обращай на меня внимания. Занимайся своим делом.
Идиотка.
Жена Джереми снова улыбается, после чего снимает черную юбку и сорочку и кладет их на стул. В простом бюстгальтере и трусиках она выглядит беззащитной и необыкновенно привлекательной. Гейл заводит руки за спину, чтобы расстегнуть бюстгальтер, с той природной женской грацией, которая всегда восхищает Джереми. Потом слегка сводит плечи, и ее груди сближаются, а обтягивающая их ткань соскальзывает. Она кладет бюстгальтер на стул и стягивает трусики.
Еще смотришь?
Джереми смотрит. Он смотрит на жену с почти религиозным благоговением, очарованный ее неброской красотой. Черные короткие волосы мягкими волнами падают на высокий лоб. Густые и темные брови – как у Аннетт Фуничелло[8], однажды с досадой сказала Гейл – придают выразительность ее карим глазам. Художник, рисовавший пастелью ее портрет несколько лет назад, когда они отправились на прогулку на остров Монхеган, сказал Джереми, который наблюдал за его работой: «Я слышал о светящихся глазах, но всегда считал это выдумкой. До этого момента. У вашей дамы, сэр, глаза светятся».
Черты лица Гейл каким-то образом сочетают тонкость и силу: изящная линия скул, прямой нос, тонкие лучики вокруг глаз, сильный подбородок и белая кожа, розовевшая на солнце или от смущения. Сейчас эта женщина нисколько не смущена, хотя, когда она снимает трусики и на секунду застывает перед зеркалом, щеки ее пылают.
Джереми Бремена не слишком возбуждала женская грудь. Возможно, в этом виновата легкость, с которой он в подростковом возрасте подслушивал мысли девочек, а возможно, стремление видеть все уравнение – в данном случае все тело, а не его составные части; но после преодоления неизбежного сексуального кризиса в подростковом возрасте женская грудь представлялась ему обычной частью анатомии человека. Привлекательной, да… но не постоянным источником сексуального возбуждения.
Грудь Гейл была исключением. Великовата для ее роста, но Джереми волновал вовсе не размер. У девушек из журналов, выложенных для помощи донорам спермы, были огромные груди, но их пропорции казались Бремену неправильными или просто глупыми. А вот грудь Гейл…
Джереми качает головой, обнаруживая, что какие-то вещи не решается выразить словами, даже наедине с собой.
Попробуй.
Грудь Гейл чрезвычайно сексуальна. Пропорциональная подтянутому телу и сильной спине… идеальная – единственное слово, которое приходит на ум Джереми… Высокая, но тяжелая, которую так и хочется обхватить ладонями, гораздо светлее загорелой кожи в других местах… с маленькими прожилками, просвечивающими сквозь белую кожу там, где заканчивается линия загара… с розовыми, как у юной девушки, околососковыми кружками. Соски лишь слегка твердеют под действием прохладного воздуха. Но вот ее грудь снова стиснута и приподнята – Гейл инстинктивно обхватывает себя руками, пытаясь согреться. Темные волоски на ее предплечье становятся видимыми на фоне округлости белой, тяжелой груди.
Гейл не отрывает взгляда от зеркала. Но Джереми позволяет себе посмотреть на ее отражение под другим углом, размышляя: Я вижу отражение в моем мозгу ее мысленного представления о ее отражении. Призрак, восхищающийся тенью призрака.
Бедра у Гейл широкие, но не слишком. Сильные бедра и поднимающийся вверх треугольник темных волос, густоту которого можно было предположить по густым темным бровям и по теням под мышками. Изящные колени и лодыжки вызывают ассоциации не только со спортом, но и с классическими пропорциями лучших скульптур Донателло. Джереми опускает взгляд, удивляясь, почему мужчины не восхищаются необыкновенно сексуальными дугами и округлостями, из которых состоят такие стройные ноги.
Гейл отодвигает ширму и левой рукой тянется к рубашке – это не стандартная больничная рубашка, а дорогое изделие из чесаного хлопка для привилегированных клиентов – и замирает вполоборота к зеркалу. Левая грудь и бедро освещены мягким светом, проникающим сквозь жалюзи. Все еще проблемы, Джереми? – Улыбка. – Нет, вижу, что нет.
Заткнись, пожалуйста.
Бремен слышит шаги врача за дверью, а затем их с женой ментальные щиты одновременно поднимаются – не разделяя их полностью, но немного ослабляя связь.
Джереми не открывает глаза.
* * *
Здесь я должен прерваться и сказать, что это первое знакомство с сексуальными чувствами Бременов стало для меня откровением. В буквальном смысле – пробудило почти религиозные сферы. Открыло для меня новые миры, новые системы мышления и понимания.
Конечно, я знал о сексуальных удовольствиях… по крайней мере, об удовольствии фрикций. И о печали после оргазма. Но эти физические реакции ничего не значили вне контекста взаимной любви и сексуальной близости, которую чувствовали Джереми и Гейл.
Мой трепет от открытия этого аспекта Вселенной можно сравнить с трепетом ученого, наткнувшегося на космическую теорию великого объединения. В практическом смысле любовь и секс между супругами Бремен – это и есть космическая теория великого объединения.
* * *
Со спермой у Джереми всё в порядке. Его часть обследования закончена.
В отличие от Гейл. В следующие девять месяцев ее ожидает череда обследований – иногда болезненных, иногда неприятных, но всегда бесплодных. Лапароскопия и бесконечные ультразвуковые исследования в поисках непроходимости труб, аномалий и заболеваний матки, фиброзных образований, кист яичников и эндометриоза. Ничего. Она проверяется на дефицит гормонов и наличие антител к сперматозоидам. Всё в норме. Ей прописывают «Кломид» и рекомендуют покупать дорогостоящие наборы для предсказания овуляции – серьезные ежемесячные расходы, – чтобы определить дни и часы, благоприятные для зачатия. Сексуальная жизнь Бременов становится похожа на военную кампанию: каждый месяц трое или четверо суток день начинается с анализа мочи с помощью тест-полосок, а заканчивается несколькими соитиями, после которых Гейл некоторое время лежит на спине, слегка приподняв согнутые в коленях ноги, дабы медленно движущаяся сперма могла успешно завершить свой путь.
Ничего. Девять месяцев никакого результата. Потом еще шесть месяцев.
Гейл и Джереми консультируются еще у трех специалистов. В каждом случае Джереми исключают на основе одного-единственного теста – подсчета сперматозоидов, – а его жена проходит серию обследований. Она теперь точно знает, когда нужно выпить два литра воды, чтобы дотерпеть до конца ультразвукового обследования, не испортив больничную рубашку.
Обследования по-прежнему ничего не выявляют и никого не удовлетворяют. Бремены не оставляют попыток завести ребенка, но в конечном итоге отказываются от ежедневных графиков и анализов, боясь загубить искренность своих чувств. Возникает мысль об искусственном оплодотворении, и они соглашаются подумать, но не сговариваясь отвергают этот вариант еще до того, как выходят из клиники. Если сперматозоиды и яйцеклетки в норме, если с репродуктивной системой Гейл всё в порядке, то лучше довериться случаю и естественному порядку вещей.
Однако естественный порядок вещей их подводит. Следующие несколько лет Гейл и Джереми продолжают мечтать о детях, но уже не говорят об этом. Даже размышления Гейл на эту тему во время мысленного контакта угнетающе действуют на обоих. Иногда, когда его жена держит на руках новорожденного ребенка друзей, Джереми шокирует ее реакция на прикосновения к младенцу и на его запах. Ее сердце тоскует… это понятно… но отзывается все тело Гейл: груди начинают болеть, а матка словно пульсирует, реагируя на новорожденного. Это лежит за пределами опыта Джереми, и он удивляется, что две разновидности человеческих существ – мужчины и женщины – живут на одной планете, говорят на одном языке и предполагают, что могут иметь что-то общее, несмотря на такие базовые, глубокие различия.
Гейл знает, что ее муж хочет детей, но также знает и о его опасениях насчет собственного ребенка. От нее не укрылись эти островки беспокойства в его сознании: страх врожденных дефектов, сомнения, касающиеся возможности присоединения еще одного сердца и ра-зума к идеальному двухполюсному созвездию их отношений, а также общая ревность, что кто-то или что-то другое может получить внимание и любовь Гейл, которые сейчас принадлежат только ему.
Жена Джереми видела это беспокойство, но считала, что такое свойственно всем мужчинам. Она не заметила кое-что очень важное.
Бремена ужасала мысль о неполноценном ребенке. В самом начале их суровых испытаний, когда казалось, что беременность наступит через несколько недель или месяцев, он лежал ночью без сна и перебирал свои страхи.
В колледже Джереми немного изучал вопросы вероятности в генетике и поэтому знал о возможных результатах этой генетической игры в кости: синдром Дауна, хорея Хантингтона, болезнь Тея-Сакса, гемофилия… и так далее. Еще до первой беседы с врачом он знал вероятность такого события: один процент, что у пары родится ребенок с серьезным, угрожающим жизни дефектом. В возрасте двадцати лет вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна у Гейл составляла 1:2000, а вероятность другого серьезного дефекта хромосом – 1:526. Если они будут ждать, пока Гейл исполнится тридцать пять, вероятность составит 1:300 для синдрома Дауна и 1:179 для генетических заболеваний в целом. К сорока годам кривая вероятности резко идет вниз: 1:100 для синдрома Дауна и 1:63 для других серьезных дефектов.
Мысль о том, что у них родится умственно неполноценный или уродливый ребенок, повергает Джереми в ужас. Страшит его, хотя и не так сильно, и неизбежность того, что любой ребенок изменит их отношения с женой. Первый страх Гейл видела – и отвергла, от второго она улавливает лишь слабые отголоски. Бремен старательно прячет эти мысли от нее – и от себя, – используя перенастройку ментального щита и помехи, когда во время телепатического контакта возникает эта тема. Это один из двух секретов, которые он хранит от Гейл все время, пока они вместе.
Второй секрет также связан с ее бездетностью. Только он вроде бомбы с часовым механизмом, тикающей между ними и под ними, готовой разрушить все, что у них есть, или даже надежду на то, что у них может быть.
Но Гейл умирает раньше, чем раскрывается второй секрет… раньше, чем Джереми успевает поделиться им и избавиться от него.
Однако этот секрет по-прежнему является ему во сне.
В полой долине
Бремена спас Папаша Сол.
Полиция, получившая описание человека, который совершил нападение у торгового центра на Шестнадцатой улице, прочесывала картонные поселения под мостами через реку Платт. Уличные торговцы уже несколько месяцев жаловались на попрошаек и бездомных, заполнявших торговые ряды в дневные часы. Это нападение стало последней каплей, и городская полиция рвала и метала… в буквальном смысле. В поисках молодого пьяницы в очках, со светлыми волосами и всклокоченной бородой они перевернули вверх дном все временные хибары и навесы, от Маркет-стрит в центре города до западных пригородов в районе Стоункаттерс-роуд на холме над шоссе I-25.
Его спас Папаша Сол. Джереми бегом вернулся к своему убежищу около реки, забрался в брезентовую палатку и стал рыться в наваленных в углу тряпках в поисках дешевого вина «Найт Трейн» в бутылке с завинчивающейся пробкой. Найдя бутылку, он сделал большой глоток, пытаясь вернуться в сумеречный туман безразличия и нейрошума, который теперь заполнял его жизнь. Но адреналин продолжал поступать в кровь – словно сильный ветер, он сдувал накопившийся за несколько месяцев туман.
Я напал на того человека! Это была его первая связная мысль. А потом: Что, черт возьми, я тут делаю?! Внезапно Бремену захотелось прекратить тот дурной фарс, в котором он оказался, позвонить Гейл, чтобы та забрала его, и отправиться домой на ужин. Он видел длинную аллею, отходящую от проселочной дороги, и белый каркасный дом, видел персиковые деревья, которые он посадил по обе стороны, часть из которых еще были привязаны проволокой к колышкам; видел длинные вечерние тени от деревьев, растущих вдоль ручья, который извилистой змейкой бежал к дому, чувствовал запах свежескошенной травы, проникавший в открытое окно «Вольво»…
Бремен застонал, сделал еще один глоток мерзкого вина, чертыхнулся и выбросил бутылку через дверное отверстие своей импровизированной палатки. Бутылка разбилась о бетон, и из-под эстакады послышался крик, но разобрать слова Джереми не мог.
Гейл! О боже, Гейл! – Его тоска в этот момент превратилась в физическую боль, которая ударила его, словно цунами, без предупреждения надвинувшееся из-за горизонта. Его как будто ударила, подняла, а потом отпустила и бросила волна, над которой он не имел власти. – О, Гейл… Боже, как ты мне нужна, малыш!
Первый раз после смерти жены Джереми Бремен заплакал, уткнувшись в сжатые кулаки. Он всхлипывал, отступая перед жуткими спазмами горя, которые теперь поднимались изнутри, словно огромные, острые осколки стекла, проглоченные много дней назад. Он плакал, не замечая ужасной духоты в убогой палатке из пластика и брезента, не замечая гула машин на эстакаде над ним и воя сирен на улицах на холме, не замечая ничего, кроме своей утраты и горя.
– Либо ты шевелишь задницей, либо ей несдобровать. – Медленный, благозвучный голос Папаши Сола пробился к нему через густой от жары воздух.
Джереми отмахнулся от него и скорчился на своих тряпках, уткнувшись лицом в прохладный бетон. Он все еще плакал.
– Времени на это нет, – сказал Сол. – Потом будет сколько угодно.
Он схватил Бремена под руку и поднял. Тот отбивался, хотел вырваться и остаться в своей палатке, но старик был на удивление сильным, с железной хваткой, и вскоре Джереми против воли оказался на свету. Он моргал, прогоняя слезы, и громко ругался, а Папаша Сол тащил его все дальше в полумрак, под виадук, с такой же легкостью, с какой отец тащит непослушного ребенка.
Там стояла машина, «Плимут» 78-го или 79-го года, с ободранной пластиковой крышей.
– Я не умею заводить без ключа те, что поновее, – сказал Папаша Сол, усаживая Бремена за руль и захлопывая дверцу. Старик наклонился, опираясь локтем на опущенное стекло на дверце водителя, и его роскошная, как у библейского пророка, борода касалась плеча телепата. Он протянул руку и сунул мятую бумажку в нагрудный карман Джереми. – В любом случае, в ближайшее время… тебе пригодится и такая. Уезжай из города, слышишь? Найди место, где принимают психованных белых парней, которые плачут во сне. Оставайся там – по крайней мере, пока тебя ищут. Понимаешь?
Бремен кивнул и энергично потер глаза. Внутри машины пахло подогретым пивом и сигаретным пеплом. Рваная обивка сидений воняла мочой. Но мотор гудел ровно, как будто владелец все внимание уделял тому, что находится под капотом. Это угнанная машина, – подумал Бремен. А потом мысленно добавил: – Какая разница?
Он повернулся к Папаше Солу, чтобы поблагодарить его и попрощаться, но старик уже скрылся в тени виадука, и Джереми увидел только силуэт плаща, двигавшегося в сторону хижин. Сирены завывали где-то рядом, над заросшей сорняками канавой, по которой текла река Платт, мелкая, с коричневой водой.
Бремен положил грязные ладони на руль. Пластик нагрелся от солнца, и он отдернул руки, как от ожога, и стал сгибать и разгибать пальцы. А что, если я забыл, как водить машину? Ответ пришел через секунду: Это неважно.
Джереми тронулся с места, почти вдавив в пол педаль газа, так что из-под колес в реку полетел гравий, и ему пришлось дважды до отказа выворачивать руль, прежде чем он справился с машиной, которая неслась по грунтовой подъездной дороге и заросшей травой разделительной полосе к въезду на шоссе I-25.
Поднявшись на эстакаду, он встроился в поток транспорта и посмотрел направо, на крыши заводских зданий и складов и на серую громаду железнодорожного вокзала. Отсюда был виден даже скромный силуэт Денвера – сталь и стекло на фоне неба. Полицейские машины стояли в палаточном городке внизу, вдоль тропинок у реки и на улицах, идущих на запад к автовокзалу, но здесь, на шоссе, было чисто. Бремен посмотрел на дрожащую красную стрелку спидометра и понял, что в редком дневном потоке машин он едет со скоростью почти восемьдесят миль в час. Слегка отпустив педаль газа и сбросив скорость до разрешенных пятидесяти, Джереми пристроился за микроавтобусом, а потом вдруг понял, что приближается к пересечению с автострадой I-70. Дорожные указатели предлагали выбор: «I-70 ВОСТОК – ЛАЙМОН», «I-70 ЗАПАД – ГРАНД-ДЖАНКШН».
Джереми приехал с востока. Он поднялся по развязке наверх, описал дугу и влился в поток транспорта, двигавшегося на запад по загруженной автостраде I-70. Впереди маячили рыжие холмы, а за ними сверкали покрытые снегом горы.
Бремен не знал, куда направляется. Датчик уровня топлива показывал, что осталось три четверти бака. Потом беглец сунул руку в нагрудный карман и достал бумажку, которую ему положил туда Папаша Сол: двадцатидолларовую купюру. Больше денег у него не было – ни цента. Три четверти бака бензина и двадцать долларов – это все, чтобы добраться туда, куда можно добраться на машине.
Он пожал плечами. В открытое окно врывался горячий воздух, а пыльные вентиляторы совсем не охлаждали его. Джереми не знал, куда направляется и что будет делать. Но он двигался. Наконец-то двигался.
В долине меркнущих звезд
Бремен шел по краю пустыни, когда рядом с ним на проселочной дороге притормозила полицейская машина. Дорога была пустой, и бело-коричневый автомобиль какое-то время двигался со скоростью пешехода. Джереми бросил взгляд на одинокого полицейского за рулем – квадратное, обожженное солнцем лицо и слишком большие солнцезащитные очки, – а затем снова стал смотреть под ноги, чтобы не наступить на юкку или маленький кактус, которыми была усеяна поверхность пустыни.
Полицейская машина проехала вперед футов пятьдесят, свернула на обочину, подняв облачко пыли, и остановилась. Сидевший в ней человек вышел, расстегнул кобуру и встал у водительской дверцы. В его зеркальных очках отражался медленно приближающийся Бремен, который решил, что перед ним не патрульный с автострады, а кто-то из полиции округа.
– Подойди, – приказал полицейский.
Джереми остановился футах в шести от дороги.
– Зачем?
– Пошевеливайся. – Голос полицейского по-прежнему был бесстрастным и тихим, но пальцы его сжимали рукоять револьвера.
Бремен протянул руки, ладонями вверх – жестом согласия и умиротворения. Кроме того, он хотел показать полицейскому, что в руках у него ничего нет. Когда он огибал патрульную машину, его слишком большие кеды с эмблемой Армии спасения шаркали по асфальту. Примерно в миле впереди, на пустой дороге, волны горячего воздуха создавали мираж разлитой по асфальту воды.
– Встань как полагается, – сказал полицейский, отступая на шаг и указывая на багажник машины.
Джереми недоуменно заморгал, не желая показывать, что слишком быстро понял, что от него требуется. Сотрудник полиции отступил еще на шаг, нетерпеливо махнул рукой в сторону багажника и вытащил револьвер из кобуры.
Бремен наклонился вперед, расставил ноги и уперся ладонями в крышку багажника. Металл был горячим, и ему пришлось приподнять пальцы – жестом пианиста перед началом выступления.
Коп шагнул вперед и левой рукой ощупал левую сторону Джереми.
– Не двигайся, – предупредил он, после чего сместился вправо и ощупал его с этой стороны. Бремен чувствовал присутствие револьвера у себя за спиной и напряжение полицейского, готового отскочить, если он повернется. Но он продолжал стоять, опираясь на багажник, и полицейский отступил на четыре шага. – Повернись.
Коп по-прежнему держал в руке револьвер, но уже не целился в Бремена.
– Это твоя машина на площадке для отдыха у шоссе? – спросил он.
Джереми покачал головой.
– «Плимут» семьдесят девятого года? – продолжал полицейский. – Номерной знак MHW– семь-пять-один, штат Колорадо?
Бремен снова покачал головой.
Тонкие губы копа дрогнули.
– Похоже, бумажника у тебя нет. Удостоверение личности? Водительские права?
– Нет, – ответил Джереми, рассудив, что еще одно движение головой будет расценено как провокация.
– Почему?
Бремен пожал плечами. В зеркальных очках остановившего его стража порядка он мог видеть свое отражение – худой, как палка, в грязной мешковатой одежде, рваная рубашка защитного цвета расстегнута на жаре, кожа на груди бледная и сморщенная, лицо такое же бледное, за исключением обожженного солнцем носа, щек и лба. Он остановился на первой же заправке в Колорадо, зашел в мини-маркет и купил бритву и пену для бритья, которые теперь лежали в багажнике машины. Лишенное бороды лицо выглядело незнакомым, как будто в неожиданном месте обнаружилась старая фотография.
– Куда ты направляешься? – спросил коп.
– На восток, – ответил Джереми, следя за тем, чтобы снова не пожать плечами. Голос у него был очень хриплым.
– Откуда?
Бремен сощурился от яркого солнца. Мимо с ревом проехал пикап, подняв облачко пыли, что позволило выиграть секунду.
– Последнее место, где я останавливался надолго, – Солт-Лейк-Сити.
– Имя?
– Джереми Голдман, – без промедления ответил Джереми.
– Как ты добрался сюда без машины?
Джереми развел руками.
– Вчера вечером я сел в попутку, большегрузный трейлер. Утром, когда я еще спал, парень разбудил меня и приказал выметаться. Это было там, на шоссе.
Полицейский спрятал револьвер в кобуру, но ближе не подходил.
– Ну, конечно. Готов поспорить, ты даже не знаешь, в каком ты округе, правда, Джереми Голдстейн?
– Голдман, – поправил Джереми и покачал головой.
– И ты ничего не знаешь об угнанной машине с номерами штата Колорадо, которая стоит на площадке для отдыха у шоссе, так?
На этот раз Бремен даже не стал качать головой.
– В этом штате закон запрещает бродяжничество, мистер Голдстейн.
Джереми кивнул.
– Я не бродяга. Я ищу работу.
Офицер едва заметно кивнул.
– На заднее сиденье.
Сквозь головную боль и двухдневное похмелье Бремен улавливал обрывки мыслей копа. Полная уверенность, что этот жалкий доходяга угнал «Плимут» из Колорадо, оставленный на стоянке у шоссе. Вероятно, воспользовался съездом 239 и гнал по этой дороге в темноте, не зная, что до ближайшего города еще тридцать четыре мили.
– Назад, – повторил полицейский.
Джереми вздохнул и сел в машину. Дверные ручки у нее отсутствовали. Проволочная сетка вместо стекол на окнах, двойная сетка отделяет от заднего сиденья водителя. Отверстия в сетке такие маленькие, что в них не просунешь и палец. Внутри было очень жарко, а от винилового пола шел такой запах, как будто здесь недавно кого-то вырвало.
Полицейский сел за руль и включил рацию, но тут внедорожник «Тойота», направлявшийся на запад, затормозил и остановился рядом с ними. Из окна высунулась женщина.
– Привет, помощник шерифа Коллинз. Сзади кто-то живой?
– Привет, миз[9] Морган. Живой, но не слишком.
Женщина внимательно посмотрела на Бремена. У нее было продолговатое, худое лицо с острыми скулами и загорелой кожей, еще темнее, чем у помощника шерифа. Глаза светло-серые, прочти прозрачные. Волосы собраны в хвост темно-рыжего, не слишком натурального цвета. Бремен подумал, что ей около пятидесяти или чуть больше.
Но удивился Джереми не только внешности этой женщины. Он позволил себе сосредоточиться на телепатическом контакте, однако у него ничего не вышло. Мысли помощника шерифа были… вялыми, слегка раздраженными, нетерпеливыми… и Бремен мог даже различить нейрошум, приходящий от шоссе и даже от автострады в восьми милях отсюда, но от женщины не исходило вообще ничего. А если точнее, то вместо пестрого переплетения образов, слов и воспоминаний Джереми воспринимал от нее только громкий шорох… Нечто вроде нейронного белого шума, похожего на гудение старого вентилятора в маленькой комнате. Бремен чувствовал нечто внутри или позади этой завесы ментального шума, но мысли миз Морган были неразличимы, как движущиеся фигурки на телевизионном экране, заполненном электронным «снегом».
– Неужели ты арестуешь парня, который откликнулся на мое объявление о найме, Говард? – Голос женщины оказался на удивление низким и звучал очень уверенно. В ее тоне сквозил лишь слабый намек на издевку.
Помощник шерифа пристально посмотрел на нее. Его очки блестели на солнце. «Тойота» была выше патрульной машины, и полицейскому приходилось задирать голову.
– Сомневаюсь, миз Морган. Вероятно, вчера вечером этот парень оставил у автострады угнанную машину. Мы доставим его в участок и снимем отпечатки пальцев.
Морган не смотрела на помощника шерифа. Прищурившись, она внимательно разглядывала Бремена.
– Как, ты сказал, его зовут?
– Голдман, – подал голос Джереми. – Джереми Голдман.
– Заткнись, ты! – рявкнул помощник шерифа, поворачиваясь к нему.
– Клянусь богом, именно так звали человека, откликнувшегося на мое объявление, – сказала женщина и прибавила, обращаясь к Бремену: – Где, говорите, вы его прочли? В денверской газете?
– «Солт-Лейк», – ответил телепат. Он не ел почти двадцать четыре часа, и голова у него слегка кружилась после долгой прогулки по пустыне в темноте ночи и на восходе солнца.
– Точно. «Солт-Лейк». – Женщина наконец посмотрела на копа. – Господи, Говард, ты нашел здесь человека, которого я наняла! Он написал мне на прошлой неделе, сказал, что его устраивает жалованье и что он приедет на собеседование. «Солт-Лейк». Джереми Голдман.
Помощник шерифа резко повернулся на сиденье, так что скрипнула портупея, и задумался. Его рация шипела и потрескивала.
– Вы уверены, что того человека звали Голдман, миз Морган?
– Абсолютно. Разве можно забыть такое еврейское имя? Я еще удивилась, что еврейский парень работает с домашним скотом.
– Все равно, скорее всего, именно он угнал машину с номерами штата Колорадо. – Помощник шерифа постучал пальцем по проволочной сетке.
«Тойота» продвинулась на фут, чтобы Морган могла видеть Бремена.
– Это вы были за рулем угнанной машины?
– Нет, мэм, – ответил Джереми, размышляя, когда он в последний раз называл кого-то «мэм». – Я поймал попутку, и парень высадил меня на последнем съезде с шоссе.
– Вы сказали ему, что направляетесь на ранчо «ММ»? – спросила женщина.
Джереми колебался не больше секунды.
– Да, мэм.
Женщина подала «Тойоту» на несколько футов назад.
– Помощник шерифа, вы подобрали нанятого мной работника. Он должен был приехать три дня назад. Спросите шерифа Уильямса – он подтвердит, что я ждала городского парня, который согласился приехать и помочь мне кастрировать жеребца.
Говард колебался.
– Я не сомневаюсь, что вы рассказывали об этом Гарри, миз Морган. Просто не припомню, чтобы кто-то говорил о приезде парня по фамилии Голдман.
– Кажется, я не сообщала Гарри его фамилию, – сказала женщина и посмотрела на шоссе, словно в любую секунду там могла появиться машина. Дорога была пустой. – Честно говоря, Говард, мне кажется, что это мое личное дело. Почему бы тебе не отпустить мистера Голдмана со мной, чтобы я могла провести с ним собеседование? Или закон запрещает ходить вдоль дорог графства?
Бремен чувствовал, что решимость полицейского ослабевает. Файетт Морган была одним из крупнейших землевладельцев и налогоплательщиков округа, а Гарри – шериф Уильямс – уже несколько раз пытался за ней приударить.
– Просто у меня подозрения насчет этого парня, – сказал Говард и снял зеркальные очки, словно запоздалым жестом уважения к женщине, пристально смотревшей на него. – Я бы предпочел проверить его имя и отпечатки пальцев.
Файетт Морган нетерпеливо поджала губы.
– Конечно, Говард. А пока ты задерживаешь гражданина, который… насколько я могу судить… не сделал ничего противозаконного, если не считать таковым признание, что он поймал попутку. Если вы будете настаивать, мистер Голдман подумает, что мы похожи на тех жирных тупых копов с Запада, которых изображают в кино. Правда, мистер Голдман?
Бремен не ответил. Где-то сзади послышался рев грузовика, водитель которого переключал скорость.
– Решай, Говард, – сказала миз Морган. – Мне нужно вернуться на ранчо, а мистер Голдман, вероятно, хочет связаться со своим адвокатом.
Офицер выскочил из машины, открыл заднюю дверцу и вернулся за руль прежде, чем в четверти мили позади них показался грузовик. И уехал, не извинившись.
– Садитесь, – сказала Файетт.
Замешкавшись на секунду, Бремен обошел «Тойоту» и забрался внутрь. В машине работал кондиционер. Миз Морган подняла стекло и посмотрела на Джереми. Только оказавшись рядом с ней, он понял, какая она высокая – не меньше шести футов и двух или трех дюймов, если только не сидела на стопке телефонных справочников. Мимо проехал грузовик, который громко просигналил. Морган махнула водителю, не отрывая взгляда от Бремена.
– Хотите знать, почему я говорила Говарду весь этот вздор?
Джереми колебался. Честно говоря, ему было все равно. В данный момент ему хотелось выскочить из машины и снова пойти пешком.
– Не люблю маленьких козлов, которые изображают из себя больших козлов, только потому, что получили немного власти, – сказала мисс Файетт. Последнее слово, «власть», прозвучало в ее устах как ругательство. – Особенно когда они используют свою власть, чтобы досаждать тем, у кого и так хватает неприятностей, – как, например, у вас, если я не ошибаюсь.
Бремен сжал пальцами ручку двери, а потом замер в нерешительности. До автострады было восемь миль, а до ближайшего города – еще двадцать с хвостиком, если верить подобию карты, которую он видел в мыслях помощника шерифа. В городе Джереми ничего не ждет, разве что возможная встреча с Говардом. После того как он в последний раз заправил машину в Юте, у него осталось восемьдесят пять центов. Даже на поесть не хватит.
– Скажите мне всего одну вещь, – обратилась к нему женщина. – Вы угнали ту машину, о которой говорил Говард?
– Нет. – Этот ответ не убедил даже самого Бремена.
Формально это правда, – устало подумал он. – Машину угнал Папаша Сол. Папаша Сол, палаточный городок, мужчина, возвращающийся домой к дочери… Казалось, от всего этого его отделяют годы – и световые, и обычные. Он очень устал, потому что вчера спал всего два часа, еще в Юте. Ментальный щит женщины… или нейроблок… неважно… из белого шума наполнял голову Джереми треском, который смешивался с болью от похмельного синдрома и давал самое лучшее убежище от нейрошума, какое ему только удавалось найти за последние четыре месяца.
Спасения от чужих мыслей не было даже в пустыне. Несмотря на отсутствие людей и тот факт, что ранчо попадались только через четыре или пять миль, пешее путешествие по пустыне напоминало прогулку в громадной эхо-камере, наполненной шепотом и далекими криками. Похоже, темные мысли, на которые теперь был настроен мозг Бремена, не ослабевали с расстоянием. Всплески жестокости и жадности, темных страстей и зависти заполняли автостраду, эхом разносились по пустой проселочной дороге, отражались от светлеющего неба и обрушивались на Джереми всей силой своего уродства.
Спасения не было. В городе всплески более близкой телепатической связи давали по крайней мере некоторую определенность; здесь же Бремен словно слушал тысячу радиостанций одновременно, причем все плохо настроенные. А теперь, когда белый шум из сознания мисс Файетт Морган обволакивал его, словно внезапный ветер из пустыни, он почувствовал некоторое облегчение.
– …если хотите, – говорила тем временем женщина.
Джереми заставил себя сосредоточиться. Он так устал и ослабел, что в утренних лучах солнца, проникавших в машину сквозь тонированное ветровое стекло, все вокруг него расплывалось, словно тающая патока… Женщина, черная обивка сидений…
– Простите, – пробормотал он. – Что вы сказали?
Губы миз Морган дрогнули в нетерпеливой улыбке.
– Я сказала, что вы можете поехать на ранчо и попробовать ту работу, если хотите. Мне действительно нужен помощник. Парень, который написал мне из Денвера, так и не объявился.
– Да, – кивнул Бремен. Каждый раз, когда подбородок опускался, поднять его стоило большого труда. Глаза у него закрывались. – Да, я бы хотел попробовать. Но я совсем не разбираюсь в…
– С такой фамилией, как Голдман, я и не надеялась, – улыбнулась мисс Файетт. Она лихо развернула «Тойоту», выехав на песок, а затем, вернувшись на асфальт, помчалась на запад, на ранчо «ММ», которое скрывалось где-то за волнами горячего воздуха и миражами, плывшими перед ними, словно расписной занавес.
Глаза
Работа Джейкоба Голдмана производит такое впечатление на Джереми – а через него и на Гейл, – что они садятся на поезд до Бостона, дабы лично познакомиться с исследователем.
Это происходит чуть меньше чем за пять лет до того, как у Гейл обнаружат опухоль, которая убьет ее. Чак Гилпен, их давний приятель, теперь работавший в Ливерморской лаборатории имени Лоуренса в Беркли, прислал Джереми неопубликованную статью об исследовании Голдмана, поскольку она имела отношение к докторской диссертации Бремена, в которой человеческая память представлялась в виде движущегося волнового фронта. Джереми сразу же понимает важность работы Голдмана, через два дня после получения статьи звонит исследователю, а еще через три дня вместе с Гейл садится в поезд, идущий на север.
В телефонном разговоре Джейкоб Голдман проявил подозрительность, потребовав сказать, откуда у Джереми экземпляр еще не опубликованной статьи. Бремен заверил его, что у него нет намерений вторгаться в сферу исследований автора, подчеркнул важность математических аспектов работы Голдмана и попросил о встрече. Джейкоб нехотя согласился.
На железнодорожном вокзале Джереми и Гейл берут такси и едут в лабораторию Голдмана в унылом промышленном районе в полумиле от Кембриджа.
– Я думала, у него шикарная лаборатория в Гарварде, – замечает Гейл.
– Он сотрудник медицинского факультета, – говорит ее муж. – Но насколько я понял, это исследование – по большей части его личная инициатива.
– То же самое говорили о докторе Франкенштейне.
Лаборатория Голдмана располагается между двумя офисами, представительством оптового торговца религиозной литературой и штаб-квартирой «Кейлайн пикник сэпплайз». Джейкоб Голдман в лаборатории один – это поздний вечер пятницы, – и выглядит он в точности как ученый, даже как безумный ученый. Маленький человечек с большой головой, чуть за семьдесят. Потом и Гейл, и Джереми будут вспоминать его глаза: большие, карие, печальные и глубоко посаженные, с нависшими бровями, которые делают его умный взгляд почти обезьяньим. Его лицо, лоб и дряблая шея покрыты морщинами – отпечаток неукротимой личности и внутренней трагедии. Он одет в коричневый костюм с жилеткой, который лет десять или двадцать назад стоил приличную сумму и потребовал от портного усердной работы.
– Я бы предложил вам кофе, но кофемашина, похоже, не работает, – говорит доктор Голдман, потирая нос и окидывая рассеянным взглядом маленькую захламленную комнатушку. Вне всякого сомнения, это его «святая святых». В приемной и в архиве, через которые прошли Бремены, порядок безупречный. Эта комната и ее хозяин напоминают Джереми фотографию Альберта Эйнштейна, словно заблудившегося в хаосе своей лаборатории.
Он похож на Эйнштейна, – делится с ним своей мыслью Гейл. – Ты уже установил с ним контакт?
Джереми качает головой, стараясь сделать это как можно незаметнее. Он выставил ментальный щит, пытаясь сосредоточиться на том, что говорит Голдман.
– …обычно кофе занимается моя дочь. – Исследователь дергает себя за бровь. – И ужином тоже, но она уехала на неделю в Лондон. Навестить родственников… – Ученый смотрит на посетителей из-под густых бровей. – Вы ведь не голодны? Иногда я забываю о таких вещах, как ужин.
– Нет-нет… всё в порядке, – заверяет его Гейл.
– Мы поужинали в поезде, – прибавляет Джереми.
Если считать ужином шоколадный батончик, – мысленно усмехается его жена. – Я умираю от голода.
Тише!
– Вы, молодой человек, упоминали о значении моих математических выкладок, – говорит Голдман. – Дело в том, что статью, которую вы видели, я отправил в Калифорнийский технологический именно затем, чтобы на нее взглянули математики. Мне было интересно понять, подобны ли приведенные мной флуктуации…
– …голограмме, – заканчивает его фразу Джереми. – Да. Мой друг из Калифорнии знал, что я занят чисто математическими исследованиями такого явления, как волновой фронт, и его применения к человеческому сознанию. Он прислал мне статью.
– Ну… – Джейкоб прочищает горло. – Это было по меньшей мере нарушением этикета…
Даже через прочный ментальный щит Бремен чувствует гнев старика, смешанный с сильным желанием не показаться невежливым.
– Вот, – произносит он и оглядывается в поисках свободного места на столе, чтобы положить принесенную с собой папку. Свободного места нет. – Вот, – повторяет Джереми и раскрывает папку, устроив ее на массивном томе, который лежит поверх разобранных бумаг. – Взгляните. – Он подталкивает Голдмана к столу.
Старик снова прочищает горло, но все же начинает рассматривать текст сквозь очки с толстыми бифокальными стеклами. Он листает диссертацию, время от времени задерживаясь на том или ином уравнении.
– Это стандартные преобразования? – спрашивает он.
Джереми чувствует, что его сердце готово выпрыгнуть из груди.
– Приложение релятивистского волнового уравнения Дирака, модификация уравнения Шредингера…
Джейкоб хмурится.
– В гамильтониане?
– Нет. – Бремен возвращается на предыдущую страницу. – Здесь две компоненты, видите? Я начал со спиновых матриц Паули, но затем понял, что их можно обойти…
Доктор Голдман делает шаг назад и снимает очки.
– Нет-нет! – Его акцент вдруг становится заметнее. – Нельзя применять эти релятивистские кулоновские преобразования поля к голографической волновой функции…
Джереми переводит дух.
– Нет, – бесстрастно возражает он. – Можно. Когда голографическая волновая функция является частью более общей стоячей волны.
– Более общей стоячей волны? – вскидывает бровь Голдман.
– Человеческого сознания, – говорит Бремен и бросает взгляд на Гейл. Она смотрит на старика.
Ученый на секунду замирает – он даже перестает моргать. А потом делает еще два шага назад и тяжело опускается в кресло, заваленное журналами и конспектами.
– Майн готт!
– Да, – тихо говорит Джереми. Почти шепчет.
Голдман протягивает усеянную старческими пятнами руку и дотрагивается до диссертации Бремена.
– И вы применили это к данным МРТ и КТ, которые я отправил в Калифорнийский политех?
– Да. – Джереми наклоняется к нему. – Сходится. Все сходится. – Он начинает расхаживать по комнате, потом наконец останавливается и барабанит пальцами по уже устаревшей диссертации. – Изначально моя работа была посвящена только памяти… Как будто остальной разум – это всего лишь аппаратная часть, управляющая поисковой системой RAM-DOS. – Он смеется и качает головой. – Ваша работа заставила меня понять…
– Да, – шепчет Джейкоб Голдман. – Да, да… – Он поворачивается и смотрит невидящим взглядом на забитый книгами шкаф. – Боже правый!
* * *
Потом они выясняют, что на самом деле никто из них не ужинал, и решают где-нибудь поесть – после того как Джереми и Гейл быстро осмотрят лабораторию. Уходят они пять часов спустя, далеко за полночь.
Кабинеты – это верхушка довольно внушительной исследовательской лаборатории. Позади череды кабинетов в бывшем складском помещении находится «комната в комнате» – заземленная, экранированная и заключенная в подобие непроводящей клетки Фарадея. Внутри стоят необычные обтекаемые саркофаги двух аппаратов магниторезонансного сканирования и четыре гораздо менее аккуратных, модернизированных компьютерных томографа. В отличие от стерильных лабораторий в медицинских учреждениях, пол здесь уставлен дополнительной аппаратурой, соединенной множеством кабелей, покрывающих пол, потолок и стены.
В следующем помещении порядка еще меньше. В центре главная консоль с дюжиной мониторов для отображения данных, а перед ней – четыре пустых вращающихся стула. Паутина кабелей, груды компьютерных блоков, пустые кофейные чашки, смонтированные на скорую руку печатные платы, пыльные доски, на которых пишут мелом, электроды для ЭЭГ и массивные осциллографы – все это наводит на мысль об исследовательском проекте, к которому не прикасались привыкшие к порядку парни из НАСА.
Следующие несколько часов Голдман рассказывает, как начинались исследования – основой их стали примитивные эксперименты, проводившиеся в 1950-х годах во время нейрохирургических операций, когда к мозгу пациента прикладывали электрод. Пациенты вспоминали события своей жизни со всеми сенсорными подробностями, как будто заново «переживали» их.
Джейкоб не занимается нейрохирургией, но измерение в реальном времени электрических и магнитных полей в мозгу участников экспериментов при помощи разнообразного современного оборудования для визуализации, медицинского и экспериментального, позволяет ему – вместе с дочерью и двумя помощниками – составлять карту разума, о которой нейрохирурги не могли даже мечтать.
– Трудность, – говорит Голдман, когда той ночью они стоят у главной консоли, – заключается в том, чтобы проводить измерения активности мозга, когда испытуемый выполняет какие-либо действия. Большинство аппаратов МРТ сконструированы так, что пациент неподвижно лежит на тележке, которую вкатывают в аппарат.
– Но ведь во время сканирования неподвижность обязательна? – спрашивает Гейл. – Иначе получится нечто вроде снимка, сделанного старым фотоаппаратом, когда движущийся объект получается размытым.
– Совершенно верно, – с улыбкой отвечает ученый. – Но наша цель состояла в том, чтобы объединить все методы визуализации и наблюдать за испытуемым, когда он чем-то занят… Читает или крутит педали тренажера.
Он показывает на монитор, где видна экранированная комната. В одном углу там стоит велотренажер с консолями и кабелями, которые уходят в черный купол, предназначенный для головы. Черные зажимы для шеи придают аппарату вид какого-то средневекового орудия пыток.
– Участники наших экспериментов называют его «шлемом Дарта Вейдера», – с усмешкой сообщает доктор Голдман. И прибавляет, почти рассеянно: – Я не видел этот фильм. Наверное, нужно взять в прокате видеокассету.
Джереми склоняется к монитору, чтобы получше рассмотреть «шлем».
– И отсюда вы получаете данные для общих магниторезонансных изображений?
– Гораздо больше, – тихо говорит Голдман. – Гораздо, гораздо больше.
Гейл прикусывает губу.
– А кто ваши испытуемые, доктор?
– Пожалуйста, зовите меня Джейкобом, – просит старик. – Наши испытуемые – обычные добровольцы… студенты медицинского факультета, желающие немного подработать. Признаюсь, некоторые из них – мои аспиранты… блестящие молодые мужчины и женщины, которые хотят получить несколько очков у своего старого учителя.
Гейл рассматривает устрашающего вида аппаратуру в комнате для МРТ.
– Это опасно?
Доктор Голдман энергично мотает головой. Брови его двигаются вверх-вниз.
– Нет. Или, скорее, не опаснее, чем обычное магниторезонансное сканирование или компьютерная томография. Мы следим за тем, чтобы никто из участников эксперимента не подвергался воздействию магнитных полей более сильных, чем в больнице. – Ученый усмехается. – И это безболезненно. Если не считать скуки во время пауз, поскольку оборудование постоянно ремонтируют или настраивают, испытуемые не испытывают дискомфорта, как при взятии проб крови, и не подвергаются опасности оказаться в неловком положении. Нет, у нас довольно большой список добровольцев.
– А взамен, – шепчет Джереми, касаясь руки Гейл, – вы картируете неизученные области мозга… Делаете снимок человеческого сознания.
Джейкоб Голдман, похоже, снова погружается в свои мысли – его темные печальные глаза смотрят в пространство.
– Это напоминает мне, – тихо говорит он, – фотографирование призраков, модное в прошлом столетии.
– Фотографирование духов, – кивает Гейл, сама увлекающаяся фотографией. – Это когда викторианцы пытались фотографировать привидения, эльфов и все такое? Мистификация, которая обманула бедного старика Артура Конан Дойла?
– Да, – подтверждает Голдман; взгляд его снова становится сфокусированным, а на лицо возвращается слабая улыбка. – Только наше фотографирование духов в высшей степени реально. Мы наткнулись на методы, позволяющие получить изображение самой человеческой души.
При упоминании души Гейл хмурится, но Джереми согласно кивает.
– Джейкоб, – голос Бремена дрожит от волнения, – вы видите, к чему ведет мой анализ волновой функции?
– Конечно, – кивает старик. – Мы ожидали некое подобие голограммы. Грубый, нечеткий аналог паттернов, которые мы регистрировали. А вы дали нам тысячи и тысячи голограмм – четких и трехмерных.
Джереми наклоняется к нему – теперь их лица разделяет лишь несколько дюймов.
– Но не только их разума, Джейкоб…
В глазах старика под обезьяньими бровями застыла бесконечная печаль.
– Нет, Джереми, друг мой, не только их разум… но их разум как зеркало Вселенной.
Бремен кивает, вглядываясь в лицо доктора Голдмана, чтобы убедиться, что тот понимает.
– Да, зеркало, но и нечто большее, чем зеркало…
Джейкоб перебивает его, но разговаривает он теперь сам с собой, забыв о присутствии молодой четы.
– Эйнштейн сошел в могилу, уверенный, что Бог не играет в кости со Вселенной. Он так настаивал на этом, что Джонни фон Нейман… наш общий друг… однажды посоветовал ему заткнуться и больше не говорить о Боге. – Голдман наклоняет голову, словно бросает вызов. – Если ваши уравнения верны…
– Они верны, – вставляет Бремен.
– Если они верны, то Эйнштейн и все остальные, отвергавшие квантовую физику, невероятно, ужасно и глубоко ошибались… и были абсолютно правы!
Джереми опускается на один из вращающихся стульев. Руки и ноги не слушаются его, словно кто-то перерезал ему сухожилия.
– Джейкоб, вы знакомы с теоретической работой Хью Эверетта? Кажется, она была опубликована в пятьдесят шестом или пятьдесят седьмом… а потом забыта, пока в конце шестидесятых на нее не наткнулся Брайс Девитт из Университета Северной Каролины.
Голдман кивает и садится на другой стул. Теперь стоит только Гейл. Она пытается следить за нитью разговора с помощью телепатической связи, но мужчины мыслят в основном математическими понятиями. В мыслях Джейкоба Голдмана присутствуют и фразы, но эти фразы на немецком. Гейл находит пустой стул и садится. От этого разговора у нее разболелась голова.
– Я знаком с Джоном Уилером из Принстона, – говорит Джейкоб. – Он консультировал Хью Эверетта. Именно он посоветовал Эверетту дать математическое обоснование своим идеям.
Джереми собирается с духом.
– Это все объясняет. Копенгагенскую интерпретацию, кота Шредингера… Новые исследования, например, Реймонда Чиао из Беркли и Герберта Вальтера из Франкфурта…
– Мюнхена, – тихо поправляет доктор Голдман. – Вальтер из Института Макса Планка в Мюнхене.
– Неважно. Через шестьдесят пять лет после копенгагенской интерпретации физики все еще носятся с ней. И похоже, по-прежнему считают, что при попытке прямых наблюдений Вселенная управляется магией. За это время появились лазеры, сверхпроводники, этот чертов сквид Клаудии Теше… а они все еще верят в магию.
– Сквид? – удивляется Гейл незнакомому слову. – Какой еще сквид?
– Сверхпроводящий квантовый интерференционный датчик, – объясняет Джейкоб Голдман своим надтреснутым старческим голосом. – Сквид. Способ выпустить квантового джинна из микробутылки в макромир, который представляется нам изученным. Но они все равно находят магию. Занавес нельзя поднять. Если заглянуть за него… Вселенная изменится. Мгновенно. Полностью. Мы не можем увидеть суть вещей. Либо частица, либо волна… но не то и другое одновременно, Гейл, мой юный друг. Либо одно, либо другое, но не вместе.
Джереми трет ладонями глаза, не меняя позы. Ему кажется, что комната вращается вокруг него, словно он пьян. А пьет он редко.
– Знаете, Джейкоб, это путь к безумию… чистому солипсизму… полной кататонии.
Доктор Голдман кивает.
– Да. А еще… возможно… к абсолютной истине.
Гейл выпрямляется на стуле. С детства, с тех пор, как ее родители снова стали христианами и ханжами, она ненавидит такие фразы, как «абсолютная истина».
– Когда мы наконец будем ужинать? – спрашивает она.
Мужчины издают неопределенные звуки – нечто среднее между смехом и смущенным кашлем.
– Конечно! – восклицает Джейкоб Голдман, бросая взгляд на часы и поднимаясь со стула. – Дискуссии о природе реальности ни в коей мере не могут сравниться с неоспоримой реальностью хорошего ужина…
– Аминь, – торжественно произносит Бремен.
Гейл скрещивает руки на груди.
– Вы меня разыгрываете?
– Нет-нет, – говорит Голдман. В глазах у него стоят слезы.
Нет, малыш, – подтверждает Джереми. – Нет.
Они уходят из лаборатории, и Джейкоб запирает дверь.
Кактусовая страна
Ранчо «ММ» находилось не в самой пустыне, а в нескольких милях вверх по неглубокому каньону, который поднимался к поросшим лесом предгорьям. За предгорьями сквозь марево горячего воздуха виднелись покрытые снегом горные вершины.
Владениям мисс Файетт Морган не очень подходило слово «ранчо». Главное здание представляло собой современную испанскую гасиенду, втиснутую между двумя валунами величиной с многоквартирный дом. Приземистая гасиенда располагалась на террасе, с которой открывался вид на зеленые луга и тополя каньона с ручьем, а также на пустыню за ним. К «Тойоте» с лаем бросились несколько больших псов – рычать и лаять они перестали только после того, как миз Морган вышла из машины и прикрикнула на них, а затем принялась ласкать каждую собаку, как только та пробивалась к ее ногам.
– Зайдите в дом, выпейте пива, – предложила Файетт. – Это единственный раз, когда вас пригласят внутрь.
Дом был обставлен дорого и со вкусом. Антикварная мебель, декор и картины – все было в одном стиле, как на развороте журнала «Архитектурный дайджест». Воздух охлаждался кондиционерами, и Бремен с трудом подавил желание улечься на пушистый ковер и заснуть. Хозяйка провела его через кухню, достойную шеф-повара элитного ресторана, в уголок для завтрака в эркере, откуда открывался вид на валун к югу от дома, амбары и поля. Она достала две бутылки холодного пива «Курс», протянула одну Джереми и кивком указала на скамью у стола, а сама уселась на деревянный стул с подлокотниками. Ее обтянутые джинсами ноги были очень длинными и заканчивались ковбойскими сапогами из змеиной кожи.
– Отвечаю на ваши незаданные вопросы, – сказала миз Морган. – Да, я живу одна, если не считать собак. – Она глотнула из бутылки. – И нет, я не использую наемных работников в качестве кобелей. – Ее серые глаза были такими светлыми, что она казалась слепой. Слепой, но совсем не беззащитной.
Бремен кивнул и отхлебнул пива. В животе у него заурчало.
– Готовить будете себе сами, – отреагировала на этот звук Файетт. – Во флигеле достаточно продуктов и полноценная кухня. Если вам что-то понадобится… за исключением спиртного… можете внести в список, когда будете ездить в магазин по четвергам.
Бремен сделал еще глоток, чувствуя, что пиво, выпитое на пустой желудок, ударяет в голову. От алкоголя и усталости ему казалось, что все предметы окружает слабое, туманное свечение. Крашеные рыжие волосы миз Морган словно горели мерцающим пламенем в лучах полуденного солнца, пробивавшегося сквозь желтые шторы.
– На какое время вам нужен работник? – спросил он, тщательно выговаривая каждое слово.
– А как долго вы собираетесь оставаться в этих краях?
Джереми пожал плечами. Белый телепатический шум, окружавший сидящую перед ним женщину, был похож на непрерывное потрескивание какого-то электрического аппарата – например, генератора Ван де Граафа. Бремена это успокаивало, словно постоянный ветер, поглощающий другие, более тихие звуки. Избавившись от шепота и бурчания нейрошума, он едва не плакал от благодарности.
– Ну, – заключила миз Морган, допивая пиво, – пока Пёс не получил на вас ориентировку, посмотрим, чем вы можете быть тут полезны.
– Пёс?
– Говард Коллинз, – сказала хозяйка, вставая. – Так большинство парней называют его за глаза. Считает себя крутым, но ума у него меньше, чем у Летти… самой глупой из моих собак.
– Насчет собак… – начал Бремен и встал, держа в руке недопитое пиво.
– Да, они способны оторвать вам руку или ногу. – Файетт улыбнулась. – Но только по моей команде или если вы окажетесь там, где не следует. Я познакомлю вас с собаками по дороге к флигелю, чтобы они начали к вам привыкать.
– А где мне не следует быть? – спросил Джереми, крепко сжимая пивную бутылку, как будто она служила ему опорой. Свечение вокруг всех предметов стало ярким и пульсирующим, и он почувствовал, что жидкость в его желудке угрожающе плещется.
– Держитесь подальше от главного дома. – Миз Морган уже не улыбалась. – Особенно по ночам. Собаки набрасываются на все, что приближается к дому ночью. Но и днем вы не должны к нему подходить.
Бремен кивнул.
– Есть еще несколько запрещенных мест. Я покажу их, когда буду знакомить вас с участком.
Джереми снова кивнул. Он не хотел ставить пиво на стол, но держать бутылку было неловко. Учитывая свое состояние, Бремен сомневался, что сможет сегодня что-то делать на ранчо. Даже на ногах он держался с трудом.
Они пошли к выходу, но в дверях хозяйка остановилась.
– Выглядите паршиво, Джереми Голдман.
Бремен кивнул.
– Я покажу вам флигель – приготовьте себе поесть и устраивайтесь. Работать начнем завтра в семь утра. Нет смысла нанимать работника – и сразу же убивать его.
Джереми покачал головой и вышел вслед за ней на свет и зной, в мир, который усталость и облегчение сделали сверкающим и почти прозрачным.
Глаза
Гейл и Джереми сели на поезд из Бостона в воскресенье, не обсуждая проведенные с Джейкобом Голдманом выходные. Но всю дорогу домой они мысленно беседовали друг с другом.
Ты видел, что его семья погибла во время Холокоста? – спросила Гейл.
Холокоста? – Ее муж чувствовал мощь интеллекта Джейкоба и во время их долгих бесед иногда опускал свой ментальный щит, чтобы взглянуть на концепцию или результаты эксперимента, но по большей части старался не вторгаться в личное пространство старика. – Нет.
О, Джереми… – Печаль Гейл густой красно-коричневой тенью ложится на залитый солнцем ландшафт. Она смотрит в окно на проносящиеся мимо городские пустыри. – Я не хотела подглядывать, но каждый раз, когда пыталась понять, о чем вы говорите, находила образы и воспоминания.
Какие образы, малыш?
Серое небо, серые здания, серая земля, серые сторожевые вышки… Черная колючая проволока на фоне серого неба. Полосатые робы, бритые головы, похожие на скелеты фигуры, терявшиеся в мешковатой одежде из грубой шерсти. Утреннее построение в молочном свете зари, дыхание заключенных, туманом поднимавшееся над строем. Эсэсовские охранники в толстых шерстяных шинелях, с кожаными ремнями и в кожаных сапогах, жирно блестевших в тусклом свете. Приказы. Крики. Топот босых ног команды для работы в лесу.
Там погибли его жена и сын, Джереми.
В Аушвице?[10]
Нет, в местечке под названием Равенсбрюк. Небольшой лагерь[11]. Они пережили там пять зим. Разделенные, общались записками через подпольную почту. Его жену и сына расстреляли за две недели до освобождения лагеря.
Джереми моргает. От равномерного стука металлических колес о металлические рельсы клонит в сон. Он закрывает глаза. Я не знал. А как же его дочь… Ребекка?.. Та, которая улетела в Лондон на выходные?
Джейкоб женился второй раз в пятьдесят четвертом. Его вторая жена была англичанкой… санитаркой в том подразделении, которое освобождало лагерь.
Где она сейчас?
Умерла от рака в шестьдесят третьем.
Господи!
Джереми, он такой печальный… С такой глубокой печалью я никогда в жизни не встречалась.
Бремен открывает глаза и трет щеки. Утром он не брился, и отросшая щетина начинает чесаться.
Да… Я хочу сказать, что тоже почувствовал его печаль. Но взволнован он по-настоящему, Гейл. Джейкоб очень увлечен этим исследованием.
Как и ты.
Да, конечно… – Джереми отправляет жене картинку, как они с Голдманом получают в Стокгольме Нобелевскую премию. Шутка не слишком удачная.
Джереми, я не понимаю всей этой квантовой физики. То есть я понимаю, что эти релятивистские штуки связаны с твоей диссертацией… и что речь в основном идет о вероятности и неопределенности… Но какое отношение это имеет к работе по картированию мозга, которой занимается Джейкоб?
Бремен поворачивается и смотрит на супругу.
Я могу еще раз показать тебе базовые математические выкладки.
Предпочла бы словами.
Джереми вздыхает и закрывает глаза.
Ладно… Ты понимаешь, как работа Джейкоба транслируется через мою математику? Что нейрологические волны, которые он фиксирует, можно представить как суперголограммы? Как сложные, взаимодействующие друг с другом поля?
Да.
Хорошо, теперь предстоит сделать следующий шаг. И я не могу точно сказать, куда он нас приведет. Чтобы должным образом обработать данные, мне нужно изучить новый раздел нелинейной математики, которую называют математикой хаоса. И фрактальную геометрию. Я не знаю, почему так важны фракталы, но на это указывают данные…
Не отклоняйся от темы, Джереми.
Ладно. Суть в том, что сканы человеческого разу-ма… человеческой личности… сделанные Джейкобом в реальном времени, отсылают нас к классическому эксперименту с двумя щелями в квантовой механике. Помнишь, это было в программе колледжа? Эксперимент привел к так называемой копенгагенской интерпретации.
Напомни мне.
Хорошо. Квантовая механика утверждает, что энергия и материя – их мельчайшие доли – иногда ведут себя как волны, а иногда – как частицы. Все зависит от способа наблюдения. Но в квантовой механике есть один пугающий, сверхъестественный аспект, который так и не принял Эйнштейн… и который состоит в том, что сам акт наблюдения делает наблюдаемый объект волной или частицей.
А при чем тут две щели?
На протяжении последних пятидесяти лет исследователи повторяли эксперимент, в котором частицы… например, электроны… направлялись на препятствие с двумя параллельными щелями. На экране за препятствием можно увидеть, где прошли электроны, фотоны или другие частицы…
Гейл выпрямляется и, нахмурив брови, смотрит на мужа. Он видит себя ее глазами – серьезное лицо, глаза закрыты.
Джереми, ты уверен, что это как-то связано с МРТ, полученными Джейкобом Голдманом, и вообще с тем, что у человека в голове?
Бремен открывает глаза.
Ага. Немного терпения. – Он достает две бутылки апельсинового сока, купленные утром, и протягивает одну Гейл. – Эксперимент с двумя щелями – это нечто вроде окончательного подтверждения таинственности или даже полной извращенности Вселенной.
Продолжай. – Апельсиновый сок теплый. Гейл морщится и убирает бутылку в сумку.
Ладно. Если одну из двух щелей закрыть, то электроны или другие частицы проходят сквозь вторую. Что получится на экране за препятствием?
Когда открыта только одна щель?
Точно.
Ну… – Гейл ненавидит загадки. Всегда ненавидела. Она считает их изобретением людей, которым нравится ставить других в затруднительное положение. Если она чувствует малейший намек на снисходительность в тоне Джереми, ей хочется ударить его под дых. – Ну, наверное, получится одна линия электронов. Полоса света или нечто вроде того.
Хорошо, – продолжает Бремен, – а что будет, если открыть обе щели?
Две полосы света… или электронов.
Джереми отправляет изображение улыбающегося Чеширского кота.
А вот и нет. Неправильно. Такую картину диктует нам здравый смысл привычного макромира. Но эксперимент показывает другое. При двух открытых щелях на экране всегда получаются чередующиеся светлые и темные полосы.
Гейл грызет ноготь.
Чередующиеся светлые и темные полосы… ага, понимаю. – Она действительно понимает, едва взглянув на фразы и картинки, которые формирует для нее муж. – Когда обе щели открыты, электроны ведут себя как волны, а не как частицы. Черные полосы располагаются там, где волны перекрываются и гасят друг друга.
Молодец, малыш. Классическая картина интерференции.
Но в чем проблема? По твоим словам, квантовая механика предсказывает, что мельчайшие частицы материи и энергии ведут себя и как волны, и как частицы. То есть, они ведут себя предсказуемо. Науке ничто не угрожает… верно?
Бремен посылает изображение «чертика из табакерки», который подпрыгивает и кивает головой.
Точно… науке ничто не угрожает, а вот рассудку грозит реальная опасность. Дело в том, что… по прошествии стольких лет… выяснилось, что сам акт наблюдения заставляет эти волны/частицы коллапсировать либо в одно состояние, либо в другое. Мы ставили чрезвычайно сложные эксперименты, чтобы «посмотреть» на электрон во время перехода… закрывали одну из щелей, когда электрон проходил через другую… Чего мы только не делали! Электрон… или фотон… или любая другая частица, использованная в эксперименте… как будто всегда «знала», закрыта вторая щель или нет. Фактически электроны вели себя так, словно знали не только о том, сколько щелей отрыто, но и о том, что мы наблюдаем за ними! Другие эксперименты… например, с неравенством Белла… дают такую же реакцию отдельных частиц, разлетающихся со скоростью света. Любая частица «знает» состояние своего близнеца.
Гейл отправляет мужу картинку с изображением череды вопросительных знаков.
Коммуникация со скоростью, превышающей скорость света? Это невозможно. Частицы не могут обмениваться информацией, если они разлетаются со скоростью света. Ничто не может перемещаться быстрее света… так?
Совершенно верно, малыш. – Джереми посылает в ответ изображение своей пульсирующей головной боли – настоящей. – И это было головной болью для физиков на протяжении нескольких десятилетий. Суть не только в том, что эти маленькие частицы-извращенцы не только совершают невозможное: знают, что делает их близнец в эксперименте с двумя щелями, с неравенством Белла и других, – но и в том, что мы не можем увидеть реальную субстанцию, из которой состоит Вселенная. Частицу за ширмой, без одежды.
Гейл пытается представить эту картину. Не выходит. Частица без одежды?
Мы, со всеми своими супертехнологиями и нобелевскими лауреатами, не смогли изобрести способ взглянуть на реальное строение Вселенной, когда она «одета» в оба аспекта.
Оба аспекта? – Гейл почти сердится. – Ты имеешь в виду волны и частицы?
Да.
Но почему вся эта квантовомеханическая фигня так важна для понимания того, что разум человека… его личность… подобны суперголограмме?
Бремен кивает. Он думает о семье Джейкоба Голдмана в лагере смерти.
Понимаешь, Гейл, тот материал, который получает Голдман… волновые рисунки, которые я объясняю через преобразования Фурье, и все остальное… Они служат отражением Вселенной.
У Гейл захватывает дух.
Зеркала. В пятницу вечером вы говорили о зеркалах. Зеркала… Вселенной?
Да. Сознание, карту которого составляет Джейкоб… те необыкновенно сложные голографические структуры, просто сознание аспиранта… на самом деле они представляют собой отражение фрактальной структуры Вселенной. Я имею в виду, что это похоже на эксперимент с двумя щелями… То есть как бы мы ни старались подсмотреть из-за занавески, магия остается.
Гейл кивает.
Волны или частицы. Но не одновременно.
Верно, малыш. Но тут мы имеем дело уже не с волнами и частицами. Похоже, человеческое сознание представляет собой коллапсирующие структуры вероятности в макро и в микро…
Что это значит?
Бремен пытается найти способ описать эту концепцию словами. У него не получается.
Это значит… это значит… что люди… мы… ты и я – все… мы не только ОТРАЖАЕМ Вселенную, переводим из наборов вероятностей в наборы реальностей, если можно так выразиться… мы… господи, Гейл, мы создаем ее – каждое мгновение, каждую секунду!
Жена смотрит на него во все глаза. Джереми берет ее под локти, усилием воли пытаясь донести до нее всю грандиозность и важность своей идеи.
Мы наблюдатели, Гейл. Все мы… И без нас – если верить уравнениям на доске у нас дома – без нас Вселенная представляла бы собой чистый дуализм, бесконечное число наборов вероятностей, бесконечную модальность…
Хаос, – передает Гейл.
Да. Точно. Хаос. – Джереми откидывается на спинку сиденья. Рубашка прилипла к его спине, на боках пятна пота.
Гейл молчит, переваривая сказанное ее мужем. Поезд, стуча колесами, бежит на юг. На секунду становится темно – они проскакивают короткий туннель, а потом снова выезжают на серый свет.
Солипсизм, – посылает ему Гейл свою мысль.
Что? – Джереми поглощен уравнениями.
Вы с Джейкобом говорили о солипсизме. Почему? Потому что это исследование предполагает, что в конечном итоге человек – мера всех вещей? – Гейл всегда использует слово «человек» как синоним таких понятий, как «люди» и «человечество».
Отчасти… – Бремен снова размышляет о преобразованиях Фурье, но теперь скорее пытается что-то скрыть от супруги, чем решить математическую задачу.
Почему ты… Кто такой Эверетт, о котором ты думаешь? Какое отношение он имеет к тому дереву, которое ты пытаешься спрятать?
Джереми вздыхает.
Помнишь, мы с Джейкобом говорили об одной теоретической работе, которую парень по имени Хью Эверетт написал около тридцати пяти лет назад?
Гейл кивает, а потом видит закрытые глаза мужа и посылает изображение своего кивка.
В общем, работа Эверетта… и исследования Брайса Девитта и других после него… все это странно, – отвечает Бремен. – Разрешает большинство явных парадоксов квантовой механики, но забирается в дебри, как и большинство теорий. И…
Его жена в нетерпении заглядывает дальше фраз и математических образов, в самую суть того, что он пытается объяснить. «Параллельные миры!» Она вдруг понимает, что произносит это вслух, почти выкрикивает. Мужчина, сидящий через проход от них, поднимает голову, а потом снова утыкается в газету.
Параллельные миры, – телепатическим шепотом повторяет Гейл.
Джереми слегка морщится.
Фантастика…
Научная фантастика, – поправляет супруга. – Но этот Хью Эверетт предположил расщепление реальности в равноценные и независимые параллельные миры… или параллельные вселенные… так?
Бремен все еще хмурится, недовольный выбором слов, но видит, что идею Гейл поняла.
Нечто вроде. Ну… возьмем, к примеру, эксперимент с двумя щелями. Когда мы пытаемся наблюдать распределение волны электрона, частица знает, что мы смотрим, и коллапсирует в конкретную частицу. Когда мы не наблюдаем, электрон держит открытыми оба варианта… частицы и волны. Причем интересно, что когда он ведет себя как волна… Помнишь картину интерференции?
Да.
Так вот, это волновая картина интерференции, но, согласно правилу Борна, волновую интерференцию создают не ЭЛЕКТРОНЫ, проходящие через щели, а ВЕРОЯТНОСТИ проходящих волн. Это интерференция волн вероятности!
Гейл растерянно моргает: Ты потерял меня, кемосабе[12].
Джереми пытается привести пример, но у него получаются только примитивные уравнения:
I = (H + J)2
I = H2 + J2 + 2HJ
не
I = I1 + I2
Он видит, как хмурится Гейл, посылает ей реплику Черт! – и мысленно стирает мысленную доску.
Малыш, это значит, что частицы остаются частицами, но наше наблюдение за ними заставляет их выбирать образ действий… Эта щель? Или та?.. Столько вариантов… А поскольку вероятность прохождения через ту или иную щель одинакова, мы регистрируем волны вероятности, создающие дифракционный узор на экране позади щелей.
Гейл кивает – до нее постепенно доходит.
Все правильно, малыш, – подбадривает ее Джереми. – Мы наблюдаем за коллапсом структур вероятности. За исчезновением альтернатив. Мы наблюдаем, как чертова Вселенная перестраивает себя из ограниченного спектра возможностей в еще более ограниченный спектр реальностей.
Гейл вспоминает дерево, о котором он думал.
Это и есть теория Хью Эверетта…
Точно! – Бремен ликует. Он много лет хотел поделиться этим с Гейл, но боялся выглядеть занудой. – Теория Эверетта утверждает, что когда мы принуждаем электрон к выбору, на самом деле он не ВЫБИРАЕТ ту или иную щель или вероятность, а просто расщепляет всю реальность, в которой мы… наблюдатель… видит, как он проходит через одну щель, тогда как его равноценный и независимый вероятностный партнер проходит через другую.
У Гейл кружится голова от успешной попытки понять идею.
То есть наблюдатели во «второй вселенной» видят, как он проходит через другую щель.
– Точно! – кричит Джереми.
Он оглядывается, понимая, что сказал это вслух. Похоже, никто из пассажиров не обратил на него внимания. Бремен снова закрывает глаза, выстраивая череду образов.
Точно! Эверетт изящно разрешает квантовые парадоксы, утверждая, что каждый раз, когда частица квантовой энергии или материи вынуждена делать такой выбор – то есть когда мы пытаемся наблюдать ее выбор, – на дереве реальности отрастает новая ветвь. Появляются две равноценные и независимые реальности!
Гейл сосредотачивается, вспоминая сине-белые обложки серии научно-фантастических книг.
Параллельные миры! Как я и говорила!
Не совсем параллельные, – возражает Джереми. – Слова и образы этого не передают, но попробуй представить растущее и ветвящееся дерево.
Гейл устала.
Ладно… и вы с Джейкобом радовались и одновременно расстраивались, что ваш анализ этих голограмм… этих стоячих волн, которые, по вашему мнению, отображают человеческое сознание… как-то связан с теорией Эверетта?
Бремен думает о сотнях уравнений, на доске и на листах бумаги – их с лихвой хватит на вторую диссертацию.
Карты голографического сознания Джейкоба показывают, что оно расщепляет функции вероятности реальности… «выбирает»… как электроны.
Гейл раздражает простота его объяснения.
Мне не нужна твоя снисходительность, Джереми. Люди не выбирают, через какую щель им проскочить. Люди не размазывают свои волны вероятности, как интерференционные картины на стене!
Джереми отправляет бессловесное извинение, но в его настойчивых словах нет попытки оправдаться.
Выбирают! Мы все выбираем! И не только из миллионов вариантов, с которыми сталкиваемся ежедневно… Сидеть? Стоять? Купить билет на этот поезд или на следующий? Какой повязать галстук?.. Это гораздо более важный выбор интерпретации данных, которые Вселенная каждую секунду посылает нам через органы чувств. Вот где делается выбор, Гейл… Вот где математика говорит мне и Джейкобу, что структуры вероятности коллапсируют и рекомбинируют каждые несколько секунд… Интерпретация реальности! – Джереми напоминает себе, что нужно заказать последние статьи по математике хаоса и фрактальному анализу, как только они вернутся домой.
Гейл видит противоречие в его теории.
Но, Джереми, твоя реальность и моя реальность связаны. Мы знаем это благодаря своим телепатическим способностям. Мы видим одно и то же… чувствуем одни и те же запахи… прикасаемся к одним и тем же вещам.
Бремен берет жену за руку.
Именно это, малыш, нам с Джейкобом и предстоит исследовать. Структуры вероятности коллапсируют постоянно. От почти бесконечных спектров к очень ограниченным… во всех наблюдаемых стоячих волнах… во всех МРТ-изображениях сознания… Но, похоже, существует некий детерминирующий фактор в принятии решений, какой каждую секунду должна быть наблюдаемая реальность.
Гейл прикусывает губу.
???????????????????
Джереми пытается еще раз.
Понимаешь, малыш, это как будто диспетчер указывает всем электронам, через какую щель проходить. Некая… сила… некий неслучайный делинеатор вероятности указывает всей человеческой расе… или, по крайней мере, нескольким сотням ее представителей, которых исследовал Джейкоб… КАК воспринимать реальность, которая должна быть в высшей степени непредсказуемой. Хаотичной.
Телепатический обмен на какое-то время прекращается. А потом Гейл осторожно высказывает предположение:
Бог?
Джереми улыбается, но улыбка быстро сходит с его лица. Он абсолютно серьезен, как и его жена.
Может, и не Бог. Но, по меньшей мере, его игральные кости.
Гейл отворачивается к окну. Серые строения, мимо которых они проезжают, напоминают ей длинные ряды бараков в Равенсбрюке.
Ни она, ни Джереми больше не пытаются установить телепатическую связь. Пока не оказываются дома. В постели.
Ветер в сухой траве
Обязанностей у Бремена было не счесть.
Раньше он никогда не бывал на ранчо и не представлял масштаб и разнообразие физического труда на участке площадью шесть тысяч акров, окруженном – как этот – полумиллионом акров «заповедного леса», хотя за пределами относительно влажного каньона, где располагалось само ранчо, не было видно ни одного дерева. Физический труд, как в последующие недели выяснил Джереми, был не просто пугающим – от него болела спина, вспухали мозоли, разрывались легкие, градом катил пот, а во рту ощущался привкус крови и желчи. В самом начале, с точки зрения плохо питавшегося, малоподвижного, бледного и костлявого алкоголика, каким был Бремен, предполагаемый объем работы казался новым, неизведанным вызовом.
Он представлял жизнь на ранчо – когда вообще задумывался об этом – как романтические прогулки верхом с небольшими перерывами на выгон табуна лошадей на пастбище и на починку проволочного забора. Он ничего не знал о работах по поддержанию порядка вокруг ранчо, о вечернем кормлении животных – от гусей на озере до экзотических лам, которых коллекционировала миз Морган, – о долгих поездках на джипе в поисках заблудившихся животных, о бесконечной починке механизмов – автомобилей, насосов, электромоторов и кондиционера в самом флигеле, – не говоря уже о таких неприятных занятиях, как кастрирование животных, вылавливание раздутых трупов овец из ручья после ночного наводнения или очистка главного хлева от навоза. Приходилось много работать лопатой: копать ямы под столбы, траншеи под новую канализационную систему и шестидесятифутовую подводную канаву для ирригационного канала, а также вскапывать сад Файетт площадью три четверти акра. Каждый день телепат проводил много часов на ногах, в новых рабочих ботинках, которые миз Морган заставила его купить в первую же неделю, а еще больше времени трясся за рулем пыльного открытого джипа – но ни разу не садился на лошадь.
Бремен выжил. Дни тянулись дольше, чем когда-либо после аспирантуры в Гарварде, когда он пытался пройти четырехлетний курс за три года, но пыль и гравий, колючая проволока и напряжение мускулов в конечном итоге заканчивались опускающимся за горы солнцем, после чего – когда багровые тени ползли по каньону и по пустыне, словно пролитое вино, – он возвращался во флигель, минут тридцать стоял под душем, готовил себе горячий ужин и падал в постель еще до того, как на холмах над ранчо начинали выть койоты. Бремен выжил. Дни складывались в недели.
Тишина здесь отличалась от глубокого внутреннего покоя хижины во Флориде: обманчивое спокойствие в центре бури. Рев странного ментального щита миз Морган, состоящего из белого шума, вызывал у Джереми ощущение, что он стоит под белесым небом ложного спокойствия в центре урагана, куда проникает только далекий грохот безумных ветров, образующих разрушительный смерч.
Бремен радовался этому звуку. Он заслонял поток нейрошума, который словно тянулся к нему со всего континента: шепот, угрозы, крики, заявления, ночные признания самому себе, жестокие прозрения… Вселенная была наполнена этим самообманом и эгоистичным самоуничижением, причем каждая последующая волна оказывалась мрачнее предыдущей, но теперь остался лишь белый шум, генерируемый сильной личностью Файетт Морган.
Джереми нуждался в нем. Стал зависим от него. Даже двадцатимильное путешествие в соседний городок по четвергам превратилось для него в наказание, в ссылку, которую он с трудом переносил, поскольку защитная пелена шума от миз Морган ослабевала, и на него со всех сторон обрушивались чужие мысли, мечты, желания и маленькие грязные тайны – острыми лезвиями вонзаясь ему в глаза и в небо.
Флигель оказался вполне подходящим жильем: кондиционер охлаждал воздух, прогоняя августовскую жару, кровать была удобной, на кухне имелось все необходимое и даже больше, к душу была протянута труба из пруда-накопителя в полумиле выше по склону, так что вода никогда не кончалась, а сам душ располагался в закутке между валунами, скрытый от главной гасиенды. Во флигеле даже был телефон, хотя сам Бремен звонить по нему не мог: телефонная линия шла только к гасиенде, и аппарат звонил, если миз Морган хотела, чтобы он сделал то, что она предыдущим вечером забыла включить в «задание» – один лист желтой линованной бумаги, прикрепленный к доске для объявлений на узком крыльце флигеля.
Бремен быстро выучил запретные зоны. Нельзя было приближаться к гасиенде. Шесть собак были хорошо обученными – по команде они сразу же возвращались к хозяйке, – но злобными. На третий день пребывания на ранчо Джереми видел, как эти псы загрызли койота, который совершил ошибку, слишком далеко зайдя на широкое пастбище вдоль ручья. Собаки действовали слаженно, словно стая волков, – окружили койота, перегрызли ему сухожилия, а потом повалили на землю и прикончили.
Также Джереми не разрешалось приближаться к «холодильнику», низкому строению из шлакобетонных блоков за валунами неподалеку от гасиенды. На крыше этой постройки располагался бак на полторы тысячи галлонов воды, и в первый же день миз Морган, указав на толстые шланги и массивные краны на одной из стен, объяснила, что вода хранится там на случай пожара. Прикасаться к ним наемным работникам тоже запрещалось – разве что по прямому указанию Файетт.
Из той же экскурсии, проведенной хозяйкой ранчо в первый день, Бремен узнал, что у «холодильника» есть собственный генератор – иногда ночью до него доносилось тарахтенье двигателя. Морган объяснила, что предпочитает сама свежевать говядину со своего ранчо и дичь, которую она привозила после еженедельных охотничьих набегов на холмы, и что в холодильнике хранится превосходное мясо стоимостью в несколько тысяч долларов. У нее уже были проблемы – сначала с электричеством, когда испортилось огромное количество говядины, а потом с наемными работниками, имевшими привычку брать говяжий бок и сбегать под покровом ночи. Теперь никому не разрешено приближаться к «холодильнику», и собаки обучены набрасываться на всякого, кто сделает хоть шаг по каменной дорожке, ведущей к дверям с массивным висячим замком.
Дни складывались в недели, и вскоре Бремен подчинился бездумному циклу тяжелого труда и сна, прерываемому лишь молчаливой трапезой и ритуалом любования заходящим солнцем на крыльце флигеля. Редкие поездки в город становились все более неприятными – Джереми оказывался за границей действия белого шума миз Морган, и в его сознание острыми лезвиями вонзались чужие мысли. Словно чувствуя это, Файетт стала ездить за покупками сама, и после третьей недели Бремен ни разу не покидал ранчо.
* * *
Однажды, разыскивая стреноженную рабочую лошадь, которая не спустилась на главное пастбище, Бремен наткнулся на заброшенную часовню. Она пряталась за крутым хребтом, и ее стены телесного цвета сливались с окружающими скалами. Крыша у часовни отсутствовала – она не просто обрушилась, ее не было вообще, – а деревянные ставни, двери и скамьи сгнили до такой степени, что превратились в сухую пыль.
В провалы окон задувал ветер. На том месте, где когда-то был алтарь, по груде костей прыгало перекати-поле.
Кости.
Джереми подошел, сел на корточки среди гонимой ветром пыли и стал изучать белые предметы. Кости – хрупкие, пористые, почти окаменелые. Бремен был уверен, что большинство из них принадлежали скоту – он видел грудную клетку, судя по размерам, теленка, длинный ксилофон коровьего позвоночника и даже торчавший из груды череп, как на картинах Джорджии О’Кифф, – но костей было очень много. Как будто кто-то сваливал здесь туши животных, прямо на алтарь, пока тот не рухнул под весом разлагающегося мяса.
Джереми покачал головой и пошел к джипу. Ветер гремел сухими ветками над безымянными могилами позади часовни.
* * *
В тот же летний вечер, вернувшись из поездки к южным границам ранчо, Бремен заметил у «холодильника» какую-то фигуру. Он притормозил перед хлевом, не приближаясь к самому запретному зданию. Ему стало любопытно. Собак поблизости не было.
Ярдах в пятнадцати от него, у стены «холодильника», вдоль которой от бака на крыше спускались шланги, мылась под душем миз Морган. Импровизированный душ представлял собой пожарный шланг с прикрученной головкой разбрызгивателя. В первую секунду Джереми ее не узнал – мокрые волосы, стройная спина, поднятое вверх лицо. Руки и лицо покрыты бронзовым загаром, а все остальное тело очень белое. Лучи заходящего солнца освещали капли воды на бледной коже и темные волосы внизу живота. Потом хозяйка ранчо выключила воду и потянулась за полотенцем. Увидев Бремена за рулем джипа, она замерла – вполоборота к нему, с повисшей в воздухе рукой. Но ничего не сказала. И не прикрылась полотенцем.
Смутившись, Джереми кивнул и поехал дальше. В боковом зеркале джипа он увидел, что Файетт все еще стоит там: ее белая кожа выделялась на фоне облупленного зеленого «холодильника». Она так и не прикрылась – и наблюдала за ним.
Бремен уехал.
* * *
В ту ночь Джереми заснул, выключив кондиционер и отрыв окна без сеток, чтобы внутрь проникал ветер мертвой пустыни, – и проснулся, когда начались ви-дения.
Он проснулся от звука скрипки – создавалось впечатление, что кто-то грызет и зубами растягивает струны инструмента. Бремен сел на кровати и, моргая, уставился на лиловый свет, проникавший в комнату сквозь хлопающие ставни.
На потолке шептались тени. Сначала Джереми по-думал, что чужие мысли смогли просочиться через защитное поле белого шума миз Морган, но это был не звук телепатического контакта, а просто… звук. Тени на потолке перешептывались.
Бремен натянул на себя сырую простыню, стиснув ее так, что побелели костяшки пальцев. Тени двигались, отделялись от шепота, скользили вниз по стенам и внезапно становились абсолютно черными на фоне лиловых отблесков бури в окнах.
Со стен стали спускаться летучие мыши. С лицами детей и обсидиановыми глазами. Они свистели и хлопали крыльями.
Снаружи, в лиловом вихре, звонили колокола, и из пустых колодцев доносился хор голосов, певших заупокойную мессу. Где-то совсем близко – возможно, под кроватью Джереми – каркал ворон, а потом хриплый голос этой птицы сменился стуком костей в сухой чашке.
Летучие мыши с детскими лицами ползли вниз, пока не стали падать на кровать Бремена, похожие на извивающихся крыс с кожистыми крыльями и улыбками на младенческих лицах.
Джереми закричал. В небе сверкнула молния, а потом загрохотал гром и зашуршал дождь, словно тяжелая портьера, скребущая по старым доскам.
* * *
На следующий день Бремен не ел, как будто голод мог успокоить его взбудораженный разум. Миз Морган не звонила, и утром на доске для объявлений снаружи флигеля не оказалось записки.
Джереми отправился на юг, на границу ранчо, как можно дальше от гасиенды, и принялся копать ямы под столбы для нового участка забора, который должен был проходить между лесом и прудом. Белый шум обволакивал его.
На одиннадцатой яме, на глубине трех футов его ручной бур наткнулся на лицо.
Бремен опустился на колени. Между лопастями бура застряла мягкая красная глина. А также немного коричневой плоти и белой кости. Джереми взял лопату и расширил отверстие, превратив его в коническую яму.
Лицо и череп были вытянуты вверх, почти отделенные от белых костей шеи и ключиц, словно закопанный человек стремился вынырнуть из земли на воздух. Джереми стал осторожно раскапывать могилу, словно археолог в поисках древних артефактов. На раздавленной грудной клетке сохранились клочки коричневой ткани. Бремен нашел куски левой руки там, где «пловец» поднял ее. Правая же рука отсутствовала.
Положив череп на заднее сиденье джипа, Джереми поехал на ранчо, но при виде гасиенды передумал, свернул наверх, к острому гребню, и немного посидел в часовне, слушая свист ветра в окнах.
Когда он вернулся к себе на закате солнца, во флигеле звонил телефон.
Бремен забрался в кровать и повернулся лицом к неровной стене, не обращая внимания на звонок. Через несколько минут телефон умолк.
Джереми зажал уши ладонями, но белый шум не ослабевал – теперь это был могучий ветер, обрушившийся на него со всех сторон. Когда совсем стемнело и стрекот насекомых у ручья и у «холодильника» стал громче, Бремен перевернулся, ожидая, что телефон зазвонит вновь.
Аппарат молчал. Рядом, на дощатом столе, странно поблескивая в серебристом свете луны, проникавшем в комнату сквозь ставни, лежал череп, который как будто смотрел на Джереми. Мужчина не помнил, как принес его в дом.
* * *
Телефон зазвонил после полуночи, но еще задолго до рассвета. Бремен, не до конца проснувшийся, замер – на секунду ему померещилось, что его зовет череп.
Потом он встал и прошлепал босыми ногами по доскам.
– Алло?
– Приходите в дом, – прошептала миз Морган. Ее голос звучал на фоне тихой музыки, похожей на голоса, поющие в пустых колодцах. – Приходите в дом, сейчас, – повторила она.
Джереми положил трубку на рычаг, вышел из флигеля и при свете луны направился туда, откуда доносился собачий лай.
Глаза
Страсть Джереми и Гейл так сильна, что иногда пугает их обоих.
Однажды Бремен предположил, что их взаимоотношения похожи на процесс в плутониевой мишени, которая взрывается в Ливерморской лаборатории имени Лоуренса. Сотни лазеров на сферической оболочке одновременно выстреливают, подталкивая молекулы плутония друг к другу, а когда между отдельными атомами уже не остается места, шарик мишени сначала коллапсирует, а потом взрывается термоядерной реакцией. Это в теории, пояснил Джереми. На практике устойчивой реакции получить не удалось.
Гейл замечает, что можно было бы подобрать и более романтичную метафору.
Однако позже, размышляя об этом, она признает точность сравнения. Без уникальной способности к телепатии любовь могла быть эфемерной, нестабильной и умирающей после краткого периода полураспада, но телепатическая связь и «давление» многих тысяч ежедневных общих переживаний и ощущений сжало их страсть до такой плотности, которая встречается только в ядрах звезд.
Эта близость постоянно подвергается испытаниям: приходится подавлять естественное человеческое желание приватности, а эмоциональная, артистичная, интуитивная личность Гейл сталкивается с ровным и иногда скучным характером Джереми. Сильнее же всего мешает невозможность ничего скрыть от любимого человека.
Однажды в ясный весенний день Джереми замечает в студенческом городке молодую красивую женщину – она наклоняется, чтобы поднять с земли книги, и ветер задирает ее юбку, – и четыре часа спустя для Гейл это эротическое мгновение так же осязаемо, как аромат духов или след помады на воротнике для других жен.
Они шутят на этот счет. Но следующей зимой, когда Гейл испытывает страстное влечение к поэту по имени Тимоти, им уже не до шуток. Она пытается избавиться от этого чувства или по крайней мере спрятать его за жалкими остатками ментального щита между собой и мужем, но попытка скрыть свои эмоции тоже служит сигналом тревоги, словно неоновая лампочка в темной комнате. Джереми сразу же все понимает и не может скрыть своих чувств – во-первых, боли, а во-вторых, какого-то неестественного восхищения. Больше месяца это краткое и быстро угасающее увлечение Гейл разделяет их с мужем, словно холодное лезвие меча в ночи.
Возможно, ее эмоциональность помогала Бремену сохранить рассудок – иногда он так говорит, – но в других случаях наплыв ее чувств отвлекает его от размышлений или преподавания и другой работы. Гейл извиняется, но Джереми все равно чувствует себя так, словно плывет в маленькой лодке среди бурного моря сильных эмоций жены.
Неспособный извлечь поэзию из своей памяти, Бремен ищет образы в мыслях самой Гейл, чтобы описать ее. И часто находит.
Когда она умирает, он развеивает ее пепел в саду у ручья и молча вызывает в памяти один из позаимствованных образов. Это стихотворение Теодора Ретке:
Я помню ее кудряшки, похожие на усики винограда, Ее быстрый взгляд и зубастенькую улыбку И как она, вступив в разговор, окружалась легкими звуками И с восторгом доказывала что-то свое, Ласточка, милая, хвостик по ветру. Когда она пела, трепетали ветки и веточки, Тени ей подпевали и листья, И шелест их переходил в поцелуи, И пела в белесых аллеях земля, на которой выросла роза. Грустя же, она опускалась в такие глубокие чистые бездны, Что даже отец ее не нашел бы; Терлась щекой о сено, Плескалась в прозрачной речке. Воробышек мой, тебя уже нет, Мой папоротничек, ронявший колючую тень. Влажные камни не могут меня утешить, Как и мох, пораженный закатным блеском. О, если б я мог разбудить тебя, Моя искалеченная радость, Голубка, плескавшаяся в ручье. Над свежей могилой я говорю о своей любви…[13]Исследования Джейкоба Голдмана, связанные с человеческим сознанием, направляют Джереми в те области математики, в которые в противном случае он заглянул бы из чистого любопытства, если б заглянул вообще, – но теперь, в эти последние месяцы перед началом болезни Гейл, они заполняют и меняют его жизнь.
Математика хаоса и фракталы.
Как и большинство современных специалистов, Бремен путается в нелинейной математике. Подобно большинству коллег, он предпочитает классический линейный подход. Туманная область математики хаоса, меньше двух десятков лет считающейся серьезной дисциплиной, казалась Джереми умозрительной и странно стерильной, пока интерпретация голографических данных Голдмана не заставила его заняться изучением хаоса. Фракталы принадлежали к тем хитростям, которые прикладная математика использовала для создания компьютерной графики, – таких, как краткая сцена в одном из фильмов серии «Звездный путь», на который его затащила Гейл, а также иллюстрации в журналах «Сайентифик америкен» и «Математикал интеллидженсер».
Ныне ему снится хаос – и фракталы.
Волновые уравнения Шредингера и анализ Фурье для голографических моделей человеческого сознания завели его в дебри хаоса, и теперь Джереми понимает, что ему комфортно в этих дебрях. Впервые в жизни и в карьере ему требуется компьютер; в конечном итоге он приносит в святая святых своего домашнего кабинета мощный PC-486, оснащенный устройством чтения компакт-дисков, и начинает отправлять заявки на машинное время главного компьютера университета. Но этого недостаточно.
Джейкоб Голдман говорит, что может запустить написанную Бременом программу анализа хаоса на машине «Крэй X-MPs» в Массачусетском технологическом, и Джереми ночами не спит в ожидании этого. Когда прогон заканчивается – через сорок две минуты, настоящая вечность для драгоценного машинного времени, – выясняется, что ответы получились частичными и неполными. Они вызывают бурную радость и одно-временно пугают своим потенциалом. Бремен понимает, что им понадобятся несколько таких мощных компьютеров и команда талантливых программистов. «Дайте мне три месяца», – говорит Джейкоб Голдман.
Ученый убеждает какого-то чиновника из администрации Буша[14], что его исследование в области нейронных связей и голографической функции памяти может помочь в создании кабины «виртуальной реальности», о которой давно мечтают ВВС, и через десять недель у них с Джереми в распоряжении оказывается сеть компьютеров «Крэй» и команда программистов.
Полученные результаты – это чистая математика, и даже диаграммы может понять только математик-исследователь. Поэтому Бремен проводит летние вечера в собственном кабинете, сравнивая свои уравнения с изящными компьютерными диаграммами неопределенных аттракторов Колмогорова, которые напоминают препарированных круглых червей из желоба Минданао[15], но демонстрируют те самые квазипериодические интерференционные картины, а также моря хаоса и острова резонанса, которые были предсказаны его абстрактными математическими выкладками.
Джереми применяет преобразование Пуанкаре. Участки волн вероятности рушатся и коллапсируют, и сеть компьютеров – использовав фракталы, которые Бремен даже не надеется понять, – выдает пакет данных и компьютерные изображения, похожие на какой-то далекий водный мир, где моря цвета индиго усеяны островами, напоминающими морских коньков, разного цвета и бесконечной топологической сложности.
Постепенно все проясняется. Но когда в мозгу Джереми уже складывается целостная картина… когда данные Джейкоба и фрактальные образы компьютера объединяются с прекрасными и устрашающими уравнениями хаоса на доске в его кабинете… «реальный» мир начинает рушиться. Сначала Джейкоб. Потом Гейл.
* * *
Через три месяца после первого посещения клиники, где лечат бесплодие, Джереми приходит к своему лечащему врачу на периодический осмотр. В разговоре он упоминает о череде обследований, через которые приходится проходить Гейл, и о том, что они расстроены неспособностью зачать ребенка.
– Вам сделали только один анализ семени? – спрашивает доктор Леман.
– М-м… – мычит Бремен, застегивая рубашку. – Ах да… Ну, мне предложили прийти еще пару раз, но я был очень занят. Кроме того, результат был вполне определенным. Никаких проблем.
Леман кивает, но слегка хмурит брови.
– Вы помните число… количество сперматозоидов?
Джереми опускает глаза, почему-то смутившись.
– Э… кажется, тридцать восемь.
– Тридцать восемь миллионов на миллилитр?
– Да.
Врач кивает и делает неопределенный жест.
– Не надевайте рубашку, Джереми. Я хочу еще раз померить вам кровяное давление.
– Что-то не так?
– Нет. – Доктор Леман надевает пациенту манжету. – В центре лечения бесплодия вам сообщили, что нормой считается сорок миллионов плюс шестьдесят процентов сперматозоидов с нормальной подвижностью?
Бремен задумывается.
– Кажется, да. Но мне сказали, что небольшое отклонение от среднего может быть следствием того, что мы с Гейл… ну, мы не воздерживались в течение пяти дней до теста, и…
– И еще посоветовали пару раз повторить тест, но заверили, что вам почти наверняка не о чем беспокоиться, а проблема, скорее всего, у Гейл?
– Точно.
– Спустите трусы, – просит доктор Леман.
Джереми подчиняется, чувствуя некоторое смущение, как всякий мужчина, мошонку которого прощупывает врач.
– Зажмите пальцами нос и закройте ладонью рот, – командует медик. – Так, правильно… чтобы воздух не проходил… теперь дуйте и тужтесь, как при дефекации.
Джереми хочет убрать руку и пошутить, но передумывает. И начинает дуть.
– Еще раз, – просит Леман.
Бремен морщится – врач сдавливает его мошонку.
– Хорошо, расслабьтесь. Можете надеть трусы. – Медик подходит к раковине, снимает полиэтиленовую перчатку, бросает ее в корзину и моет руки.
– Что это было, Джон?
Леман медленно поворачивается к нему.
– Это называется метод Вальсальвы. Вы ощущали давление, когда я прижимал пальцем вены по обе стороны от ваших яичек?
Джереми улыбается и кивает. Конечно, ощущал.
– Так вот, нажимая там, я чувствовал ток крови через ваши вены… неправильный ток, Джереми.
– Неправильный?
Доктор Леман кивает.
– Я абсолютно уверен, что у вас варикозное расширение вен семенного канатика правого и левого яичка. И удивлен, что это не проверили в центре лечения бесплодия.
Бремен чувствует, как его захлестывает липкая волна страха, и думает обо всех неприятных тестах, через которые прошла Гейл за последние несколько недель… и обо всех тестах, которые ей еще предстоит пройти. Он откашливается.
– А могут ли эти… варикозные вены… могут ли они помешать нам зачать ребенка?
Доктор облокачивается на стол и скрещивает руки на груди.
– Возможно, проблема именно в них, Джереми. Если это билатеральное варикоцеле, то следствием может быть снижение подвижности сперматозоидов, а также их количества.
– Вы хотите сказать, что тридцать восемь миллионов в клинике – это случайность?
– Вероятно, – кивает врач. – Готов поклясться, что исследование подвижности было сделано небрежно. Думаю, у вас подвижны не больше десяти процентов сперматозоидов.
Джереми чувствует, как изнутри в нем поднимается нечто вроде гнева.
– Почему?
– Варикоцеле – расширение вен семенных канатиков яичек – возникает в результате неправильной работы одного из клапанов семенной вены, в результате чего кровь течет назад, от почек и надпочечников к яичкам. В результате повышается температура в мошонке…
– Что уменьшает выработку спермы, – заканчивает пациент.
Врач кивает.
– В этой крови также содержится высокая концентрация токсичных продуктов метаболизма, таких как стероиды, которые тоже негативно влияют на выработку спермы.
Джереми смотрит на стену, где висит одна-единственная дешевая репродукция картины Нормана Рокуэлла – деревенский врач, слушающий сердце ребенка. И врач, и ребенок – розовощекие карикатуры.
– Вы можете вылечить варикоцеле? – спрашивает он.
– Требуется операция, – говорит Леман. – У мужчин с количеством сперматозоидов более десяти миллионов на миллилитр – а вы попадаете в эту категорию – обычно наблюдается значительное улучшение. Полагаю, процентов на восемьдесят пять или девяносто. Нужно уточнить.
Бремен перемещает взгляд с репродукции Нормана Рокуэлла на доктора.
– Вы можете порекомендовать хирурга, который это сделает?
Медик расцепляет руки и разводит их в стороны.
– Мне кажется, Джереми, лучше всего вернуться в клинику и сообщить о подозрении на билатеральное варикоцеле – пусть проведут дополнительные тесты и порекомендуют хорошего хирурга. – Он смотрит на список в своей папке. – Сегодня вы сдавали кровь, и я попрошу лабораторию проверить уровень гормонов – естественно, тестостерона, но также и фолликукулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, которые вырабатываются гипофизом. Предполагаю, что их уровни будут низкими и что вы относитесь к категории ограниченно фертильных или субфертильных мужчин. – Врач похлопал Джереми по спине. – Звучит страшновато, но на самом деле это хорошая новость, поскольку прогноз благоприятный – вероятность того, что после операции у вас будут дети, очень велика. Гораздо выше, чем в большинстве случаев женского бесплодия.
Доктор Леман мнется – пациент видит, что ему не хочется критиковать коллег, – но все же превозмогает себя.
– Проблема в том, Джереми, что многие врачи в этих центрах по лечению бесплодия знают, что в девяноста процентах случаев причина в женщине, и обычно не дают себе труда тщательно обследовать мужчину, если количество сперматозоидов у него в норме. Своего рода профессиональная близорукость. Но теперь, когда они узнают о варикоцеле… – Медик останавливается в дверях и смотрит на Джереми, который снова застегивает рубашку. – Хотите, чтобы я им сообщил?
Бремен колеблется, но не больше секунды.
– Нет. Я сам. Вероятно, они запросят ваше мнение.
– Отлично, – говорит Леман, готовый идти к следующему пациенту. – Завтра ближе к вечеру Иен пришлет вам результаты анализов крови. Все данные будут готовы для отправки в клинику.
Джереми кивает, надевает спортивную куртку и выходит через приемную на улицу. В машине по дороге домой он подготавливает свой ментальный щит к сокрытию факта варикоцеле. Это ненадолго, – уговаривает себя Бремен, маскируя барьер случайными мыслями и образами, подобно тому, как охотник прячет ловушку под ветками и листьями. – Совсем ненадолго, пока я все не обдумаю.
Заставляя себя забыть то, что узнал от врача, Джереми уже понимает, что лжет.
Глаз нет здесь
В темноте Бремен поднялся по склону холма, мимо джипа, припаркованного в нескольких ярдах от того места, где он его оставил, мимо лающих в своем загоне ротвейлеров – раньше их никогда не оставляли в загоне на ночь, – и через открытую дверь вошел в дом.
Внутри было полутемно. Коридор освещался единственной латунной лампой в форме подсвечника – в дальнем конце, где находилась спальня миз Морган. Джереми чувствовал ее присутствие, теплую волну белого шума, которая усиливалась, словно кто-то крутил ручку громкости ненастроенного радиоприемника. Этот шум вызывал головокружение и легкую тошноту. А также возбуждал. Бремен, словно лунатик, пересек прихожую и двинулся по коридору. Бешеный лай собак стих.
В спальне хозяйки горел только настольный светильник с двадцатипятиваттной лампочкой – на него была наброшена какая-то ткань, и он давал слабый розовый свет. Джереми на секунду замер в дверном проеме, чувствуя, что теряет равновесие, – он словно балансировал на краю глубокой круглой ямы. Затем он шагнул вперед и заставил себя погрузиться в волну белого шума.
Прозрачный маркизетовый полог над кроватью на четырех столбиках блестел в розовом свете, похожий на шелковистую паутину. Бремен увидел Морган на дальнем конце кровати, куда почти не добирался слабый свет. Тонкая ткань балдахина почти ничего не скрывала.
– Входи, – прошептала женщина.
Джереми вошел, неуверенно переставляя ноги, словно ему отказывали зрение и чувство равновесия. Он начал обходить кровать, но из тени снова послышался голос Файетт:
– Нет, подожди секунду.
Бремен замер в нерешительности, и в голове у него немного прояснилось. Потом он увидел, как прозрачная ткань раздвинулась и миз Морган наклонилась к стакану или маленькому контейнеру на ночном столике. Быстрое движение руки ко рту и возвращение стакана на место. Скрытое в тени лицо женщины изменилось.
У нее искусственные зубы, – подумал Бремен, чувствуя прилив неприязни к хозяйке. – Забыла вставить.
Она снова поманила его к себе, движением запястья и пальцев. Джереми обошел дальний край кровати, так что его тело отбросило еще более густую тень на лежащую женщину, и снова остановился, неспособный двинуться ни вперед, ни назад. Возможно, Морган что-то говорила, но сознание Бремена заполнял рев белого шума. Этот шум затопил его, словно волна теплой, как кровь, воды, поступающая из невидимого гидранта и дезориентирующая еще больше.
Он протянул руку к пологу, но почувствовал удар длинных сильных пальцев. Файетт подалась вперед, опираясь на локти, каким-то кошачьим и, одновременно, женственным движением, приблизив лицо к его ногам. Когда ее плечи раздвинули ткань балдахина, Джереми понял, что отчетливо видит грудь в вырезе ночной рубашки, но не видит лица, скрытого тенью и копной спутанных волос.
Тем лучше, – подумал Бремен и закрыл глаза. Он пытался думать о Гейл, вспоминать Гейл, но поток белого шума заглушал все мысли и чувства, оставляя только усталость и покорность. В последнее мгновение перед тем, как опустились веки, ему показалось, что тени вокруг него пришли в движение.
Морган прижала одну ладонь к его животу, а вторую положила ему на бедро. Бремен дрожал, как породистый жеребец, которого осматривает бесцеремонный ветеринар.
Файетт расстегнула ремень, а потом молнию на его джинсах.
Джереми подался вперед – он хотел наклониться к ней, но ее левая рука вернулась к нему на живот, вынудив его остановиться. Теперь белый шум превратился в ураган статического электричества, разрывающего мозг. Бремен покачнулся.
Одним, почти раздраженным движением миз Морган спустила с него трусы. Он почувствовал прохладный воздух, а потом теплое дыхание, но глаза не открыл. Белый шум невидимыми кулаками обрушивался на его сознание.
Хозяйка ранчо ласкала его – обхватила яички, словно хотела приподнять их и поцеловать, а потом провела теплой ладонью с холодными ногтями по все еще вялому пенису. Бремен слегка возбудился, но его мошонка сжалась, как будто пыталась спрятаться внутри живота. Движения Морган стали энергичнее и настойчивее, подчиняясь скорее ее желанию, чем его. Джереми почувствовал, как ее голова склонилась ниже, почувствовал прикосновение щеки к бедру, шелковистые волосы и теплый лоб на своем животе, и вдруг оглушающий белый шум ослаб, а потом исчез совсем, и Бремен оказался в центре урагана.
И увидел.
Вспоротая плоть и обнажившиеся ребра тел, подвешенных на крюках. Искаженный гримасой ужаса рот и застывшие глаза под пленкой инея. Младенцы из семьи иммигрантов, тоже на крюках, слегка поворачивающиеся из стороны сторону под напором ледяного ветра…
– Боже!
Он инстинктивно отпрянул и открыл глаза за мгновение до того, как рот миз Морган захлопнулся с металлическим лязгом. Бремен увидел блеск острой стали между алых губ и попятился, но наткнулся на прикроватный столик и сбил прикрытую тканью лампу, отчего на стенах взметнулись тени.
Раскрытые челюсти со стальными лезвиями снова устремились вперед. Плечи Файетт извивались и дергались, словно какая-то древняя черепаха пыталась выбраться из своего панциря.
Джереми метнулся вправо, ударился о стену и успел слегка повернуться, так что челюсти промахнулись мимо его гениталий, но отхватили кусок в форме круга от бедра, прямо над бедренной артерией. Он смотрел, как в тусклом розовом свете на ткать балдахина брызжет кровь и как ее капли падают на запрокинутое лицо миз Морган.
Она изогнула шею, словно в оргазме, и замерла – широко раскрытые невидящие глаза, почти идеальный круг рта. Бремен увидел розовые десны зубного протеза и вставленные в пластик бритвенные лезвия. Его кровь размазалась по алым губам и синеватой стали. Когда Файетт раскрыла рот еще шире, готовясь к следующему броску, он заметил, что лезвия расположены концентрическими рядами, как зубы у акулы.
Джереми отпрыгнул влево, ослепленный мысленными образами, которые теперь вращались в центре смерча из белого шума, снова натолкнулся на стол с лампой и резко отпрянул, когда стальные зубы Морган вспороли свисающую полу его рубашки и кожаный ремень и вонзились ему в бок, царапнув по ребру. Женщина замерла. Голова ее тряслась, словно у собаки, держащей в зубах крысу.
Бремен не чувствовал боли – только леденящий ужас. Он натянул джинсы и снова прыгнул, но не в сторону, где Файетт непременно настигла бы его, а прямо через нее – правой ногой оттолкнулся от ее поясницы, словно турист, нашедший камень посреди бурной речки, после чего сорвал полог кровати с одной стороны, раздвинул тонкую ткань с другой, со всего размаху приземлился на локти и пополз к двери. Миз Морган барахталась в складках полога и пыталась схватить его за ноги.
Резкая боль в бедре и в боку вонзилась в него, подобно электрическому разряду в нервы спинного мозга.
Не обращая внимания на боль, он продолжал ползти к двери. А потом оглянулся.
Файетт выбралась из прозрачного полога кровати и была уже на полу; она ползла за ним, царапая накрашенными ногтями по деревянному полу. Ее челюсти с вставленными протезами выдавались вперед, словно у оборотня, превращавшегося в волка.
Бремен оставлял за собой кровавый след, и женщина как будто принюхивалась, приближаясь к нему по скользким доскам.
Вскочив на ноги, Джереми бросился бежать, натыкаясь на стены в коридоре и на мебель в гостиной. Он испачкал кровью диван, когда споткнулся и перелетел через него, прежде чем прыгнуть к двери. И вот он уже снаружи, жадно вдыхает холодный воздух, одной рукой придерживая джинсы, а другой зажимая рану на бедре. Хромая, Джереми побежал вниз по склону холма.
Ротвейлеры за проволочной оградой сходили с ума – захлебываясь рычанием, они прыгали на сетку. Услышав смех, Бремен оглянулся на бегу – миз Морган стояла в дверном проеме, и через прозрачную ночную рубашку просвечивало ее длинное и сильное тело.
Она смеялась, а во рту у нее блестели лезвия.
Бремен увидел продолговатый предмет в ее руках – знакомое движение, после чего послышался звук заряжаемого дробовика шестнадцатого калибра. Джереми попытался бежать зигзагом, но рана на ноге замедляла движение, и зигзаги превратились в череду неуклюжих рывков, как будто проржавевший Железный Дровосек пытался выполнить какой-то хитроумный маневр. Бремену казалось, что он одновременно плачет и смеется, хотя на самом деле не издал ни звука.
Оглянувшись, Джереми увидел, что Файетт наклоняется, после чего начинает тарахтеть генератор позади «холодильника», и подъездную дорожку ниже гасиенды, флигель, хлев и ближайшие три сотни футов поля за домом внезапно заливает свет мощных прожекторов, превращая ночь в день.
Она уже делала это раньше. Бремен побежал, сломя голову, к флигелю и джипу, но потом вспомнил, что машину переставили, и сообразил, что хозяйка наверняка вывела ее из строя – скорее всего, сняла крышку распределителя зажигания. Преодолевая отвращение, он попытался прочесть ее мысли, но белый шум вернулся, причем стал еще громче. Джереми снова оказался среди бушующего урагана.
Она уже делала это раньше. Много раз. Бремен понимал: если он побежит к дороге или к реке, миз Морган без труда настигнет его на джипе или на «Тойоте». Флигель – явная ловушка.
Он резко затормозил на ярко освещенном гравии и застегнул джинсы. Потом наклонился, чтобы осмотреть раны на бедре и в боку, и едва не потерял сознание: сердце билось так сильно, что его удары напоминали тяжелые шаги за спиной. Джереми сделал несколько медленных, глубоких вдохов, прогоняя черные пятна перед глазами.
Джинсы пропитались кровью, и обе раны все еще кровоточили, но несильно – похоже, артерия не повреждена. Будь это артерия, я бы уже был мертв. Не обращая внимания на головокружение, Джереми встал и оглянулся на гасиенду, оставшуюся ярдах в шестидесяти позади него.
Морган, в джинсах и рабочих ботинках, вышла на крыльцо. Верхнюю половину ее тела прикрывала лишь забрызганная кровью ночная рубашка. Рот и челюсти выглядели иначе, но с такого расстояния Бремен не мог точно сказать, на месте ли зубные протезы.
Она открыла электрощит в дальнем конце крыльца, и у ручья и вдоль подъездной дорожки вспыхнули новые дуговые лампы.
Джереми казалось, что он стоит посреди пустого стадиона, освещенного для ночной игры.
Файетт подняла дробовик и, не целясь, выстрелила в его сторону. Бремен отпрыгнул, хотя и знал, что находится на безопасном расстоянии. Дробь ударила в гравий у его ног.
Он снова оглянулся, пытаясь справиться с паникой, которая вернулась вместе с ревом белого шума и путала мысли, а потом повернул налево, к валунам позади гасиенды.
За скалами тоже вспыхнули прожекторы, но беглец упорно карабкался вверх, чувствуя, что рана на бедре снова начала кровоточить. У Джереми было такое впечатление, словно у него вырезали кусок мяса с помощью острой, как бритва, ложечки для мороженого.
Сзади послышался еще один выстрел из дробовика, а потом рычание и вой – миз Морган спустила собак.
Глаза
За несколько недель до того, как выяснилось, что причина головных болей Гейл – опухоль мозга, Джереми получает письмо от Джейкоба Голдмана.
Дорогой Джереми,
Я все еще пытаюсь осмыслить ваш с Гейл последний визит и результаты предложения использовать вас в качестве «подопытных кроликов» для картирования глубоких областей коры. Результаты по-прежнему – как мы обсуждали лично и по телефону в прошлый четверг – поразительные. Другого слова я не подберу.
Я уважаю вашу частную жизнь и ваши желания и поэтому больше не буду пытаться убедить вас присоединиться ко мне в изучении так называемой телепатической связи, способность к которой вы приобрели в подростковом возрасте. Даже если б ваша простая демонстрация оказалась недостаточно убедительной, продолжающие поступать цифровые данные способны убедить кого угодно. В частности, они убедили меня. В определенном смысле я испытываю облегчение, что в наших исследованиях мы не будем углубляться в эту область, хотя вы должны понимать, какой бомбой стало это открытие для одного пожилого физика, который занялся исследованием мозга.
Тем временем ваше последнее письмо, посвященное математическому анализу, который для меня по большей части слишком сложен, стало еще более мощной бомбой. По сравнению с ней Манхэттенский проект может оказаться сущей мелочью.
Если я правильно понял ваш анализ с использованием фракталов и теории хаоса (по вашим словам, полученные данные практически не оставляют места для альтернативной гипотезы), то сложность человеческого разума превышает самые смелые ожидания.
Если двумерная голографическая картина сознания человека, полученная методом Паккарда-Такенса, верна – в чем я не сомневаюсь, – то человеческий разум является не просто органом самосознания Вселенной, но также (прошу простить меня за чрезмерное упрощение) и конечным арбитром. Я понимаю, что вы использовали термин «странный аттрактор» из теории хаоса как описание роли разума в создании фрактальных «островов резонанса» в хаотичном море коллапсирующих волн вероятности, но мне по-прежнему трудно представить Вселенную, не имеющую формы, за исключением той, которая навязывается ей человеческим наблюдением.
Задуматься меня заставил сценарий переменной вероятности, который вы описываете в конце письма (до такой степени, что я прервал эксперименты по картированию глубоких зон коры, пока осмысливал тавтологические последствия этого вполне возможного варианта).
Джереми, я думаю о вашей с Гейл способности: как часто она встречается, сколько у нее градаций и какое значение она должна иметь для человеческого опыта.
Вы, наверное, помните, как мы пили виски двадцатилетней выдержки после получения первых результатов цифрового картирования вас и Гейл, и вы объясняли мне основу аномалий: я предположил – кажется, после нескольких глотков, – что величайшие умы в истории человечества, возможно, как раз и были такими «универсальными интерферометрами». То есть Ганди и Эйнштейн, Иисус и Ньютон, Галилей и мой старый друг Джонни фон Нейман обладали сходной (но, очевидно, не абсолютно одинаковой) формой «телепатической связи», позволявшей постигать разные формы существования – физические основы Вселенной, психологические и моральные основы нашей маленькой, человеческой ее части и так далее.
Помню, вы тогда смутились. Я не ставил перед собой такую цель, когда высказывал это предположение. Не ставлю и теперь, повторяя свою гипотезу.
Мы все – без исключения – являемся глазами Вселенной. Те из вас, кто обладает этой удивительной способностью и может заглядывать в душу человека или в сердце самой Вселенной, служат механизмом, с помощью которого мы фокусируем и направляем свой взгляд.
Подумайте, Джереми: Эйнштейн провел свой «мысленный эксперимент», и Вселенная создала новую ветвь вероятности, соответствующую нашим более точным представлением. Волны вероятности, разбивающиеся о сухой песок вечности.
Моисей и Иисус воспринимали новые движения тех звезд, которые управляют нашей моралью, и Вселенная формировала альтернативные реальности, чтобы подтвердить их наблюдения. Коллапсирующие волны вероятности. Нет ни частицы, ни волны, пока в уравнение не войдет наблюдатель.
Невероятно. И еще более невероятна ваша интерпретация работы Эверетта, Уилера и Девитта. Каждое мгновение нашего «глубокого наблюдения» создает независимые и равновероятные вселенные. В которые мы никогда не попадем, но которые можем сделать реальными в моменты принятия важных решений в нашей жизни в этом континууме.
Где-то не было Холокоста, Джереми. Где-то, возможно, еще живы моя первая жена и мои дети.
Я должен подумать об этом. В ближайшее время я свяжусь с вами и с Гейл. Я должен все обдумать.
Искренне ваш, ДжейкобЧерез пять дней после того, как Джереми и Гейл получили это письмо, глубокой ночью позвонила Ребекка, дочь Голдмана. Накануне вечером отец поужинал с ней, а потом удалился к себе в кабинет, «чтобы закончить обработку кое-каких данных». Ребекка поехала по делам и вернулась в офис около полуночи.
Джейкоб Голдман застрелился из «Люгера», который хранил в нижнем ящике письменного стола.
Здесь нет глаз
Хромая – кровь никак не останавливалась – и спотыкаясь, Бремен взбирался по склону холма к «холодильнику» и валунам за ним. Дуговые лампы теперь освещали всю территорию, и тень оставалась только в расселинах и проходах среди скал. Ротвейлеров выпустили, и Джереми слышал их приближающийся вой.
Не в скалы… именно туда она тебя загоняет.
Беглец остановился в тени «холодильника». Он тяжело дышал, а перед глазами у него опять поплыли круги. Воспоминания… семья нелегальных иммигрантов, мексиканцев, которых она подобрала, когда у них сломалась машина… Собаки окружили их между валунами… Миз Морган прикончила их из охотничьего ружья, стоя наверху, на гребне.
Бремен покачал головой. Собаки приближались. Они мчались уже не по дороге, а через редкий кустарник. Джереми заставил себя вспомнить череду жутких картин, которые открылись ему в центре урагана… Все, что могло бы помочь.
Обрамленные инеем глаза… Красные ребра, выпирающие из замороженной плоти… Десятки могил за многие годы… Как плакала и умоляла девушка-беглянка летом 1981 года, прежде чем лезвие вонзилось в ее горло… Ритуал подготовки «холодильника»…
Собаки взбирались на холм, и их вой превратился в рычание, близкое и грозное. Теперь Бремен мог видеть глаза животных. Ниже по склону, в ярком свете дуговых ламп, за ними следовала миз Морган с дробовиком в руках.
27-9-11. На несколько секунд, показавшиеся ему вечностью, у Джереми перед глазами всплыли эти цифры – какая-то часть ритуала… важная… но он никак не мог понять их значение. Псы, которые были уже в пятнадцати футах от него, злобно рычали, как одно шестиглавое чудовище.
Бремен сосредоточился, а затем резко повернулся и бросился к «холодильнику». Массивная металлическая дверь была надежно заперта – толстый засов, тяжелая цепь, большой кодовый замок. Джереми лихорадочно крутил барашки замка, пытаясь опередить собак. 27-9-11.
Первая прыгнула на него, когда он сорвал цепь с засова и открытого замка. Бремен отпрыгнул – и одновременно взмахнул четырехфутовой цепью. Ротвейлер отлетел, но остальные псы наступали на Джереми, выстроившись полукругом, – они отрезали ему пути к отступлению и фактически прижали к двери «холодильника». Бремен с изумлением обнаружил, что тоже рычит и скалит зубы, отгоняя животных цепью. Они попятились и стали по очереди бросаться на него, стараясь вцепиться в руку или ногу. Воздух наполнился брызгами собачьей слюны, какофонией голосов человека и животных.
Их обучили не убивать, – подумал Бремен сквозь адреналиновый туман. – Не сразу.
Он посмотрел поверх головы самого большого ротвейлера и увидел миз Морган, шагавшую через заросли шалфея на склоне холма и уже поднявшую дробовик. «Лежать, черт бы вас побрал, лежать!» – крикнула она собакам, но все равно выстрелила. Дробь ударила в бетонный блок и срикошетила в верхнюю треть металлической двери. Ротвейлеры отскочили в сторону.
Джереми – выстрел не причинил ему вреда – опустился на четвереньки, открыл тяжелую дверь и пополз в холодную тьму. Следующий заряд дроби ударил в дверь позади него.
Он встал, покачнулся, опираясь на раненую ногу, и попытался найти что-нибудь, чем можно запереть дверь… засов, ручку, крюк для цепи… Ничего. Бремен понял, что дверь сконструирована так, чтобы открываться от легкого точка, если снаружи не висит цепь. Он попытался нащупать выключатель, но его не было – ни на покрытых инеем стенах по обе стороны от двери, ни над дверью.
Вой собак, который не могли заглушить толстые стены и железная дверь, смолк – их хозяйка подошла к двери, прикрикнула на животных и пристегнула к их ошейникам поводки. Дверь приоткрылась.
Джереми ковылял во тьме, наталкиваясь на говяжьи туши; подошвы его рабочих ботинок скользили по заиндевевшему полу. «Холодильник» был большим – как минимум, сорок футов на пятьдесят; замороженные туши висели на крюках, которые скользили по железным балкам под потолком. Пройдя футов двадцать, Бремен остановился, прислонился к мерзлому говяжьему боку, который затуманился от его дыхания, и оглянулся.
Миз Морган лишь слегка приоткрыла дверь, и узкая полоска света освещала ее ноги и высокие ботинки. Два ротвейлера впереди нее молча натягивали поводки, и дыхание человека и двух собак густым облачком поднималось вверх в морозном воздухе. Зажав дробовик под мышкой удерживающей собак руки, Файетт подняла вверх нечто вроде дистанционного пульта от телевизора.
Вспыхнули яркие флуоресцентные лампы, освещавшие каждый уголок «холодильника».
Бремен заморгал, а потом увидел, что миз Морган направляет на него дробовик, и успел укрыться за говяжьей тушей. Дробь ударила в замороженное мясо и отскочила в узкий проход между рядами других туш, которые еще раскачивались, потревоженные телепатом секунду назад.
Джереми почувствовал толчок в правое плечо и увидел, как по его руке потекла кровь. Задыхаясь, он прислонился к выпотрошенной говяжьей туше.
Только это была не говяжья туша. По обе стороны от вскрытых ребер виднелись белые груди. Железный крюк вошел в спину женщины чуть ниже шеи и вышел у ключицы, над тем местом, где тело рассекли надвое. Глаза под тонкой пленкой инея были карими.
Джереми, спотыкаясь, бросился прочь. Он размахивал руками и прыгал между проходами, стараясь, чтобы туши закрывали его от миз Морган. Ротвейлеры рычали и лаяли – их голоса искажались холодным воздухом и необычной акустикой длинного помещения из шлакоблоков.
Бремен знал, что здесь нет окон, а дверь только одна. Теперь он приблизился к дальней стене, держась слева от двери, потому что там было больше туш, но, судя по скрежету собачьих когтей на обледеневшем полу, Файетт тоже сдвигалась влево, перемещаясь вдоль стены с дверью.
В руке Джереми по-прежнему держал цепь, но не мог придумать, как пустить ее в ход, если Морган не станет входить в лес из замороженных туш. У задней стены слегка раскачивавшиеся на крюках тела были маленькими – целый ряд из младенцев и детей постарше, понял Бремен, – и уже не могли служить укрытием.
На секунду все смолкло, а потом сквозь треск и рев белого шума безумия миз Морган мелькнула картинка – она наклоняется и под чередой красно-белых туш видит его ноги, в тридцати футах от себя.
Джереми подпрыгнул за мгновение до выстрела. Что-то ударило в его левый каблук, когда он висел, ухватившись правой рукой за крюк, торчавший из груди чернокожего мужчины средних лет. Глаза мертвеца были закрыты, а рана на горле была такой широкой, что ее рваные замерзшие края производили впечатление акульего оскала. Бремен старался не выронить цепь из левой руки.
Файетт крикнула что-то неразборчивое и отпустила одну собаку.
Джереми вскарабкался еще выше на раскачивающийся труп. Псы рванулись вперед по скользкому проходу, а миз Морган снова подняла дробовик.
Глаза
В это самое мгновение, на расстоянии почти тысячи миль к востоку, тринадцатилетнего мальчика по имени Робби Бустаманте, слепого, глухого и умственно отсталого, бьет «дядя», который жил с его матерью последние четыре месяца. «Дядя» спит с его матерью и снабжает ее крэком и героином в обмен на разнообразные услуги.
Преступление Робби состоит в том, что в свои тринадцать лет он не приучен к туалету и его требуется переодеть в то время, когда «дядя» остался один дома с мальчиком. «Дядя», в котором течет колумбийская кровь, впадает в ярость от вида и запаха Робби, вытаскивает его из заваленного подушками угла маленькой комнаты, где мальчик ночью раскачивался в обнимку с плюшевым медведем и молча кивал сам себе, и начинает бить его по лицу кулаком, приближение которого подросток не может видеть.
Бустаманте начинает завывать своим странным высоким фальцетом и поднимает к лицу дрожащие пальцы, чтобы защититься от невидимых ударов.
Это еще больше злит «дядю», и мужчина принимается за Робби всерьез – отводит его немощные руки и бьет изо всех сил, расплющивая синеватые губы, кроша изъеденные кариесом передние зубы, ломая широкий нос и разбивая скулы, так что у мальчика заплывают глаза.
Робби падает, разбрызгивая кровь, на затхлые обои. Не переставая скулить, он начинает хлопать ладонями по рваному линолеуму. «Дядя» этого не знает, но ребенок пытается найти своего плюшевого медведя.
Животные звуки становятся последней каплей, и «дядя» переходит черту, отделяющую избиение от убийства, – он начинает пинать мальчика сапогами с металлическим носком, сначала по ребрам, а потом, когда тот обмякает и перестает скулить, – по лицу.
Ярость мужчины немного стихает, и он смотрит на слепого и глухого мальчика, скорчившегося в углу в неестественной позе – запястья и колени вывернуты, один палец торчит вертикально вверх, покрытая синяками и кровоподтеками шея изогнута под странным углом к толстому рыхлому телу в пропитанной мочой пижаме с черепашками-ниндзя, – и останавливается. Ему уже приходилось убивать людей.
«Дядя» хватает Робби за густые черные волосы и волочит его по линолеуму – сначала по коридору, потом через маленькую гостиную, где на экране черного тридцатидвухдюймового телевизора мелькают яркие краски MTV.
Мальчик уже не скулит. Его разбитые губы оставляют на плитках пола след из слюны и крови. Один невидящий глаз открыт, другой, под рассеченной бровью, полностью заплыл. Безжизненные пальцы бьются о плинтусы в дверных проемах и прочерчивают белые полосы на красных пятнах, которые оставляет лицо.
Мужчина открывает заднюю дверь, выходит, оглядывается, снова заходит в дом и ногами сталкивает свою жертву со ступеней крыльца. Звук такой, словно по шести ступенькам лестницы скатывается мешок из рогожи, наполненный двумя сотнями фунтов желе и камней.
Потом «дядя» хватает Робби за пижаму, из которой мальчик давно вырос, и тащит по мокрой траве через двор. Пуговицы разлетаются в разные стороны, фланель рвется. Убийца чертыхается, снова сжимает в кулаке нестриженые волосы подростка и тащит его дальше – за полусгнивший гараж, за повалившийся забор и пустырь позади него, под мокрые от дождя вязы, а потом в темноту, за границу света. Там, в высокой траве недалеко от реки, где когда-то стояла хижина, сохранился покосившийся туалет. Никто им не пользуется. На выцветшем куске картона, прибитом к двери, видны буквы: «KE P O T». Ручка двери обмотана гнилой веревкой, чтобы внутрь не пробрались дети.
«Дядя» рвет веревку, ныряет в зловонную тьму, отдирает доски вокруг одинокого отверстия, втаскивает Робби, сажает его, поднатуживается и наклоняет обмякшее, словно бескостное тело над дырой, где раньше было сиденье. Пижама с нарисованными черепашками-ниндзя цепляется за гвоздь, рвется и остается висеть, а тело соскальзывает в черноту ямы. Голые ноги дергаются, исчезая в дыре. Внизу, на глубине десяти футов, слышится плеск.
«Дядя» выходит наружу, с явным облегчением вдыхает свежий воздух, оглядывается – никого нет, только вдалеке слышится лай собаки, – а потом подбирает с земли камень, снова заходит в туалет и вытирает руки курткой от пижамы. Закончив, он бросает тряпки в зловонное прямоугольное отверстие и камнем прибивает доски сиденья на место, насколько это возможно в темноте.
За тот час, когда «дядя» ждет в доме возвращения матери Робби, из туалета не доносится ни звука.
Конечно, Робби не слышит голосов, перешедших в крик, не слышит кратких рыданий, звуков поспешных сборов и хлопанья дверцы машины.
Он не видит, как гаснет свет в доме и на крыльце.
Не слышит рева автомобильного двигателя и хруста шин по гравию подъездной дорожки, когда мать бросает его в последний раз.
Робби не слышит, как наконец смолкает лай соседской собаки, словно заканчивается заезженная пластинка, не слышит, как квартал погружается в тишину и начинается дождь, который тихо стучит по листьям и капает сквозь дыры прогнившей крыши туалета под деревьями.
* * *
Все, что я вам рассказал, – правда. И все, что еще не рассказал, – правда.
И прозревал костяк сквозь кожу
Ротвейлер прыгнул за три секунды до того, как миз Морган выстрелила из дробовика.
Бремен сел на плечи мертвеца, обхватив тело ногами и накинул цепь на мощную шею собаки, которая царапала когтями замерзшее тело, пытаясь добраться до него. Пес завыл. Джереми резко дернул цепь вверх и поднял его. Файетт увидела, что собака висит в воздухе между ней и ее не состоявшейся жертвой, и в момент выстрела подняла ствол дробовика.
Джереми поморщился, чуть не потеряв равновесие, и едва не выпустил собаку, когда дробь ударила в флуоресцентный светильник и в потолок над его головой. Из лампы полетели искры и осколки стекла. Вероятно, часть дроби попала в ротвейлера, потому что он взвыл еще громче и принялся мотать головой, стараясь дотянуться зубами до рук Бремена. Тот затягивал цепь, пока собака не перестала рычать, а ее вой не превратился в тонкий визг.
Морган перезарядила дробовик, спустила с поводка второго ротвейлера и пошла по проходу между раскачивающимися тушами.
Джереми задыхался – ему не хватало воздуха, и он боялся потерять сознание. Звенья цепи были такими холодными, что с пальцев и ладоней слезала кожа, когда он пытался сильнее затянуть или перехватить ее. Звук, издаваемый ротвейлером, теперь больше напоминал хрип, чем вой. Бремен понимал, что миз Морган доберется до него через несколько секунд, – ей останется лишь поднять дробовик и спустить курок.
Первый выстрел вывел из строя двойной ряд флуоресцентных ламп над головой Джереми, но на темную морду собаки по-прежнему падали пятна света. Бремен поднял голову, увидел нишу в потолке над опорой светильника – и заморгал, ослепленный десятками искорок света. Это были отверстия в дереве. Отверстия, пропускавшие внутрь свет от высокого фонаря за «холодильником».
Файетт, прокладывавшая себе путь среди трупов, была уже в восьми футах от Джереми. Ее глаза блестели и казались очень большими, а от губ поднимались облачка пара. Ротвейлер, висевший на цепи, больше не боролся – только его ноги подергивались. Эта картина привела вторую собаку в такую ярость, что миз Морган пришлось зажать дробовик под мышкой, чтобы удержать поводок с псом, который рвался к трупу чернокожего мужчины и свисавшим с него ногам Бремена.
Джереми швырнул мертвую собаку в женщину и стал карабкаться вверх. Он уперся ногой в плечо трупа, а потом встал ему на голову. Опора светильника выдержала его вес, но опасно наклонилась, и с нее посыпались осколки стекла. Бремен просунул голову и плечи в узкую нишу, встал на обледеневшую балку опоры и уперся плечами в мерцавшее яркими точками дерево.
Морган отпустила поводок и подняла дробовик. С восьми футов промахнуться было невозможно. Второй ротвейлер использовал труп своего собрата как трамплин, чтобы забраться на раскачивающееся тело чернокожего мужчины и броситься на Бремена.
Ключица трупа, под которую был продет крюк, не выдержала, и замерзший мертвец рухнул вниз вместе с карабкавшимся по нему ротвейлером, прямо на миз Морган и на лежавшую в проходе мертвую собаку.
Выстрел не попал в цель – дробь ударила в шлакоблок в нескольких дюймах от левой руки Джереми. Что-то вспороло его левый рукав, а потом он почувствовал нечто вроде леденящего покалывания, словно через руку пропустили электрический ток. Он напрягся, пытаясь приподнять доски, едва не соскользнул с балки светильника, снова напрягся…
Крышка люка – если это была она – была заперта снаружи. Бремен чувствовал сопротивление стального засова, слышал его скрежет.
Внизу, в восьми футах от него, Файетт прикрикнула на рычащую собаку и пнула ее. От неожиданности ротвейлер резко повернулся и клацнул зубами. Миз Морган без колебаний подняла дробовик и со всего размаху опустила тяжелый приклад на голову пса. Животное рухнуло на труп своего собрата и замерло в нелепой позе.
Эту шестисекундную передышку Бремен использовал для того, чтобы восстановить равновесие и еще раз попытаться поднять крышку люка. В позвоночнике у него что-то щелкнуло, а мышцы спины скрутило болью, но старые и поврежденные выстрелом доски немного поддались. На шее Джереми вздулись жилы, лицо его побагровело; казалось, его усилия и решимость способны сдвинуть горы, остановить птиц в полете.
Бремен подумал, что Морган выстрелила почти в упор – звук и перепад давления буквально оглушили его, – но заряд дроби подбросил вверх и расщепил лишь три широкие доски над его головой.
Он потерял равновесие, и его ботинки заскользили по заиндевевшей балке опоры, но онемевшая от холода левая рука рванулась вверх и уцепилась за край сломанных досок, а потом правая рука выбросила цепь в отверстие крыши и присоединилась к левой. Снизу послышался крик Файетт, но Джереми уже пролезал в отверстие, отталкиваясь ногами от опоры светильника. Торчащие во все стороны щепки порвали его рубашку.
Его ослепил яркий свет дуговой лампы, установленной на баке с водой в дальнем конце крыши «холодильника», но он успел откатиться от неровного отверстия за долю секунды до следующего выстрела миз Морган. Вверх подлетели еще две доски, осыпав Бремена щепками.
Не обращая внимания на боль в бедре и в боку и на обмороженные руки, беглец встал, подобрал цепь с засыпанной гравием крыши и бросился к передней части здания, перепрыгнув через пожарный шланг, который тянулся к южной стене. У двери бесновались четыре ротвейлера, привязанные к железной трубе. Когда Джереми спрыгнул с двенадцатифутовой высоты, собаки рванулись к нему. От сильного удара о землю его левая нога подвернулась; он упал и покатился по гравию и мелким камням.
Собаки прыгнули, но поводки остановили их в нескольких дюймах от него.
Бремен поднялся на колени, а потом встал и заковылял к двери. Она была приоткрыта всего на несколько дюймов, и изнутри вытекал холодный, зловонный воздух, словно дыхание какого-то умирающего демона. Джереми слышал стук ботинок миз Морган по обледеневшему полу – она бежала к двери.
Он бросился вперед и захлопнул дверь за мгновение до того, как Файетт толкнула ее с другой стороны. Потом давление ослабло, и Бремен представил, как женщина перезаряжает дробовик. Четыре ротвейлера рвались с поводков с такой яростью, что сами себя сбивали с ног и падали на спину. Слюна и пена долетали до Джереми с расстояния трех футов.
Бремен продел цепь через засов, после чего поднял с земли тяжелый висячий замок и вставил его в проушину.
Миз Морган выстрелила. Шестидюймовая стальная дверь на прочной стальной раме не шелохнулась. Даже звук выстрела казался глухим и далеким.
Телепат отступил на шаг и улыбнулся, а потом перевел взгляд на крышу. Файетт понадобится меньше минуты, чтобы передвинуть другой труп под отверстие в крыше и выбраться тем же путем, что и он. У него нет времени на поиски лестницы или материала, которым можно закрыть дыру. А учитывая его раны, он вряд ли сможет добраться до гасиенды раньше ее. Хромая и спотыкаясь, Бремен двинулся к южной стене «холодильника».
Одна из собак оборвала поводок и бросилась за ним – вероятно, она так удивилась внезапной свободе, что даже не выла. Бремен метнулся к углу здания, опустился на одно колено, уклоняясь от щелкающих челюстей, и со всей силы ударил собаку в живот, прямо под ребра.
Воздух вышел из ротвейлера, как из лопнувшего воздушного шарика. Животное упало, но тут же стало царапать когтями гравий, пытаясь снова подняться.
Всхлипывая, Джереми уперся коленом в широкую спину, обхватил челюсти собаки своими опухшими, пульсирующими болью ладонями и сломал ей шею. Оставшиеся три ротвейлера обезумели от ярости.
Бремен завернул за угол. Импровизированная душевая кабина, которой пользовалась миз Морган, была на месте: пятигалонный бак висел на высоте семи футов, а от него к большому резервуару тянулся пожарный шланг. Не обращая внимания на боль, Джереми побежал к кабине, подпрыгнул, ухватился за держатель душа и подтянулся, а потом зацепился за бак и стал раскачиваться, пока его кровоточащая ладонь не поймала четырехдюймовый пожарный шланг.
Бак не выдержал веса Бремена и рухнул на каменную площадку внизу, но Джереми был уже на высоте восьми футов и взбирался вверх по обвисшему шлагу.
Он перевалился через край крыши и пару секунд лежал на гравии, хватая ртом воздух. В глаза ему бил яркий свет от дуговой лампы на резервуаре с водой. Из разбитого вентиляционного отверстия или старого люка, через который вылез Бремен, доносились приглушенные звуки. Он заглянул в отверстие, увидел направленный на него ствол – и успел отпрянуть.
Заряд дроби просвистел над его плечом. Усилие, потребовавшееся от миз Морган, чтобы поднять дробовик, привело к тому, что она ослабила хватку и снова соскользнула на плечи трупа молодой женщины. Джереми слышал, как Файетт чертыхается и снова лезет вверх, подтягиваясь одной рукой. Опора светильника заскрипела от ее веса.
Бремену пришлось сесть, чтобы не потерять сознание. Он опустил голову между коленей, но освещенный дуговой лампой мир все равно сузился до узкого туннеля между черными стенами. Откуда-то издалека доносились звуки, издаваемые миз Морган, – она взобралась на опору светильника, нашла равновесие, упираясь стволом дробовика в вентиляционный канал, и встала. Джереми закрыл глаза.
Давай, Джер. Поднимайся! Вставай. Ради меня.
Устало вздохнув, Бремен открыл глаза и пополз по рубероиду и гравию к пожарному шлангу. Его руки оставляли кровавые отпечатки пальцев, за левым бедром тянулся красный след.
Собрав остаток сил – нет, это были не его силы, а другие, из какого-то тайного источника, – он поднял пожарный шланг, после чего нетвердой походкой двинулся назад и остановился, балансируя на краю дыры.
Голова и плечи миз Морган уже были снаружи. Белые, широко раскрытые глаза, россыпь инея на растрепанных волосах, растянутые в злобном оскале губы – в ней не осталось ничего человеческого. Белый шум ее психопатической жажды крови теперь перекрывался внезапной волной торжества, которая била из нее, словно струя теплой мочи. Продолжая скалиться, она пыталась просунуть дробовик в отверстие.
Бремен с мрачной решимостью открыл выпускной клапан – и крепко держал пожарный шланг, пока вода под давлением в шестьсот фунтов смывала женщину вниз и сдирала доски вокруг отверстия. Он подошел ближе, и струя из дрожащего сопла отбросила гравий на десятки футов.
Дробовик тоже свалился вниз. Джереми выключил воду и осторожно заглянул в отверстие, на краях которого уже начала замерзать вода.
Файетт, покрытая инеем и льдом, снова карабкалась верх. Она по-прежнему злобно улыбалась. Ее молочно-белая правая рука сжимала дробовик.
Вздохнув, Бремен отступил на шаг, просунул шланг в отверстие и полностью открыл клапан, а потом, шатаясь, добрел до передней стены здания и опустился на гравий рядом с невысоким барьером на краю крыши. И на секунду закрыл глаза.
Всего лишь на секунду или две.
Глаза
Проблема в том, что сильнейшие мигрени у Гейл начались еще в подростковом возрасте, и поэтому, когда головные боли участились и усилились, ни она, ни Джереми несколько месяцев не обращали на это внимания. Причиной приступа мигрени часто бывает эмоциональный стресс, и они думали, что все дело в самоубийстве Джейкоба Голдмана. Но в конечном итоге, когда Джереми, пошатываясь от отраженной боли своей жены, покидает симпозиум в колледже и находит Гейл в ванной на первом этаже, где ее, ослепшую от боли, неудержимо рвет, они обращаются к домашнему врачу. Тот направляет их к специалисту, доктору Сингху, который немедленно назначает компьютерную томографию и МРТ.
Гейл удивлена. Это как тесты Джейкоба…
Нет, – мысленно возражает Джереми, когда они, держась за руки, сидят в кабинете доктора Сингха. – Здесь анализируется структура… как при рентгене… А сканы Джейкоба регистрировали волновые фронты.
Обследования назначены на пятницу, и доктора Сингха они не увидят до понедельника. Оба чувствуют, что за гладкими, успокаивающими фразами врача кроются самые мрачные возможности. В субботу, словно обследования сами по себе были лекарством, головная боль у Гейл проходит. Ее муж предлагает куда-нибудь уехать на выходные – бросить все дела на ферме и отправиться на пляж. До Дня благодарения всего неделя, но небо синее, а погода теплая – второе бабье лето в разгар самого унылого времени года в Восточной Пенсильвании.
В Барнегат-Лайт почти безлюдно. Крачки и морские чайки с криками кружат над длинной полосой песка ниже маяка, пока Бремены расстилают одеяла и резвятся, словно молодожены, гоняясь друг за другом по берегу Атлантического океана и играя в пятнашки – используют любой предлог, чтобы дотронуться до мокрого от брызг тела, – и наконец падают на одеяла, запыхавшиеся, в пупырышках «гусиной кожи», и смотрят, как солнце заходит за дюны и за обшарпанные дома на западе.
Вместе с темнотой приходит холодный ветер, и Джереми натягивает на них менее рваное из двух одеял, сооружая теплое гнездо. Трава в дюнах и узкие заборчики окрашиваются сочным золотом и багрянцем осеннего света. В течение двух минут великолепного заката среди невероятных переливов розового и бледнеющего лавандового цвета белеет маяк. Его стекла и лампы проецируют круг солнца на пляж – пятно чистейшего золота.
Темнота наступает неожиданно, словно кто-то опустил занавес. На пляже больше никого нет, а свет горит лишь в нескольких домах на берегу. Морской ветер шелестит сухой травой в дюнах и гонит песок со звуком, похожим на вздохи младенца.
Джереми плотнее заворачивает их обоих в одеяло, сбрасывает бретельку мокрого купальника с плеча Гейл и тянет его вниз, освобождая высокую грудь от липнущей к ней ткани. Он чувствует «гусиную кожу», такую же твердую, как соски, и стягивает купальник с бедер жены, через маленькие ступни, а потом и сам снимает плавки.
Гейл раскрывает объятия и подвигается, опрокидывает его на себя. Холодный ветер и сгущающаяся тьма вдруг становятся далекими, забываются в тепле соединения тел и душ. Бремен движется медленно, очень медленно и чувствует, как его мысли и ощущения – а потом только ощущения – передаются Гейл, а поднимающийся ветер и усиливающийся прибой словно подхватывают их и несут к некой быстро удаляющейся сути вещей.
Они долго не размыкают объятий, вновь обретая друг друга в возвращающемся восприятии внешнего мира, в легких прикосновениях, а затем в телепатическом контакте, который снова структурирован языком после бессловесного урагана чувств, для которого слова были не нужны.
Вот почему я хочу жить. – Мысленная связь с Гейл слаба и уязвима.
Джереми чувствует, как в нем поднимается вихрь гнева и страха, почти такой же мощный, как вихрь страсти несколько секунд назад.
Ты будешь жить. Ты будешь жить.
Обещаешь? – Интонация у Гейл шутливая, но за показной беззаботностью ее муж видит «страх перед темнотой под кроватью».
Обещаю, – посылает он ответ. – Клянусь. – Прижимает жену к себе, пытаясь остаться в ее сознании, но чувствует, что связь медленно угасает и он ничего не может с этим поделать. Джереми обнимает ее так крепко, что у нее перехватывает дыхание. Клянусь, Гейл, – повторяет он. – Обещаю. Обещаю тебе, Гейл.
Она кладет холодные ладони ему на плечи, утыкается лицом в его соленую от морских брызг шею и вздыхает, засыпая.
Через мгновение Джереми осторожно поворачивается на правый бок, чтобы можно было обнимать любимую, не разбудив. Ветер с невидимого в темноте океана стал по-осеннему холодным, звезды на небе почти не мигают, как зимой, и Бремен плотнее заворачивается в одеяло и еще крепче прижимает к себе Гейл, согревая их обоих теплом своего тела и силой своей воли.
Я обещаю, – повторяет он. – Обещаю тебе.
Мы полые люди
Бремен проснулся поздно утром, когда солнце уже высоко поднялось. Кожа его была очень горячей. Гравий обжигал ладони и предплечья. Губы обветрились и напоминали шероховатый пергамент. Кровь запеклась на бедре и стекла на камни, свернувшись в коричневую липкую пасту, так что рваные джинсы пришлось отдирать от крыши. Но по крайней мере раны перестали кровоточить.
Хромая, Джереми преодолел двадцать футов до дыры в крыше, хотя ему дважды пришлось присесть и подождать, пока пройдут головокружение и тошнота. Солнце палило нещадно.
Шланг по-прежнему был опущен в темную дыру, в которой клубился холодный воздух, но вода из наконечника уже не капала. Свет в «холодильнике» был выключен. Бремен поднял шланг и посмотрел на резервуар объемом полторы тысячи галлонов, размышляя, действительно ли тот пуст. Потом пожал плечами и потащил шланг к южному краю крыши, собираясь использовать его как веревку для спуска.
Боль при приземлении была такой сильной, что Джереми пришлось несколько минут сидеть под душем на плите из песчаника, опустив голову между коленей. Потом он заставил себя встать и пуститься в долгий путь до гасиенды.
Мертвый ротвейлер за углом холодильника уже раздулся от полуденной жары. Глаза трупа облепили мухи. Три оставшиеся собаки не сдвинулись с места и не зарычали на ковылявшего мимо них Бремена, а просто провожали его тревожными взглядами, пока он шел по дороге к главному дому.
Джереми разрезал и содрал с себя джинсы, промыл раны на бедре и на боку, а потом долго, с наслаждением стоял под душем. Он продезинфицировал раны – едва не лишившись чувств, когда обрабатывал бедро, – нашел «Тайленол» с кодеином в аптечке миз Морган и, поколебавшись, сунул бутылочку в карман рубашки. В открытом оружейном сейфе в спальне взял ружье и пистолет, зарядил их, а потом, хромая, пошел к флигелю за одеждой. Все это заняло у него почти час.
Ранним вечером Бремен вернулся к «холодильнику». Увидев дуло ружья, собаки заскулили и отскочили назад, насколько им позволяли поводки. Бремен поставил большую миску воды, принесенную из флигеля, и самая старая сука, Летиция, подползла к ней на брюхе и стала благодарно лакать. Два других ротвейлера последовали ее примеру.
Джереми повернулся спиной к собакам и открыл кодовый замок. Цепь соскользнула на землю.
Дверь не открылась – заклинило. Бремен поддел ее монтировкой, которую принес из флигеля, распахнул, помогая себе дулом ружья, и отступил на шаг. Из проема вырвался холодный воздух, сразу же превратившийся в туман на сорокаградусной жаре. Мужчина присел, снял ружье с предохранителя и положил палец на спусковой крючок. Край льда светился почти в трех футах от уровня пола.
Внутри никого не было видно. Звуков тоже не было, если не считать чавканья ротвейлеров, допивавших остатки воды, мычания коров, возвращавшихся с нижнего пастбища, и тарахтенья вспомогательного генератора позади «холодильника».
Бремен выждал еще минуты три, а потом вошел, пригнулся и, скользя по ледяной горке, подался влево. Ожидая, пока глаза привыкнут к темноте, он размахивал перед собой ружьем. Через секунду Джереми опустил оружие и выпрямился. Вокруг клубился пар от его дыхания. Вскоре он медленно двинулся вперед.
В средних рядах почти все туши сорвались с крюков – под напором воды сверху или безумия и ярости снизу. Теперь они стояли – говяжьи туши и тела людей – внутри сталагмитов из бугристого льда. Похоже, сюда вылились все полторы тысячи галлонов воды из бака. Бремен пробирался среди сине-зеленых ледяных торосов, каждый раз выбирая место, куда поставить ногу – чтобы не поскользнуться и не наступить на трупы со вспоротыми животами, превратившиеся в жуткие ледяные призраки.
Миз Морган он нашел прямо под дырой в крыше, куда сквозь пар и тающие сталактиты проникал солнечный свет. Здесь ледяной холм достигал высоты трех с половиной футов, и тела женщины и двух собак в толще льда были похожи на какой-то бледный трехголовый замороженный овощ. Лицо Файетт находилось сверху, так близко, что один широко раскрытый голубой глаз выступал над гладкой поверхностью. Руки со скрюченными, как когти, пальцами тоже торчали из ледяного холма, словно две грубые скульптуры, ожидающие окончательной отделки.
Рот миз Морган был широко открыт, замерзшие вихри последних вздохов затвердевшим водопадом соединяли ее с окружающим морем холода, и на одно безумное мгновение Бремену показалось, что именно она, эта женщина, извергла из себя весь этот отвратительный лед – настолько совершенной была эта жуткая картина.
Казалось, собаки составляют единое целое с хозяйкой, сплетенные под ее бедрами в вихрь замерзшей плоти. Дробовик торчал во льду из живота одного из ротвейлеров, как карикатура на эрекцию.
Джереми опустил ружье и дрожащей рукой коснулся слоя льда над головой женщины, как будто тепло его прикосновения могло заставить Файетт извиваться в попытке сбросить ледяной саван, а ее скрюченные пальцы – разрывать лед, чтобы добраться до него.
Ничего. Ни движения, ни белого шума. Дыхание Бремена затуманило лед над искаженным лицом Морган. Он повернулся и вышел из «холодильника», следя за тем, чтобы не ставить подошвы ботинок над вмерз-шими в лед лицами с открытыми глазами.
* * *
Джереми уехал после наступления темноты, отвязав собак и оставив достаточно еды и воды, чтобы удержать их в окрестностях гасиенды неделю или больше. Из двух машин он выбрал не «Тойоту», а джип. Крышка распределителя зажигания лежала на трюмо миз Морган, словно какой-то экзотический трофей. Бремен не стал брать деньги – даже положенное ему жалованье, – но загрузил на заднее сиденье джипа три магазинных пакета с продуктами и несколько пластиковых канистр воды. Сначала он хотел захватить с собой ружье или пистолет, но затем тщательно протер их и вернул на место в оружейный сейф в шкафу. Довольно долго Бремен ходил по флигелю с тряпкой для пыли и вытирал доступные поверхности, как будто мог уничтожить абсолютно все отпечатки пальцев, но потом покачал головой, сел в джип и покинул ранчо.
Бремен ехал на запад, позволив холодному ночному воздуху пустыни сдувать с него кошмар, в котором он жил уже так давно. Он направился на запад потому, что возвращаться на восток казалось ему немыслимым. В одиннадцатом часу вечера Джереми добрался до шоссе I-70, а после Грин-Ривер снова повернул на запад, почти уверенный, что сзади появится, мигая сигнальными огнями, патрульная машина помощника шерифа Говарда Коллинза. На ночных дорогах штата Юта машин было совсем мало.
Он остановился в Салина, на остатки денег заправил машину и выехал из города на запад, на шоссе 50, где обнаружил впереди себя медленно движущуюся патрульную машину полиции штата. На следующей развязке повернул на юг – как оказалось, на шоссе 89.
Проехав сто двадцать пять миль, Джереми снова свернул на запад, у Лонг-Вэлли-Джанкшн, проехал через Сидар-Сити и по шоссе I-15, а перед самым рассветом съехал на дорогу 56 и нашел укромное место, где можно было остановиться, – за сухими тополями на стоянке для отдыха к востоку от Панаки, уже в Неваде, в двадцати милях от границы штата. Позавтракав – сэндвич с вареной колбасой и вода, – он расстелил одеяло на сухих листьях в тени джипа и спал, пока его сознание не вытащило на поверхность воспоминания о недавних событиях, разбудив его.
* * *
Следующей ночью он медленно ехал на юг по шоссе 93, по краю заказника Паранагат-Нэйшнл, не имея определенной цели. До него доходили обрывки нейрошума из встречных машин, но холодный воздух пустыни помог собрать разбегающиеся мысли, чего ему не удавалось последние несколько недель. Бремен понял, что через семьдесят пять миль у него закончится бензин – а вместе с ним и удача. У него не было ни денег, чтобы купить билет на поезд или автобус, а также еду, когда закончится запас продуктов, ни документов, удостоверяющих личность.
Идей тоже не было. Чувства, обостренные и преувеличенные в эти последние недели, как будто исчезли, сданные на хранение до лучших времен. Джереми ощущал необычное спокойствие и приятную пустоту, словно маленький ребенок после долгих и безутешных слез.
Он пытался думать о Гейл, а также об исследовании Голдмана и его значении, но все это принадлежало другому миру, который остался где-то далеко, в том месте, где царили солнечный свет и разум. Возможно, ему уже туда не вернуться.
Поэтому Бремен ехал на юг, ни о чем не думая и наблюдая, как стрелка указателя топлива болтается около нуля. Внезапно автострада 93 уперлась в шоссе I-15. Мужчина послушно свернул на развязку и направился на юго-запад через пустыню.
Минут через десять, ожидая на пологом подъеме, что мотор джипа вот-вот зачихает и смолкнет, Джереми вздрогнул от удивления – пустыня впереди словно взорвалась светом, переливаясь яркими реками и мерцающими созвездиями. Теперь он точно знал, что будет делать этой ночью, – и завтрашней, и послезавтрашней. Решения множились, словно ему в голову внезапно пришло пропущенное преобразование в каком-то трудном уравнении; они проступали так же ярко и отчетливо, как сверкающий оазис в ночной пустыне.
Джип увез его достаточно далеко.
Глаза
Мне трудно осмыслить, даже сейчас, понятие смерти, с которым меня познакомили Джереми и Гейл.
Умереть, закончиться, перестать существовать – эта идея для меня просто не существовала до их мрачных откровений. Даже теперь она тревожит меня своим гнетущим иррациональным императивом. В то же время она интригует и даже манит меня, и я невольно задаюсь вопросом: может быть, истинным плодом древа, запретным для Адама и Евы в тех волшебных сказках, которые в детстве так усердно вдалбливали Гейл родители, было не знание, как утверждала легенда, а сама смерть? Смерть могла вызывать интерес у божества, которое было лишено даже сна, присматривая за своим творением.
Но для Гейл эта идея лишена привлекательности.
В первые часы и дни после обнаружения неоперабельной опухоли позади глаза она – воплощение храбрости – с помощью слов и телепатической связи делится своей уверенностью с Джереми. Она уверена, что облучение поможет… или химиотерапия… или будет ремиссия. Теперь, когда враг обнаружен и назван, Гейл уже меньше, чем раньше, боится «тьмы под кроватью».
Но потом, когда болезнь и суровые испытания медицинских процедур истощают ее силы, заполняя ночи дурными предчувствиями, а дни – тошнотой, эта женщина начинает отчаиваться. Она понимает, что тьма под кроватью – это не рак, а смерть, которую он приносит.
Гейл снится, что она сидит на заднем сиденье своего «Вольво», который мчится к краю утеса. Водителя нет, а она не может дотянуться до руля, потому что от переднего сиденья ее отделяет прозрачная перегородка из плексигласа. Джереми бежит за «Вольво», но не может догнать машину; он размахивает руками и кричит, но Гейл его не слышит.
Бремены просыпаются от ночного кошмара, когда автомобиль летит вниз с утеса. Они оба видели, что внизу нет ни скал, ни отвесного склона, ни пляжа, ни океана… Ничего, кроме ужасной тьмы, которая сулит вечность головокружительного падения.
Джереми помогает жене пережить зимние месяцы, поддерживая ее – буквально и с помощью телепатической связи – во время «американских горок» болезни, когда надежда и предположение о ремиссии сменяются небольшими улучшениями в анализах, а затем долгими периодами усиливающейся боли и слабости, без проблеска надежды.
В последние недели и дни источником силы снова становится Гейл, которая направляет их мысли на что-то другое, когда она может встретить и храбро встречает неизбежное, когда она должна сделать это. Джереми все больше и больше уходит в себя, потрясенный ее болью и ее растущим безразличием к повседневным занятиям, отвлекающим и успокаивающим.
Гейл стремительно приближается к краю утеса, но ее муж все время рядом с ней – до последних нескольких ярдов. Даже когда она слишком больна и уклоняется от объятий, когда раздражена из-за выпавших волос и постоянной боли, которая заставляет ее жить в ожидании уколов, помогающих лишь на несколько минут, остаются островки света, где их телепатическая связь поддерживает ироничную близость, сложившуюся за много лет, прожитых вместе.
Жена Джереми знает, что он что-то скрывает от нее в дальнем уголке сознания, – это заметно только по пустоте, которую оставляет в том месте его потрепанный ментальный щит, – но с тех пор, как начался этот медицинский кошмар, он не желает делиться с ней многим, и она предполагает, что супруг утаивает от нее еще один неутешительный прогноз.
Что же касается Джереми, то долго скрываемый и постыдный факт варикоцеле инкапсулировался в его сознании до такой степени, что рассказ о нем кажется просто немыслимым. Кроме того, теперь это бессмысленно… Детей у них уже не будет.
Тем не менее в тот вечер, когда Бремен один едет в Барнегат-Лайт, чтобы поделиться океаном и звездами с лежащей на больничной койке Гейл, он решает во всем признаться. Рассказать о промахах и проступках, которые прятал все эти годы, – открыть двери и окна в душной комнате, которая слишком долго оставалась запертой. Он не знает, как отреагирует Гейл, но понимает, что эти последние дни, которые им суждено провести вместе, не будут такими, как должны, если он не будет с ней абсолютно честным. У Джереми есть несколько часов, чтобы подготовить свою исповедь, потому что Гейл много времени спит под воздействием лекарств, недоступная для телепатического контакта.
Но потом, перед самым рассветом в тот уикенд на Пасху, он засыпает, а когда просыпается, будущего уже нет – нет даже нескольких последних дней с Гейл. Пока Джереми спал, она достигла утеса.
Одна. Испуганная. Лишенная возможности в последний раз прикоснуться к нему.
* * *
Да, эта идея смерти мне чрезвычайно интересна. Я вижу ее глазами Гейл… как шепот из тьмы под кроватью… Я вижу ее, как теплые объятия забвения и освобождения от боли.
И еще я вижу ее, как нечто близкое и приближающееся.
Она меня интересует, но теперь, когда мне столько открылось, когда занавес раздвинулся так широко, меня немного разочаровывает, что все может исчезнуть и театр опустеет раньше последнего акта.
Страшные ямы ада
Бремену нравилось в Лас-Вегасе – месте, где не было ночи, не было тьмы, а нейрошум не знал границ между предпоследними, бездумными приступами вожделения и жадности – и последней, яростной концентрацией на цифрах, формах и шансах. Джереми нравилось здесь, в месте, где не нужно выходить на яркий солнечный свет, а можно существовать лишь в теплом свечении хрома и дерева никогда не тускнеющих светильников, среди вечного смеха и движения.
Иногда он жалел, что рядом нет Джейкоба Голдмана, – ему хотелось, чтобы старик почувствовал эту в высшей степени осязаемую реализацию их исследований, место, где волны вероятности сталкиваются и коллапсируют каждую секунду каждого дня и где реальность в такой степени нематериальна, в какой ее может сделать нематериальной человеческий разум.
Джереми провел неделю в городе посреди пустыни и наслаждался каждой секундой, пропитанной жадностью, грязными мыслями и темными инстинктами. Здесь он мог возродиться.
* * *
Джип он продал какому-то иранцу на Ист-Сахара-авеню. Иранец был на седьмом небе от счастья, получив средство передвижения за последние двести восемьдесят шесть долларов, и не спросил о таких мелочах, как документы на машину или регистрация.
Сорок шесть долларов Бремен потратил на номер в гостинице «Трэвел инн» неподалеку от центра города. Он проспал четырнадцать часов, а потом принял душ, сбрил остатки бороды, надел самую чистую из своих рубашек и джинсы и начал обход расположенных в центре казино: «Леди Лак», «Сандэнс», «Хорзшу», «Фор куинс» и, наконец, «Голден наггет». В начале вечера у него было сто восемьдесят один доллар и шестьдесят центов. К утру – чуть больше шести тысяч долларов.
Последний раз Джереми играл в карты еще в колледже – по большей части в бридж, – но помнил правила покера. Не помнил он другого – исключительной, сходной с дзеном сосредоточенности, которой требовала игра. Острые лезвия внешнего нейрошума притуплялись за покерным столом из-за еще более острой, как луч лазера, концентрации мысли, которая его окружала, из-за почти полного погружения в математические перестановки, вызываемые каждой ставкой и каждой новой картой, а также концентрацией самого Бремена, которому требовалось во всем этом разобраться. Игра в пятикарточный стад похожа не на одновременный просмотр шести телевизоров, настроенных на разные каналы, а на попытку читать полдюжины сложных технических инструкций, в которых одновременно переворачивают страницы.
Партнеры у Джереми были самыми разными: профессиональные игроки в покер, заработок которых зависел от их искусства и мышление которых было таким же дисциплинированным, как у математиков-исследователей, коллег Бремена; талантливые новички, у которых искреннее удовольствие от игры с высокими ставками смешивалось с жаждой удачи; а иногда и простаки, толстые, счастливые и глупые… даже не сознающие, что сидящие за столом профессионалы просто разводят их.
В свою вторую неделю в Лас-Вегасе Джереми обошел все казино на Стрип – и в каждом помещал на депозит в сейф достаточно денег, чтобы ему выдавали бесплатный входной билет и считали крупным игроком. Потом он неспешно шел в зал для игры в карты и стоял среди зрителей, изредка поглядывая на экраны кабельного телевидения, на которых отражался ход игры. Для походов в казино Бремен купил пиджаки от «Армани», которые можно носить с шелковыми рубашками с расстегнутым воротом, льняные слаксы за три сотни долларов, которые мялись от одного взгляда, золотые часы «Ролекс» – и не одни, а целых двое, лоферы от «Гуччи» и стальной чемоданчик для переноски наличности. Ему даже не пришлось покидать гостиницу, чтобы экипироваться.
Бремен искал удачу и нашел ее в «Сёрку-Сёркус», «Дюнз», «Сизарз пэлас», «Лас-Вегас Хилтон», «Аладдин», «Ривьера», «Боллиз грэнд», «Сэмз таун» и «Сэндс». Иногда ему попадались знакомые лица профессионалов, которые переходили из одного казино в другое, но чаще это были игроки, предпочитавшие играть в своем любимом казино за столом со ставкой сто долларов. Атмосфера в зале для игры в карты была такой же напряженной, как в операционном блоке больницы: тишина и сосредоточенный шепот лишь изредка нарушались громким голосом взволнованного новичка. Джереми выигрывал и у новичков, и у профессионалов, следя за тем, чтобы чередовать выигрыши и проигрыши, и постепенно увеличивая выигрыш таким образом, чтобы его можно было приписать удаче. Вскоре профессиональные игроки стали обходить его стол стороной. Бремен продолжал выигрывать, зная, что удача предпочитает телепатические способности. «Фронтир», «Эль Ранчо», «Дезерт инн», «Кастуэйз», «Шоубоут», «Холидей инн»… Джереми передвигался по городу, словно пылесос, стараясь не высосать слишком много с одного стола.
В отличие от других игр, даже в блэкджек, где игрок соревновался с игорным заведением и принимались строгие меры против жульничества, подсчета карт или определенных «систем», за игроками в покер наблюдал только крупье. Время от времени Джереми бросал взгляд на зеркальный потолок, куда, вне всякого сомнения, была вмонтирована камера, записывающая игру, но, поскольку игорный дом получал процент от суммы, выигранной победителем, он знал, что в отношении него вряд ли возникнут подозрения.
Кроме того, он не жульничал. По крайней мере, по любым доступным для измерения стандартам.
Иногда Бремену было стыдно отбирать деньги у других игроков, но обычно телепатическая связь с профессионалами, сидевшими за карточным столом, обнаруживала их сходство с крупье – в глубине души они были уверены, что время работает на них и общий итог будет положительным. Некоторые новички испытывали почти сексуальное возбуждение от того, что играют с крутыми парнями, и Джереми считал, что оказывает услугу этим лохам, выводя их из игры.
Он не думал о том, что будет делать с деньгами. Приобрести их – вот была его цель, его прозрение в пустыне, а подробности того, на что он их потратит, можно обдумать потом. Еще одна неделя здесь, размышлял он, и можно нанять частный самолет, который доставит его в любой уголок мира.
Вообще-то, ему никуда не хотелось. Здесь, в этом самом глубоком из туннелей, в которые ему приходилось забираться, он нашел некое утешение – в квинтэссенции страсти и жадности, в суетности всего, что его окружало.
Бродя по залам одного из казино, Бремен вспоминал запись выступления мэра Мариона Барри, которую видел несколько лет назад: утомительная демонстрация банальности, эгоизма и неудовлетворенной сексуальности. Даже крупные игроки в своих дорогих костюмах, плещущиеся в джакузи с одной или несколькими танцовщицами, в конечном итоге чувствовали пустоту и разочарование, желание чего-то большего, чем давали сами эти ощущения. Джереми обнаружил, что наиболее точный символ всего Лас-Вегаса – хромированные подносы круглосуточных буфетов, предлагающих горы дешевой и посредственной еды, а также мгновения телепатической связи с сотнями одиноких мужчин и женщин в гостиничных номерах, эмоционально опустошенных дневной или ночной игрой, мастурбирующих в одиночестве перед «взрослым» видеоканалом кабельного телевидения, проведенного прямо в номер.
Но столы для пятикарточного покера были местом забвения, временной нирваной, достигаемой с помощью концентрации, а не медитации, и Бремен проводил за ними все время, когда не спал, накапливая деньги небольшими, но постоянными порциями. К тому времени, когда он обошел все крупные казино на Стрип, в его стальном чемоданчике хранилось почти триста тысяч долларов наличными. Джереми направился в отель «Мираж» и полюбовался там макетом действующего вулкана снаружи и бассейном с живыми акулами внутри, а потом почти удвоил свои деньги за четыре ночи участия в турнире со ставками в десять тысяч долларов и вступительным взносом.
Он решил, что посетит еще одно казино, в качестве вишенки на торте, и выбрал огромное, похожее на замок строение рядом с аэропортом. Зал для игры в карты был переполнен. Бремен подождал своей очереди вместе с другими простаками, купил стодолларовые фишки, кивком поздоровался с остальными шестью игроками – четырьмя мужчинами и двумя женщинами, из которых только один был профессионалом, – и погрузился в ночное марево математики.
Через четыре часа, после выигрыша нескольких сотен долларов, крупье объявил перерыв, и невысокий атлетически сложенный мужчина в сине-золотой униформе казино прошептал Джереми на ухо: «Прошу прощения, сэр, не могли бы вы пройти со мной?»
В мыслях порученца Бремен увидел только приказ привести удачливого игрока в кабинет управляющего – но также понял, что приказ будет выполнен любой ценой. Об этом свидетельствовал пистолет калибра.45 в кобуре на левом бедре шестерки. Джереми последовал за ним.
Нейрошум – все эти приливы и отливы страсти, жадности, разочарования и вновь вспыхивающей страсти – отвлекал его, и он не чувствовал опасности, пока не оказался в кабинете.
Перед видеомониторами сидели пятеро мужчин. Когда Бремен вошел, они посмотрели на него с каким-то веселым удивлением, словно не верили, что изображение на телевизионном экране теперь стоит перед ними, состоящее из плоти и крови. Сэм Эмпори развалился на длинном кожаном диване, а по обе стороны от него сидели двое громил, Берт и Эрни. Ванни Фуччи устроился за столом управляющего, сцепив руки на затылке, и в зубах у него торчала громадная кубинская сигара.
– Заходи, лошара, – сказал Фуччи, не вынимая сигары изо рта, и кивком приказал порученцу закрыть дверь и ждать снаружи. Потом он указал на пустой стул: – Садись.
Бремен не пошевелился. Он все прочел в их мыслях. Стальной чемоданчик у ног Берта Каппи принадлежал Джереми: они обыскали его номер и нашли деньги. Это был их отель, их казино. А если точнее, оно принадлежало отсутствующему Дону Леони. Вор Ванни Фуччи, приехавший сюда по какому-то делу, увидел Бремена на телевизионном мониторе в кабинете управляющего. Он отправил управляющего в двухдневный отпуск, а потом позвонил Дону Леони и стал ждать прибытия Сэла с парнями.
Джереми ясно видел все это. А еще яснее он видел, что Дон собирается сделать с этим выскочкой-лохом, который оказался в неподходящем месте в неподходящее время. Первым делом мистер Леони хотел лично поговорить с Бременом в Нью-Джерси и выяснить, действительно ли он лох или работает на какую-то семью из Майами. Хотя это не имеет особого значения – Джереми все равно погрузят в мусоровоз и отвезут в их излюбленное место в Пайн-Барренс, где ему вышибут мозги, тело сунут в пресс-компактор, а брикет захоронят в обычном месте.
Ванни широко улыбнулся и вынул изо рта сигару.
– Ладно, можешь стоять. Тебе здорово везло, парень. Здорово везло. По крайней мере, до этого момента.
Бремен заморгал.
Фуччи кивнул. Берт Каппи и Эрни двигались так быстро, что Джереми не успел среагировать – его схватили за руки, и Берт воткнул шприц для подкожных инъекций в плечо Джереми, прямо через семисотдолларовый пиджак от «Армани».
Глаза
Робби Бустаманте умирает. Глухой, слепой, умственно отсталый ребенок то впадает в кому, то выходит из нее, словно лишенная глаз амфибия перемещается из воды на воздух и обратно, не находя пищи ни в одной среде.
Мальчик так сильно искалечен, что некоторые медсестры ищут предлог, чтобы не входить к нему в палату, а другие, наоборот, стараются проводить там больше времени, ухаживая за умирающим ребенком и стараясь уменьшить его страдания своим невидимым и неслышимым присутствием. В редкие минуты, когда Робби почти приходит в себя и приборы над кроватью регистрируют состояние, отличное от быстрого сна, он стонет, мечется и хватает простыни. Его растопыренные пальцы и лубки на руках царапают постель.
Иногда медсестры собираются вокруг него, вытирают ему лоб и повышают дозу обезболивающего в капельнице, но ни прикосновения, ни лекарства не успокаивают ребенка: он все так же хватает простыни. Как будто что-то ищет.
Он ищет. Робби отчаянно пытается найти плюшевого медведя, единственного друга за все эти годы. Своего тактильного друга. Единственное утешение в вечной ночи, прерываемой лишь вспышками боли.
Когда Бустаманте находится в полубессознательном состоянии, он мечется, хватает одеяло и мокрые простыни в поисках этого медведя. Во сне он плачет, и его тонкий жалобный голос разносится по темным больничным коридорам, словно крик приговоренного к смерти.
Плюшевого медведя больше нет. Перед отъездом мать и «дядя» швырнули его вместе с другими вещами мальчика на заднее сиденье машины, собираясь бросить их в ближайший контейнер для мусора.
В те редкие минуты, когда Робби в сознании, он ворочается, стонет и хватает простыни, пытаясь найти своего медведя, но случается это все реже и реже.
Герион
Посреди ночи они отвезли Бремена в аэропорт Лас-Вегаса. Рядом с темным ангаром их ждал двухмоторный турбовинтовой «Пайпер Чаен», и через тридцать секунд после того, как в него сели пятеро мужчин, он уже вырулил на взлетную полосу. Джереми не смог бы отличить «Пайпер Чаен» от космического челнока, но пилот мог, и Бремен был разочарован, обнаружив, что пилот еще и точно знает, кто эти пятеро пассажиров и зачем они летят в Нью-Джерси.
У всех четырех бандитов было оружие. Берт Каппи держал автоматический пистолет калибра.45 под перекинутой через руку курткой, так что выглядывающий из-под нее глушитель упирался Бремену в ребра. Тот посмотрел достаточно фильмов, чтобы узнать глушитель.
Они взлетели на запад, резко набрали высоту, обогнули горы и взяли курс на восток. В салоне маленького самолета имелось по два кресла по обе стороны прохода позади пилота и пустого кресла второго пилота, а также скамья у задней переборки. Сэл Эмпори и Ванни Фуччи расположились по обе стороны от узкого прохода на первых двух креслах, ближайших к люку, громила по имени Эрни сел напротив Бремена во втором ряду, а Берт Каппи – на скамье прямо позади пленника, положив пистолет на колени.
Самолет летел на восток. Джереми прижался щекой к прохладному плексигласу иллюминатора и закрыл глаза. Мысли пилота были спокойными, четкими и касались только технических вопросов, а сознание четырех бандитов представляло собой кипящий котел мрачной злобы. Берт, двадцатишестилетний убийца и зять Дона Леони, мечтал прикончить Бремена. Он очень на-деялся, что лох попытается что-то предпринять, прежде чем они прибудут на место, и с этим козлом можно будет разделаться еще в пути.
Порывы ветра швыряли маленький самолет из стороны в сторону, и Джереми почувствовал, что его тошнит. Ситуация казалась нелепой – как в комиксах или в кино, – но неизбежность насилия была реальна, как в неминуемой автомобильной аварии. До приступа безумия в Денвере, когда он набросился на педофила, Бремен никогда ни на кого не поднимал руку, даже в гневе, никому не разбивал нос. Для него насилие всегда было последним убежищем интеллектуальной и эмоциональной неполноценности. А теперь, когда он сидел в этой герметичной машине, кресла и двери в которой казались менее прочными, чем в автомобиле, вспоминал покрытое пленкой льда лицо миз Морган и летел на восток навстречу судьбе, жестокие мысли этих жестоких мужчин царапали его сознание, словно наждачная бумага. Забавно, но в их желании убить Джереми не было ничего личного – просто таким способом они разрешали проблему, избавлялись от мелкой потенциальной угрозы. Они убьют человека по имени Джереми Бремен – на самом деле они даже не знали его имени – с той же легкостью, с какой сам он стирает с доски неверное преобразование, чтобы спасти уравнение. Только это доставит им больше удовольствия.
«Пайпер Чаен» летел на восток, и гудение его моторов стало мелодичным контрапунктом черным вихрям мыслей Ванни Фуччи, Сэла Эмпори, Берта и Эрни. Ванни был поглощен подсчетом денег в стальном чемоданчике Бремена: вор насчитал уже триста тысяч долларов, а еще треть пачек оставались нетронутыми. Джереми заметил, что волнение Фуччи, когда он брал в руки деньги и считал их, было похоже на сексуальное возбуждение.
Бремен почувствовал, что его депрессия усиливается. Снова проснулась апатия, которая определяла все его действия до схватки с миз Морган, – холодная, мрачная волна, грозившая смыть его во тьму.
Во тьму под кроватью.
Пленник вздрогнул, открыл глаза и сквозь плотный нейрошум и убаюкивающий гул моторов попытался сосредоточиться на воспоминаниях о Гейл – они виделись ему надежной скалой, на которую он мог подняться, спасаясь от черной волны. Эти воспоминания были его Полярной звездой, будили в нем злость.
Перед рассветом они приземлились для дозаправки. Бремен прочел в мыслях пилота, что это частный аэродром к северу от Соленого озера и что Дону Леони здесь принадлежит целый ангар. Шансов сбежать отсюда не было.
Они сходили в туалет – Берт и Эрни держали наготове свои «пушки», пока Джереми мочился. Потом Каппи, приставив дуло пистолета к затылку Бремена, отвел его в самолет, а остальные тоже посетили туалет и выпили кофе в ангаре. Джереми понимал, что даже если ему удастся чудесным образом сбежать от Берта, остальные прикончат его, не обращая внимания на то, что свидетели могут вызвать полицию.
Заправившись, они поднялись в воздух и полетели вдоль шоссе I-80 через Вайоминг, хотя Бремен узнал это только из обрывков мыслей пилота, так как земля в пятнадцати тысячах футов под ними скрывалась под плотным слоем облаков. Единственными звуками было гудение моторов и редкие переговоры пилота по радио. Лучи летнего солнца нагрели салон самолета, и бандиты один за другим погрузились в сон – за исключением Ванни Фуччи, мысли которого были заняты деньгами и той суммой, которую Дон Леони мог отстегнуть ему в качестве награды за поимку лоха.
Действуй! – Эта мысль вызвала у Бремена прилив адреналина: он представил, что выхватывает оружие у Берта Каппи или Эрни Санзы. Покопавшись у них в мозгах, Джереми выяснил, как обращаться с автоматическими пистолетами 45-го калибра.
А что потом? К сожалению, он достаточно узнал этих бандитов и не сомневался, что у них хватит выдержки и хитрости не реагировать, когда в маленьком самолете на высоте двадцати тысяч футов у них перед носом начнут размахивать автоматическим пистолетом. Будь они с пилотом одни, Бремен смог бы убедить его отклониться от маршрута и приземлиться в другом месте. До работы на Дона Леони пилот – его звали Джизус Виджил – возил кокаин из Колумбии и уходил от преследовавших его самолетов Управления по борьбе с наркотиками, планируя над самыми верхушками деревьев. Ему нравилась служба у мафиозо, и он не собирался умирать молодым.
Но четыре бандита, особенно Берт Каппи и Эрни Санза, были гораздо сильнее отравлены императивами мачизма – по крайней мере, в его итальянской и сицилийской версии – и никогда не позволили бы лоху разоружить их или сбежать. Каждый из них без колебаний пожертвовал бы своими подельниками, чтобы не допустить этого, но ни у кого не доставало ума и во-ображения, чтобы представить собственную смерть.
Второй раз они приземлились поздним утром, в районе Омахи, но Бремену не разрешили выйти из самолета, и все теперь были настороже. Желание Берта и Эрни, чтобы лох – он, Джереми, – попытался сбежать, было почти осязаемым. Тот бесстрастно смотрел на них.
Самолет взлетел, и прежде чем они нырнули в облака, Бремен заметил широкую реку. Он сосредоточился на мыслях и воспоминаниях пилота, в том числе на отпечатавшемся в памяти плане полета, который тот скорректировал в Омахе. «Пайпер Чаен» приземлится еще один раз, для дозаправки – на частном аэродроме в Огайо – а потом направится прямо на личный аэродром Дона Леони в миле от его поместья в Нью-Джерси. Там будет ждать лимузин. Потом краткий разговор с Доном – по большей части монолог, чтобы босс убедился, что Джереми не работает на друзей Чико Тартугяна из Майами, допрос, во время которого пленник может лишиться нескольких пальцев и одного или двух яичек – а потом, когда у них не останется сомнений, Берт с Эрни и психопатом-пуэрториканцем по прозвищу Окурок отвезут Бремена в Пайн-Барренс и сделают то, что требуется. После этого мусоровоз отвезет брикет на свалку в районе Ньюарка.
Моторы самолета равномерно гудели. Сэл Эмпори и Ванни Фуччи обсуждали бизнес, уверенные, что лох на заднем сиденье не сможет ничего никому рассказать. Эрни попытался пересесть на заднее сиденье, чтобы сыграть в карты с Бертом, но Сэл цыкнул на него, приказав вернуться в кресло напротив Бремена. Эрни Санза погрузился в размышления, а потом попытался читать порнографический роман и в конце концов задремал. Позже заснул и Берт Каппи: ему снилось, что он трахает одну из танцовщиц нового казино Дона Леони.
Джереми тоже клонило в сон. Он уже прочел всю профессиональную память пилота, до которой смог добраться. Разговор Сэла и Ванни постепенно угас, и теперь слышалось только гудение двигателей и периодический треск рации, когда они пролетали мимо центров управления Федерального авиационного агентства. Но Бремен не стал спать – он решил, что должен выжить.
Внизу были видны лишь облака, но из мыслей пилота Джереми выяснил, что они летят где-то восточнее Спрингфилда, в штате Миссури. Эрни тихо похрапывал, Берт дергался во сне.
Бремен беззвучно расстегнул пряжку ремня безопасности и на пять секунд закрыл глаза. Да, Джереми. Да.
Дальше он действовал без размышлений, двигаясь с быстротой и ловкостью, которых от себя не ожидал: встал, повернулся, скользнул на заднюю скамью и одним движением выхватил автоматический пистолет из руки Берта Каппи.
Потом он прижался спиной к тому месту, где задняя переборка соединялась с фюзеляжем и направил оружие сначала на подскочившего Берта, затем – на всхрапнувшего и проснувшегося Эрни, а после этого – на Сэла Эмпори и Ванни Фуччи, которые потянулись за своим оружием.
– Только попробуйте, – бесстрастно предупредил Бремен, – и я вас всех убью.
Маленький самолет наполнился криками и проклятиями, пока голос пилота не заставил всех умол-кнуть.
– Кабина загерметизирована, черт бы вас побрал! – крикнул Джизус Виджил. – Если кто-нибудь выстрелит, нам конец.
– Опусти пушку, ублюдок! – заорал Ванни Фуччи. Его рука замерла на полпути к ремню.
– Стойте, козлы! Замрите! – рявкнул Сэл Эмпори на Берта и Эрни. Каппи протянул руки вперед, словно собирался задушить лоха, а рука Санзы была уже во внутреннем кармане шелковой спортивной куртки.
На секунду в салоне наступила тишина. Все замерло, если не считать резких, но не тщательно рассчитанных движений пистолета в руке Бремена. Он читал мысли бандитов, обрушивавшиеся на него, словно гонимые штормовым ветром волны. Сердце у него стучало так громко, что он боялся ничего больше не услышать. Но голос пилота был хорошо различим.
– Эй, полегче, парень. Давай все обсудим. – Пологий спуск. Придурок не заметит. Еще три тысячи футов – и разгерметизация нам не страшна. Нужно, чтобы Эмпори и Фуччи оставались между кабиной и лохом, чтобы случайные пули не попали в меня или в приборы. Еще две тысячи футов. – Полегче, приятель. Никто тебе ничего не сделает. – Чертов придурок прикажет мне где-нибудь приземлиться, я соглашусь, а потом ребята его прикончат.
Джереми молчал.
– Да-да-да, – сказал Ванни и посмотрел на Берта, взглядом приказывая ему не шевелиться. – Не надо так волноваться, ладно? Мы все обсудим. Просто опусти долбаный пистолет, чтобы он ненароком не выстрелил, ладно? – Его пальцы переместились на рукоятку револьвера калибра.38 за поясом.
У Берта Каппи от ярости перехватило дыхание. Если этот лох не будет трупом через две секунды, он лично отрежет ублюдку яйца, прежде чем прикончить его.
– Просто сиди спокойно, твою мать! – крикнул Сэл Эмпори. – Мы где-нибудь приземлимся, и… Эрни, козел! Нет!
Санза выхватил пистолет.
Ванни Фуччи выругался и последовал его примеру. Пилот пригнулся и направил самолет вниз, туда, где воздух был плотнее.
Берт Каппи что-то прорычал и бросился вперед.
Джереми Бремен нажал на спусковой крючок.
Глаза
Во время болезни Гейл Джереми практически забрасывает математику, за исключением преподавания и исследования теории хаоса. Преподавание помогает ему сохранить рассудок. Исследование хаоса навсегда изменяет его взгляд на Вселенную.
Джереми слышал о математике хаоса еще до того, как результаты исследования Джейкоба Голдмана заставили его углубиться в эту область, но, как и большинство математиков, концепцию математической системы без формул, предсказуемости и границ Бремен считает внутренне противоречивой. Она беспорядочна. Это не математика, к которой он привык. Джереми приходит к убеждению, что Анри Пуанкаре, великий математик девятнадцатого века, который помог перешагнуть через математику хаоса, первым начав исследования в области топологии, не принял бы идею хаоса в царстве чисел, как ее сегодня не принимает он сам.
Однако данные, полученные Джейкобом Голдманом, не оставляют выбора – продолжать поиск средств анализа голографического волнового фронта в джунглях математики хаоса. Поэтому после долгих дней химиотерапии у Гейл и вгоняющих в депрессию посещений больницы Джереми читает несколько книг по математике хаоса, а затем переходит к тезисам диссертаций и статьям, многие из которых переведены с французского и немецкого. По мере того как зимние дни становятся короче, а затем снова длиннее, а состояние Гейл все ухудшается, ее муж читает работы Абрахама и Марсдена, Баренблатта, Айосса и Джозефа, изучает теории Аруна и Хайнца, биологические работы Левина и исследования фракталов Мандельброта, Стюарта, Пайтгена и Рихтера. После долгого дня с Гейл, когда он держит ее за руку во время болезненных и унизительных медицинских процедур, Джереми возвращается домой, чтобы забыться с помощью таких статей, как «Нелинейные осцилляции, динамические системы и бифуркации векторных полей» Гукенхаймера и Холмса.
Понимание приходит медленно. И так же медленно теория хаоса дополняет его более привычный волновой анализ Шредингера, примененный к голографическому восприятию. Постепенно меняется представление Бремена о Вселенной.
Он обнаруживает, что одна из отправных точек появления современной математики хаоса – это наша неспособность предсказать погоду. Даже суперкомпьютер «Крэй X-MP», производящий вычисления со скоростью восемьсот миллионов операций в секунду, не справляется с этой задачей. За полчаса работы он точно предсказывает завтрашнюю погоду во всем Северном полушарии. За день лихорадочной деятельности суперкомпьютер выдает десятидневный прогноз.
Но через четыре дня прогноз начинает расходиться с реальностью, а любая попытка заглянуть в будущее дальше чем на семь дней оказывается гаданием на кофейной гуще… Даже для «Крэй X-MP», перебирающего переменные со скоростью шести миллионов в минуту. Метеорологов, специалистов в области искусственного интеллекта и математиков раздражала эта неудача. Такого не должно было случиться. Тот же компьютер способен предсказать движение миллиардов звезд на годы вперед. Почему же, спрашивали они, погоду – с ее большим, но конечным числом переменных – так трудно предсказать?
Чтобы выяснить это, Джереми должен изучить работы Эдварда Лоренца о хаосе.
В начале 1960-х годов математик по имени Эдвард Лоренц, переквалифицировавшийся в метеоролога, стал использовать один из примитивных компьютеров того времени, «Ройял Макби LGP-300», для вычисления переменных, обнаруженных Зальцманом в уравнениях, которые «управляют» простой конвекцией, подъемом горячего воздуха. Лоренц нашел в уравнении Зальцмана три переменных, которые действительно оказались значимыми, исключил остальные и запустил состоящую из электронных ламп и проводов машину «Ройял Макби LGP-300», чтобы та решала уравнения со скоростью одной итерации в секунду. В результате получился…
…хаос.
Переменные, уравнения, данные – все оставалось тем же, но кажущиеся простыми краткосрочные прогнозы превращались в противоречивое безумие.
Лоренц проверил вычисления, провел анализ линейной стабильности, удивился и начал все снова.
Безумие. Хаос.
Ученый открыл так называемый «аттрактор Лоренца», в котором траектории цикла уравнений вокруг двух долей имеют явно случайный характер. Из хаоса Лоренца следует очень точная закономерность: нечто вроде сечения Пуанкаре, которое подтолкнуло Эдварда к пониманию явления, названного им «эффектом бабочки» в прогнозировании погоды. Проще говоря, «эффект бабочки» Лоренца говорит о том, что одна бабочка, взмахивающая крыльям в Китае, вызовет крошечные, но неизбежные изменения в атмосфере. Это слабое изменение накладывается на другие слабые изменения, и погода… меняется. Непредсказуемо.
Полный хаос.
Джереми сразу же понимает, как применить работу Лоренца и более поздние исследования хаоса к данным Джейкоба.
Анализ этих данных, выполненный Бременом, показывает: то, что разум человека воспринимает через отстраненную и искажающую линзу чувств, представляет собой всего лишь беспрестанный коллапс волн вероятности. Вселенная, свидетельствуют данные Голдмана, точнее всего описывается фронтом стоячей волны, состоящим из этих вихревых возмущений хаоса вероятности. Человеческий разум – всего лишь еще один фронт стоячей волны, на что указывают исследования самого Джереми, нечто вроде суперголограммы, составленной из миллионов цельных, но меньших по размеру голограмм – наблюдает за этими явлениями, превращает волны вероятности в упорядоченную серию событий («Самим фактом наблюдения, – объяснял Джереми своей жене в поезде, – наблюдатель, похоже, заставляет вселенную выбирать: волна или частица…») и продолжает заниматься своим делом.
Бремен затрудняется найти пример для этой непрерывной структуризации неструктурируемого, пока не наталкивается на статью со сложными математическими расчетами, которые использовались для анализа ориентации орбиты Гипериона, спутника Сатурна, данные о которой передал пролетавший мимо «Вояджер». Орбита Гипериона в достаточной степени подчиняется законам Кеплера и Ньютона, чтобы ее можно было точно предсказать с помощью линейной математики на многие десятилетия вперед. Но ее ориентация, то есть расположение трех осей, не подчиняется никаким законам.
Гиперион кувыркается, и его движение просто невозможно предсказать. Ориентация его орбиты определяется не случайным воздействием гравитации и законами Ньютона, которые могут быть учтены достаточно опытным программистом и рассчитаны достаточно мощным компьютером, а динамическим хаосом со своей собственной логикой – и отсутствием логики. В безмолвном вакууме в окрестностях Сатурна действует «эффект бабочки» Лоренца, а его жертва – маленький бугристый Гиперион, беспорядочно кувыркающийся в пространстве.
Но Джереми обнаруживает, что даже в таких непредсказуемых океанах хаоса могут существовать островки линейной причинности.
Гиперион приводит Бремена к работам Андрея Колмогорова, Владимира Арнольда и Юргена Мозера. Эти специалисты в области математики динамических систем сформулировали теорему КАМ (Колмогорова – Арнольда – Мозера) для объяснения классического квазипериодического движения в этом вихре хаотических траекторий. Графическая интерпретация теоремы представляет собой удивительный рисунок, похожий на органическую структуру: эти классические и вычисляемые траектории подобны оболочкам проводов или труб, вложенным друг в друга обмоткам, где резонансные островки порядка лежат внутри складок динамического хаоса.
Американские математики назвали эту модель VAK, «неопределенным аттрактором Колмогорова». Джереми вспоминает, что Вак – имя богини вибрации в Ригведе.
В тот вечер, когда Гейл впервые ложится в больницу не на обследование, а для лечения… Пока не восстановится в достаточной степени, чтобы вернуться домой, говорят врачи, но Бремены знают, что она уже не вернется… В этот вечер Джереми сидит один в своем кабинете на втором этаже и смотрит на неопределенный аттрактор Колмогорова. Регулярные квазипериодические траектории закручиваются над вторичными оболочками резонансов, третичные оболочки образуют более слабые множественные резонансы, а хаотичные траектории пронзают структуру, словно запутанные провода.
И Джереми видит модель для своего анализа голографической неврологической интерпретации набора коллапсирующих вероятностей, которые и есть Вселенная. Он видит исходный пункт для построения модели человеческого разума… и той способности, которой обладают они с Гейл… и Вселенной, которая приносит Гейл столько боли.
А над всем этим – «эффект бабочки». Ясное понимание, что вся жизнь человеческого существа подобна одному дню этой жизни: не поддающаяся планированию, непредсказуемая, управляемая невидимыми волнами хаотических факторов и трепетом крыльев бабочки, которые приносят смерть в виде опухоли… или, в случае с Джейкобом, в виде пули в голову.
В тот вечер Джереми понимает, что он хотел бы сделать в этой жизни – открыть совершенно новое направление в математических рассуждениях и исследованиях… Не ради положения или научных наград… а ради того, чтобы хоть немного расширить светлый круг знания в подступающую со всех сторон тьму. Острова резонанса среди моря хаоса.
Но даже видя путь, по которому могут пойти его исследования, Бремен отказывается от него, сбрасывая со стола книги и статьи, стирая наброски уравнений на доске. В тот вечер он стоит у окна, устремив невидящий взгляд в пространство, и тихо плачет, будучи не в силах остановиться. Его переполняет не гнев и не отчаяние, а нечто гораздо более гибельное – пустота, поднимающаяся изнутри.
Мы чучела
– Мистер Бремен? Мистер Бремен, вы меня слышите?
Однажды, когда ему было лет восемь, Джереми нырнул в бассейн у дома своего приятеля и, вместо того чтобы подняться на поверхность, просто лег на дно. Он лежал там несколько секунд, ощущая спиной шершавый бетон и глядя на потолок из света над головой. Даже когда он наблюдал за всплывающими пузырьками и почувствовал, что в легких кончается запас воздуха, даже когда понял, что больше не может задерживать дыхание и через несколько секунд вдохнет воду, ему все равно не хотелось подниматься к поверхности, было мучительно больно возвращаться в мир воздуха, света и шума, который вдруг стал ему чужим. Поэтому Джереми оставался на дне, упрямо отказываясь всплывать, но потом силы его закончились, и он медленно поднялся на поверхность, наслаждаясь последними секундами рассеянного водой света, приглушенного шума и серебристого мерцания окружавших его пузырьков.
Теперь он тоже медленно поднимался, не желая возвращаться к свету.
– Мистер Бремен? Вы меня слышите? – пытался докричаться до него чей-то голос.
Джереми его слышал. Он открыл глаза – и тут же зажмурился от резкого белого света, а потом, прищурившись, посмотрел сквозь опухшие веки.
– Мистер Бремен? – снова повторил тормошивший его человек. – Я – лейтенант Берчилл, полиция Сент-Луиса.
Телепат кивнул – попытался кивнуть. Голова у него болела, а движения были чем-то ограничены. Он лежал в кровати. Белые простыни. Светлые стены. Прикроватные лотки и пластиковые принадлежности больничной палаты. Периферийным зрением Джереми видел задернутую занавеску слева от себя и закрытую дверь справа. Позади сидевшего на стуле лейтенанта полиции стоял еще один человек, одетый в серый костюм. Лейтенант Берчилл был массивным мужчиной с желтоватой кожей, чуть за пятьдесят. Бремен подумал, что он немного похож на Морли Амстердама, комика с одутловатым лицом из старого шоу «Дик Ван Дайк». Молчаливый мужчина за его спиной был моложе, но на его лице отражалась та же профессиональная смесь усталости и цинизма.
– Мистер Бремен? – еще раз спросил Берчилл. – Вы меня хорошо слышите?
Джереми слышал его хорошо, хотя у него сохранялось ощущение, что он находится под водой. И он мог видеть себя глазами лейтенанта Берчилла: из одеял и повязок выглядывал бледный и изможденный человек, левая рука в гипсе, голова перебинтована, под тонкой больничной рубашкой проступают другие бинты, заплывшие глаза окружены синяками, под марлей на подбородке и на щеке свежие царапины. В левую руку из капельницы поступает прозрачная жидкость.
Пациент закрыл глаза и попытался отвлечься от картины в голове полицейского.
– Мистер Бремен, расскажите нам, что произошло.
Тон лейтенанта не назовешь доброжелательным. Подозрение. Неверие, что этот хлюпик мог застрелить пятерых бандитов и самостоятельно посадить самолет. Интерес к тому, что сообщил о нем компьютер ФБР – профессор математики в колледже, черт бы его пробрал! – а также к умершей жене, поджогу и связи этого клоуна с Доном Леони из Нью-Джерси и его подручными.
Джереми откашлялся и попытался заговорить. Получился хриплый шепот.
– Где я?
Выражение лица Берчилла не изменилось.
– Что вы сказали?
Бремен снова прочистил горло.
– Где я?
– В Центральной больнице Сент-Луиса, – ответил полицейский и после секундной паузы прибавил: – Миссури.
Телепат попытался кивнуть, о чем тут же пожалел. Он снова заговорил, на этот раз не двигая челюстью.
– Не понимаю, – сказал лейтенант.
– Травмы? – повторил Джереми.
– К вам придет врач, но, насколько мне известно, у вас перелом руки и несколько синяков. Угрозы для жизни нет.
Второй детектив из отдела по расследованию убийств, сержант Кирни, думал: Четыре треснутых ребра, царапина от пули на одном из этих ребер, сотрясение мозга и внутренние кровоизлияния… Этому идиоту повезло, что он остался жив.
– После авиакатастрофы прошло около восемнадцати часов, мистер Бремен. Вы помните катастрофу? – спросил Берчилл.
Джереми покачал головой.
– Совсем ничего?
– Я помню, что обсуждал с диспетчерами выпуск шасси. Потом правый мотор стал издавать странные звуки… и больше ничего.
Берчилл пристально смотрел на него. Этот козел, скорее всего, лжет, но кто знает… Ведь кто-то всадил пулю 45-го калибра через фюзеляж прямо в двигатель.
Бремен почувствовал, как его накрывает болью, словно медленной волной, не желающей отступать. Под ее напором ослабли и телепатическая связь, и нейрошум больницы.
– Значит, самолет разбился? – спросил он.
Полицейский по-прежнему не отрывал от него взгляда.
– Вы пилот, мистер Бремен?
Джереми покачал головой и едва не потерял сознание от боли.
– Прошу прощения, что вы сказали? – переспросил лейтенант.
– Нет.
– У вас есть опыт управления легким самолетом?
– Не-а.
– Тогда что вы делали за штурвалом самолета «Пайпер Чаен»? – Голос Берчилла был ровным и безжалостным, как укол рапиры.
Бремен вздохнул.
– Пытался посадить его, лейтенант. Пилота подстрелили. Он жив? Кто-то еще выжил?
Худой сержант, стоявший сзади Берчилла, подался вперед.
– Мистер Бремен, мы уже зачитывали вам ваши права, и это снималось на камеру, но мы не уверены, что вы полностью отдавали себе отчет о происходящем. Вы знаете свои права? Хотите пригласить адвоката?
– Адвоката? – повторил Джереми. От лекарства, которое ему вливали с помощью капельницы, пред глазами все плыло, а телепатическая связь прерывалась. – Зачем мне адвокат? Я что-то сделал…
Сержант Кирни вздохнул, достал из кармана ламинированный листок и принялся монотонно зачитывать Бремену его права – в точности как в бесчисленных телевизионных шоу. Гейл всегда удивлялась – неужели полицейские настолько тупы, что не могут выучить эти несколько строк? – и говорила, что зрители уже знают их наизусть.
Когда сержант закончил и снова спросил, нужен ли Бремену адвокат, тот застонал и покачал головой:
– Нет. А остальные мертвы?
Мертвее не бывает, – подумал лейтенант Берчилл.
– Вы позволите мне задать вам несколько вопросов, мистер Бремен? – спросил детектив из отдела убийств.
Джереми закрыл глаза, что означало согласие.
– Кто в кого стрелял, мистер Бремен? – спросил лейтенант.
В кого. – Это был голос Гейл, пробивавшийся к пациенту сквозь туман.
– Я застрелил человека по имени Берт из его же пистолета, – сказал Джереми. – А потом началось настоящее безумие… Стреляли все, кроме пилота. Потом пилота ранили, и я сел за штурвал и попытался посадить самолет. Видимо, получилось не очень…
Берчилл посмотрел на своего коллегу.
– Вы пролетели больше ста миль на двухмоторном турбореактивном самолете с одним поврежденным двигателем, зашли на посадку в международном аэропорту Ламберт и почти посадили машину. Парни из диспетчерской говорят, что если б правый двигатель не отказал, все прошло бы гладко. Вы уверены, что раньше не летали, мистер Бремен?
– Удача, – ответил телепат. – Это все отчаяние. Я был один. Плюс управление там довольно простое, и есть автоматика.
Плюс память пилота каждую секунду десятичасового полета из Лас-Вегаса, – мысленно прибавил он. – Жаль, его не было рядом, когда он был нужен.
– Почему вы летели в самолете, мистер Бремен?
– Сначала, лейтенант, скажите, откуда вам известно мое имя?
Берчилл удивленно посмотрел на пациента, а потом заморгал.
– В деле есть ваши отпечатки пальцев.
– Правда? – растерянно переспросил Джереми. Туман, вызванный лекарствами, постепенно рассеивался, но боль усиливалась. – Не помню, чтобы у меня снимали отпечатки пальцев.
– Водительские права в Массачусетсе, – объяснил сержант. Голос у него был монотонным, как у робота.
– Почему вы летели в самолете, мистер Бремен? – повторил вопрос Берчилл.
Джереми облизнул пересохшие губы и все рассказал. О рыбацкой хижине во Флориде, о теле и Ванни Фуччи… обо всем, кроме кошмара с миз Морган и тех недель, которые он провел в Денвере. Хотя, раз у них есть его отпечатки пальцев, рано или поздно его свяжут с убийством Морган. В данный момент в мыслях лейтенанта и сержанта ничего такого не было, но Бремен понимал, что совсем скоро кто-нибудь найдет эту связь.
Берчилл снова уставился на него немигающим взглядом.
– Значит, они летели с вами в Нью-Джерси, чтобы Дон лично мог прикончить… казнить вас. Они вам это сказали?
– Я догадался по их разговорам. Они явно меня не стеснялись… Наверное, считали, что я уже никому ничего не расскажу.
– А что насчет денег, мистер Бремен?
– Денег?
– Денег в стальном чемоданчике. Больше четырехсот тысяч долларов, тупица. Ты что-нибудь знаешь о деньгах наркомафии? Может, на высоте двадцати тысяч футов над землей они что-то говорили о сорвавшейся сделке?
Джереми молча покачал головой.
Сержант Кирни наклонился еще ниже:
– Вы часто играете в Лас-Вегасе?
– Первый раз, – пробормотал Бремен. Радость от того, что он жив и относительно цел, сменилась болью и вернувшейся пустотой. Все закончилось. Все закончилось со смертью Гейл, но Джереми теперь был вынужден признать, что закончился и его полет, его бессмысленная, безумная, бесполезная и бездушная попытка избежать неизбежного.
Берчилл снова что-то говорил:
– …завладеть его оружием?
Недостающую часть вопроса Бремен восстановил по эху телепатической связи.
– Я выхватил пистолет у Берта Каппи, когда тот заснул. Полагаю, они не думали, что я попытаюсь что-то предпринять в полете.
Только безумец мог на это решиться – в маленьком самолете и с таким количеством оружия, – подумал лейтенант.
– Что же вас заставило? – спросил он вслух.
Пациент совершил ошибку, попытавшись пожать плечами. Гипс и перебинтованные ребра помешали ему закончить движение.
– А у меня был выбор? – прохрипел он. – Лейтенант, мне очень больно, и я еще не видел ни врача, ни медсестру. Может, поговорим позже?
Берчилл опустил взгляд на маленькую записную книжку в левой руке, а затем снова посмотрел на Бремена и кивнул.
– Меня в чем-то обвиняют? – спросил Джереми. Голос его был слишком слаб, чтобы выразить ярость; в нем слышалась только усталость.
Лицо лейтенанта как будто еще больше осунулось и теперь состояло из одних складок и морщин. Энергия осталась только в глазах, от которых ничто не могло ускользнуть.
– Пять человек мертвы, мистер Бремен. Известно, что четверо из них – преступники, и, похоже, пилот тоже был связан с организованной преступностью. Сами вы чисты, но к вам есть вопросы, касающиеся вашего исчезновения после смерти жены… и пожара.
Джереми видел меняющееся направление мыслей лейтенанта, таких же упорядоченных и четких, как сходная с лазерным лучом концентрация профессиональных игроков в покер, с которыми он играл меньше двух дней назад. После смерти жены парень поджигает свой дом и исчезает, – думал Берчилл. – Потом случайно оказывается во Флориде, где приканчивают Чико Тартугяна. А потом так же случайно оказывается в Лас-Вегасе, когда убийца Чико и другие парни Леони подсчитывают денежки. Ну, конечно. Связь еще не ясна, но все элементы на месте – деньги за страховку, деньги от продажи наркотиков, шантажа… и так называемый лох говорит, что схватил пушку Берта Каппи и начал стрелять. Тут какое-то странное дерьмо, но я скоро с этим разберусь.
– Меня в чем-то обвиняют? – повторил Бремен. Ему казалось, что он куда-то уплывает, соскальзывает в туман болезненного нейрошума, наполнявшего больницу: оцепенение, ужас, вызов, депрессия и – от многих посетителей – окрашенное виной облегчение, что это не они лежат в кровати с пластиковыми браслетами на руке.
– Пока нет, – сказал Берчилл, вставая и кивком головы указывая сержанту на дверь. – Если все, что вы нам рассказали, правда, мистер Бремен, то нам нужно продолжить разговор… возможно, в присутствии агента ФБР. Пока же мы поставим охрану у вашей палаты, чтобы люди Леони до вас не добрались.
В сознании Берчилла всплыл образ полицейского в форме, который дежурил в коридоре последние восемнадцать часов. Этот мистер Бремен никуда не денется – будь он свидетелем, обвиняемым в убийстве или и тем и другим.
Следователи из отдела убийств ушли, и в палате появились врач с медсестрой, но Джереми так устал, что уже не мог сосредоточиться на медицинской скороговорке доктора. Подтвердилось то, ему что сказали глаза Берчилла – хотя сложный перелом левой руки оказался серьезнее, чем думал лейтенант, – а все остальное было деталями.
Бремен позволил себе соскользнуть в пустоту.
Глаза
Когда Джереми лежит в больнице Сент-Луиса, остается несколько часов до того, как навсегда исчезнет мой тщательно сконструированный мир. Но я этого не знаю.
Я не знаю, что Бремен лежит в больнице. Я не знаю о Гейл и о том, что она вообще существовала. Я не знаю о рае общего восприятия или об идеальном аде, который принесла эта способность Джереми.
В этот момент мне знакома лишь непрерывная боль существования и трудность избавления от нее. В этот момент мне знакомо лишь отчаяние от разлуки с единственным, что дарило мне утешение в прошлом.
В этот момент я умираю… И в то же время лишь несколько часов отделяют меня от рождения.
Незрячи, пока
Бремену снился лед и тела, конвульсивно извивающиеся во льду.
Ему снился огромный зверь, пожирающий плоть, и жуткие крики, приходящие из душной ночи. Ему снились тысячи и тысячи голосов, взывавших к нему из боли, ужаса и человеческого отчаяния, а когда он проснулся, голоса остались: нейрошум современной больницы, заполненной страдающими душами.
Весь тот день Джереми лежал в постели, качаясь на волнах боли от своих травм, и думал о том, что делать дальше. Но ничего не придумал.
Детектив Берчилл вернулся ранним вечером с обе-щанным специальным агентом ФБР, но Бремен притворился спящим, и они уступили требованиям дежурной медсестры и через полчаса уши. Потом Джереми заснул по-настоящему, и снились ему лед и извивающиеся тела во льду, а также крики из пропитанной болью тьмы, которая его окружала.
Вечером он снова проснулся и сквозь фоновый шум и бормотание сфокусировал свой телепатический луч на полицейском, которому поручили его охранять. Патрульному Дуэйну Б. Эверетту было сорок восемь лет, ему оставалось семь месяцев до пенсии, и он страдал от геморроя, плоскостопия, бессонницы и от того, что врачи называют синдромом раздраженного кишечника. Все это не мешало патрульному Эверетту пить столько кофе, сколько ему хотелось, хотя из-за этого приходилось совершать долгое путешествие в туалет в дальнем конце коридора. Он не возражал ни против того, чтобы дежурить здесь по очереди с двумя другими полицейскими по восемь часов, ни против ночной смены. Ночью тут было тихо, и он мог читать роман Роберта Б. Паркера и шутить с медсестрами, а в холле всегда был свежий кофе, который ему разрешили пить.
Скоро рассвет. В палате Бремен был один, если не считать коматозного пациента на соседней койке. Джереми встал, превозмогая боль, выдернул из вены иглу капельницы и, хромая, добрался до окна. Присев под прохладной струей кондиционера, забиравшейся под тонкую больничную сорочку, он стал смотреть в окно.
Если бежать, то сейчас. Одежду на нем разрезали, когда доставали его из разбитого самолета, – он прочел мысли одного из врачей «Скорой помощи» и знал, что все считали чудом, что самолет не загорелся, врезавшись в поле в полумиле от аэропорта, – но Бремен также знал, где взять вещи, которые ему подойдут. Нужно лишь спуститься на один лестничный пролет в раздевалку для интернов.
В тот день он еще и подслушал, в каких шкафчиках интерны хранят ключи от своих машин… и шифры для замков на этих шкафчиках. Джереми решил «арендовать» почти новую и полностью заправленную «Вольво», принадлежавшую интерну по имени Брэдли Монтроз. Этот Брэдли работал в отделении неотложной помощи и вряд ли заметит отсутствие машины раньше, чем закончится его дежурство, через семьдесят два часа.
Бремен прислонился к стене и застонал. Рука жутко болела, голова раскалывалась на части, а в груди было такое ощущение, что осколки треснувших ребер впиваются в легкие – не говоря уже о других, более мелких травмах, мешавших сосредоточиться. Даже раны на бедре и в боку от миз Морган еще окончательно не зажили.
Смогу ли я? Добраться до одежды? Вести машину? Оторваться от копов?
Вероятно.
Ты действительно собираешься стащить шестьсот долларов из кошелька Брэдли?
Вероятно. Его мать компенсирует пропажу раньше, чем Брэдли успеет рассказать копам, что случилась.
А ты знаешь, куда направляешься, черт бы тебя побрал?
Нет.
Джереми вздохнул и открыл глаза. Через небольшую щель в ширме он видел голову и плечи умирающего ребенка, с которым делил палату. Мальчик выглядел ужасно, но из мыслей медсестер и врачей, подслушанных днем, Бремен знал, что это не только из-за травм. Мальчик – Робби… фамилия вылетела из памяти – был слепым, глухим и умственно отсталым еще до того, как после избиения оказался здесь.
Кошмар, который мучил Джереми во время дневного сна, отчасти объяснялся гневом и отвращением одной из медсестер, которая старалась уделять больше внимания Робби. Мальчика обнаружили в деревянном туалете на берегу реки в восточном Сент-Луисе. Трое ребятишек, игравших на пустыре, услышали странные звуки, доносившиеся из туалета, и сказали об этом родителям. К тому моменту, когда санитары достали Робби из переполненной фекалиями ямы, он пролежал там больше двух дней. Его жестоко избили, и шансов выжить у него почти не было. Медсестра плакала, жалея мальчика… и молила Бога, чтобы тот скорее умер.
Судя по тому, что знали врачи и медсестры, полиция не нашла мать и отчима Робби. По мнению врача, на чьем попечении находился этот ребенок, они и не слишком старались.
Бремен сидел, прижавшись щекой к стеклу, и думал об умирающем мальчике. Он вспоминал о смертельно больных детях, которых видел в «Мире Уолта Диснея», и о кратких мгновениях покоя, которые подарил им с помощью телепатической связи. Во всем его бесцельном, эгоистичном бегстве от самого себя те несколько минут были единственными, когда он помог кому-то, сделал что-либо, а не просто жалел себя. Вспоминая те мгновения, Джереми снова посмотрел на Робби.
Мальчик лежал на боку, наполовину прикрытый одеялом. Его лицо и верхняя половина тела освещались мониторами над его головой. Скрюченные, похожие на когти и словно изломанные пальцы Робби застыли на простыне; запястья выглядели тонкими, как у ящерицы. Голова ребенка была неестественно вывернута, из разбитых губ торчал язык. Лицо в синяках и кровоподтеках, нос явно сломан и расплющен, но Джереми почему-то подумал, что глазницы, которые как будто пострадали больше всего, всегда были такими – запавшие, черные, с тяжелыми веками, лишь наполовину закрывавшими бесполезные, похожие на белые камни глаза.
Робби был без сознания. Бремен не улавливал сигналов его сознания – даже болезненных снов – и очень удивился, когда из мыслей медсестры узнал, что в палате есть еще один пациент. Такого полного отсутствия нейрошума Джереми не наблюдал ни у одного человеческого существа. Робби был просто пустым, хотя из мыслей врачей Бремен знал, что приборы регистрируют активность его мозга. Более того, электроэнцефалограмма показывала высокую активность в фазе быстрого сна. Бремен терялся в догадках, почему ему не удается увидеть сны мальчика.
Словно почувствовав, что за ним наблюдают, Робби дернулся во сне. Черные волосы на его голове росли какими-то клочками, и в других обстоятельствах это показалось бы Бремену забавным. Хриплое дыхание, не похожее на храп, с шумом вырывалось из разбитых губ умирающего ребенка, и его тяжелый запах чувствовался в противоположном конце палаты.
Джереми покачал головой и посмотрел за окно, со всей ясностью осознавая сложившуюся ситуацию.
Не жди, когда Берчилл и парень из ФБР вернутся утром с вопросами об убийстве миз Морган. Уходи сейчас.
И куда?
Подумаешь об этом потом. Просто вали отсюда.
Бремен вздохнул. Он уйдет позже, перед тем, как на дежурство заступит утренняя смена и в больнице начнется суматоха. Возьмет «Вольво» интерна и продолжит свой путь в никуда, без направления, без цели. Просто будет терпеть эту жизнь.
Джереми оглянулся на мальчика, лежавшего на кровати. Поза ребенка и непропорционально большая голова напомнили ему об упавшем с постамента бронзовом Будде, которого они с Гейл видели в монастыре неподалеку от Осаки. Этот ребенок был слепым, глухим и умственно отсталым с рождения. А что, если Робби извлек некую глубинную мудрость из своей долгой изоляции от мира?
Ребенок дернулся, пытаясь ухватить простыню пожелтевшими пальцами, громко пукнул и снова захрапел.
Бремен вздохнул, отодвинул ширму и сел на стул у кровати мальчика.
Патрульный Эверетт отправится в туалет минуты через три. Медсестры на этаже подготавливают лекарства, а сестра на посту не увидит меня, если я буду спускаться по служебной лестнице. Брэдли в отделении неотложной помощи, и раздевалка, скорее всего, будет пустой еще час.
Давай.
Бремен кивнул самому себе, превозмогая боль, а также вялость от обезболивающих препаратов. Он поедет на север, в сторону Чикаго, а потом – в Канаду, найдет место, где можно отдохнуть и прийти в себя… Место, где его не найдут ни полиция, ни люди Дона Леони. Он использует телепатические способности, чтобы ускользнуть от них и заработать денег… но не азартными играми… Больше никаких карт.
Телепат снова посмотрел на мальчика.
У тебя уже нет времени.
Есть. Это быстро. Даже не потребуется устанавливать полный контакт. Достаточно односторонней телепатической связи. Краткий контакт, даже несколько секунд – и он покажет умирающему мальчику мир света и звука. Подойдет к окну и посмотрит на машины внизу, на огни города, найдет взглядом звезду…
Бремен знал, что такое возможно, причем не только с Гейл, когда оно давалось без усилий, но и с любым восприимчивым человеком. А большинство людей откликались на целенаправленное воздействие, хотя Джереми не встречал никого, кроме Гейл, кто мог бы управлять своими скрытыми телепатическими способностями. Единственная трудность – добиться того, чтобы человек не осознал телепатический контакт, не понял, что это чужие мысли. Однажды, промучившись несколько дней в бесплодных попытках объяснить смысл простого дифференциального преобразования туго соображавшему студенту, Бремен прибегнул к помощи телепатии, после чего позволил юноше радоваться озарению, которое его посетило.
Но с этим ребенком можно ничего не опасаться. И никакого контента. Несколько общих сенсорных ощущений станут прощальным подарком от Джереми. Анонимным. Робби не узнает, кто поделился с ним этими образами.
Умирающий подросток вдруг затих, и это длилось мучительно долго, но затем похожие на храп звуки возобновились. Изо рта мальчика обильно текла слюна, и подушка под его щекой намокла.
Наконец Бремен решился и убрал ментальный щит. Торопись, патрульный Эверетт может пойти в уборную в любую минуту. Оказавшись без защиты, Джереми почувствовал, как в него хлынул мощный поток нейрошума со всего мира, словно вода в пробоину тонущего корабля.
Поморщившись, Бремен снова поднял щит. Уже давно он не позволял себе быть таким уязвимым. Конечно, чужие мысли все равно добирались до него, но без щита, подобного шерстяному одеялу, их громкость и интенсивность была почти невыносимой. Больничный нейрошум острыми лезвиями вонзился прямо в нежную ткань его измученного разума.
Скрипнув зубами от боли, Бремен попробовал еще раз. Он попытался отсечь широкий спектр нейрошума и сосредоточиться на той области, где рассчитывал найти сны Робби.
Ничего.
Растерявшись, Бремен даже подумал, что утратил способность фокусировать свой телепатический луч. Но потом он сосредоточился и уловил неотложную нужду патрульного Эверетта, спешившего в туалет, и фрагменты мыслей медсестры Тулли, которая сравнивала дозировку препаратов в списке доктора Ангстрема с розовыми листочками на подносе. Затем Джереми переключился на дежурную медсестру и увидел, что она читает роман – «Нужные вещи» Стивена Кинга. Ее глаза мучительно медленно перемещались по странице. Во рту появился приторный вкус вишневого леденца от кашля, который она сосала.
Покачав головой, Бремен пристально посмотрел на Робби. Астматическое дыхание мальчика наполняло пространство между ними зловонным туманом. Язык Робби, высунувшийся из раскрытого рта, был покрыт белым налетом. Джереми сузил настройку, сделав ее острой, как игла, а потом усилил и сфокусировал, словно лазерный луч.
Ничего.
Нет… Там что-то есть… но что?.. Отсутствие чего бы то ни было.
В поле нейрошума, в том месте, где должны были находиться сны Робби, зияла дыра. Бремен понял, что натолкнулся на самый сильный и изощренный ментальный щит из всех, с какими ему приходилось иметь дело. Даже ураган белого шума миз Морган не создавал такого прочного, непроницаемого барьера, и она никогда не могла скрыть присутствия своих мыслей. Мыслей же Робби просто не было.
На секунду Джереми растерялся, но потом понял причину этого явления. У Робби был поврежден мозг. Вероятно, целые его области оставались неактивными. Мальчик не получал важной информации от органов чувств, почти не взаимодействовал с окружающей средой, практически не имел доступа к волнам вероятности Вселенной и был лишен выбора, и поэтому его сознание – или то, что заменяло ему сознание, – обратилось внутрь. То, что Бремен сначала принял за мощный ментальный щит, было всего лишь прочным шаром замкнутости в себе, более прочным, чем при аутизме или кататонии. Робби был абсолютно одинок.
Джереми перевел дух и снова попробовал преодолеть барьер, на этот раз уже осторожнее, нащупывая границы фактического ментального щита, словно человек, в темноте бредущий вдоль шершавой стены. Где-то должен быть пролом.
И он был. Не столько пролом, сколько слабое место – один расшатанный камень.
Бремен теперь чувствовал биение скрытых за стеной мыслей, как пешеход по вибрации тротуара чувствует поезда метро глубоко под землей. Он сосредоточился, усиливая давление. Тонкая больничная рубашка взмокла от пота. Зрение и слух ослабли – на них просто не хватало сил. Это не страшно. Как только контакт будет установлен, он сможет расслабиться и медленно открыть каналы для зрительных образов и звуков.
Джереми почувствовал, как стена поддается – все еще пружинит, но уже начинает отступать под безжалостной мощью его воли. От напряжения на висках у него вздулись вены, лицо исказилось, а мышцы шеи свело судорогой. Стена прогнулась. Мысль Бремена, словно сокрушительный таран, обрушивалась на прочную, но вязкую дверь.
Она прогнулась еще больше…
В этот момент Джереми, казалось, мог силой мысли двигать предметы, крошить кирпичи и останавливать птиц в полете.
Ментальный щит продолжал гнуться. Бремен наклонился вперед, словно навстречу сильному ветру. Он не воспринимал ни нейрошум, ни окружающую обстановку, ни самого себя – осталась только сила воли.
И вдруг – прорыв, волна тепла, ощущение, что он падает. Бремен взмахнул руками и открыл рот, чтобы закричать…
Рта не было.
Кувыркаясь, Джереми падал во тьму, которая разверзлась не только в его сознании, но и под ногами, там, где секунду назад находился пол. На мгновение перед глазами мелькнула картина – его тело, бьющееся в ужасных конвульсиях, – а потом снова тьма.
Он падал в безмолвие.
Падал в пустоту.
Пустота.
Те глаза
Джереми внутри. Он летит сквозь слои медленных теплых потоков. Бесцветные вихри разлетаются от него во все стороны.
Черные сферы взрываются и ослепляют его. Водопады прикосновений, ручейки запахов, тихая нить равновесия на безмолвном ветру.
Бремена поддерживают тысячи невидимых рук – трогают, исследуют. Кончики пальцев касаются его губ, ладони скользят по груди, по животу, обхватывают пенис – бесстрастно, как на осмотре у врача, – и движутся дальше.
Внезапно он оказывается под водой… Нет, в какой-то жидкости плотнее воды. Он не может дышать и отчаянно молотит руками и ногами, сопротивляясь вязкому потоку, пока не чувствует, что всплывает. Здесь нет ни света, ни направления – только слабая гравитация, тянущая вниз, но Джереми загребает руками сопротивляющийся гель, сражается с невидимой силой, понимая, что остаться тут – все равно что быть погребенным заживо.
Вдруг вязкая субстанция исчезает, и Бремена вытягивает наверх, словно вакуумом, сжимающим его голову. Его сдавливает, стискивает, сминает с невероятной силой, и ему кажется, что поврежденные ребра и череп вновь распадаются на части, а потом его как будто проталкивают сквозь сужающееся отверстие, и голова выныривает на поверхность.
Джереми открывает рот для крика, и в его грудь устремляется воздух, словно вода в тонущего человека. Он все кричит и кричит, а когда умолкает, то не слышит эхо своего голоса…
Бремен приходит в себя на широкой равнине. Он не знает, день это или ночь. Все пронизано бледным желтовато-розовым светом. Земля твердая и покрыта отдельными оранжевыми чешуйками, уходящими в бесконечность. Горизонта нет. Бугристая почва похожа на пойму реки во время засухи, думает Джереми.
Неба нет. Вместо него – слои кристаллов такого же персикового цвета. Бремену кажется, что он лежит в подвале небоскреба из прозрачного пластика. Пустого. Он лежит на спине и смотрит вверх сквозь бесконечные этажи застывшей пустоты.
Наконец Бремен садится и осматривает себя. Одежды нет. Ощущение такое, что по коже прошлись наждачкой. Он проводит ладонью по животу, касается плеч, рук, лица, но только через полминуты понимает, что на нем нет ни ран, ни шрамов – ни сломанной руки, ни царапины от пули, ни треснувших ребер, ни следов от укусов на бедре и в боку – ни, насколько он может судить, сотрясения и царапин на лице. На секунду приходит безумная мысль, что это не его тело, но потом Джереми видит шрам на колене от старой мотоциклетной аварии и родинку на внутренней стороне предплечья.
Он встает, и его накрывает волна дурноты.
Проходит еще какое-то время, и Джереми пускается в путь. Гладкие чешуйки под босыми ступнями кажутся теплыми. Он не знает ни цели, ни направления. На ранчо миз Морган в один из дней на закате солнца он долго бродил по солончакам. Похоже… но не совсем.
Наступишь на трещину – получишь затрещину.
Джереми идет еще какое-то время, хотя на этой оранжевой равнине без солнца время ничего не значит. Желто-розовый слой над ним не меняется и не мерцает. Потом Бремен останавливается, но это место ничем не отличается от того, где он начал свой путь. Болит голова. Он снова ложится на спину, чувствуя кожей гладкую поверхность – больше похожую на нагретый солнцем пластик, чем на песок или камень, – и представляет себя жителем морских глубин, смотрящим вверх через переменчивые слои подводных течений.
Дно бассейна. Так не хочется возвращаться к свету.
Желто-розовый свет окутывает Джереми теплом. Тело словно сияет. Он закрывает глаза. И засыпает.
* * *
Просыпается он внезапно, сразу – ноздри раздуваются, уши подергиваются от усилий расслышать едва уловимый звук. Его окружает непроглядная тьма.
В ночи что-то движется.
Джереми садится на корточки и пытается отделить внешний звук от своего бурного дыхания. Его система желез была запрограммирована больше миллиона лет назад. Он готов сражаться или бежать, но необъяснимая темнота исключает бегство. Он готовится к схватке. Кулаки сжимаются, сердце учащенно бьется, глаза вглядываются в черноту.
В ночи что-то движется.
Совсем близко – он это чувствует. Вибрация передает его силу и вес этого существа. Оно огромно, от его шагов содрогаются и земля, и тело Джереми, и оно приближается. Бремен уверен, что существо хорошо ориентируется в темноте. И способно видеть его.
И вот оно уже рядом с ним, над ним, и Джереми ощущает силу его взгляда. Он опускается на колени – земля внезапно стала холодной – и сжимается в комок.
Что-то касается его.
Джереми сдерживает рвущийся из груди крик. Гигантская рука – нечто грубое, огромное и совсем непохожее на руку – хватает его и поднимает над землей. Бремен снова чувствует мощь этого существа – на этот раз по силе, с которой оно сдавливает прижатые к телу руки, и по треску ребер. Вне всякого сомнения, оно может раздавить его, если захочет. Очевидно, не хочет… По крайней мере, пока.
Джереми понимает, что его рассматривают, оценивают и словно взвешивают на невидимых весах. Он чувствует себя беспомощным, но в то же время успокаивается, словно лежит голый на столе рентгеновского аппарата, зная, что невидимые лучи проходят сквозь его тело, выявляя болезни, выискивая семена распада и смерти.
Его опускают на землю.
Бремен не слышит ничего, кроме своего прерывистого дыхания, но чувствует удаляющиеся шаги. Невероятно, но шаги удаляются во всех направлениях сразу, словно волны от брошенного в пруд камня. Он чувствует облегчение и, к своему ужасу, обнаруживает, что плачет.
Через какое-то время Джереми распрямляется и встает. Он кричит, но его слабый голос поглощается тьмой, и Бремен уже не уверен, слышал ли он его сам.
В отчаянии Джереми колотит руками по земле. Слезы все еще текут по его щекам. Вокруг так темно, что не имеет значения, открыты или закрыты его глаза. А потом, когда он засыпает, ему снится только тьма.
Те глаза, что не
Восходит солнце.
Веки Джереми, затрепетав, открываются. Он смотрит на далекое сияние и снова закрывает глаза, не успев осознать, что происходит.
Восходит солнце.
Бремен открывает глаза, садится и, моргая, смотрит на восход. Он лежит на траве. Равнина, покрытая мягкой, доходящей до колен травой, тянется во все стороны, сколько хватает глаз. Солнце отделяется от горизонта, и темно-лиловое небо становится синим. Джереми сидит, и его тень скачет по траве, которая слабо шевелится от утреннего ветерка.
Он становится на одно колено, срывает стебелек высокой травы, снимает с него кожицу и высасывает сладкую мякоть. Вкус напоминает ему о вечерах, которые Джереми в детстве проводил на лужайках. Потом он идет навстречу солнцу.
Теплый ветер ласкает обнаженную кожу, колышет траву и своими тихими вздохами немного ослабляет головную боль, пульсирующую где-то позади глаз. Такое простое действие, как ходьба, доставляет Бремену удовольствие. Ему нравится чувствовать траву под босыми ногами, нравится наблюдать за бликами света на коже.
Когда солнце проходит зенит и начинает клониться к закату, он понимает, что идет к какому-то пятну на горизонте. Ближе к вечеру пятно превращается в линию деревьев. Перед заходом солнца Джереми входит в лес.
Деревья здесь – величественные вязы и дубы из пенсильванского детства Джереми. Он останавливается на опушке и оглядывается на широкую равнину, которую только что покинул. Вечерний свет золотит колышущуюся траву, зажигает короны вокруг бесчисленных кисточек на верхушках стеблей. Бремен поворачивается и углубляется в лес, тень прыгает впереди него.
Впервые за все время он чувствует усталость и жажду. Язык у него распух, стал шершавым и воспаленным. Джереми, спотыкаясь, бредет среди удлиняющихся теней, мечтая о высоких стаканах воды и выискивая признаки облаков в проглядывающих между деревьями клочках неба. Вглядываясь в темнеющее небо, он едва не падает в пруд.
Блестящий круг из воды прячется за кольцом из сорняков и камыша. На высоком берегу растут несколько вишен, корни которых спускаются к воде. Бремен делает несколько шагов к пруду, нисколько не сомневаясь, что видит перед собой мираж, игру вечернего света, и что вода исчезнет в ту секунду, как он бросится в нее.
Ледяная вода доходит ему до пояса.
* * *
Она приходит следующим утром, сразу после рассвета.
Позавтракав вишнями и холодной водой, Джереми пробирается на поляну на востоке от пруда, но вдруг замечает какое-то движение. Не веря своим глазам, он замирает – становится еще одной тенью в тени деревьев.
Она идет нерешительно, робко ставя босые ноги среди травы и небольших камней. Метелки меч-травы на поляне гладят ее обнаженные бедра. Джереми видит ее с абсолютной ясностью, освещенную косыми лучами утреннего солнца. Ее тело как будто сияет – излучает, а не поглощает свет. Ее груди, левая чуть полнее правой, слегка подпрыгивают при каждом шаге. Темные волосы коротко подстрижены и растрепались от ветра.
Она останавливается в центре поляны, а потом снова идет вперед. Бремен переводит взгляд на ее крепкие бедра, любуется их свободным, грациозным движением – она не подозревает, что за ней наблюдают. Она приближается, и Джереми видит тонкие тени на хрупкой грудной клетке, светло-розовые соски, бледный старый шрам от аппендицита внизу живота.
Он выходит на свет. Она замирает, стыдливо прикрывая грудь руками, а потом бросается к нему и раскрывает объятия. Джереми вступает в их замыкающийся круг, утыкается в ее шею, задохнувшись от свежего запаха волос и кожи. Его ладони скользят по сильной спине, по знакомым изгибам позвоночника. Лихорадочные прикосновения и поцелуи. Оба всхлипывают.
Бремен чувствует, что у него слабеют ноги, и опускается на одно колено. Она прижимает его голову к груди. Они ни на секунду не ослабляют объятий.
– Почему ты оставила меня? – шепчет Джереми, касаясь губами ее кожи, и по его лицу текут слезы. – Почему ты ушла?
Гейл не отвечает. Она прижимается щекой к его волосам, и ее ладони еще крепче обнимают его спину. А потом она молча опускается на колени в высокой траве рядом с ним.
Те глаза, что не смеют
Вместе они выходят из леса. Утренний туман рассеивается. В ярком свете солнца поросшие травой склоны холмов за лесом напоминают торс человека с загорелой, бархатистой кожей. Гейл протягивает руку, словно хочет погладить далекие холмы.
Они разговаривают тихими голосами и иногда держатся за руки. Обнаруживается, что прямой телепатический контакт вызывает сильнейшую головную боль, которая мучает их с тех пор, как они проснулись, и поэтому Гейл и Джереми разговаривают… касаются друг друга… любят друг друга в мягкой траве, где их видит только золотой глаз солнца. Они крепко обнимают друг друга и шепчут ласковые слова, понимая, что можно видеть мысли друг друга и без телепатии.
Потом они снова идут, а около полудня поднимаются на холм и видят маленький фруктовый сад, а за ним – белые стены обшитого досками дома.
– Ферма! – восхищенно вскрикивает Гейл. – Как такое возможно?
Джереми нисколько не удивляется. И остается невозмутимым, когда они минуют амбар и другие постройки и подходят к самому дому. Внутри тихо, но дом цел и невредим – никаких следов огня или вторжения. На подъездной дорожке, как и прежде, следовало бы обновить гравий, только теперь она никуда не ведет – не упирается в шоссе. Длинный забор из проволоки, который раньше тянулся вдоль дороги, теперь отгораживает еще один поросший травой склон холма. Ни соседских домов вдалеке, ни уродливых высоковольтных линий позади сада.
Гейл поднимается на заднее крыльцо и заглядывает в окно с виноватым видом туриста, который наткнулся на дом, но не знает, жилой он или нет. Потом открывает дверь из москитной сетки – и вздрагивает от скрипа петель.
– Прости, – говорит Джереми. – Я знаю, что обещал их смазать.
Внутри прохладно и темно. Комнаты такие же, какими они их оставили, – не Джереми после нескольких недель одиночества, пока Гейл лежала в больнице, а они вдвоем перед первым визитом к специалисту той осенью год назад… вечность назад. На втором этаже лучи заходящего солнца проникают внутрь через световой люк, который Бремены не без труда установили в том далеком августе. Джереми заглядывает в кабинет и видит груду статей, в беспорядке разбросанных на крышке стола, и забытую формулу, нацарапанную мелом на доске.
Гейл обходит комнаты, время от времени радостно вскрикивая, но чаще просто молча дотрагиваясь до какой-нибудь вещи. В спальне обычный порядок: на синем покрывале ни морщинки, бабушкино лоскутное одеяло аккуратно сложено в ногах кровати.
Они снова занимаются любовью, а потом засыпают на прохладных простынях. Редкие порывы ветра шевелят занавески. Во сне Гейл ворочается и бормочет, все время протягивая руку, чтобы коснуться мужа. Бремен просыпается в сумерках, когда уже стемнело, но в небе за окном еще не погасли отблески летнего дня.
Снизу доносится какой-то звук.
Джереми замирает, стараясь не потревожить тишину даже дыханием. Ветер стихает. Потом звук повторяется.
Он соскальзывает с кровати, стараясь не разбудить Гейл. Та свернулась калачиком на своей половине, подложив ладонь под щеку, и улыбается во сне. Бремен босиком идет в кабинет, подходит к письменному столу и открывает нижний правый ящик. «Смит-и-Вессон» калибра.38 – тот, который он выбросил в воду во Флориде перед тем, как столкнулся с Ванни Фуччи, с царапиной на магазине и вмятиной на нижней части ствола – лежит на своем месте. Джереми берет револьвер, откидывает барабан и видит в гнездах латунные кружки шести патронов. Шершавая рукоятка удобно лежит на ладони, металл предохранителя холодит палец.
Стараясь не шуметь, Бремен выходит из кабинета, спускается по лестнице, пересекает гостиную и приближается к двери на кухню. В доме полумрак, но его глаза уже привыкли к темноте. Со своего места он видит туманный белый призрак холодильника и вздрагивает, когда включается компрессор. Затем опускает револьвер и ждет.
Приоткрытая дверь из москитной сетки распахивается, а потом снова закрывается. По кафельным плиткам пола скользит тень.
Это движение пугает Джереми, и он подается вперед и поднимает револьвер, но через секунду снова опускает. Джернисавьен, их своенравная трехцветная кошка, подходит к нему и требовательно трется о его ноги, после чего бьет хвостом, возвращается к холодильнику, вопросительно смотрит на хозяина и снова подходит и трется о его ноги, еще нетерпеливее.
Джереми опускается на колени и чешет кошку за ухом. Револьвер в его руке выглядит по-идиотски. Вздохнув, он кладет оружие на кухонный стол и двумя руками гладит Джернисавьен.
* * *
Следующим вечером, во время их позднего ужина, восходит луна. Электрическое освещение в доме не работает, но все остальное в порядке. В морозильнике в подвале обнаруживаются бифштексы, в холодильнике – пиво, а в гараже остались несколько мешков древесного угля. Гейл и Джереми устраиваются на заднем дворе возле старого насоса и ждут, пока на гриле жарятся бифштексы. Джернисавьен внимательно наблюдает за ними из-под большого старого деревянного кресла, хотя ее только что покормили.
На Бремене его любимые хлопковые чиносы и голубая домашняя рубашка. Гейл надела свободное платье, которое часто брала с собой в поездки. Их окружают звуки, которые они столько раз уже слышали на заднем дворе: стрекот сверчков, крики ночных птиц в саду, многоголосый хор лягушек из темноты у ручья и шорох воробьиных крыльев в амбаре. При свете керосиновой лампы они накрывают стол, а потом Гейл зажигает свечи. Когда все готово, они гасят лампу, чтобы лучше видеть звезды.
Бремен подает стейки на плотных бумажных тарелках, и нож с вилкой отбрасывают на белой бумаге тень в виде креста. Ужин состоит из стейков, вина из еще не истощившихся запасов в подвале, а также простого салата – из сорванных на огороде редиски и лука.
Несмотря на всплывающий в небе серп луны, звезды кажутся необыкновенно яркими. Джереми вспоминает, как однажды ночью они вдвоем забрались в гамак, чтобы посмотреть на космический корабль, проплывавший по небу, словно унесенный ветром янтарный уголек костра. Он понимает причину – звезды сегодня светят ярче потому, что красоту неба не портит отраженный свет от огней Филадельфии или платной автострады.
Ужин еще не закончен, когда Гейл вдруг наклоняется вперед. Где мы, Джереми? Она устанавливает телепатический контакт очень осторожно, чтобы не вызвать головную боль.
Ее муж делает глоток вина.
– Разве плохо быть дома, малыш?
Дома быть хорошо. Но где мы находимся?
Джереми сосредоточенно вертит в пальцах редиску. На вкус она соленая, на ощупь прохладная.
Гейл смотрит на темную линию деревьев по краю фруктового сада. Там мерцают светлячки.
Что это за место?
Назови последнее, что ты помнишь, Гейл?
– Я помню, как умирала, – тихо отвечает она.
Эти слова для него – словно удар в солнечное сплетение. Мысли его путаются.
– Мы никогда не верили в жизнь после смерти, Джереми, – охрипшим голосом продолжает его жена. – Дядя Бадди… «После смерти мы помогаем расти цветам и траве, Бини, а все остальное – горшок с дерьмом…»
– Нет, малыш, – говорит Бремен и отодвигает тарелку с бокалом, после чего наклоняется вперед и дотрагивается до ее руки. – Есть другое объяснение… – Он не успевает ничего сказать, потому что шлюзы его сознания открываются, и они оба тонут в образах, которые он все это время скрывал от супруги. Горящий дом… рыбацкая хижина во Флориде… Ванни Фуччи… бессмысленные дни на улицах Денвера… миз Морган и ее «холодильник»…
– О боже, Джереми… Боже… – Гейл в ужасе отшатывается и закрывает лицо ладонями.
Джереми обходит стол, крепко обнимает ее за плечи и прижимается щекой к ее щеке. Миз Морган… стальные зубы… «холодильник»… анестезия покера… полет на восток с бандитами Дона Леони… больница… умирающий ребенок… контакт… падение.
– О, Джереми! – Гейл всхлипывает, уткнувшись в его плечо. За одно мгновение она пережила все месяцы его ада. Она чувствует его горе и все отраженное безумие этого горя. Они плачут вместе, а потом Джереми поцелуями осушает ее слезы, вытирает ей лицо полой своей рубашки и отстраняется, чтобы налить еще вина.
Где мы, Джереми?
Бремен протягивает жене ее бокал и делает глоток из своего. От амбара доносится хор насекомых. В ярком сиянии луны дом бледной тенью выступает из темноты, а окна кухни мерцают теплым светом от второй керосиновой лампы, которую они оставили внутри.
– Ты помнишь, как очнулась здесь, малыш? – шепчет Джереми.
Они уже поделились друг с другом образами, но попытка описать их словами помогает вспомнить подробности.
– Темнота, – шепчет Гейл. – Потом мягкий свет. Вокруг ничего нет. Покачивание. Меня качают. Держат. А потом я иду. Рассвет. Нахожу тебя.
Джереми кивает и проводит пальцами по краю бокала.
Думаю, мы с Робби. Мальчиком. Думаю, мы в его сознании.
Голова Гейл резко дергается, как от пощечины.
Слепой мальчик…???????? Она оглядывается, а потом протягивает дрожащую руку к столу и хватается за его край. Бокалы начинают звенеть. Убрав руку, Гейл прижимает ее к щеке.
– Значит, здесь все ненастоящее? Мы во сне? Я уже умерла, а тебе только снится, что я здесь?
– Нет! – Джереми говорит так громко, что Джернисавьен ныряет под кресло. В мягком свете звезд и свечей виден ее виляющий хвост. – Нет, – повторяет он, уже тише, – всё не так. Я уверен. Помнишь исследование Джейкоба?
Гейл так потрясена, что не может говорить. Да. Телепатический контакт очень слабый, и ее голос едва различим среди звуков ночи.
Так вот, – продолжает Бремен, силой воли удерживая ее внимание. – Ты должна помнить: Джейкоб не сомневался, что мой анализ верен… что личность человека представляет собой сложный фронт стоячей волны… Нечто вроде метаголограммы, состоящей из нескольких миллионов голограмм поменьше…
Джереми, я не понимаю, как это объясняет…
– Черт возьми, Гейл, объясняет! – Джереми снова наклоняется к жене и проводит ладонями по ее рукам, чувствуя пупырышки «гусиной кожи». – Выслушай, пожалуйста…
Ладно.
– Если мы с Джейкобом правы… и личность представляет собой сложный волновой фронт, который интерпретирует реальность, состоящую из коллапсирующих волновых фронтов вероятности, то личность не может сохраниться после смерти мозга. Разум способен одновременно играть роль и генератора, и интерферометра, но обе эти функции перестают существовать со смертью мозга.
Тогда как… как я могу?..
Джереми садится рядом с женой, крепко обнимая ее одной рукой. Джернисавьен выбирается из-под кресла и прыгает на колени к Гейл, привлеченная теплом ее тела. Оба, он и Гейл, гладят кошку. Бремен продолжает говорить:
– Ладно, дай мне немного подумать. Ты для меня была не просто воспоминанием или сенсорным восприятием, малыш. Больше девяти лет мы, в сущности, были одной личностью в двух телах. Вот почему, когда ты… вот почему потом я слетел с катушек, пытаясь полностью отключить свою способность к телепатии. Но не мог. Такое впечатление, что я настраивался на все более мрачные волны человеческих мыслей, проваливался в воронку…
Гейл поднимает взгляд от кошки и со страхом смотрит в темноту у ручья. Тьма под кроватью.
– Но если это сон, почему все кажется таким реальным? – спрашивает она.
Джереми гладит ее по щеке.
– Это не просто сон, Гейл. Послушай. Ты была в моем сознании, но не только как воспоминание. Ты была там. В ту ночь, когда ты… Когда я поехал в Барнегат-Лайт… Когда твое тело умерло… ты присоединилась ко мне, перепрыгнула в мое сознание, как в спасательную шлюпку.
Нет, как…
– Подумай, Гейл. Все дело в наших способностях. Полный телепатический контакт. Та сложная голограмма, твоя личность, не обязательно должна была исчезнуть… Ты просто перескочила в единственный подходящий интерферометр во Вселенной… в мой разум. Только мое эго – подсознание, суперэго или как там его, черт побери, называют – позволяет нам сохранять рассудок и отгораживаться от волны наших чувств, не говоря уже о волнах, исходящих из сознания других людей. Та часть продолжает убеждать меня, что мои ощущения – это лишь воспоминание о тебе.
Они молчат, вспоминая. Большая река двух сердец, как говорила Гейл. Джереми видит, что она вспоминает то время, которое он провел в рыбацкой хижине во Флориде.
– Ты была фрагментом моего воображения, – говорит он вслух. – Но только в том смысле, в каком наша личность является фрагментом собственного воображения. Волны вероятности разбиваются о берег чистого пространства-времени. Кривые Шредингера, их графики говорят на языке более понятном, чем речь. Неопределенные аттракторы Колмогорова закручиваются вокруг островов резонанса квазипериодического рассудка среди пенящихся слоев хаоса.
– Думай нормальным языком, – шепчет Гейл и щиплет мужа за бок.
Джереми вздрагивает от неожиданности, улыбается и удерживает кошку, которая собирается спрыгнуть на землю.
– Я имею в виду, – тихо говорит он, – что мы оба были мертвы, пока слепой, глухой, умственно отсталый ребенок не выдернул нас из одного мира и не предложил взамен другой.
Гейл слегка хмурится. Свечи догорели, но ее белое платье и бледная кожа хорошо видны в свете луны и звезд.
– Ты хочешь сказать, что мы в сознании Робби, и это так же реально, как реальный мир? – спрашивает она и снова хмурится.
Джереми качает головой:
– Не совсем. Когда я прорвался к Робби, то попал в замкнутую систему. У бедняги почти не было данных для построения модели реального мира. Насколько мне известно от медсестер, в прошлом он знал только прикосновения, запахи и чертовски много боли… и поэтому, вероятно, не слишком опирался на чувства, поступающие из внешнего мира, когда рисовал свою внутреннюю Вселенную.
Джернисавьен спрыгнула с колен Гейл и потрусила куда-то в темноту, словно ее ждали неотложные дела. Знакомые с повадками кошек Бремены решили, что так оно и есть. Джереми тоже не мог сидеть на месте. Он встал и принялся расхаживать взад-вперед в темноте, стараясь не удаляться от Гейл, чтобы в любую секунду можно было протянуть руку и коснуться ее.
Моя ошибка, – продолжал он, – заключалась в том, что я не понимал… Нет, в том, что я не задумывался, какой силой может обладать Робби в своем мире. В этом мире. Когда я прорвался к нему… собираясь просто поделиться несколькими образами и звуками… он затянул меня к себе, малыш. А вместе со мной и тебя.
Поднявшийся ветер шевелит листья деревьев в саду. Их шелест похож на печальный вздох уходящего лета.
– Хорошо, – говорит Гейл, нарушая молчание. – Мы оба существуем в сознании ребенка в виде пары твоих волновых голограмм личности. – Она с силой опускает ладонь на стол. – И это кажется реальным. Но откуда здесь дом? И гараж? И… – Она растерянно машет рукой, указывая на окружающую их ночь, на звезды у них над головами.
Думаю, Робби понравилось то, что он увидел в нашем сознании, малыш. И он предпочел нашу загрязненную сельскую местность в старой доброй Пенсильвании тому ландшафту, который создал для себя за годы одиночества.
Гейл медленно кивает.
– Но ведь это не настоящая Пенсильвания, да? То есть утром мы не можем поехать в Филадельфию, правда? И Чак Гилпен не познакомит меня со своей новой подружкой, так?
Не знаю, малыш. Вряд ли. Думаю, тут имело место некое разумное редактирование. Мы «реальны», потому что наша голографическая структура не повреждена, но все остальное – артефакт, допускаемый Робби.
Гейл снова проводит ладонями по плечам.
Артефакт, допускаемый Робби. Ты говоришь о нем как о Боге, Джереми.
Бремен прочищает горло и смотрит на небо. Звезды на месте.
– Понимаешь, – шепчет он, – в каком-то смысле он сейчас Бог. По крайней мере, для нас.
Мысли Гейл разбегаются, как полевые мыши, на которых теперь, наверное, охотится Джернисавьен.
– Хорошо, он Бог, а я жива, и мы оба здесь… Но что мы теперь будем делать, Джереми?
Пойдем спать. – Муж берет ее за руку и ведет в дом.
Те глаза, что не смеют сниться
Джереми снится, что он качается взад-вперед во тьме, такой глубокой, что сон не способен ее передать. Ему снится, что он спит, прижавшись щекой к заплесневелому одеялу, что грубая шерсть царапает кожу, что его бьют невидимые руки. Ему снится, что он лежит в яме с человеческим дерьмом, избитый и изломанный, и дождь капает на его обращенное вверх лицо. Ему снится, что он тонет.
Во сне Бремен с растущим любопытством наблюдает, как двое занимаются любовью на золотистом склоне холма. А потом он плывет сквозь белую комнату, где люди лишены формы, и от них остались только голоса, и где эти голоса-тела вибрируют в такт биениям невидимого механизма.
Он плывет и ощущает на себе мощь безжалостных планетарных сил, управляющих приливной волной. Он может сопротивляться гибельному приливу, только если тратит на это все силы, но чувствует, что начинает уставать, что волна тащит его на глубину. И когда волны смыкаются над ним, из него вырывается последний, отчаянный вопль.
Он выкрикивает свое имя.
* * *
Джереми просыпается от крика, эхо которого все еще звучит у него в голове. Подробности сна рассыпаются и уплывают прочь, прежде чем Бремен успевает их запомнить. Он быстро садится на постели. Гейл нет.
Уже у двери спальни Джереми слышит ее голос, доносящийся со двора, и возвращается к окну.
На ней синий халат, и она машет ему обеими руками. Когда он спускается, Гейл уже побросала вещи в старую плетеную корзину и кипятит воду для чая со льдом.
– Иди сюда, соня, – улыбается она. – Я приготовила тебе сюрприз.
– Не уверен, что нам нужны еще сюрпризы, – бормочет Джереми. Джернисавьен вернулась и путается у них под ногами. Время от времени она трется о ножку стула, как бы высказывая свое расположение к нему.
– Этот нужен, – отвечает Гейл и идет наверх. Напевая, она роется в шкафу.
– Дай мне принять душ и выпить кофе, – говорит Джереми и вдруг растерянно замолкает. Откуда берется вода? Свет вчера не включался, но вода из кранов текла исправно.
Он не успевает подумать об этом – Гейл возвращается на кухню и вручает ему корзинку для пикника.
– Никакого душа. Никакого кофе. Идем.
Джернисавьен нехотя тащится за ними. Гейл ведет их с Джереми на холм, где когда-то было шоссе. Они идут через луг на восток, а потом взбираются по крутому склону, каких не бывает в этой части Пенсильвании, насколько помнит Джереми. На вершине корзина выскальзывает из его внезапно онемевшей руки.
– Боже правый! – шепчет он.
В долине, по которой раньше проходило шоссе, теперь плещется океан.
– Боже правый… – почти с благоговением повторяет Бремен.
Этот пляж знаком им по путешествиям в Барнегат-Лайт на побережье Нью-Джерси, но теперь здесь нет ни маяка, ни острова, а скалы, тянущиеся на север и на юг, больше похожи на берег Тихого океана – на Атлантике Джереми такого никогда не видел. Холм, по которому они поднимались, оказался склоном горы, которая с восточной стороны заканчивается обрывом глубиной в несколько сотен футов, и внизу виден пляж и волноломы. Скалистая вершина, где они стоят, почему-то кажется Бремену знакомой. Наконец до него доходит.
Гора Биг-Слайд, – подтверждает Гейл. – Наше свадебное путешествие.
Джереми кивает. Рот его все еще приоткрыт от удивления. Он не видит необходимости напоминать Гейл, что Биг-Слайд находится в Адирондакских горах в штате Нью-Йорк, в сотнях миль от океана.
Они устраивают пикник на пляже, к северу от того места, где отвесная поверхность скалы освещается утренним солнцем. Последний участок крутого спуска Джернисавьен пришлось нести на руках, и теперь, получив свободу, она тут же убегает охотиться на насекомых в высокой траве на дюнах. Воздух пропитан запахами соли, гниющих водорослей и свежего летнего бриза. Вдалеке над морем кружатся чайки, и их крики прорезают шум прибоя.
– Боже правый!.. – еще раз произносит Джереми. Он ставит корзину для пикника и бросает одеяло на песок.
Гейл смеется и стягивает халат. Под ним обнаруживается закрытый купальник.
Ее муж падает на одеяло и корчится от смеха.
– Вот зачем ты ходила наверх? – с трудом выдавливает он. – Искала купальник? Боишься, что спасатели выпроводят тебя отсюда, если увидят, что ты купаешься голая?
Жена ногой швыряет в него песком и бежит к воде. Ее прыжок идеален и точно выверен – Гейл пронзает волну, словно стрела. Джереми смотрит, как она проплывает ярдов двадцать и бредет по воде к тому месту, где можно стоять. Слегка сгорбленные плечи и проступившие под эластичной тканью купальника соски говорят о том, что ей холодно.
– Иди сюда! – кричит Гейл, пытаясь улыбаться так, чтобы не стучали зубы. – Вода чудесная!
Бремен снова смеется, скидывает туфли, тремя быстрыми движениями избавляется от одежды и бежит по мокрому песку. Когда он выныривает, подняв фонтан брызг, жена уже ждет его, широко раскинув покрытые «гусиной кожей» руки.
* * *
После завтрака – круассаны и чай со льдом из термоса – они ложатся среди дюн, прячась от усиливающегося ветра. Джернисавьен возвращается, пристально смотрит на них, не находит ничего интересного и снова убегает в высокую траву. Со своего пятачка между дюнами они видят, как солнце взбирается все выше, отбрасывая новые тени на неровную поверхность горы к югу от них.
Гейл – она сняла купальник, подставляя тело солнцу – засыпает. Джереми дремлет, положив голову ей на бедро, но вдруг остро ощущает свежий запах ее кожи и видит тонкую полоску влаги в нескольких дюймах от своего лица, в складке между бедром и животом. Он переворачивается, упирается локтем в одеяло и смотрит поверх белых холмиков ее грудей на подбородок, на темные тени подмышек, на корону из света, которую солнце соорудило вокруг ее головы.
Женщина шевелится в ответ на его движение, но Джереми удерживает ее, прижав ладонь к ее животу. Ее веки трепещут, но не раскрываются. Бремен приподнимается, перекатывается, сползает чуть ниже, чтобы оказаться между ног Гейл, раздвигает ее бедра и опускает лицо к ее нагретому солнцем лону. Вспомнив, как много лет назад она делилась с ним сценой из романа Джона Апдайка, он представляет котенка, наклонившегося к миске с молоком.
Проходит несколько секунд, и она тянет его вверх – нетерпеливые руки, учащенное дыхание. Так они еще никогда не любили друг друга, яростно и самозабвенно, и это нечто большее, чем страсть и телепатический контакт. Потом, когда Джереми вытягивается рядом с Гейл, положив голову ей на плечо и пытаясь отдышаться, бешеный стук их сердец стихает, и становится слышен шум прибоя. Он ощупью находит полотенце и вытирает песок и пот с ее кожи.
– Гейл, – наконец шепчет Джереми, когда они уже почти заснули в тени высокой травы. – Я должен тебе кое-что сказать. – Не успев произнести эти слова, он чувствует, как поднимаются и укрепляются остатки его ментального щита. Тайна варикоцеле покоилась слишком глубоко, пряталась слишком долго, и раскрыть ее будет непросто. Бремен подыскивает нужные слова или мысли, но не может их найти. – Гейл, я… господи, малыш… Я не знаю, как…
Жена поворачивается на бок и гладит его по щеке.
Варикоцеле? То, о чем ты мне не говорил? Я знаю, Джереми.
– Ты знаешь? – Шок как от удара кулаком. ???? Когда?! Давно?
Гейл закрывает глаза, и муж видит влагу на ее ресницах. В ту последнюю ночь моей болезни. Когда ты спал. Я знала, что… есть нечто… Давно знала. Но эта тайна мучила тебя так сильно, что я должна была узнать, перед тем, как…
Джереми трясет, словно в лихорадке. Он уже не скрывает дрожи, а просто хватается за одеяло и ждет. Гейл касается его затылка.
Всё в порядке.
– Нет! – кричит он. – Нет… ты не понимаешь… Я знал об этом…
Она кивает, почти касаясь щекой его щеки. Ее шепот смешивается с шелестом травы в дюнах.
– Да. Но понимаешь ли ты, почему не мог признаться? Почему был вынужден построить ментальный щит, словно опухоль, в своем сознании, чтобы спрятать это?
Джереми пожимает плечами.
Стыд?
Нет, не стыд, – возражает Гейл. – Страх.
Бремен удивленно смотрит на нее. Их лица совсем близко.
Страх? Нет, я…
Ты боялся, – посылает ему мысль супруга. В ее тоне нет осуждения – только прощение. – Жутко боялся.
Чего? – Джереми снова хватается за одеяло – ему кажется, что он куда-то соскальзывает, падает.
Гейл закрывает глаза и показывает ему все, что было скрыто за твердой опухолью его тайны.
Страх уродства. Ребенок мог родиться ненормальным. Страх рождения умственно отсталого ребенка. Страх рождения ребенка без телепатических способностей, который всегда будет чужим для них обоих. Страх рождения ребенка с телепатическими способностями, который сойдет с ума от их взрослых мыслей, обрушившихся на сознание новорожденного.
Страх рождения нормального ребенка, который нарушит идеальный баланс их с Гейл взаимоотношений.
Страх, что придется делить ее с ребенком.
Страх потерять ее.
Страх потерять себя.
Его снова трясет, и он снова хватается за лежащее на песке одеяло, но теперь это не помогает. Джереми кажется, что от стыда и ужаса он лишится чувств. Жена обнимает его и не убирает руку, пока он не приходит в себя.
Гейл, милая моя, мне так жаль! Так жаль…
Ее слова проникают не просто в сознание Джереми, а куда-то глубже.
Я знаю. Знаю.
Они засыпают здесь, в тени дюн. Джернисавьен ловит кузнечиков, а ветер все усиливается, теребит высокую траву. Джереми снятся сны, которые смешиваются со снами Гейл, и впервые ни в тех, ни в других нет и намека на боль.
Те глаза, что не смеют сниться
Джереми выходит в прохладный вечерний воздух фруктового сада и пытается поговорить с Богом.
– Робби? – шепчет он, но собственный голос в тишине сумерек кажется ему громким. Робби? Ты здесь?
Восточный склон холма окончательно погрузился во тьму. На небе ни облачка. Цвет постепенно покидает мир, и все предметы приобретают разные оттенки серого. Бремен умолкает, оглядывается на дом, где на кухне при свете керосиновой лампы Гейл готовит ужин. Он чувствует тонкий луч телепатической связи: она слушает.
Робби? Ты меня слышишь? Давай поговорим.
Из амбара доносится хлопанье воробьиных крыльев, и Джереми вздрагивает от неожиданности. Потом он улыбается, качает головой, хватается за нижнюю ветку вишни и опирается на нее, положив подбородок на тыльную сторону ладоней. В низине у ручья уже совсем темно, и становятся видны мерцающие светлячки. Все это из наших воспоминаний? Наш взгляд на мир? – спрашивает Джереми.
Тишина… только стрекот насекомых и тихое журчание ручья. Среди темных геометрических узоров ветвей зажигаются первые звезды.
– Робби, – вслух говорит Джереми, – если хочешь поговорить с нами, мы будем рады. – Это лишь часть правды, но Бремен и не пытается это скрыть. Не отрицает он и серьезный вопрос, кроющийся глубоко внутри, словно разлом земной коры после землетрясения: Что делать, когда Бог, созданный тобой, умирает?
Джереми стоит в саду, пока не наступает ночь – опираясь на ветку, он наблюдает за появляющимися на небе звездами и тщетно ждет голоса. Наконец Гейл зовет его, и он возвращается в дом ужинать.
* * *
– Кажется, – говорит Гейл, когда они пьют кофе, – я знаю, почему Джейкоб убил себя.
Джереми аккуратно ставит чашку на стол и терпеливо ждет, пока поток ее мыслей оформится в слова.
– Думаю, это как-то связано с нашим разговором в тот вечер в ресторане «Дурган Парк», после МРТ-сканирования.
Бремен помнит ужин и основную часть разговора, но сверяет свои воспоминания с воспоминаниями Гейл.
Джантация, – подсказывает она.
– Джантация? Что это?
Помнишь, мы с Джейкобом говорили о романе Альфреда Бестера «Звезды – моя цель»?
Джереми качает головой, и Гейл посылает ему свои воспоминания.
Фантастика? – уточняет он.
Научная фантастика, – по привычке поправляет его жена.
Он пытается вспомнить.
Да, кажется. Выяснилось, что вы оба любите фантастику. Но какое отношение «джантация» имеет к… Там было что-то о телепортации, вроде «телепортируй меня, Скотти», так?
Гейл относит тарелки к раковине и моет их, а потом прислоняется к разделочному столу и скрещивает руки на груди.
– Нет. – Тон у нее немного агрессивный, как всегда, когда она обсуждает научную фантастику или религию. – Ничего общего с «телепортируй меня, Скотти». Это история о человеке, который научился телепортировать себя…
Под «телепортацией» ты понимаешь мгновенное перемещение из одного места в другое, да, малыш? Ну, ты должна понимать, что это невозможно, поскольку ничто…
– Да, да, – продолжает Гейл, не обращая внимания на возражения мужа. – Бестер называл телепортацию личности джантацией… Но мы с Джейкобом говорили не о самой джантации, а о том, как писатель заставил людей научиться этому.
Бремен откидывается на спинку стула и отхлебывает кофе. Ладно. Я слушаю.
– Так вот, кажется, идея состояла в том, что на астероиде или где-то еще есть лаборатория, и ученые пытаются понять, могут ли люди джантироварь. Выясняется, что не могут…
Отлично. – Он отправляет жене картинку с улыбкой Чеширского Кота. – Снова превратим науку в научную фантастику, да?
– Заткнись, Джереми. Как бы то ни было, эксперименты оказались неудачными, но потом в закрытом отсеке лаборатории случился пожар или еще какая-то авария, и один техник или кто-то еще телепортировался… джантировал в безопасное место.
Если б в жизни было все так просто! – Бремен пытается блокировать воспоминания о том, как он карабкается в «холодильнике» по замерзшему трупу, а к нему приближается миз Морган с собаками и дробовиком.
Гейл сосредотачивается.
– Нет, суть в том, что способностью к джантации обладают многие люди, но использовать эту способность может только один из тысячи, причем только в случае реальной угрозы для жизни. И тогда ученые начали экспериментировать…
Джереми видит, что это были за эксперименты.
Боже милосердный! Они приставляли заряженный пистолет к голове испытуемого и спускали курок после того, как сообщали ему, что джантация – единственный способ спастись? Национальная академия наук не одобрила бы такой методологии, малыш.
Гейл качает головой.
Мы с Джейкобом говорили о том, что некоторые вещи получаются только в отчаянной ситуации, вроде этой. Потом он начал рассуждать о волнах вероятности и деревьях Эверетта, и я потеряла нить. Но помню его слова о том, что это похоже на квинтэссенцию эксперимента с двумя щелями. Вот почему я так заинтересовалась, когда по дороге домой, в поезде, мы заговорили об… альтернативной реальности… и обо всем таком…
Джереми порывисто встает, и его стул со стуком опрокидывается на пол. Он этого не замечает.
– Боже мой, малыш, Джейкоб не покончил с собой от отчаяния! Он пытался джантировать.
Но ты сказал, что телепортация невозможна.
– Не телепортация… – Бремен в волнении расхаживает по кухне, потирая щеку, а потом роется в ящике стола, находит авторучку, поднимает стул, придвигает его к жене, садится и начинает рисовать на салфетке. – Помнишь эту диаграмму? Я показывал ее тебе, когда в первый раз проанализировал данные Джейкоба.
Гейл смотрит на схематичный рисунок ветвистого дерева.
Нет, я… Ах да, конечно, идея параллельного мира, которой увлеклись некоторые математики! Я еще сказала тебе, что в научной фантастике она встречается давно.
– Это не параллельные миры. – Джереми продолжает рисовать новые ветви дерева. – Это варианты вероятности, которые вывел Хью Эверетт в пятидесятых, чтобы дать рациональное объяснение копенгагенской интерпретации. Понимаешь, если провести эксперимент с двумя щелями и посмотреть на него с точки зрения Эверетта, не трогая все эти квантово-механические парадоксы, то все отдельные элементы суперпозиции состояний подчиняются волновому уравнению, с полной интерференцией с реальностью остальных элементов… – Рядом с деревом он начинает писать формулы.
Эй! Погоди, – протестует Гейл. – Не спеши. Думай словами.
Ее муж откладывает авторучку и снова трет щеку.
– Джейкоб писал мне о своей теории разветвляющейся реальности…
Вроде твоей волны вероятности? О том, что мы все подобны серферам на гребне одной и той же волны, потому что наши мозги рушат одни и те же волновые фронты, так?
– Да. Это была моя интерпретация. Всего лишь теория, объяснявшая, почему разные голографические волновые фронты… разные сознания… видят одну и ту же реальность. Другими словами, меня интересовало, почему мы все видим одну и ту же частицу или волну, проходящую через одну и ту же щель. Но я исследовал микромир, а Джейкоба интересовал макро…
Моисей, Ганди, Иисус и Ньютон, – подсказывает Гейл, пробираясь через путаницу его мыслей. – Эйнштейн, Фрейд и Будда.
– Да. – Джереми продолжает заполнять салфетку уравнениями, но делает это автоматически. – Джейкоб считал, что в нашей истории было несколько человек… Он называл их людьми с абсолютной восприимчивостью… Несколько человек, чье новое видение физических, нравственных или любых других законов было таким всеобъемлющим и мощным, что они вызывали сдвиг парадигмы для всей человеческой расы.
Но мы знаем, что сдвиг парадигмы приходит вместе с грандиозными, новыми идеями, Джереми.
Нет, нет, малыш. Джейкоб считал, что это не просто сдвиг в ВОСПРИЯТИИ. Он был убежден, что такой серьезный сдвиг в реальности мог в буквальном смысле изменить Вселенную… изменить физические законы, чтобы они соответствовали этому новому общему восприятию.
Гейл хмурится.
– Ты хочешь сказать, что ньютоновская физика не работала до Ньютона? Или теория относительности – до Эйнштейна? А медитация – до Будды?
Вроде того. Их зачатки существовали, но общий план сформировался только после того, как на нем сосредоточился великий ум… – Джереми забывает о словах, и его мысли заполняют графики и диаграммы. Неопределенные аттракторы Колмогорова извиваются, словно запутанный клубок оптических кабелей, передающих сообщение хаоса, а маленькие острова резонанса классических квазипериодических линейных функций крошечными семенами гнездятся в океане несколлапсировавшей вероятности.
Гейл понимает. На подгибающихся ногах она подходит к столу и опускается на стул.
– Джейкоб… его одержимость Холокостом… своей семьей…
Бремен касается ее руки.
– Думаю, что он пытался полностью сосредоточиться на мире, в котором Холокост не случился. Для него пистолет был не просто орудием смерти, а средством, с помощью которого он может провести эксперимент. Ядро вероятности… или абсолютный акт наблюдения в эксперименте с двумя щелями.
Пальцы Гейл сжимают его руку. Он… джантировал? Перешел на одну из других ветвей? В то место, где его семья все еще жива?
– Нет, – шепчет Джереми и дрожащим пальцем указывает на схематичный рисунок. – Смотри, ветви никогда не пересекаются. Электрон А не может стать электроном В, он может только «создать» еще один. Джейкоб умер. – Он чувствует волну печали, исходящую от жены, но отгораживается от нее, пораженный новой мыслью. На секунду мощь этой идеи воздвигает между ними ментальный щит.
Что? – спрашивает Гейл.
Джейкоб знал об этом. – Мысли приходят так быстро, что Джереми не успевает облекать их в слова. – Он знал, что не может переместиться на другую ветвь дерева суперпозиций реальности Эверетта… Скажем, в мир, где не было Холокоста… Но он мог там СУЩЕСТВОВАТЬ.
Гейл недоверчиво качает головой.
??????
Бремен стискивает ее локти.
Понимаешь, малыш, он мог там существовать. Если его концентрация достаточно полная… всеобъемлющая… то за мгновение до того, как пуля уничтожила его разум, он мог бы породить альтернативную реальность Эверетта. А эта ветвь… – Джереми тыкает пальцем на первую попавшуюся ветвь на рисунке. – Эта ветвь может включать и его… и его семью, погибшую во время Холокоста… и миллионы остальных.
– А его дочь Ребекку? – тихо спрашивает Гейл. – Или вторую жену? Они были частью его… нашей реальности именно из-за Холокоста.
У Бремена кружится голова. Он подходит к раковине, наливает себе стакан воды и произносит:
– Не знаю. Просто не знаю. Наверное, Джейкоб думал, что может.
Джереми, каким разумом нужно обладать, чтобы… Как это ты сказал… охватить всю альтернативную реальность? Существует ли на свете человек, который на это способен?
Джереми молчит. Зная, что Гейл не любит религиозные метафоры, он все же использует их, пытаясь объяснить свою мысль.
Возможно, именно в этом смысл Гефсиманского сада, малыш. Или даже райского сада.
Он не чувствует вспышки гнева, которой его жена обычно реагирует на религиозные идеи. Вместо этого – сдвиг в ее мышлении, следствие столкновения с глубокой религиозной истиной, очищенной от религиозных нелепостей. Впервые в жизни Гейл разделяет благоговение родителей перед духовным потенциалом Вселенной.
Джереми, – мысленно шепчет она, – в легенде о райском саде… главное – не запретный плод и не знание греха, которое он якобы олицетворял… а само дерево! Древо жизни в точности совпадает… с твоим деревом вероятности… с ветвями реальности Джейкоба! Моя мать часто цитировала Иисуса: «В доме Отца Моего обителей много»[16]. Бесконечные миры.
Какое-то время они молчат и даже не поддерживают телепатический контакт. Каждый погрузился в свои мысли. Обоих клонит в сон, но никто не хочет ложиться. Они прикручивают керосиновую лампу и выходят на крыльцо, сидят в кресле-качалке, слушают мурлыканье Джернисавьен, устроившейся на коленях у Гейл, и наблюдают, как над восточным склоном холма зажигаются звезды.
Те глаза, что не смеют сниться, в сонном царстве
На следующее утро они обедают на берегу моря, обойдя гору Биг-Слайд и спустившись на пляж севернее того места, где были вчера. Погода очень теплая, на голубом небе ни облачка. Дремавшая Джернисавьен поднимает голову, смотрит на них сонными бесстрастными глазами и не выражает ни малейшего желания пойти с ними. Они оставляют ее, сказав, чтобы охраняла дом. Трехцветная кошка моргает, будто удивляясь их глупости.
После ланча Джереми заявляет, что собирается последовать совету матери и подождать час, прежде чем идти купаться, но Гейл смеется и бежит к воде.
– Сегодня тепло! – кричит она с расстояния в сорок футов. – Правда.
– Рассказывай! – кричит в ответ Бремен, но спать ему уже не хочется. Он встает, стягивает шорты и идет к жене.
НЕТ!!!
Яростный порыв ветра обрушивается с неба, земли и с моря. Джереми сбивает с ног, а голова Гейл оказывается под водой. Она взмахивает руками, отчаянно бьет по воде, пытаясь нащупать дно, а потом ползет на четвереньках, прочь от отступающей волны.
НЕТ!!!
Джереми, спотыкаясь, бредет по мокрому песку, подходит к Гейл поднимает ее и крепко обнимает, защищая от внезапной опасности. Ветер ревет, зашвыривая песок далеко в воду. Небо скручивается и морщится, словно запутавшаяся простыня на веревке; из голубого оно становится сначала желтым, как лимон, а затем темно-серым. Бремен прижимает к себе жену. Они оба падают на колени, а море гигантской волной откатывается назад, оставляя сухую, мертвую землю. Земля дрожит под ногами. На горизонте сверкают молнии.
НЕТ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Внезапно все исчезает – дюны, скалы, отступающее море. Через секунду на их месте остается только пустая соляная равнина, простирающаяся в бесконечность. Серое небо все больше темнеет.
На востоке что-то вспыхивает, словно там снова восходит солнце. Нет, это не солнце, потому что свет перемещается по пустынной равнине, приближаясь к Бременам.
Они снова встают. Гейл вырывается, но Джереми крепко держит ее. Бежать некуда. Пляж, гора и скалы за их спиной исчезли… Со всех сторон их окружает только пустыня, уходящая в бесконечность. Свет приближается.
Сияние становится ярче, пульсирует, и от его лучей Бремены щурятся и заслоняют ладонью глаза. В воздухе пахнет озоном, и волоски у них на руках электризуются и встают дыбом.
Джереми и Гейл наклоняются вперед, словно навстречу сильному ветру. Их тени вытягиваются футов на шесть, и свет обрушивается на их тела, как ударная волна атомного взрыва. Сквозь растопыренные пальцы они смотрят на приближающееся сияние – постепенно оно принимает форму двухголового существа, контуры которого проступают сквозь яркую корону.
Это человек, сидящий на громадном звере. Если бы Бог действительно сошел на землю, он мог бы выбрать именно такую, антропоморфную форму. Зверь, на котором восседает это божество, кажется каким-то безликим, но от него – кроме сияния – исходит ощущение… тепла, мягкости, безмерного покоя.
Перед ними Робби на спине своего плюшевого мишки.
СЛИШКОМ СЛАБЫЙ! НЕ МОГУ УДЕРЖАТЬ!
Бог не привык ограничивать себя речью, но он старается. Каждый звук врезается в мозг Гейл и Джереми, как электрический разряд.
Бремен пытается установить телепатический контакт, но ничего не выходит. Однажды, в Хэверфорде, он вместе с одним из студентов оказался на стадионе, где шли приготовления к рок-концерту. Когда он стоял прямо перед сценой с колонками, усилители включили на полную мощность, проверяя звук. То, что происходит теперь, очень похоже, только еще хуже.
Они с Гейл посреди плоской, покрытой трещинами равнины. Горизонта нет. Над ними слои прозрачной серой пустоты, похожие на складки пластикового савана. Со всех сторон к ним приближаются белые волны клубящегося марева. Свет идет только от похожей на божество фигуры прямо перед ними. Джереми поворачивает голову, следя за приближением тумана. Все, к чему этот туман прикасается, исчезает.
– Джереми, что… – Гейл пытается перекричать ветер, который обрывает их мысленный контакт.
Внезапно на них, словно град камней, обрушиваются мысли Робби. Он уже не пытается говорить, а посылает им поток образов. Звуки и цвета в них слегка искажены, но печаль смешивается с восхищением и удивлением.
белая комната
сердцебиение машины
солнечный свет на простыне
укол иглы
движение голосов и теней
течение тянет, тянет, тянет
Вместе с образами приходят эмоции, ранящие, как лезвие бритвы, почти непереносимые: открытие, одиночество, конец одиночества, восхищение, усталость, любовь, печаль, печаль, печаль…
Гейл в ужасе оглядывается на клубящийся туман, который тянет к ним свои щупальца. Он смыкается вокруг божества, сидящего верхом на звере, и почти гасит сияние.
Женщина прижимается щекой к щеке мужа.
Господи, зачем он это делает? Почему не оставит нас в покое?
Джереми пытается увеличить громкость своих мыслей, чтобы их можно было расслышать за обрушившимся на него со всех сторон ревом.
Дотронься до него! Протяни руку!
Вдвоем они делают несколько шагов вперед, и Гейл протягивает дрожащую руку. В тумане видно только свечение. Когда ее ладонь обволакивает яркий свет, женщина вздрагивает, как от удара током, но руку не убирает.
Боже мой, Джереми! Он просто ребенок. Испуганный ребенок.
Бремен тоже протягивает руку, замыкая круг.
Он умирает, Гейл. Он удерживает меня здесь, сопротивляясь ужасной силе… Он борется, чтобы удержать нас вместе, но я не могу остаться. Он слишком слаб, чтобы удержать меня… Он больше не может противиться течению.
Джереми!
Бремен отстраняется – и разрывает круг.
Если я останусь, то уничтожу нас всех.
Он протягивает руку и дотрагивается до щеки Гейл. Она видит, что задумал ее муж, и пытается протестовать, но он притягивает ее к себе и крепко обнимает. Они оба чувствуют, что Робби тоже здесь, с ними. Мысль Бремена усиливает это объятие, окрашивая его всеми оттенками чувств, которые невозможно передать ни прикосновениями, ни словами.
Потом Джереми отстраняется и отворачивается, боясь передумать. Туман почти мгновенно окружает его. От Робби остается, как угасающее сияние в белом тумане, ребенок, ухватившийся за шею плюшевого мишки, а от Гейл – размытый контур рядом с ним. А затем все исчезает, и Джереми ныряет в самую гущу холодной белой пелены.
Пять шагов – и он уже ничего не видит, даже собственного тела.
Еще три шага – и земля уходит у него из-под ног.
Он падает.
Падает Тень
Белая комната, белая кровать и окна в виде прямоугольников белого света. Невидимый монитор пищал в такт ударам его сердца.
Бремен застонал и повернул голову.
Под его носом шипела пластиковая трубка кислородного аппарата. Свет отражался в бутылке капельницы, и Джереми разглядел синяки на внутренней стороне своей руки – там, где под повязкой была спрятана игла. Его тело и голова были словно окутаны одним огромным покрывалом боли.
Врачи были в белом. Взгляд никак не удавалось сфокусировать, и они оставались размытыми пятнами, каждое со своим голосом.
– Вы нас немного напугали, – сказало белое пятно с женским голосом. Пять дней абсолютно ровной ЭЭГ. – Ее мысли, более откровенные, проникали через дыры в ментальном щите. – Если б удалось отыскать ближайших родственников, вас отключили бы от поддерживающих жизнь аппаратов еще несколько дней назад. Все это очень странно.
– Как вы себя чувствуете? – спросило пятно с мужским голосом. – У вас есть близкие, с кем вы хотели бы связаться? Лучше сообщить полиции, что мистер Бремен вышел из комы, которую мы считали практически необратимой. Конечно, какое-то время он никуда не денется, но все равно стоит позвонить следователю… как там его звали?
Бремен застонал и попытался заговорить. Звук, который он издал, даже ему показался бессмысленным.
Пятно с мужским голосом исчезло, а пятно с женским приблизилось, что-то сделало с одеялом Джереми и поправило капельницу.
– Вам очень повезло, мистер Бремен. Сотрясение оказалось гораздо серьезнее, чем мы предполагали. Но теперь всё в порядке. Еще несколько дней здесь, в отделении интенсивной терапии, и…
Джереми прочистил горло и попробовал снова:
– Еще жив?
Пятно наклонилось так низко, что теперь он почти различал черты лица женщины. От нее пахло леденцами от кашля.
– Конечно, мы живы. Теперь, когда худшее позади, можно надеяться…
– Робби, – прохрипел Бремен. Горло саднило, и он представил, как в него вставляли трубки. – Мальчик… в моей палате… прежней. Он еще жив?
Пятно молчало, деловито поправляя на нем одеяло. Голос женщины прозвучал беззаботно, почти весело:
– О да, вам не стоит беспокоиться о том пареньке! С ним всё в порядке. Нам нужно беспокоиться о себе, если мы хотим поправиться… Мы не хотим ни с кем связаться, с близкими или по поводу страховки?
А вот что она подумала за секунду до того, как ответить: Робби? Слепой, умственно отсталый ребенок в семьсот двадцать шестой палате? Он впал в еще более глубокую кому, друг мой. Доктор Макмерфи говорит, что повреждения мозга слишком обширны… Внутренние повреждения слишком долго оставались без внимания. Ему осталось несколько часов, даже на искусственном дыхании. А если парнишке не повезет, то несколько дней.
Пятно продолжало говорить и ласковым тоном задавать вопросы, но Бремен отвернулся к белой стене и закрыл глаза.
* * *
Свое короткое путешествие он совершил ранним утром, когда коридоры были темными и пустыми. Тишину лишь изредка нарушали шуршание юбок дежурной медсестры и стоны пациентов. Он двигался медленно, время от времени хватаясь за поручни на стене. Дважды ему приходилось прятаться в темных палатах, когда впереди раздавался тихий скрип резиновых подошв на ногах медсестер. Лестницу он преодолел с трудом: несколько раз наваливался всем телом на металлические перила и ждал, пока исчезнут черные пятна перед глазами.
Робби остался в той же палате, где раньше лежал Бремен, но теперь мальчик был один, если не считать аппаратов жизнеобеспечения, окружавших его, словно стая черных ворон. На мониторах мигали разноцветные огоньки, в полутьме молча мерцали светодиодные дисплеи. Усохшее тело, от которого неприятно пахло, свернулось в позе зародыша, запястья были вывернуты под неестественным углом, а пальцы распластаны на мокрой от пота простыне. Лицо Робби было повернуто вверх, невидящие глаза полуоткрыты. Разбитые губы трепетали, когда он судорожно втягивал в себя воздух.
Джереми понял, что мальчик умирает.
Он сел на край кровати. Его била дрожь. Густая темнота ночи казалась почти осязаемой. Где-то снаружи по пустым улицам эхом разнеслась сирена – и снова все смолкло. Из коридора донесся бой часов, а потом – чьи-то удаляющиеся шаги.
Бремен ласково погладил щеку Робби. Она была теплой и мягкой.
Я могу попробовать еще раз. Вернуться к ним в пустыню в мире Робби. Быть с ними до конца.
Джереми почти благоговейно коснулся спутанных волос на макушке мальчика. Пальцы у него дрожали.
Я могу попробовать спасти их. Позволь мне вернуться к ним.
Он вздохнул, но вздох превратился в сдавленный стон. Его ладонь обхватила голову Робби, словно благословляя. Пойдешь со мной? Как волновые фронты, запертые в моем мозгу? Поместишь их в склеп, как я поместил Гейл? Пронесешь их через мою жизнь как бездушного, незрячего и немого гомункула… в ожидании, когда еще одно чудо, подобное Робби, предложит нам дом?
Внезапно щеки Бремена стали мокрыми, и он смахнул тыльной стороной ладони слезы, мешавшие ему видеть. Прямые черные волосы Робби нелепыми пучками торчали у него между пальцев. Мужчина посмотрел на сбившуюся набок подушку. Он мог бы все закончить прямо здесь, сейчас, чтобы два человека, которых он любил, больше не томились в умирающей пустыне. Волновые фронты рушатся, когда исчезают вероятности. Смерть синусоидальных волн и их грациозного танца. Можно подойти к окну и через секунду присоединиться к ним.
В памяти Бремена вдруг всплыли строки стихотворения, которое Гейл прочла ему много лет назад, еще до того, как они поженились. Он не мог вспомнить имени поэта… Может, Йейтс. Память сохранила только отрывок:
Здесь нет глаз Глаз нет здесь. В долине меркнущих звезд В полой долине В черепе наших утраченных царств К месту последней встречи Влачимся вместе Страшимся речи На берегу полноводной реки Незрячи, пока Не вспыхнут глаза, Как немеркнущая звезда, Как тысячелепестковая, Роза сумрака царства смерти Надежда лишь Для пустых людей[17].Бремен последний раз коснулся щеки Робби, что-то прошептал, обращаясь к ним обоим, и вышел из палаты.
Вот как кончится мир
Дорога из Сент-Луиса до Восточного побережья на позаимствованном у интерна «Вольво» заняла три дня и три ночи. Бремен часто останавливался в местах для отдыха вдоль автострады, слишком уставший, чтобы продолжать путь, и слишком взбудораженный, чтобы заснуть. В кошельке Брэдли, шкафчик которого он открыл, оказалось всего триста долларов, но этого с лихвой хватило на бензин. Еду Джереми в пути не покупал.
В этот предрассветный час мост Бенджамина Франклина на выезде из Филадельфии был почти пуст, как и двухполосное шоссе, пересекавшее Нью-Джерси. Время от времени Бремен немного опускал ментальный щит, но каждый раз морщился и снова поднимал его, защищаясь от рева нейрошума, который обрушивался на него.
Еще рано.
Стараясь не обращать внимания на головную боль, он сосредоточился на дороге, изредка поглядывая на бардачок, где лежал замотанный тряпкой сверток. Это произошло на стоянке где-то в Индиане… или в Огайо… когда рядом с ним остановился пикап, из которого вышел и направился к туалетам маленький человечек с землистым лицом. Джереми поморщился, почувствовав волну злобы и подозрительности, исходившую от него, но улыбнулся, когда тот скрылся из виду.
Револьвер калибра.38 был спрятан под водительским сиденьем пикапа. И выглядел он почти так же, как револьвер, который Бремен выбросил в болото во Флориде. Под сиденьем нашлась и коробка с патронами, но Джереми не взял их. Достаточно одного, в барабане.
Когда он въехал на остров Лонг-Бич и свернул на север, к Барнегат-Лайт, солнце еще не взошло, но небо над крышами домов уже начало светлеть. Остановив машину у маяка, Бремен положил револьвер в коричневую сумку и тщательно запер машину, после чего сунул под стеклоочиститель на ветровом стекле листок бумаги с фамилией и адресом Брэдли.
Он шел к морю, и ему в кроссовки сыпался еще холодный песок. Пляж был пуст. Джереми сел в тени дюны, лицом к воде.
Он снял рубашку, аккуратно сложил ее на песок позади себя и достал из сумки револьвер, который оказался легче, чем он помнил. Оружие пахло смазкой.
Волшебной палочки не существует. И волшебника тоже. Только полное исчезновение этого математически совершенного танца внутри. Если есть что-то еще, Гейл, милая, ты должна помочь мне это найти.
Бремен опустил ментальный щит.
Боль миллионов бессвязных мыслей острием ледяной иглы пронзила его мозг. Щит автоматически вернулся на место, чтобы заглушить шум и ослабить боль, – как всегда с тех пор, как Джереми осознал свои телепатические способности.
Он усилием воли снова опустил барьер, больше не позволяя ему подняться и защитить его. Впервые в жизни Джереми Бремен открылся для боли – для мира, который был ее источником, для бесчисленных голосов, взывавших к нему из своего одиночества.
Гейл! Он звал ее и мальчика, но не чувствовал их, не слышал их голосов, оглушенный гигантским хором, который обрушился на него, словно ураган. Чтобы принять их, он должен принять всех.
Бремен поднял револьвер, вдавил дуло в висок и взвел курок, почти не ощутив сопротивления. Палец лег на спусковой крючок.
Он познал все круги ада и одиночества.
Познал мелкие подлости, грязные желания, тайные пороки, дурные мысли. Жестокость, предательство, жадность и эгоизм.
Джереми принял их все, пропустил их через себя. Он искал один-единственный голос в той какофонии, которая его окружала, пока она не начала заполнять всю Вселенную. Боль была немыслимой, невыносимой.
И вдруг в лавине шума и боли начал проступать шепот других голосов, которые были недоступны Бремену во время спуска в этот ментальный ад. Голоса рассудка и сострадания, голоса родителей, ободряющих своих детей, которые делают первые шаги, голоса надежды людей доброй воли, которые – будучи далекими от совершенства – каждый день пытались стать лучше, чем было предназначено природой и окружающим миром.
Боль проступала и в этих тихих голосах: боль от неизбежных компромиссов, боль от мыслей о смертности, своей и, что еще хуже, своих детей, боль от столкновения с теми, кто намеренно причиняет страдания, как те, с кем Джереми сталкивался во время своих скитаний, и наконец, боль от неизбежности утраты, которая присутствует даже в непреходящих радостях жизни.
Но эти тихие голоса – и среди них голоса Гейл и Робби – указывали Бремену путь в темноте. Он сосредоточился на них, несмотря на то что они слабели, заглушаемые какофонией хаоса и боли, которая его окружала.
Джереми снова понял: для того чтобы найти тихие голоса, он должен полностью открыться для причиняющих боль криков о помощи. Он должен впустить их в себя, впитать, проглотить, словно острый, как лезвие бритвы, хлеб причастия.
Круглое дуло револьвера холодило висок. Палец лежал на спусковом крючке.
Боль была невообразимой, невыносимой. Джереми принял ее. Он желал ее. Впитывал, пропускал через себя, еще больше раскрываясь перед ней.
Он не видел, как взошло солнце. Слух у него тоже отключился. Сигналы боли и страха, посылаемые телом, не доходили до сознания, и усиливающееся давление на спусковой крючок стало чем-то далеким, забытым. Концентрация воли снова была такой, что он мог бы двигать предметы, крошить кирпичи и останавливать птиц в полете. В эту долю миллисекунды Джереми мог выбирать волновой фронт или частицу, выбирать себе существование. Мир кричал в нем пятью миллиардами исполненных боли голосов, требующих, чтобы их услышали, пятью миллиардами потерянных детей, ждавших, что их обнимут, и он раскрыл для них свои объятия.
Бремен спустил курок.
Ибо Твое Жизнь очень Ибо Твое есть
На пляже появляется девочка в темном купальнике, из которого давно выросла. Она бежала вдоль кромки воды по мокрому, плотному песку, но теперь останавливается. Из воды поднимается солнце.
Девочка смотрит только на воду, которая своими скользящими набегами дразнит сушу, а потом отступает, и начинает танец с прибоем. Загорелые ноги приносят ее к самой кромке мирового океана и возвращают назад в безмолвном, но хореографически безупречном танце.
Внезапно она вздрагивает от звука выстрела.
Внезапно она вздрагивает от…
Внезапно она вздрагивает от крика чаек. Отвлекается, прерывает танец, и холодные торжествующие волны разбиваются о ее стройные лодыжки.
Чайки над ее головой устремляются вниз, а потом снова взмывают и уносятся на запад. Их крылья окрашиваются цветом зари. Девочка поворачивается вслед за ними, и соленые брызги теребят ее волосы, падают на лицо. Она щурится и осторожно трет глаза, стараясь, чтобы в них не попала соль, а потом замирает, вглядываясь в три фигуры, приближающиеся к ней из дюн за пляжем. Похоже, на мужчине, женщине и красивом ребенке, который идет между ними, нет купальников, но они еще далеко, а глаза еще слезятся от морских брызг, и девочка не уверена. Но они точно держатся за руки.
Девочка возобновляет свой вальс с морем. Джереми, Гейл и Робби, слегка щурясь от чистого, резкого утреннего света, смотрят на восход солнца заново открывшимися глазами.
Примечания
1
Пер. М. Лозинского.
(обратно)2
Пер. Н. Берберовой.
(обратно)3
«Бостон селтикс» – американский баскетбольный клуб (Национальная баскетбольная ассоциация).
(обратно)4
Речь идет об автомобиле «Шевроле Беретта» (выпускался в 1887–1996 гг.).
(обратно)5
Морлоки – гуманоидные подземные существа-каннибалы, встречающиеся в различных произведениях фантастического жанра. Живут глубоко под землей, не выносят солнечного света.
(обратно)6
Роберт Фрэнсис (Бобби) Кеннеди (1925–1968) – американский политический и государственный деятель.
(обратно)7
«Кандид, или Оптимизм» – самое знаменитое произведение французского философа-просветителя Вольтера.
(обратно)8
Аннетт Джоанн Фуничелло (1942–2013) – популярная американская актриса, сценарист, кинопродюсер и певица.
(обратно)9
Общепринятое в англоязычных странах обращение к женщине без указания ее семейного статуса.
(обратно)10
Аушвиц – немецкое название Освенцима, принятое на Западе.
(обратно)11
Равенсбрюк – крупнейший женский концлагерь Третьего рейха, через который прошли 130 тыс. человек (90 тыс. из них погибли).
(обратно)12
Обращение индейца Тонто к Одинокому Рейнджеру из популярной в США радиопостановки «Одинокий Рейнджер».
(обратно)13
Пер. А. Сергеева.
(обратно)14
Имеется в виду Дж. Буш-старший, президент США (в 1989–1993 гг.).
(обратно)15
Имеется в виду т. н. шашень – вид морских двустворчатых моллюсков из семейства корабельных червей, длиной от 20 до 50 см, обитающий в лагуне филиппинского о. Минданао.
(обратно)16
Ин. 14:2.
(обратно)17
Пер. А. Сергеева.
(обратно)


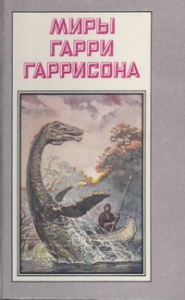
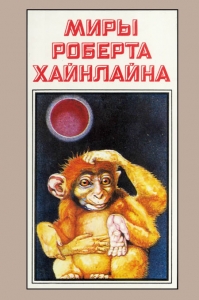
Комментарии к книге «Полый человек», Дэн Симмонс
Всего 0 комментариев