Грег Иган Карантин
Часть 1
Глава 1
Только абсолютно помешанные на своей безопасности клиенты звонят мне, когда я сплю. Разумеется, никто не станет переадресовывать важный разговор на экран обычного видеофона – такой сигнал можно перехватить хоть с соседней улицы, даже без всяких там «жучков». Большинство предпочитает иметь нейронный модификатор, под действием которого мозг сам выполняет декодирование, а результат поступает прямо на слуховые и зрительные центры. Я, например, использую мод «Шифроклерк» (фирма «Нейрокомм», 5999 долларов), который для обеспечения секретности двухстороннего обмена поддерживает еще и виртуальную речь.
Но! Мозг ведь тоже создает слабенькие электрические и магнитные поля. Сверхпроводящий детектор на коже головы, размером не больше крупинки перхоти, может засечь поток нейросигналов, вызванных процессом эрзац-восприятия, и практически мгновенно расшифровать соответствующие образы и звуки.
Вот на такой случай у меня есть «Ночной коммутатор» («Аксон», 17999 долларов). Наномашины, на которых он построен, могут потратить до шести недель на картирование идиосинкратических схем пользователя – правила, по которым смыслы кодируются нейронными соединениями. Но как только эти карты составлены, промежуточный язык органов чувств больше не используется при приеме сообщений. Вы просто вдруг узнаете то, что вам хотят передать, и никакие воображаемые «говорящие головы» для этого не нужны, а возникающие на черепе электромагнитные сигнатуры расшифровать в разумные сроки невозможно. Единственная проблема – во время бодрствования большинство людей испытывают замешательство или даже потрясение, когда в их сознании внезапно кристаллизуется новая информация. Поэтому принимать вызов можно только во сне.
Я просто просыпаюсь – и уже знаю все. Лауре Эндрюс тридцать два года, рост сто пятьдесят шесть сантиметров, вес сорок пять килограммов. Волосы каштановые, короткие, прямые; глаза светло-голубые; нос длинный, тонкий. Тип лица англо-ирландский, а кожа совершенно черная – как и большинству австралийцев, для защиты от ультрафиолетового излучения ей была сделана генетическая коррекция, усилившая выработку меланина и увеличившая толщину эпидермиса.
У Лауры Эндрюс серьезные мозговые нарушения – врожденные. Есть и ходить она может, хотя и с трудом, но не способна ни к какому общению. Специалисты считают, что она ориентируется в окружающем мире не лучше шестимесячного ребенка. С пятилетнего возраста она постоянно содержится в местном отделении Института Хильгеманна.
Четыре недели назад санитар, который принес завтрак, открыл дверь в ее комнату и обнаружил, что Лауры там нет. В здании и на территории Института ее не нашли, и тогда была вызвана полиция. Полицейские еще раз обыскали территорию, а затем обошли расположенные по соседству дома, но безрезультатно. В комнате Лауры не было никаких следов насильственного проникновения. Видеозаписи, сделанные камерами службы безопасности, также ничего не прояснили. Полиция долго беседовала с сотрудниками, но никто не раскололся и не признался добровольно в том, что тайно увел эту женщину из Института.
За четыре недели не произошло ничего. Никаких следов не найдено. Тело не обнаружено. Никто не потребовал выкупа. Формально полиция дело не прекратила, но понизила ему приоритет в ожидании дальнейших событий.
Дальнейших событий не предвидится.
Моя задача: найти Лауру Эндрюс и в целости и сохранности доставить ее в Институт Хильгеманна; если она мертва – выяснить, где находятся ее останки; в любом случае – собрать улики, достаточные для того, чтобы отдать под суд людей, виновных в ее похищении.
Мой анонимный клиент предполагает, что Лаура Эндрюс была похищена, однако не указывает возможных мотивов. В настоящее время я не могу составить определенного мнения по этому поводу. Моя голова полна только что полученной информацией, причем пропущенной через восприятие моего клиента – возможно, с вкраплениями лжи.
Я открываю глаза, заставляю себя вылезти из постели и подойти к терминалу, который стоит в углу. Мое правило – никогда не заниматься финансовыми делами в уме. Нажав несколько клавиш, я получаю подтверждение того, что на мой счет заблаговременно была переведена значительная сумма в качестве предоплаты. Если я приму задаток, это будет сигналом для моего клиента, что я взялся за его дело. Я еще раз мысленно повторяю все детали задания – после таких звонков возникает неясное, но мучительное ощущение того, что вам все это только снится. Затем я посылаю распоряжение принять перечисленные деньги.
Ночь жаркая. Я выхожу на балкон и гляжу вниз, на реку. Даже в три часа ночи по воде скользит множество самых разных судов, от парусных досок, испускающих мягкое оранжевое или светло-зеленое люминесцентное свечение, до двенадцатиметровых яхт, сверкающих в ослепительных лучах прожекторов. Три главных моста разбухли от велосипедистов и пешеходов. Дальше к востоку, над крышей казино, кувыркаются гигантские голограммы, изображающие карты, игральные кости и бокалы шампанского. Спит ли теперь хоть кто-нибудь по ночам?
Я бросаю взгляд вверх, на пустое черное небо, и замираю, как зачарованный. Сегодня нет ни Луны, ни планет, ни облаков, и абсолютный мрак, где взгляду не на чем остановиться, теряет привычные масштабы – невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век. Меня слегка мутит от противоречивой смеси двух чувств: головокружительных, нечеловеческих размеров Пузыря и изоляции в замкнутом пространстве. Я резко, конвульсивно передергиваюсь всем телом. Тошнота проходит.
Рядом со мной на балконе стоит созданная модом галлюцинация моей умершей жены Карен. Ее рука скользит вокруг моей талии:
– Что с тобой, Ник?
Она прикасается к моему животу холодными пальцами, растопыренными, словно антенна. В ответ я чуть было не спрашиваю ее, не скучает ли она по звездам, но вовремя спохватываюсь, поняв нелепую сентиментальность такого вопроса.
Я отрицательно качаю головой:
– Ничего.
* * *
Территория Института Хильгеманна так зелена, как это только позволяют возможности генной инженерии и мощной оросительной сети. Стоит середина лета, и обычная растительность давно бы засохла и пожелтела. Газон блестит, как от росы, залитый солнцем позднего утра. Я плетусь ко входу по главной аллее в тени деревьев, похожих на клены. Все это требует огромных денег – такое беспечное расходование воды стоит весьма недешево, а через несколько месяцев, по слухам, цены должны удвоиться. Третий трубопровод через плато Кимберли, по которому вода поступает за две с половиной тысячи километров из северных водохранилищ, требует уже вчетверо больших расходов, чем планировалось по смете, а планы строительства опреснительной установки опять отложены в долгий ящик – по-видимому, перенасыщенность рынка морских минералов сделала проект нерентабельным.
Аллея заканчивается кругом для разворота автомобилей, в центре которого находится роскошная клумба с огромным количеством цветов всевозможных оттенков. Над ними то парят, то стремительно проносятся генетически сконструированные колибри (торговая марка «МП»). В течение нескольких секунд я наблюдаю за ними в тайной надежде, что хоть одной удастся, вопреки программе, вырваться из круга – но напрасно.
Здание оформлено под дерево, и по архитектуре напоминает мотель. Институты Хильгеманна разбросаны по всему миру, но никто из носящих фамилию Хильгеманн тут ни при чем. Известно, что Международная помощь заплатила своим консультантам по маркетингу целое состояние за разработку «оптимального» названия для своей сети психиатрических больниц (не помню, вредит ли всеобщая осведомленность привлекательности названия или, наоборот, повышает ее). МП имеет также сети больниц общего профиля, детских центров, школ, университетов, тюрем, а недавно появилось несколько монастырей, мужских и женских. Все эти здания почему-то очень напоминают мне мотели.
Я направился было к конторке портье, но оказалось, что в этом нет необходимости:
– Мистер Ставрианос?
Доктор Чень, заместитель директора госпиталя, с которой я говорил по телефону, уже ждет меня в вестибюле. Необыкновенная любезность, лишающая меня, однако, возможности сунуть свой нос куда не следует. Разумеется, никаких белых халатов – ее платье украшено сложным орнаментом в стиле Эшера, из переплетенных цветов и птиц. Она открывает дверь с надписью «только для сотрудников» и по лабиринту узких коридоров ведет меня в свой кабинет. Мы усаживаемся в мягкие кресла, стоящие поодаль от скромного письменного стола.
– Благодарю, что согласились со мной встретиться так быстро.
– Ну что вы, мы ведь более чем заинтересованы как можно скорее найти Лауру. Я только не понимаю, чего хочет добиться ее сестра, возбуждая иск против нас. Ведь это ничем не поможет Лауре, верно?
Я издаю сочувственный, но ни к чему не обязывающий вздох. Быть может, моим клиентом является как раз сестра Лауры или адвокатская контора, услугами которой она пользуется, – но к чему тогда вся эта таинственность? Даже если бы я не приперся сюда и не рассказал, кто я такой и чем занимаюсь – а между прочим, клиент мне этого не запрещал, – адвокаты Института Хильгеманна, несомненно, предвидели с самого начала, что она рано или поздно обратится к частному детективу. Наверняка они и сами уже давно наняли частного детектива.
– Как вы считаете, что произошло с Лаурой?
Доктор Чень хмурится:
– Я уверена в одном: без посторонней помощи она не могла бы отсюда выбраться. Лаура была неспособна даже повернуть дверную ручку. Ее кто-то похитил. Видите ли, у нас здесь не тюрьма, но к охране мы относимся очень серьезно. Ее мог бы извлечь отсюда только профессионал высокого класса, к тому же прекрасно экипированный. Но ради чего – или кого? – не представляю. Выкуп, по-видимому, уже вряд ли потребуют, да и сестра ее не настолько богата, чтобы это могло стать причиной похищения.
– Может быть, ее похитили случайно? Что, если кто-то собирался похитить одного из ваших пациентов, чьи родственники в состоянии заплатить крупную сумму, а когда стало ясно, что произошла ошибка, уже ничего нельзя было исправить?
– Думаю, такой вариант не исключен.
– Кто же мог быть намеченной жертвой? Есть ли здесь пациенты, имеющие чрезвычайно богатых...
– Простите, я не имею права...
– Разумеется. Прошу прощения. – По выражению ее лица мне показалось, что нескольких очевидных кандидатов на эту роль она может назвать хоть сейчас, но меньше всего хотела бы, чтобы я вступал в контакт с их семьями. – Полагаю, что вы приняли дополнительные меры безопасности?
– Боюсь, что и это я не могу с вами обсуждать.
– Хорошо. Тогда расскажите мне о Лауре. В чем причина ее врожденных мозговых дефектов?
– Этого мы точно не знаем.
– Понимаю. Но каковы ваши предположения? Краснуха? Сифилис? СПИД? Мать злоупотребляла лекарствами в период беременности? Побочные эффекты каких-либо пищевых добавок, витаминов, пестицидов?..
Она решительно качает головой:
– Эти причины практически исключены. Ее мать наблюдалась врачом в период беременности, у нее нет никаких серьезных заболеваний, и она не принимала никаких лекарств. А химически обусловленное уродство или мутация дают совсем другую картину. У нее нет никаких пороков развития, нет биохимических дисбалансов, дефектных белков, гистологических нарушений...
– Откуда же такая сильная умственная отсталость?
– Такое впечатление, что некоторые важнейшие структуры ее мозга, системы нейронных соединений, которые должны были появиться в очень раннем возрасте, вовремя не сформировались. Из-за их отсутствия последующее нормальное развитие стало невозможным. Вопрос состоит в том, почему не сформировались эти структуры. Как я уже сказала, точного ответа у нас нет, но мы предполагаем, что причиной мог быть сложный генетический эффект, связанный с взаимодействием множества отдельных генов и имевший место в период внутриутробного развития.
– Разве вы не могли точно установить, имеются ли у нее генетические нарушения? Вы проверяли ее ДНК?
– У нее нет известных, каталогизированных генетических дефектов, если вы это имеете в виду. Но это только доказывает, что некоторые гены, ответственные за развитие мозга, до сих пор не выявлены.
– А в семье случались подобные вещи?
– Нет, но если здесь сыграли роль сразу несколько генов, в этом нет ничего удивительного – вероятность того, что у кого-либо из родственников возникнет аналогичное отклонение, крайне мала. – Она сдвигает брови. – Простите, но какое отношение все это может иметь к поискам Лауры?
– Ну, если бы какое-нибудь лекарство или другой потребительский товар мог стать причиной ее болезни, производитель был бы заинтересован в защите своих интересов. Я понимаю, что прошло уже много времени, но что, если какая-нибудь засекреченная команда исследователей собирается в ближайшее время опубликовать доклад о том, что некий чудодейственный антидепрессант, сенсация тридцатых годов, в одном случае из ста тысяч воздействует на эмбрион так, как это произошло с Лаурой? Вы слышали, конечно, об этой истории с компанией «Холистические здоровые продукты» в Штатах? Шестьсот человек заработали почечную недостаточность, принимая один из их тонизирующих препаратов, и тогда компания наняла десяток киллеров, которые принялись уничтожать всех пострадавших, имитируя несчастные случаи – когда речь идет о трупах, судебное решение о причинении вреда маловероятно. Согласен, похищение вряд ли может иметь какой-то смысл в такой ситуации, но все же... Может быть, они хотят обследовать Лауру, чтобы получить информацию, которая впоследствии поможет им в суде?
– Вы сошли с ума!
– Профессиональная болезнь.
Она смеется:
– Ваша или моя? Впрочем, я же сказала, что скорее всего тут виновата наследственность.
– Но ведь вы не уверены?
– Не уверена.
Я задаю обычные вопросы о сотрудниках: был ли кто-нибудь принят на работу или уволен за последние несколько месяцев, есть ли у кого-нибудь долги или подобные проблемы, есть ли обиженные на администрацию? Полиция, конечно, уже задавала все эти вопросы, но после четырех недель унылых размышлений о причинах исчезновения могла всплыть какая-нибудь мелочь, о которой вначале никто и не вспомнил.
Однако ничего не всплывает.
– Могу я осмотреть ее комнату?
– Конечно.
На потолках коридоров, по которым мы идем, с интервалом в десять метров установлены видеокамеры. Насколько я понимаю, любой путь к комнате Лауры пересекает поле зрения по крайней мере семи из них. Что ж, семь инфохамелеонов вполне уложились бы в бюджет серьезного похитителя – каждый из этих роботов величиной с булавочную головку перехватил бы сигнал одной из камер, записал бы последовательность битов в одном кадре, изображающем пустой коридор, а затем стал бы непрерывно забивать этим кадром все сообщения данной камеры. В начале и в конце передачи этих фальшивых изображений могли возникнуть еле заметные высокочастотные помехи, но цифровые фильтры автоматически отсекают шум, так что просматривать запись бесполезно. А единственный способ выяснить, были ли вообще инфохамелеоны, – это исследовать под электронным микроскопом сотни метров оптического кабеля в поисках микроповреждений в тех местах, где произошло подключение.
Ничуть не сложнее справиться и с дистанционно управляемым дверным замком.
Сама комната невелика, мебели мало. На одной из стен бодрая глянцевитая роспись с цветами и птицами. Лично я едва ли хотел бы каждое утро видеть перед собой нечто подобное, но мне трудно судить, как к ней относилась Лаура. Над кроватью большое окно, наглухо вделанное в стену, – оно явно не предназначено для того, чтобы его открывали. Вместо стекла сверхпрочный пластик, который легко выдержит даже пулю, однако при помощи соответствующих инструментов его могли разрезать, а затем восстановить, не оставив видимых следов. Я вынимаю карманный фотоаппарат и делаю снимок окна в поляризованном свете лазерной вспышки, получаю карту напряжений в условных цветах, но все контуры выглядят очень гладко, ничто не указывает на скрытые дефекты.
По правде говоря, я не могу сделать здесь ничего такого, чего бы уже не сделали, причем раньше и лучше, полицейские эксперты. Ковер, естественно, голографировали в поисках отпечатков ног, а затем пылесосом извлекли из него все мельчайшие биочастицы. Постельное белье отправили на анализ, а почву за окном просеяли и промыли. Но теперь, по крайней мере, у меня в голове есть четкий образ самой комнаты, а это хорошая декорация для любого сценария, который мог быть разыгран в ту ночь. Доктор Чень сопровождает меня обратно в холл.
– Могу я задать вам один вопрос вне связи с похищением Лауры?
– А именно?
– Много ли у вас пациентов со «страхом Пузыря»?
Она смеется и качает головой:
– Ни одного. «Страх Пузыря» совсем вышел из моды.
* * *
Благодаря моим связям в профессиональной среде некоторые вещи мне удается выяснить без всякого труда.
Марте Эндрюс тридцать девять лет, она работает системным аналитиком в фирме «Вестрэйл». Разведена, содержит двоих сыновей. Вполне рядовые доходы, и рядовые долги. Она является собственником сорока двух процентов дешевой двухкомнатной квартиры. Институту Хильгеманна она платила из специального фонда, который родители завещали ей в управление – отец умер три года назад, мать годом позже. Неподходящий объект для вымогательства.
Пока что наиболее правдоподобной представляется гипотеза похищения по ошибке. Хотя это и не очень согласуется с высоким профессиональным уровнем операции, но, как известно, накладки бывают у всех. Чтобы дальше разрабатывать эту версию, мне необходим список пациентов Института Хильгеманна. Более подробная информация о сотрудниках тоже не помешает.
Я звоню хакерам, к чьим услугам обычно прибегаю в таких случаях.
Гудки вызова гулко звучат где-то в глубине моего черепа, словно в пустой комнате. Очевидно, психологи из «Нейрокомм» выбрали такую странную акустику для того, чтобы создать у пользователя ощущение полной конфиденциальности, но у меня она вызывает лишь клаустрофобию. Одновременно мое зрение становится черно-белым – видимо, чтобы меньше отвлекаться; еще один дурацкий трюк.
Белла, как всегда, отвечает после четвертого гудка. Ее лицо парит где-то в метре от меня, удивительно живое на фоне серой реальности, как будто выхваченное из тьмы лучом волшебной лампы. С холодной улыбкой она говорит:
– Рада тебя видеть, Эндрю. Чем могу быть полезна?
Эндрю – это имя, которое я использую для одной из масок «Шифроклерка». Ее собственный синтезированный облик тоже может быть не чем иным, как маской, повторяющей слова и интонации моего реального собеседника. Вполне возможно также, что собеседник вообще не человек, а машина – скажем, чересчур изысканный автоответчик или компьютерная система, практически самостоятельно занимающаяся хакерством. Мне совершенно безразлично, кто или что в действительности Белла; главное, что она/он/оно/они умеют отыскивать нужную мне информацию.
– Институт Хильгеманна, Пертское отделение. Истории болезни всех пациентов и личные дела сотрудников.
– Начиная с какого времени?
– Ну... за последние тридцать лет, если они еще не в архиве. В архив залезать не надо, это слишком дорого для меня.
Она кивает:
– Две тысячи долларов.
Я знаю, что торговаться бесполезно:
– Отлично.
– Перезвони через четыре часа. Твой пароль – «Парадигма».
Пока комната вновь обретает свои нормальные краски, я вдруг осознаю, что две тысячи долларов – это очень много для Марты Эндрюс, не говоря уж о пятнадцати тысячах полученного мной аванса. Разумеется, если ее адвокаты уверены в крупном гонораре, составляющем большой процент от суммы иска, пятнадцать тысяч для них пустяки, а их желание остаться анонимными заказчиками вполне невинно, ведь и я использую маску и псевдоним, имея дело с Беллой – когда твои партнеры нарушают закон, есть смысл подстраховаться против обвинений в преступном сговоре.
Поговорить с Мартой? Не вижу, чем это может огорчить ее адвокатов, а если она сама наняла меня (ведь нельзя исключать, что ее финансы таят в себе неведомые глубины) – что ж, значит, она сознательно предпочла анонимность возможности запретить мне общаться с ней.
В сущности, у меня нет выбора. Я должен действовать так, будто мне безразлично, кто мой клиент. Хотя на самом деле именно это меня больше всего интересует – во всяком случае, пока.
Марта очень похожа на свою сестру, только чуть полнее ее и куда беспокойнее. По телефону она спросила:
– На кого вы работаете? На Институт?
Когда я ответил, что не имею права раскрывать имя моего клиента, она, по-моему, поняла это как утвердительный ответ. Вообще-то трудно себе представить, чтобы «МП», которой принадлежит здоровенный пакет акций в «Пинкертоне», стала нанимать независимого одиночку. Сейчас, сидя лицом к лицу с ней, я почти уверен, что она говорила искренне.
– Честное слово, я ничем не могу вам помочь. Ведь это они за нее отвечали, а не я. Просто не представляю, как они могли допустить такое.
– Вы правы. Но давайте на минуту забудем об их промахе и подумаем – зачем кому-нибудь могло понадобиться похищать Лауру?
Она качает головой:
– Да кому она нужна?
Кухня, где мы сидим, крошечная и идеально чистая. В соседней комнате ребятишки Марты играют в суперхит летнего сезона – «Дзенские демоны Тибета (под ЛСД) против гаитянских богов Ву-Ду (под кокаином)». Они играют не в мыслях, как богатые дети, – она морщится, услышав театральный, леденящий душу вопль, за которым следует громкий взрыв, какое-то хлюпанье, а затем одобрительные – на этот раз реальные – возгласы.
– Я уже говорила – я знаю об этом не больше других. А может, никакого похищения не было? Может быть, в Хильгеманне ей причинили какой-нибудь вред санитары, или же врачи испытали на ней новое лекарство, да неудачно – и решили замести следы? Это всего лишь мои догадки, но вам, наверное, стоит иметь в виду и такую возможность. Если, конечно, вы действительно хотите узнать всю правду.
– Лаура была вам близким человеком?
Она хмурится:
– Близким человеком? Вы что, ничего о ней не знаете?
– Ну, скажем, были ли вы к ней привязаны? Часто ее навещали?
– Нет. Ни разу. Навещать ее было бессмысленно: она не понимала, что ее навещают. Даже не замечала этого.
– А ваши родители так же к этому относились? Она пожимает плечами:
– Моя мать раньше ездила к ней, примерно раз в месяц. Она понимала, что Лауре это безразлично – просто считала, что так надо. Знала, что если не поедет к Лауре, то будет чувствовать себя виноватой. А когда появились моды, которые избавили бы ее от этого чувства, она уже слишком привыкла и не хотела ничего менять. А у меня таких проблем не было. Ведь я же понимаю, что Лаура – не личность, и притворяться, что это не так, было бы лицемерием.
– Полагаю, в суде вы собираетесь продемонстрировать несколько большую сентиментальность?
Она смеется без всякой обиды:
– Нет. Мы обвиняем их в причинении ущерба, а не требуем компенсации за «эмоциональные страдания». Речь будет идти не о моих чувствах, а о плохом уходе за больным. Может, я слишком прагматична, но по крайней мере не собираюсь под присягой приписывать себе то, чего нет.
* * *
Возвращаясь в город, в вагоне я размышляю, могла ли Марта организовать похищение своей сестры, чтобы затем попытаться получить компенсацию через суд? Тогда то, что она не стремится выжать из этого иска все возможное, может оказаться лишь ловким способом вызвать сочувствие присяжных. Но у этой теории есть по крайней мере одно слабое место: почему никто не потребовал выкупа? Ведь суд все равно обязал бы Институт заплатить, зато мотив похищения не остался бы загадкой, возбуждающей подозрения в мошенничестве.
После духоты и давки в метро я попадаю на улицу, где царит почти такая же давка. Вечерние покупатели тащат горы товаров, дешево распродаваемых после Рождества. Уличные музыканты и артисты настолько бездарны, что мне хочется нагнуться и переключить их кассовые автоматы с приема денег на выдачу.
– Какой же ты злобный негодяй! – говорит «Карен». Я согласно киваю.
Издали заметив человека с большими плакатами на спине и груди, я решаю не обращать на него внимания. Но, пройдя несколько шагов, не удерживаюсь и смотрю. Несмотря на страшную жару, он в черном костюме, глаза кротко потуплены, лицо бледное, как слизняк, – Господу не угодны все эти фокусы с пигментацией. Среди толпы, одетой в яркие легкие одежды, он похож на миссионера девятнадцатого века, заблудившегося на африканском базаре. Я уже видел этого человека, с теми же плакатами, на которых написано:
Покайтесь, грешники!
Судный день близок!
«Близок!» Тридцать три года прошло, а он только лишь близок! Понятно, почему он прячет глаза. Черт его знает, что творится в этой башке – небось каждое утро в десятитысячный раз говорит себе: «Сегодня?» Это уже не вера, это паралич.
Я некоторое время стою, наблюдая за ним. Он медленно прохаживается взад и вперед по одному и тому же месту, останавливаясь, когда напор идущих навстречу пешеходов становится слишком сильным. Большинство его не замечает, но я вижу, как какой-то подросток нарочно сталкивается с ним, грубо оттирая плечом, и испытываю укол постыдного удовольствия.
У меня нет причин ненавидеть этого человека. Их очень много, провозвестников Царства Христова, – от покорных идиотов до оборотистых пройдох, от блаженных аквариумистов до террористов, готовящих геноцид. Дети Бездны не ходят по улицам, обвешанные плакатами, а этого заводного манекена нелепо обвинять в гибели Карен.
И все-таки, уходя, я не могу отделаться от сладостного видения его лица, превращенного в кровавое месиво.
* * *
Мне было восемь лет, когда погасли звезды.
Пятнадцатого ноября 2034 года с 8 часов 11 минут 5 секунд до 8 часов 27 минут 42 секунд по Гринвичу.
Сам я не видел этого круга темноты, разрастающегося из точки, противоположной Солнцу, словно пасть угольно-черного вселенского червя, разинутая, чтобы поглотить весь мир. По телевизору – да, сотни раз, в любом ракурсе, но по телевизору это выглядело, как дешевый спецэффект. А уж съемки со спутников, где было идеально видно, как «пасть» смыкается точно за Солнцем, за версту отдавали очередным чудом техники.
Я и не мог ничего видеть – в Перте в это время был день, – но из выпусков новостей мы узнали обо всем еще до заката. В сумерках мы с родителями стояли на балконе и ждали. Когда взошла Венера и я громко оповестил всех об этом, отец вспылил и отослал меня спать. Не помню точно, что именно я сказал – в то время я уже знал разницу между звездами и планетами. Должно быть, отпустил какую-нибудь детскую шутку. Помню, как я глядел на небо из окна своей спальни, через захватанное пальцами стекло и пыльную сетку от мух, и никак не мог удивиться тому, что ничего не видно. Позднее, когда мне удалось наконец без помех посмотреть на пустое небо, я прилежно старался испугаться, но тщетно. Это напоминало обыкновенную ночь, когда небо затянуто облаками, вот и все. Лишь через много лет я понял, какой ужас должны были испытывать тогда мои родители.
По всей планете в День Пузыря прокатилась волна беспорядков, но самое жестокое насилие творилось там, где люди видели событие своими глазами, а это зависело от сочетания двух факторов – подходящей долготы и хорошей погоды. От западной части Тихого океана до Бразилии стояла ночь, но большая часть обеих Америк была затянута облаками. Чистое небо было над Перу, Колумбией, Мексикой и Южной Калифорнией, поэтому Лима, Богота, Мехико и Лос-Анджелес пострадали примерно в равной степени. В Нью-Йорке в три одиннадцать ночи было чертовски холодно, небо обложили тучи, поэтому город практически остался в целости и сохранности. Бразилиа и Сан-Паулу спас только рассвет.
В нашей стране волнения были очень незначительны – даже на восточном побережье вечер наступил, когда все уже было кончено, и большинство австралийцев всю ночь просидели у телевизоров, наблюдая, как жгут и грабят другие. Конец света оказался настолько важен, что мог происходить только за границей. В Сиднее было зарегистрировано даже меньше смертей, чем в канун предыдущего Нового года.
Насколько я помню, нечто вроде разъяснения последовало немедленно вслед за самим событием – временной график распространения области затемнения по небосводу позволил очень быстро вычислить геометрию Пузыря. Должно быть, мне другого объяснения и не требовалось. Прошло почти шесть месяцев, прежде чем первые зонды достигли Пузыря, однако название к тому времени уже закрепилось навсегда.
Пузырь представляет собой идеальную сферу радиусом в двенадцать миллиардов километров (что примерно вдвое больше радиуса орбиты Плутона) и с центром в Солнце. Он возник мгновенно, сразу весь. Но благодаря тому, что Земля находилась примерно в восьми световых минутах от его центра, казалось, что в разных местах небосвода звезды гасли в разное время, что и дало эффект растущего круга тьмы. Звезды исчезли раньше всего в тех местах, где граница Пузыря была ближе к Земле, и позже всего там, где она была наиболее удалена, то есть как раз «позади» Солнца.
Пузырь является нематериальной поверхностью, которая во многих отношениях напоминает что-то вроде вогнутого горизонта событий черной дыры. Она полностью поглощает солнечный свет, а излучает еле заметный тепловой фон, куда более слабый, чем межзвездное микроволновое излучение (отныне нас не достигающее). На зондах, приближающихся к поверхности, наблюдается красное смещение, а также замедление времени, однако никаких гравитационных полей, которые могли бы вызвать эти эффекты, не регистрируется. Зонды, движущиеся по орбитам, выходящим за пределы Пузыря, по мере приближения к его поверхности все более замедляются (разумеется, в нашей системе отсчета) и почти перестают излучать. Большинство физиков полагают, что в своей собственной системе отсчета зонды быстро и беспрепятственно проходят сквозь Пузырь – но они также уверены и в том, что в нашей системе отсчета это происходит в бесконечно далеком будущем. Есть ли за этой границей какие-нибудь другие преграды, неизвестно. Даже если их нет, остается открытым еще один вопрос – что будет с астронавтом, который захочет отправиться в такое путешествие? Увидит ли он, выйдя за границу Пузыря, Вселенную такой, какой мы ее знали, или же подоспеет как раз к моменту ее исчезновения?
В отчетах об экспедициях зондов корреспонденты (которым до этого подсовывали теории, даже более безумные, чем реальность) обнаружили лишь одно знакомое им словосочетание – и немедленно оповестили публику, что Солнечная система «провалилась» в большую черную дыру. Это вызвало новый взрыв паники, но затем все встало на свои места. Ошибка была, в сущности, вполне объяснима – раз горизонт событий окружает нас, то мы должны быть внутри его. В действительности же все обстоит как раз наоборот – горизонт событий окружает не нас – он «окружает» все остальное.
Несмотря на то, что горстка теоретиков доблестно пыталась состряпать модель естественного и спонтанного возникновения Пузыря, всем было очевидно с самого начала, что Пузырь – это барьер, воздвигнутый некоей сверхцивилизацией между Солнечной системой и остальной частью Вселенной.
Но – зачем?
Вряд ли это было сделано, чтобы предотвратить нашу экспансию в Галактику. Ведь к 2034 году ни один человек не побывал дальше Марса, американская база на Луне закрылась шесть лет назад, проработав перед этим всего восемнадцать месяцев, а единственными космическими кораблями, покинувшими Солнечную систему, были зонды, запущенные к дальним планетам еще в конце двадцатого века, и они уползали все дальше и дальше от Солнца по своим уже никому не нужным орбитам. Планировавшаяся на 2050 год экспедиция автоматического корабля к Альфе Центавра была только что перенесена на 2069 год в надежде, что к столетию полета «Аполлона 11» будет легче выбить необходимое финансирование.
Впрочем, обжившая космос цивилизация могла действовать с дальним прицелом: изолировать человечество лет эдак за тысячу до того, как оно будет в состоянии покуситься на какое-либо подобие соперничества – что, безусловно, являлось бы вполне разумной мерой предосторожности. Однако сама мысль о том, что культура, способная непостижимым для нас образом перекраивать пространство-время, может нас же и опасаться, была смехотворна.
Может быть, создатели Пузыря были нашими благодетелями и спасли нас от несравненно худшей участи, чем быть навеки привязанными к ограниченной области пространства, в которой, при разумном подходе, можно безбедно прожить сотни миллионов лет. Например, если ядро Галактики взорвалось и Пузырь был единственно возможным экраном от излучения. Или, скажем, другие – злые – пришельцы в бешенстве рыскали поблизости, и только Пузырь мог удержать их на безопасном расстоянии. Менее драматических вариаций на эту тему было сколько угодно – Пузырь создали, чтобы защитить нашу хрупкую, примитивную культуру от суровых реалий межзвездной рыночной экономики, Солнечная система была объявлена Галактическим культурным заповедником и т. д.
Несколько занудных интеллектуалов-ригористов считали, что любое объяснение, так или иначе связывающее появление Пузыря с человечеством, скорее всего является антропоцентристской чепухой. Этих никогда не приглашали на популярные ток-шоу.
Напротив, большинство религиозных сект без всякого труда нашли в своей нелепой мифологии гладкие ответы на самые трудные вопросы. Фундаменталисты же нескольких главнейших религий просто отказались признать само существование Пузыря; все они заявляли, что исчезновение звезд есть грозное знамение свыше, предсказанное – с обыкновенными для пророков вольностями – в соответствующих священных писаниях.
Мои родители были убежденными атеистами, я получил светское образование, друзья детства были либо безразличны к религии, либо нахватались кое-каких обрывков буддизма от своих дедушек и бабушек – беженцев из Индокитая. Однако в англоязычной массовой информации господствовали взгляды христианских фундаменталистов, и именно этот бред окружал меня, пока я рос, вызывая мое глубочайшее презрение. «Звезды погасли!» – что же, в таком случае, предсказывал Апокалипсис, если не это? (Правда, в «Откровении» сказано: «Звезды небесные пали на Землю», но нельзя же все понимать слишком буквально.) Даже фанатики круглых дат календаря набрались нахальства заявить, что 2034-й вполне может, с учетом неточностей, вкравшихся в хроники, быть двухтысячелетней годовщиной – нет, не рождения, но смерти и воскресения Христа (к их досаде, в 2000 и 2001 году никаких вселенских катаклизмов не отмечалось). Пасха пятнадцатого ноября? На этот вопрос быстро состряпали несколько ответов, в том числе некую темную теорию «дрейфа еврейской Пасхи», но я никогда не был мазохистом настолько, чтобы пытаться вникать в такие вещи.
В сущности, настал Судный День, но в интерпретации некоей Торговой Палаты всех верующих в Писание. Телевидение работало, как и прежде; «начертание, или имя зверя, или число имени его» отнюдь не требовалось для того, чтобы покупать или продавать, не говоря уж о том, чтобы делать и принимать благотворительные взносы, не облагаемые налогом. Ведущие христианские церкви опубликовали заявления, в которых осторожно и весьма многословно проводилась мысль о том, что ученые, видимо, правы. Однако они быстро потеряли большинство своих прихожан, а на рынке, где торговали спасением за деньги, наступил бум.
Помимо ряда группировок, отколовшихся после появления Пузыря от основных мировых религий, возникли и тысячи абсолютно новых культов. Большинство из них пошли по надежному, проторенному еще пионерами двадцатого века пути религиозно-коммерческого предпринимательства. Однако пока процветали эти оппортунисты, сообщества истинных безумцев зрели, как гнойный нарыв. Чтобы заставить говорить о себе, Детям Бездны понадобилось двадцать лет, но после этого туда принимали уже только тех, кто родился «из Бездны», то есть в День Пузыря или позже. Они дебютировали в 2054 году, отравив водопровод маленького городка в штате Мэн, отчего погибло более трех тысяч человек. Сегодня они действуют в сорока семи странах и взяли на себя ответственность за гибель уже более ста тысяч человек. То, что изрекает Маркус Дюпре, их основатель и верховный пророк (сам заставляющий сбываться свои пророчества), представляет собой смесь бессвязного каббалистического бреда и эсхатологии на уровне комиксов, однако у тысяч людей мозги, видимо, покорежены именно так, чтобы считать каждое его слово исполненным глубокой истины.
Вначале, они занимались тем, что взрывали выбранные наугад здания – «ибо настала Эра Беспорядка», – и это было ужасно, но с тех пор как Дюпре и семнадцать других Детей были заключены в тюрьму, многие их последователи стали рассматривать борьбу за освобождение своего вождя как единственную цель в жизни. Благодаря этому усилия всей секты сконцентрировались на вполне осязаемой, хотя и вряд ли выполнимой задаче – и вот тогда начался настоящий кошмар. Ночами меня порой подолгу преследует одна навязчивая мысль. Конечно, я не хочу, чтобы его освободили. Но я очень жалею о том, что его вообще удалось поймать. Впрочем, какое значение могут иметь мои мысли.
Душевные болезни поражали не только сектантов. К услугам простых смертных появился «страх Пузыря» – истерическое, парализующее волю состояние, вызванное мыслями о вынужденном заточении в замкнутом пространстве, пусть и превосходящем Землю в восемь триллионов раз. Сейчас это выглядит почти смешно – как те воображаемые болезни, которыми страдали мнительные представители высшего общества в девятнадцатом веке, – но в первый год заболели миллионы людей. Болезнь свирепствовала почти во всех странах, и медицинские чиновники предсказывали, что это обойдется мировой экономике дороже СПИДа. Впрочем, через пять лет заболеваемость «страхом Пузыря» резко пошла вниз.
Все войны и революции в мире стали списывать на Пузырь, хоть я и не понимаю, как можно отделить его дестабилизирующее влияние от других факторов, таких, как бедность, задолженность, изменение климата, голод, загрязнение среды, а также религиозный фанатизм, которого было в избытке и до Пузыря. Я читал, что в первое время многие всерьез говорили о том, что цивилизация рассыплется как карточный домик и настанет новое средневековье. Эти разговоры скоро прекратились, но я до сих пор не могу для себя решить, надо ли удивляться тому, что культурный шок оказался таким слабым. С одной стороны, Пузырь изменил все – он однозначно показал, что существует иная разумная раса, способная сотворить то, что под силу, казалось бы, лишь Господу Богу; раса, которая поместила нас в тюрьму, причем без всяких предупреждений и объяснений, обманув наши надежды когда-нибудь покорить Вселенную. С другой стороны, Пузырь ничего не изменил – чуждая сверхцивилизация далеко, она никак себя не обнаруживает, а между тем солнце светит, травка растет, жизнь идет своим чередом, а планеты, которые остались в нашей досягаемости, нам осваивать еще добрую тысячу лет.
В начале пятидесятых все были почему-то уверены, что создатели Пузыря скоро вступят с нами в контакт и расскажут, в чем дело. На этой почве расцвели целые секты контакторов, интенсивность наблюдений НЛО превзошла все разумные границы, но проходили годы, пришельцы не объявлялись, и надежда получить четкие объяснения, зачем нас посадили в карантин, тихо и незаметно умерла.
Теперь меня уже не интересует, зачем был создан Пузырь. За тридцать три года пришлось выслушать такое количество напыщенного бреда на эту тему, что этот вопрос потерял для меня всякий смысл. Точно я знаю только одно – Пузырь убил мою жену, хотя и косвенно. Впрочем, косвенно в той же мере виноват и я сам.
Что касается звезд – мы не потеряли их, ибо никогда ими не владели; мы потеряли лишь иллюзию их близости.
* * *
Белла, как всегда, пунктуальна. Я загружаю полученные от нее списки в обширные буферы «Шифроклерка» в своей черепной коробке и уже собираюсь вывести их на настольный терминал, но в последний момент меня удерживает какой-то необъяснимый приступ осторожности. Я решаю пока оставить все как есть.
Сейчас только начало десятого, но я очень устал. Спать не хочется, но мысль о том, чтобы заняться перекапыванием Хильгеманновских архивов отвратительна.
Я вызываю «Невидимого труженика» (фирма «Аксон», 499 долларов) и даю ему указания. Во-первых, он должен проверить ассоциации, которые вызывает каждое имя из списков в моей естественной памяти, – не исключено, что ближайший родственник одного из тех, кого имело бы смысл похищать, окажется более или менее известной личностью. Во-вторых, он должен через общедоступную справочную систему получить информацию о финансовом положении каждого упомянутого в списках. Мелькает мысль потребовать, чтобы мне сообщалось о каждом случае, когда объем средств превосходит определенный порог, но я решаю, что это ни к чему – все равно я не знаю, каков должен быть этот порог. Проще рассортировать всех по уровню дохода после того, как поиск будет закончен. Я даю моду команду оповещать меня, только если встретятся имена известных мне людей.
Плюхнувшись на кровать, я включаю домашнюю аудиосистему. В последнее время я обычно слушаю «Рай» Анджелы Ренфилд. Моя копия записи идентична сотням тысяч других, но уникальность каждого исполнения гарантирована. Ренфилд создала набор основных музыкальных параметров произведения, а все остальное определяется сочетанием псевдослучайных функций, в зависимости от времени суток, серийного номера моего проигрывателя и т. п.
Кажется, сегодня мне попался вариант с излишним преобладанием минималистских тенденций. После нескольких минут повторения, с пятисекундным интервалом, одного и того же (впрочем, весьма звучного) аккорда я нажимаю кнопку «Рекомпозиция». Музыка прерывается, и после небольшой паузы звучит новая версия, на этот раз куда лучше.
Я слушал «Рай» уже сотни раз. Сначала казалось, что разные версии не имеют ничего общего друг с другом, но спустя месяцы я стал постигать неизменную, базовую структуру. Это напоминает генеалогическое древо или же филогенетическую классификацию видов. Впрочем, метафора неточна – два исполнения могут быть близки, как родные или двоюродные братья, но такого понятия, как их общий предок, не существует. В моем восприятии более простые варианты «предшествуют» более сложным и изощренным, «порождают» их, но наступает момент, когда эта аналогия теряет всякий смысл.
По мнению некоторых критиков, после десятка исполнений любой музыкально грамотный человек усвоит правила, по которым Ренфилд построила свое произведение, и тогда слушать новые варианты станет невыносимо скучно. Если так, я рад своему невежеству. Музыка, которая сейчас звучит, похожа на сверкающее лезвие скальпеля, слой за слоем снимающее пласты отмершей ткани. Нарастает звучание трубы, оно становится все пронзительнее и вдруг, с непостижимой легкостью, превращается в текучие звуки метаарф. Вступают флейты со своей цветистой, манерной темой, а мне кажется, что я уже различаю под ее аляповатыми украшениями простую и совершенную мелодию, которая будет возникать вновь и вновь в сотнях неповторимых обличий, чтобы в конце концов, явившись во всей своей восхитительной красоте, со стоном вонзиться серебряной иглой в мое сердце.
Внезапно в нижней части поля моего зрения загораются четыре строки сообщения:
<Невидимый труженик:
Ассоциация в естественной памяти:
Кэйси, Джозеф Патрик.
Начальник службы безопасности (на 12 июня 2066 года.)> Я совсем забыл, что заказал сведения и о сотрудниках тоже – иначе я исключил бы их из области поиска. Я колеблюсь, не дослушать ли музыку, но в душе понимаю, что уже не смогу на ней сосредоточиться. Я нажимаю на «СТОП», и еще одно неповторимое воплощение «Рая» исчезает навсегда.
* * *
Кэйси старше меня на пять лет, поэтому его уход в отставку вскоре после меня не выглядел слишком преждевременным. Он сидит в углу переполненного бара, пьет пиво, и я присоединяюсь к нему, чтобы разделить этот ритуал. Довольно странное времяпрепровождение, если учесть, что ни капли алкоголя не попадает ни в его, ни в мою кровь – моды определяют количество выпитого и генерируют в нейронах точно рассчитанное иллюзорное опьянение взамен слишком токсичного настоящего. А с другой стороны, ничего удивительного – ведь этот обычай пришел из глубины тысячелетий, и как же теперь от него откажешься?
– Давно ты у нас не появлялся, Ник. Где пропадал-то?
«У нас?» Я не сразу понимаю, что он имеет в виду не себя и свою жену, которой здесь нет, а вот этот бар, полный действующих и отставных полицейских, «сообщество бойцов правопорядка», как сказали бы политики, словно нейронные и физические модификации, которые есть у всех нас, выделяют нас в некую демографическую общность, подобную китайской, греческой или итальянской диаспоре. Оглядев комнату, я с облегчением вижу, что знакомых почти нет.
– Да сам понимаешь...
– Как работа?
– На жизнь хватает. А ты, я слышал, ушел из «Реа-Корп»? Почему?
– Их же купила «МП».
– А, помню-помню. Сразу прошли массовые увольнения.
– Мне еще повезло – нашлись связи, и меня просто перевели на другую работу. А были люди, которые по тридцать лет проработали на «Реа-Корп», и их выкинули на свалку.
– Ну и как там, у Хильгеманна?
Он смеется:
– А ты как думаешь? Если уж кто попадает в такое место, при таких-то модах, какие сейчас есть, и всем прочем, значит, это чурка чуркой. Проблем с охраной вообще нет.
– Нет? А как же Лаура Эндрюс?
– А, так ты влез в это дело? – вежливо удивляется он. Доктор Чень, конечно же, поручила ему собрать все сведения обо мне еще до нашей с ней встречи.
– Ага.
– Кто клиент?
– А ты как думаешь?
– Хрен его знает. Но только не сестра – на нее сейчас работает Винтере. Причем имей в виду, Винтере не ставили задачу найти Лауру, ей поставили задачу облить меня дерьмом. Так что эта стерва небось день и ночь сидит на компьютере и лепит на меня улики.
– Скорее всего.
Итак, мой клиент – не сестра. Но тогда кто? Родственники другого пациента, которые уверены, что если бы похититель работал грамотно, то они сейчас уже выплачивали бы ему выкуп, и которые не хотят допустить второй, успешной попытки?
– Вообще веселая история, да? Ты помнишь тот случай, как один парень подал в суд на сиднейский «Хилтон», когда его дочку выкрали прямо из номера? Его же буквально в порошок стерли. Вот и здесь будет то же самое.
– Может быть, и так.
Он кисло улыбается:
– А тебе один черт, что так, что этак, верно?
– Именно. И тебе советую так же на это смотреть. «МП» тебя не выгонит, даже если проиграет дело. Они же не дураки, они выделяют на охрану ровно столько, сколько надо, чтобы пациенты не разбежались. А сколько стоит настоящая охрана, такая, как у них в тюрьмах, например, они тоже знают.
После короткого колебания он говорит:
– Значит, чтобы не разбежались, да? А ты знаешь, что Лаура Эндрюс уже дважды до этого убегала? – Он бросает на меня свирепый взгляд. – Но учти, если это дойдет до ее сестры, я тебе голову оторву.
Скептически улыбаясь, я жду, пытаясь понять, в чем соль шутки. Он мрачно смотрит на меня и молчит. Я говорю:
– Что ты имеешь в виду? Как это она убегала?
– Как? А хрен ее знает, как! Если бы я знал как, то я бы, наверное, не дал ей еще раз убежать, правда?
– Погоди. Мне сказали, что она даже дверную ручку сама не могла повернуть.
– Ну правильно, врачи так и говорят. Никто никогда не видел, чтобы она поворачивала дверную ручку. Да все вообще считали, что у нее ума не больше, чем у таракана. Но если такой человек может три раза подряд пройти через все эти двери, датчики движения, видеокамеры, то значит, он не совсем такой, каким кажется, верно?
Я фыркаю:
– К чему ты клонишь? Ты считаешь, она прикидывалась абсолютной идиоткой в течение тридцати лет? Она ведь даже говорить не научилась! Или она начала притворяться, когда ей исполнился годик?
Он пожимает плечами:
– Кто знает, что было тридцать лет назад? В истории болезни написано одно, а как было на самом деле, лично я не видел. Я видел то, что она делала последние восемнадцать месяцев. Вот ты мне и скажи, как такое может быть?
– Может, она гениальный идиот? Или идиот-эскейпист? – Кэйси театрально возводит глаза к небу. – Ну ладно. Не знаю. Кстати, как это происходило в первые два раза? Далеко она успела уйти?
– В первый раз только вышла на территорию. Во второй прошла километра два. Когда мы ее нашли, она просто брела куда глаза глядят, со своим обычным тупым, невинным видом. Я хотел поставить видеокамеру к ней в комнату, но оказалось, что это запрещено какой-то конвенцией ООН о правах душевнобольных. После истории с техасской тюрьмой «МП» к таким вещам относится ох как осторожно. – Он смеется. – А как я мог доказать, что мне нужно дополнительное оборудование? Все пациенты абсолютно беспомощны. В каждой комнате одна дверь и одно окно, все двадцать четыре часа в сутки они под наблюдением – зачем что-то еще? Пойми, я же не мог пойти к нашему проклятому директору и сказать: если ты такой умный, объясни, как она выходит из комнаты и как ее остановить.
Я качаю головой:
– Она сама никуда бы не вышла. Все три раза кто-то ей помогал.
– Серьезно? А кто? И зачем? И что в таком случае означают эти первые два раза – тренировка, что ли?
Я нерешительно говорю:
– Дезинформация? Кто-то пытался вас убедить, что она способна самостоятельно выйти из здания, чтобы потом, когда ее действительно похитят, вы подумали, что...
Кэйси корчит гримасу, как от зубной боли. Я говорю:
– Да, пожалуй, это чепуха. Но я не могу поверить, что она просто взяла и ушла оттуда в одиночку.
* * *
Я долго не могу заснуть. «Босс» («Человеческое достоинство», 999 долларов) позволяет засыпать по желанию, но моя бессонница сумела уцелеть. Всегда находится еще какая-нибудь проблема, которую надо обдумать, прежде чем принять решение спать. Вот и получается, что меня терзают, прогоняя сон, те же неотвязные вопросы, что и раньше.
А может быть, у меня начинается так называемая летаргия Зенона. В наше время очень многие стороны человеческой жизни сведены к тому, чтобы просто сделать выбор, и от этого мозги иногда начинают буксовать. В наше время так многое можно получить, просто захотев это получить, что люди выстраивают в сознании все новые слои, чтобы оградить себя от непомерного могущества и непомерной свободы. Человек отступает все дальше от предмета своих желаний в бесконечных попытках захотеть решить, какого же черта он все-таки на самом деле хочет.
В данный момент я хочу одного – раскрыть дело Эндрюс, но в моей голове нет мода, который мог бы это сделать за меня.
«Карен» говорит:
– Хорошо. Значит, ты не представляешь, зачем была похищена Лаура. Отлично. Придерживайся фактов. Куда бы ее ни увезли, кто-нибудь должен был ее видеть по дороге. Забудь о мотивах и просто постарайся выяснить, где она находится.
Я киваю:
– Ты права. Как всегда. Я дам объявление в электронную систему новостей, и...
– Сделай это завтра же утром. Я смеюсь:
– Ладно, согласен. Утром.
Чувствуя рядом ее знакомое тепло, я закрываю глаза.
– Ник.
– Да?
Она легонько целует меня:
– Я хочу тебе присниться. Она снится мне.
Глава 2
Аллилуйя! Я вижу! Вижу звезды!!!
Вздрогнув, я оглядываюсь и вижу молодую женщину, которая стоит на коленях посреди забитой людьми и машинами улицы. Руки ее широко раскинуты в стороны, зачарованный взгляд устремлен в ослепительно-синее небо. На мгновение она замирает, словно оцепенев в экстазе, но затем опять принимается выкрикивать: «Вижу их! Я вижу!», колотя себя кулаками по ребрам, раскачиваясь взад и вперед на коленях, всхлипывая и задыхаясь.
Но ведь этот культ уже двадцать лет как бесследно исчез.
Женщина визжит и извивается. Рядом стоят двое ее друзей, они явно смущены. Машины, не останавливаясь, плавно объезжают всю группу. С нарастающим смятением я наблюдаю за этой сценой, воскресившей в памяти детские воспоминания о бесноватых либо напыщенных уличных мистиках.
– Все прекрасные звезды! Все знаменитые созвездия! Скорпион! Весы! Центавр! – Слезы струятся по ее лицу.
Усилием воли я подавляю приступ паники, смешанной с отвращением. Таких, как она, больше нет – вот почему и собралась такая толпа зевак, это редчайшее зрелище: большинство людей давно адаптировались, смирились с существованием Пузыря и живут, как прежде. Чего я испугался? Того, что даже самые нелепые культы, самые причудливые массовые психозы и истерии, связанные с Пузырем, на самом деле никуда не исчезают и обречены время от времени возрождаться?
Когда я отворачиваюсь, то слышу, что спутники женщины вдруг разражаются хохотом. Через мгновение она присоединяется к ним – и только тут я, кажется, догадываюсь, в чем дело. «Астральная Сфера» снова пользуется популярностью, вот и все. Планетарий в черепной коробке. Не прозрение, а обыкновенная игрушка. Я читал об этом моде, с его помощью можно видеть звездное небо в различных вариантах: во-первых, в точности как «настоящее», с учетом суточного и сезонного движения небесной сферы, наличия зданий и облаков, причем звезды появляются вечером и гаснут утром; во-вторых, пользователь может сделать невидимыми все препятствия, включая дневной свет, атмосферу и даже Землю у себя под ногами; наконец, можно перемещать точку наблюдения во времени на тысячу лет вперед или назад, а также в пространстве – в пределах радиуса Галактики.
Все трое юнцов теперь бросаются друг к другу в объятия, продолжая хохотать. Они не возрождают забытый культ, а насмехаются над ним – должно быть, увидели где-нибудь старые хроники и решили позабавиться. Шагая дальше, я немного досадую на свою глупость, но зато испытываю большое облегчение.
Войдя в дом, я медленно поднимаюсь по лестнице, желая отсрочить неприятный, момент, когда я вновь увижу пустое табло на дисплее – за те четыре дня, что мои объявления крутятся во всех основных системах новостей, никто ни разу не позвонил, даже в шутку. И это несмотря на новогодние праздники, когда людям нечем заняться и они от скуки начинают читать объявления. Может быть, десять тысяч долларов слишком скромное вознаграждение, но я не уверен, что мой клиент согласился бы его удвоить. Нельзя сказать, впрочем, что я сколько-нибудь преуспел в выяснении того, кто же все-таки мой клиент. В списке пациентов Хильгеманна нет таких, кто имел бы отношение к семьям известных богачей или других знаменитостей, – и теперь я понимаю, что иначе и быть не могло. Люди просто богатые, уж конечно, заранее позаботились о том, чтобы тщательно скорректировать все документы, а люди, богатые до неприличия, должно быть, держат слабоумных родственников в потайных комнатах своих неприступных особняков – от греха подальше. Хочется копнуть поглубже, но я не стану этого делать. Потребность включить моего таинственного клиента в общую картину пока что носит чисто эстетический характер – я не вижу, каким образом это поможет мне отыскать Лауру.
Ни одного звонка.
Я удерживаюсь, чтобы не шарахнуть кулаком по дивану – обивка уже потрескалась настолько, что такие удары приносят все меньше удовлетворения. Пора решать, оставлять ли объявление еще на день. Я вызываю его на терминал и мрачно гляжу на экран, пытаясь понять, что нужно сделать, чтобы привлечь к нему больше внимания; варианты типа «дописать один-два нуля к сумме вознаграждения» не рассматриваются. Фотография Лауры взята прямо из истории болезни; почти такая же хранится и в моем мозгу – по-видимому, клиент воспользовался тем же источником. У нее своеобразное лицо, но кто знает, как она выглядит сейчас? Не нужна даже пластическая операция, достаточно хорошей маски из синтетической кожи.
Я продлеваю объявление еще на день, хоть и не вижу в этом большого смысла. Если Лауру взяли по ошибке, она давно уже мертва, и мне вряд ли удастся найти даже ее тело, не говоря уж о похитителях. В сущности, моя единственная надежда на успех в том, что люди, похитившие Лауру, сделали это ради чего-то такого, что могло заставить их пойти на куда больший риск, чем просто убить ее или где-нибудь спрятать.
Например, им могло понадобиться тайно вывезти ее из страны.
Провести ее в самолет не составило бы большого труда. Ее дебильность почти так же легко скрыть, как и ее лицо – существуют десятки нелегальных модов, которые превратили бы ее в ходячую марионетку своего спутника или даже в полуавтономного «робота», способного выполнять простейшие задачи, например, плакать и смеяться в нужных местах фильма, который показывают в полете.
Ничего особенного нет и в том, чтобы подделать запись о выдаче выездной визы в компьютере Министерства иностранных дел. Через час-два эту запись придется стереть, как и соответствующие записи в файлах авиакомпании. Сотни хакеров круглосуточно дурачат МИД, таможню и авиакомпании, но, что самое забавное, именно это и позволяет, если повезет, выследить нелегального пассажира. Хакеры могут обвести вокруг пальца устаревшие системы защиты, но скрыть свои действия друг от друга они не в состоянии. В процессе сбора данных, необходимых им для своих целей, они неизбежно получают информацию о взломщиках, действующих одновременно с ними. А эту информацию, как и любую другую, можно продать.
Белла не только сама добывает для меня кое-какие данные, но выполняет и роль посредника. Я звоню ей и делаю заказ. Окажутся ли громадные массивы необработанных данных полезными для меня – дело случая; чем больше я их куплю, тем больше вероятность успеха. Однако гарантии успеха тут быть не может, ведь событие, которое меня интересует, могло произойти (если оно вообще произошло!) в любом аэропорту в любое время в течение последних пяти недель.
Найти поддельные выездные визы легко – их выдает сам факт того, что они стерты, дабы избежать, пусть и вялого, официального контроля. Такие пробелы легко обнаружить в любом временном ряду записей в базу данных (вот только сам ряд надо предварительно украсть). Труднее выявить в этой толпе Лауру – за неделю в стране происходит не менее сотни нелегальных выездов. Хильгеманн предоставил мне ее ДНК-сигнатуры, отпечатки пальцев, узоры сетчатки и скелетные измерения. Таможня не использует тесты ДНК (массовая проверка ДНК у пассажиров связана с большими юридическими и социальными сложностями), но остальные три параметра всегда проверяются перед посадкой в самолет. Впрочем, после этого в фальшивой визе эти параметры обычно изменяют, специально для того, чтобы сбить с толку таких, как я. Хотя сама запись о регистрации визы должна оставаться в компьютере в течение всего времени полета (чтобы не сработали тесты, которые непрерывно ведут все авиакомпании для защиты от террористов), данные биологической идентификации проверяются еще только один раз – когда пассажир проходит таможню в пункте назначения. Поэтому только в течение двух небольших отрезков времени запись биологических параметров должна соответствовать действительности. Теоретически эти отрезки времени могут быть сокращены до нескольких миллисекунд, но в жизни невозможно рассчитать все с такой точностью, и на практике они составляют несколько минут. Отпечатки пальцев и сетчатку легко изменить с помощью микрохирургии, так что надеяться можно только на измерения длин костей. В случае крайней необходимости их тоже можно изменить, но никакой мод не поможет вам войти в самолет на следующий день после такой операции. Путешествовать же в качестве инвалида – все равно что повесить на шею табличку со своим настоящим именем.
Я лениво листаю гигабайты мусора, просматриваю рейс за рейсом, все, что записано в компьютеры десяти международных аэропортов страны – меню, карты размещения пассажиров, даже декларации багажа. Лауру, конечно, могли послать и багажом, но это было бы не слишком мудрое решение. Весь груз либо просвечивается рентгеном, либо вскрывается и досматривается персоналом, так что единственный вид груза, который пригоден для такой затеи, – труп. Собственно, имитировать труп не так уж сложно: препараты, отключающие обмен веществ на пару часов, без вреда для мозга и внутренних органов, известны уже несколько десятков лет. Хуже другое – при таком методе слишком высокое отношение сигнал/шум, ведь живых пассажиров-нелегалов великое множество, а трупов из страны вывозится не более одного-двух в неделю.
Однако ничего лучшего в голову не приходит, я просматриваю все собранные списки отправленного багажа и обнаруживаю в них семь упоминаний об отправке умерших.
Обычное рентгеновское просвечивание, которому подвергаются все пассажиры, дает информацию для их последующей идентификации по скелетным измерениям. Для трупов идентификация не производится; как и для обычного багажа, сделанные рентгеновские снимки (стереоскопическая пара) просматриваются визуально, а затем записываются в декларацию. Полчаса уходит у меня на то, чтобы добыть алгоритмы, которые используют в аэропортах для расчета длины костей. Эти алгоритмы зашиты в компьютеры рентгеновских аппаратов, и поэтому их нет в дампах памяти, которые украла для меня Белла. Самому писать такой алгоритм уж очень не хочется: вычисление длин костей по стереопаре – задача тривиальная, а вот автоматическая идентификация костей куда сложнее.
Я пропускаю через эту программу снимки всех семи трупов, сопоставляю их скелетные измерения с параметрами Лауры – и получаю семь отрицательных ответов. И почему-то именно тут меня осеняет, что есть серьезная причина, которая могла заставить похитителей вывезти Лауру из страны как раз под видом трупа. Ведь в ее мозгу не было некоторых важнейших нейронных структур, а без этих структур стандартные марионеточные моды могли и не сработать. Несомненно, эту проблему можно решить, но картирование необычного мозга Лауры и соответствующее перепрограммирование наномашин потребовали бы значительного времени. Проще было попытаться использовать другие возможности.
Отрицательные результаты моих тестов еще ни о чем не говорят. Рентгеновские снимки могли быть подправлены через несколько минут после их записи в декларацию. Информация в компьютере вещь такая же эфемерная, как квантовый вакуум, все время то здесь, то там возникают и исчезают виртуальные пары «правда-ложь». Если речь идет о кратком промежутке времени, можно безнаказанно подделать все что угодно. В поле зрения закона попадает только то, что сидит неподвижно.
Я бегло просматриваю программу анализа рентгеновских снимков, пытаясь разобраться, как она работает. Алгоритм распознавания деталей анатомического строения состоит из нескончаемого списка правил и исключений, за которым следуют несколько строчек формул. У меня мелькает неприятное подозрение, что применять эту программу к обработке снимков багажа нельзя, так как она может быть жестко привязана к геометрии стоящего на ногах человека – в этом случае все мои вычисления ничего не стоят. Оказывается, однако, что это не так – программа ничего не принимает на веру и хранит вместе со снимком все необходимые параметры, аккуратно пометив их стандартными описателями.
Когда длины костей вычислены, они сопоставляются с набором длин, записанных в документах. При этом допускаются небольшие несовпадения за счет возрастных изменений с момента выдачи визы. Самый большой допуск, разумеется, для детей и юношества, а в возрасте Лауры он минимален. Не попробовать ли увеличить этот допуск? Таможня предпочитает перестраховаться, но у меня сейчас совсем другая задача.
Внезапно осознав всю глупость подобных спекуляций, я подскакиваю на месте от досады. Какой же я дурак, ведь я все время рассуждаю о трупе так, как если бы речь шла об обычном пассажире. А ведь поддельный труп может быть искалечен до такой степени, что все костные измерения становятся бессмысленными. Значит, среди длин костей нет ни единой цифры, которой можно доверять.
Впрочем, так ли это? Можно сильно изменить длины почти всех костей (при условии, что предстоит достаточно долгий восстановительный период), но есть некоторые части черепа, с которыми нельзя так вольно обращаться – это и слишком опасно, и слишком бросается в глаза.
Я снова запускаю программу, оставив в ней сравнение только этих частей черепа. На этот раз ответ следует мгновенно:
Номер груза: 184309547
Рейс: КАНТАС 295
Вылет: Перт, 13:06, 23 декабря 2067
Прилет: Нью-Гонконг, 14:22, 23 декабря 2067
Состав груза: Останки человека (Хань Сю Лиен)
Отправитель: Генконсульство Нью-Гонконга 16, Сен-Джордж Террэйс
Перт 6000-0030016
Австралия
Адресат: Похоронное бюро Ван Чей
132 Ли-Тунь-стрит
Ван Чей 1135-0940132
Нью-Гонконг
Совпадение на основе пяти черепных измерений может быть случайным. Оно может быть и намеренной дезинформацией. Почему похитители не изменили рентгеновские снимки, чтобы не оставить даже малейшей лазейки для правды?
Я смотрю, в какое время был сделан этот дамп памяти. 12:53. Груз был на рентгене всего две-три минуты назад, поэтому изменять данные было еще слишком рискованно – таможенник мог как раз в этот момент просматривать снимок. Десятью минутами позже в компьютере не осталось бы уже никаких следов Лауры Эндрюс.
Я качаю головой – все это очень подозрительно, такое везение случается крайне редко.
«Карен» наклоняется через мое плечо и говорит:
– А иначе это не было бы везением, тупица. Ну-ка собирайся, живо.
* * *
Нью-Гонконг был основан первого января 2029 года. За восемнадцать месяцев до этого, в тридцатую годовщину включения Гонконга в состав Китайской Народной Республики, состоялись массовые демонстрации против приостановки действия Основного Закона. Демонстрации были жестоко разогнаны, прошла волна репрессий против диссидентов. Сразу же началась массовая нелегальная эмиграция. В тех странах, куда удавалось попасть эмигрантам, их, как правило, ждала безрадостная перспектива провести полжизни за колючей проволокой в убогом лагере для беженцев. И только одна страна, Конфедерация племен Арнемленда, отнеслась к ним иначе. Беженцам выделили территорию в две тысячи квадратных километров на полуострове в северной Австралии, покрытую зарослями мангровых деревьев, – на этот раз не в аренду на девяносто девять лет, а навечно, но с условием активного освоения территории своими силами.
Арнемленд, где остатки полудюжины аборигенных австралийских племен пытались возродить свою почти утраченную культуру, сам получил независимость лишь в 2026 году. В Австралии сразу же начались разговоры об отмене программ помощи, которые только и удерживали новое государство на плаву. Отчасти эти разговоры были реакцией на угрозы Китая ввести торговые санкции, но в основном за ними стояла чисто детская обида на то, что нация беженцев посмела отнестись к идее новой автономии серьезно. (Вершиной государственной мудрости самого австралийского правительства в этом вопросе стал план, по которому шестьдесят тысяч беженцев должны были разместиться в бывшей колонии прокаженных на северо-западном побережье, с тем чтобы впоследствии в течение многих десятилетий расселяться по другим странам с «политически приемлемой скоростью».) В конце концов программы помощи были сохранены, но проект в целом усиленно высмеивался австралийскими средствами массовой информации и прикормленными ими экономистами. Его называли не иначе как «сдача нации в поднаем» и предсказывали социальную и экономическую катастрофу.
Международные инвесторы придерживались иного мнения – в регион потекли деньги. Это была не гуманитарная помощь, а прямое следствие экономической ситуации в мире. Корейцы, например, были больше других озабочены тем, во что вложить свои избыточные капиталы. Проект создания на пустом месте инфраструктуры города-государства на первый взгляд мог внушить ужас, но это было обманчивое впечатление – ведь поблизости были бурно развивающиеся индустриальные центры Юго-Восточной Азии с их научно-техническим потенциалом и незагруженными производственными мощностями. Новейшие строительные технологии заработали на полную мощность, и через семь лет центральная часть города была создана и заселена. Как раз вовремя – в 2036 году КНР вторглась на Тайвань, откуда хлынула новая волна беженцев.
В последующие десятилетия в Пекине один за другим следовали циклы политических и экономических реформ, и в результате каждого из этих циклов страну покидали все новые волны эмигрантов, состоявшие из разочарованных представителей квалифицированного среднего класса. Было только одно место, куда они могли уехать. В то время как Китай все более обессилевал и замыкался в изоляции, Нью-Гонконг процветал, и к 2056 году обогнал Австралию по ВНП.
* * *
Самолет, летящий вдвое быстрее звука, преодолевает три тысячи километров за час с небольшим. Я сижу далеко от окна, но, переключив свой развлекательный экран на внешний обзор, могу наблюдать, как внизу проносится пустыня. Я снимаю наушники, чтобы отделаться от назойливого комментария, но отключить титры на экране не удается. Тогда я сдаюсь и заказываю «Боссу» сон до момента посадки.
Когда самолет касается полосы, по ней текут потоки муссонного дождя, но через пять минут я выхожу из аэропорта навстречу ослепительному солнцу и влажной жаре. После искусственной двадцатиградусной прохлады горячий влажный воздух словно облепляет лицо.
К северу, между небоскребами, виднеются портовые краны, на востоке голубым пятном – залив Карпентария. Вход в метро совсем рядом, но раз дождь кончился, я решаю пройтись до отеля пешком. Я первый раз в НГ, но в голове у меня «Дежа Вю» («Лики мира», 750 долларов) с новейшей картой улиц и информационным блоком.
Глянцево-черные башни, построенные в период основания города, перемежаются со зданиями в современном стиле: фасады, украшенные фальшивым золотом и самоцветами, резные фрактальные рельефы с множеством разномасштабных узоров. На крыше каждого здания гигантская эмблема какой-нибудь крупной финансовой или информационной компании. Мне всегда казалось абсурдным, что деньги или информация лучше чувствуют себя под одним флагом, чем под другим, но законы меняются медленно, и здешние либеральные порядки побудили сотни транснациональных корпораций перевести свои штаб-квартиры под юрисдикцию НГ – но лишь в ожидании того дня, когда они смогут существовать бестелесно, в виде потоков не облагаемых налогами данных, мечущихся между орбитальными суперкомпьютерами.
С улицы башни почти не видны, скрытые порослью мелких магазинов. В воздухе полно ярких голограмм, на бай-гуа и английском зазывающих войти в какую-нибудь обозначенную пунктиром сверкающих стрелок крошечную дверь, которую иначе очень трудно было бы заметить. Процессоры, нейронные моды, развлекательные кассеты продаются рядом с завалами дешевой бижутерии, приготовляемой тут же едой и нанотехнической косметикой.
Публика на улицах выглядит преуспевающей – служащие, торговцы, студенты, множество туристов очень приличного вида. Большинство туристов с севера не хотят забираться южнее двадцати градусов от экватора – им нужен зимний загар, а не меланома. Химикаты, разрушающие озон, исчезли уже десятки лет назад, но стратосферные повреждения еще не затянулись, и каждую весну над Антарктикой расплывается «дыра», переворачивающая с ног на голову факторы риска – солнечный свет становится куда опаснее в южной умеренной зоне, чем в тропиках. Так что мне придется расстаться со своим провинциальным предубеждением жителя ультрафиолетового пояса против людей с белой кожей и не видеть в каждом из них религиозного фанатика или помешанного борца за чистоту генов. Немногие из тех, кто родился здесь или в старом Гонконге, нарастили себе защитный меланиновый слой, но чернокожих «южан» – родившихся в Австралии иммигрантов – все-таки много как европейской, так и азиатской внешности, поэтому я не выгляжу здесь подозрительным иностранцем.
Отель «Ренессанс» был самым дешевым из тех, что мне удалось найти, но и он обескураживающе роскошен, повсюду красные и золотые ковры, на стенах гигантские росписи по наброскам Леонардо да Винчи. Дешевого жилья в НГ нет, любители побродить с рюкзаком и без гроша в кармане просто не получают въездных виз. Мне не нравится, что служители несут мой багаж, но отказываться еще противнее. Несколько чинных объявлений на стенах призывают не давать чаевых, но «Дежа Вю» с ними не согласна и сообщает мне текущие расценки.
Комната у меня небольшая, в ней я чувствую себя уже не столь безумно расточительным. Окно выходит на стену здания «Аксона», на фасаде которого названия наиболее популярных нейронных модов, многократно повторенные на дюжине языков, образуют изящный абстрактный геометрический узор. Буквы, вырезанные в материале, имитирующем черный мрамор, почти не привлекают внимания, но возможно, что так и задумано – ведь «Аксон» вырос из небольшой компании, занимавшейся распространением «подсознательных обучающих систем» – аудио– и видеокассет с записью неслышимых и невидимых сообщений, проникающих, как утверждалось, прямо в подсознание. Подобно другим шарлатанским выдумкам тех времен, служившим якобы для самосовершенствования, а на деле бывшим не более чем плацебо для легковерных и источником сверхприбыли для изготовителей, эти кассеты сыграли важную роль – подготовили рынок для будущей технологии, которая действительно работала.
Я распаковываю чемодан, бреюсь, запоздало перевожу все часы у меня в голове на полтора часа вперед, затем сажусь на кровать и начинаю размышлять, как же найти Лауру в двенадцатимиллионном городе.
Из объявления о похоронах явствует, что тело Хань Сю Лиен было кремировано 24 декабря, и я не сомневаюсь, что тело, которое было отправлено в печь, было точно таким же, как у Хань Сю Лиен, не считая той детали, что настоящая Хань Сю Лиен вряд ли вообще покидала Перт. Наверное, подмена трупов была проведена с большой ловкостью, но мне от этого толку мало. Если я попытаюсь поговорить с кем-нибудь в похоронном бюро, то могу спугнуть похитителей. То же самое касается и багажной службы аэропорта. Люди, которые могут знать что-нибудь полезное, скорее всего сами участвовали в подмене.
Что же отсюда следует? Я по-прежнему ничего не знаю ни о самих похитителях, ни об их мотивах, ни об их планах. Я сузил географическое поле поиска, но опять стою на первой клетке. Единственная зацепка, которая у меня есть, – сама Лаура, неподвижная, лишенная интеллекта. Это все равно что разыскивать неодушевленный предмет.
Но ведь это не так! Она – человеческое существо, которое сейчас находится в периоде выздоровления после операции на костях. Выздоровление предполагает – что? Квалифицированный сестринский уход, физиотерапию – если допустить, что ее похитителям не безразлично, останется ли она калекой. Разумеется, лекарства – если уж ее решили оставить в живых, то придется заботиться о ее здоровье. Но какие именно лекарства, какое именно лечение ей нужно? Представления не имею. Есть смысл все это выяснить.
Когда надо раскопать какие-нибудь общедоступные сведения, я всегда обращаюсь к доктору Панглоссу. Белла крадет для меня информацию, считающуюся секретной, а доктор добывает то, что, по идее, доступно каждому за пару долларов. Его маска, в напудренном парике и с мушкой на щеке, напоминает мне скорее Мольера, чем Вольтера, говорит он на чистейшем английском, а необходимые данные он ищет не больше тридцати секунд – по обычным каналам это заняло бы часы.
Я узнаю, что такому пациенту, как Лаура, необходимо получать несколько различных препаратов по нескольким различным показаниям. Каждый препарат выпускается под несколькими коммерческими названиями несколькими местными компаниями. Панглосс наглядно демонстрирует мне все это в виде дерева возможных вариантов, затем посылает копию диаграммы по каналу передачи данных.
Я звоню Белле, передаю ей список фармацевтических фирм и прошу достать запись всех выполненных ими за последние три недели заказов.
– Пять часов, – говорит она. – Твой пароль – «Ноктюрн».
Пять часов. Я провожу десять минут, глазея в окно, затем начинаю думать, что полезного можно было бы сделать за оставшееся время. В голову не приходит ничего интересного, и я решаю поесть.
* * *
На первом этаже отеля есть ресторан, но очень душный и дорогой, и я решаю поискать что-нибудь попроще на улице. В НГ сложилась своеобразная кухня – на основе кантонской, но с множеством местных изысков, таких как мясо крокодила из Арнемленда – «Дежа Вю» утверждает, что это нечто изумительное, если только вас не смущает косвенный каннибализм. Взвесив разные варианты, я останавливаюсь на жареном рисе.
Надо убить еще несколько часов, и я бесцельно бреду по городу. Я пытаюсь Заставить себя думать о работе, но меня уже тошнит от бесконечного повторения одних и тех же мыслей об одних и тех же фактах. Час пик – толпа стискивает меня со всех сторон, много напряженных, озабоченных лиц, от этого я обычно тоже становлюсь напряженным и озабоченным, но сейчас этого не происходит, как будто я еще не настроен в унисон с этим городом и его настроение никак не влияет на мое.
В тени башни «Пан Пасифик Бэнк» настоящие сумерки – это стоэтажный цилиндр в футляре из ржавого золота. «Дежа Вю» выдает отрывок из путеводителя:
– Самая знаменитая и самая противоречивая работа Сю Чао Чуня завершена в 2063. Напоминающая металл оболочка на самом деле полимерное покрытие. Фрактальная размерность поверхности 2.7, что является непревзойденным достижением...
Пояснения даются в более абстрактной, чем слуховая галлюцинация, форме: кажется, словно без всяких усилий вспоминаешь какой-то документальный фильм. Хитрость в том, что одновременно подкачивается определенный подтекст: ощущение все более глубокого знакомства с городом, чувство, что каждая из этих разжеванных тривиальностей несет в себе глубокое и очень личное знание, открытое далеко не всем даже из тех, кто здесь родился. Именно такого ощущения подсознательно ожидает каждый турист. Когда солнце и в самом деле заходит, небо быстро темнеет. Рядом со мной идет «Карен». Она не говорит ни слова, но мне достаточно только видеть ее краем глаза, вдыхать слабый аромат ее кожи, и чувство одиночества становится не таким острым.
Мы оказываемся на открытом рынке, среди бесконечных стоек и прилавков, уставленных сувенирами, безделушками и всяким техническим барахлом. Сталкивающиеся многоцветные лучи от теснящихся над головой голограмм, подобных болтливым привидениям, окрашивают все вокруг в странные тона.
– Может, купим интеллектуальный делатель салатов? Он же «работает быстрее и лучше любого человека с поварским модом»!
Она качает головой.
– А вот это? Заменитель ключей. «Запоминает и имитирует геометрические, электрические, магнитные и оптические свойства до тысячи различных ключей, активных или пассивных»?
– По-моему, не стоит.
– Послушай, нам обязательно надо хоть что-то купить, это указано в счете отеля. Если я ничего не куплю, меня сюда больше не пустят – компьютер Торговой Палаты наложит вето на мою визу.
– Может быть, гороскоп? – Она кивает на ближайшую будку астролога.
Эта идея вызывает у меня легкие спазмы в желудке:
– Давно ли ты веришь в эту белиберду?
Молодой парень удивленно поворачивается, заметив, что я обращаюсь к пустоте. Его друг берет его за локоть и уводит, шепотом объясняя, в чем дело.
– Вовсе не верю. Так, для смеха.
Я бросаю взгляд на будку и выдавливаю смешок:
– Астрология хренова... уже и звезд нет, а им и это нипочем.
С непроницаемым лицом она повторяет:
– Просто для смеха.
Меня уже всерьез поташнивает, но я говорю почти спокойно:
– Ладно, если тебе хочется иметь гороскоп, я его тебе куплю. Десятое апреля?
Она качает головой:
– Дурак! Не Мой гороскоп. Лауры.
Я озадаченно смотрю на нее, потом пожимаю плечами. Спорить нет смысла. Истории болезни всех пациентов Института Хильгеманна по-прежнему у меня в голове. День рождения Лауры 3 августа 2035 года.
Астролог – бритоголовая девочка лет пяти-шести, одетая в платье из искусственного шелка, на котором позвякивают стеклянные украшения. Я говорю ей данные Лауры. Она садится, скрестив ноги, на подушечку, и пишет бамбуковой ручкой на эрзац-пергаменте, пишет очень быстро, но ее каллиграфия безупречна. Мод, который все это обеспечивает, наверняка стоит кучу денег – ручные навыки дешево не даются. Исписав листок с одной стороны, она переворачивает его и пишет английский перевод на обороте. Я даю ей свою кредитную карточку и вставляю палец в сканер. Вручив мне пергамент, она складывает ладошки вместе и кланяется.
«Карен» исчезла. Я читаю предсказание, сухой осадок которого сводится к обещанию успеха в делах и счастья в любви (после суровых испытаний). Скомкав листок, я бросаю его в урну и направляюсь обратно в отель.
* * *
Я звоню Белле, загружаю списки заказов, выполненных фармацевтическими фирмами, и начинаю поиск нужных мне сочетаний. Не очень-то доверяя терминалу, установленному в номере, я работаю в уме. «Шифроклерк» может имитировать обычную рабочую станцию и выполнять на ней все необходимые операции по обработке данных.
Панглосс указал пять категорий лекарств. Сто девять различных фирм получают все пять. Я начинаю просматривать их рекламные видеостраницы в телефонном справочнике. Вполне естественно, что все они оказываются либо крупными больницами, занимающимися ортопедическим восстановлением, либо клиниками косметической хирургии, специализирующимися на операциях вроде тех, которым должна была подвергнуться Лаура. Носы, щеки, удаление ребер, изменение формы рук, коррекция позвоночника, удлинение или укорочение конечностей. Никогда бы не поверил, что кто-нибудь может согласиться на подобные мучения во имя моды, но лица десятков радостно улыбающихся пациентов убеждают в обратном.
Лауру могли спрятать в любом из этих мест – хорошая взятка сняла бы все неудобные вопросы. Но идти на это – значит расширять круг потенциальных доносчиков. Похитителям было бы разумнее не привлекать постороннего внимания и обойтись своими силами.
Девяносто третьим пунктом в списке значится компания «Международные биомедицинские разработки», в ее рекламе нет ничего, кроме анимационной эмблемы, столь же невыразительной, как и само название – буквы МБР в виде блестящих хромированных трубок, непрерывно вращающиеся, сверкая неестественными бликами. Всего одна строка текста: «Исследования по контрактам в области биотехнологии, нейротехнологии и фармацевтики».
Я перекапываю весь список, но за исключением «Исследовательской группы по остеопластике, Нью-Гонконг» это реклама клиник, зазывающих клиентов. Из этого рано делать какие-либо выводы, однако не мешает выяснить, какими исследованиями занималась МБР в последнее время.
Я уже собираюсь звонить Белле, но в последний момент передумываю. Если я приближаюсь к цели, надо быть более осторожным. Белла работает хорошо, но ни один хакер не гарантирован от того, что его обнаружат, а я меньше всего хочу подтолкнуть похитителей к тому, чтобы они увезли Лауру куда-нибудь еще.
Я отыскиваю МБР в бизнес-справочнике. Они не зарегистрированы на фондовой бирже и поэтому имеют право сообщить о себе самую минимальную информацию. Фирма основана в 2065 году. Полностью принадлежит гражданину НГ Вей Бай Линю. Я слышал о нем – предприниматель средней руки, с широким кругом интересов в области прибыльных, но не особенно примечательных технологий.
Половина третьего. Я отключаю «Шифроклерка» и бухаюсь в постель. «Международные биомедицинские разработки». Может быть моя первая догадка была правильной – какая-то фармацевтическая компания, чьи лекарства повредили мозг Лауры, пытается обезопасить себя перед возможным судебным процессом. Тогда все встает на свои места. Впрочем... почти все. Зачем было МБР – или тем, кого они наняли, чтобы забрать Лауру, – дважды проникать в Институт и вытаскивать ее из комнаты, прежде чем совершить настоящее похищение? Зачем это вообще могло хоть кому-то понадобиться? Весьма эксцентричный поступок. Неужели они рассчитывали внушить всем мысль, что Лаура способна самостоятельно убежать из Института?
Я гляжу в потолок, пытаюсь заставить себя заказать сон, а в памяти всплывает этот; случай с астрологом. Моя воображаемая Карен не обязана играть определенную роль; иногда она такая же, какой я ее помню, иногда воплощает скорее желаемое, чем когда-то бывшее, а иногда она ведет себя так же загадочно, как развивается сюжет сновидения. Но почему мне могло «присниться» именно это – что она очень хочет посмотреть гороскоп Лауры? Чистая случайность, каприз? Ведь настоящая Карен никогда не потребовала бы ничего подобного.
Я пытаюсь расслабиться, забыть об этом, но не могу. Ирония не спасает: меня ничто так не бесит, как патологическое стремление придавать смысл бессмысленному – на этом основаны астрология, религия, всяческие суеверия, – а вот теперь я сам пытаюсь отыскать скрытый смысл в действиях управляемой подсознанием галлюцинации моей умершей: жены. Что за нелепая некромантия?
Гороскопы. Благоприятные дни рождения. По моей коже пробегают мурашки. Я опять извлекаю из памяти ворованные истории болезни. Лаура родилась третьего августа 2035 года. Роды были немного преждевременными, в медицинской карте сказано, что шла тридцать седьмая или тридцать восьмая неделя беременности. Значит, дата зачатия не более чем на неделю отличается от 15 ноября 2034 года. Вполне возможно, зачатие произошло как раз в День Пузыря.
Лично мне это все равно. Карен это тоже было бы безразлично. На Земле найдется, думаю, миллиардов десять людей, которым до лампочки, кончил ли папаша Лауры в тот самый момент, когда погасли звезды.
Но это как раз тот случай, когда мнением большинства следует пренебречь.
Потому что главный вопрос – какое значение такому совпадению могут придавать Дети Бездны.
* * *
Маркус Дюпре родился в День Пузыря в городке Хартшоу, штат Мэн. Это произошло где-то в течение последних шестнадцати минут, когда Земле еще светили звезды. Можно только догадываться, в каком возрасте он начал усматривать в этом факте некий высший смысл – сам Дюпре ничего не рассказывает, а его родители, бабушки и дедушки, тетки, дядьки, двоюродные братья и сестры, большинство учителей и большинство его ровесников умерли в один и тот же день, день его двадцатилетия, который он отпраздновал, отравив водопровод Хартшоу ядовитыми бактериями. Учителям, которые учили его в третьем и в седьмом классе, повезло – они успели переехать в другой город. Но они с трудом могли припомнить, о каком ученике идет речь. Те, кто уцелел из одноклассников, говорили, что он был спокойным, немного замкнутым, но отнюдь не прилежным и совсем не таким интровертным, чтобы вызывать насмешки. Была ли у него некая харизма, способность убеждать, был ли он прирожденным лидером? Пророком? Нет.
Компьтерные файлы мало что могли к этому добавить. Его родители не были религиозны. Успевал он средне, никаких серьезных замечаний по поведению не было. После окончания школы работал на местной станции водоснабжения, «выполняя неквалифицированную и полуквалифицированную работу по техническому обслуживанию». Несомненно, в юности он много читал, но библиотечные компьютеры лишь в течение нескольких месяцев хранят записи о поступивших заказах, так что к тому времени, когда все бросились выяснять, какое же чтение сформировало личность Дюпре, это уже невозможно было установить. Если же он когда-либо сам покупал книги или электронные носители, то, убегая, взял их с собой – в комнате, которую он снимал, никаких вещей не нашли. (Интересно, что могло бы считаться разумным объяснением гибели трех тысяч человек? Книги о Чарльзе Мэнсоне и Джиме Джонсе? Дневник, свидетельствующий о подростковом психозе? Колода карт таро или карта знаков Зодиака? Пентаграммы, кровью нарисованные на полу?) Дюпре был схвачен шесть с лишним лет спустя, когда скрывался в сельских районах Квебека. К тому времени у него уже были последователи во всем мире, они взрывали здания и поезда, отравляли консервированную пищу, расстреливали толпы покупателей в магазинах. Большая часть жертв выбиралась наугад, но одна группа Детей убила шесть участников европейской команды исследователей Пузыря и планировала покушения на многих других. Научное изучение Пузыря, согласно Детям, есть высшее кощунство. Что ж, логично, ведь проникновение в истинную природу Пузьря способно разрушить их доктрину, согласно которой Пузырь есть знамение наступающей Эры Беспорядка, носителями коего они себя считают.
Дюпре был признан в достаточной степени вменяемым, чтобы предстать перед судом. Параноидной шизофрении у него не нашли – никаких голосов, никаких видений. Галлюцинации посещали его не чаще, чем других религиозных лидеров. Я читал просочившиеся на волю протоколы некоторых его допросов. Когда его спросили напрямик, хорошо или плохо, по его мнению, то, что он сделал в Хартшоу, он ответил, что эти понятия утратили свой смысл. Он сказал, что на ранней стадии развития Вселенной симметрия была нарушена, но теперь она восстановилась. Две силы вновь объединились, добро и зло отныне неотличимы друг от друга. Большинство его высказываний были в том же духе – надерганные наугад из науки и религии метафоры, соединенные произвольным образом в пошлые противоречивые афоризмы. Квантовый мистицизм, популярная космология, радикальная экочушь поклонников Геи, восточный трансцендентализм, западная эсхатология – всеядный Дюпре переварил все это и сумел в своем сознании привести к общему знаменателю если не идеи, то по крайней мере язык. Все психиатры были согласны, что от судебного преследования такое состояние сознания не освобождает.
Карен и я (незадолго до этого мы наконец-то сумели устроить так, что у нас с ней работа начиналась в одно и то же время) по утрам смотрели прямые трансляции из зала суда. Я очень хотел получить повышение и перейти в группу по борьбе с терроризмом, поэтому старался узнать как можно больше о Детях. Карен работала регистратором в отделе несчастных случаев новой Северной пригородной больницы, где ей иной раз приходилось потяжелее, чем мне в полиции. И ее и моя карьера застопорились; она уже десять лет как закончила медучилище, я носил форму уже четырнадцать лет, и мы оба чувствовали, что шансов продвинуться остается все меньше.
Ни обвинение, ни защита не хотели давать Дюпре возможность произносить речи, чтобы не разжигать страсти среди его последователей. Поэтому его никогда не выпускали на трибуну, а вопрос о мотивах преступления старались не поднимать. Улики, подтверждавшие связь Дюпре с торговцем оружием (теперь – свидетелем обвинения), у которого он купил искусственно выведенные бактерии, были весьма запутанными, но в конечном счете неопровержимыми. Так что хотя, процесс и растянулся на месяцы, в его исходе никто не сомневался.
Комета Галлея в 2061 году не стала эффектным зрелищем, во всяком случае, для земного наблюдателя. В момент наибольшего сближения с Землей яркий солнечный свет мешал разглядеть комету простым глазом. Однако к ней был направлен десяток межпланетных зондов, в том числе корабль с термоядерной энергетической установкой, способный выйти на очень вытянутую орбиту этой кометы. По такому случаю были даже расконсервированы хорошо выдержанные в пустоте космические телескопы, отключенные еще до Пузыря. Эти аппараты передавали на Землю потрясающие по красоте кадры, и весь июнь и июль в новостях по ГВ[1] каждый вечер показывали сначала: комету, распустившую свой хвосты из желто-белой пыли и ярко-голубой плазмы и летящую из тьмы – из Бездны – к Солнцу, а потом – Маркуса Дюпре, безучастно сидящего в зале суда штата Мэн.
Четвертого августа Дюпре был приговорен к шестидесяти тысячам восьмистам сорока годам тюремного заключения. По делу о массовом убийстве в Хартшоу к ответственности был привлечен только он один, но в течение 2060 и 2061 годов полиции удалось внедриться в группировки Детей во многих городах, и в тюрьму попали еще семнадцать ведущих членов секты. «Конец Эры Беспорядка!» – под таким заголовком в Ньюс-Линке появилась карикатура, изображавшая Дюпре в виде вудуистского божка, пронзенного семнадцатью иголками, из ран от которых сочилась кровь.
Четвертого сентября трое присяжных были убиты. (Остальных немедленно спрятали в безопасном месте, а впоследствии к каждому приставили пожизненную полицейскую охрану; на сегодняшний день еще двое из них подверглись покушению.) Четвертого октября дом судьи, которая вынесла приговор, был взорван; сама она чудом уцелела. Окружной прокурор и его охранник были застрелены в лифте.
Четвертого ноября здание суда, где проходил процесс Дюпре, было уничтожено взрывом. Погибло шестнадцать человек. Почему у Дюпре оказалось так много последователей, старавшихся отомстить за его заключение в тюрьму? Некоторые из арестованных были просто маниакальными убийцами, которым был нужен только предлог, да еще доступ к оружию и взрывчатке. Но большинство вступило в секту, не в силах смириться с тем, что звезды погасли, а в жизни ничего не изменилось. Дюпре же провозгласил, что изменилось как раз самое важное в человеческой жизни – с появлением Пузыря все законы нравственности перестали существовать. Эти люди согласились с его мрачными выводами, ибо это придавало смысл всему происшедшему, как бы заслоняя невыносимое безразличие Пузыря к человечеству. Но конец законов нравственности нельзя установить наблюдениями в телескоп или с помощью других приборов. Если вы хотите, если вы нуждаетесь в том, чтобы поверить в это, вы сами должны сделать так, чтобы это оказалось правдой.
С приближением двадцать седьмой годовщины Пузыря во всех городах мира нарастало напряжение. Те, кто участвовал в суде над Дюпре, были давно занесены в черный список, но прежде, особенно 15 ноября, Дети убивали наугад, и никто не думал, что они откажутся от этой практики. В универсамах покупателей просвечивали рентгеном и обыскивали с головы до ног (покупки с доставкой на дом внезапно снова вошли в моду). Расписание железнодорожных рейсов затрещало по швам из-за бесконечных проверок путей (и связь с работой через домашний компьютер стала популярной как никогда).
Девятого ноября Дюпре провел пресс-конференцию в тюрьме. Вместо ответов на вопросы он зачитал заявление, в котором осуждал любые акты насилия и призывал к тому же своих последователей. Я был уверен, что его либо подкупили, либо каким-то образом заставили это сделать; кроме того, было неизвестно, сколько Детей Бездны с ним согласятся. Однако пресса всячески раздувала значение этого заявления, убеждая публику, что совершилось чудо и убийства, по крайней мере на некоторое время, прекратятся. Это дало свой результат – панические настроения заметно пошли на убыль. Я лично надеялся только на то, что сторонники Дюпре так же легко поддаются манипуляциям с общественным сознанием, как и простые обыватели.
Скандал разразился через четыре дня. Оказалось, что Дюпре говорил под действием марионеточного мода. Это было незаконно – Верховный суд США лишь несколькими месяцами ранее в очередной раз подтвердил, что насильственное применение нейронной модификации противоречит конституции, вне зависимости от обстоятельств. Штат Мэн никогда даже не пытался провести закон, разрешающий такие вещи. Начальник тюрьмы подал в отставку. Главный чиновник ФБР в штате пустил себе пулю в лоб. Трудно представить, чем можно было разъярить Детей сильнее.
Пятнадцатого ноября чуть позже двух часов ночи в портовом складе сработала сигнализация. Винсент Ло и я поехали посмотреть, в чем дело. Впоследствии нас спрашивали, как мы могли – «совсем одни!» – так безрассудно отправиться навстречу очевидной опасности. Люди не понимают, что в мире происходит восемь тысяч ограблений в день, и на каждый вызов не может выезжать антитеррористическая группа – один ее выезд стоит полтора миллиона долларов. Штат Мэн, как известно, находится на другом конце планеты. Дети только один раз пытались провести теракт в Австралии, да и тогда единственной жертвой стал сам неумелый террорист, погибший от взрыва собственной бомбы. Так что мы поехали на вызов не задумываясь.
Прибыв на склад, мы для начала подключились к автоматической системе наблюдения. Камеры показывали, что все на месте, но что-то ведь заставило сработать датчик движения. (Проходящий поезд? Такое бывало не раз.) Контейнеры стояли рядами. Я пошел по одному проходу, Винсент по другому. При помощи «Н2» к зрительной системе каждого из нас были подключены все шестнадцать видеокамер, установленных на потолке. Я запустил небольшое пиротехническое устройство, которое посылало в разных направлениях тонкие струйки разноцветного дыма, пересекавшие все расширенное поле нашего зрения – это позволило бы выявить даже самый хитрый инфохамелеон. Но камеры работали честно. Значит, в здании, кроме нас, не было никого.
Через несколько, секунд мы почувствовали, что пол еле заметно вибрирует. Чтобы уточнить параллакс, мы передали друг другу свои ощущения и, с помощью «Н2» локализовали источник колебаний. Он находился в контейнере, во втором ряду слева. Я уже хотел переключить висевшую над ним камеру в инфракрасный диапазон – может, покажет что-нибудь полезное, – как вдруг прозрачная струя бледно-голубой плазмы пробила стальную стенку контейнера ближе к верхнему углу и начала плавно резать ее, двигаясь сверху вниз.
Винсент запросил информационную систему склада и сказал мне: «Один шахтный робот «Хитачи» МА52, для золотых приисков».
Вот когда у меня пробежал мороз по коже – разумеется, насколько это позволяла «НЗ». Контейнер был высотой метров пятнадцать. Я видел эти МА52 по ГВ: что-то вроде помеси танка с бульдозером, только; гораздо больше, во все стороны торчат с дюжину стальных отростков, и каждый заканчивается набором инструментов весьма грозного вида. Они были способны сами себя ремонтировать, для чего и предназначался плазменный сварочный аппарат. Естественно, шахтный робот должен был транспортироваться с отключенным питанием – но даже и с включенным питанием не должен был спонтанно просыпаться и разрезать свой контейнер. Значит, машина была как минимум полностью перепрограммирована, а скорее всего еще и повреждена механически. Поэтому бессмысленно было отыскивать в руководстве по эксплуатации коды аварийной блокировки.
Мы, конечно, были при оружии. Но чтобы проплавить внешнюю броню робота, нам понадобилось бы дней десять.
Я сообщил в участок о развитии событий и запросил подкрепление. Плазменный резак достиг нижнего угла контейнера и, четко развернувшись, двинулся в горизонтальном направлении.
Над каждым рядом контейнеров на потолке склада находился передвижной кран. Не успел я посмотреть на потолок, как Винсент уже переключил управление кранами на себя. Нужный кран завис как раз над противоположным концом ряда, и по команде Винсента неправдоподобно медленно пополз к нам. С помощью «Н5» я быстро прикинул расстояние, скорость движения крана, скорость плазменного резака – выходило, что кран доедет до контейнера секунд через пятнадцать после того, как робот вырежет переднюю стенку. Однако проход между рядами не более трех метров в ширину, и МА52 не сможет сразу броситься в атаку; ему придется сначала расчистить путь, и мы выиграем на этом гораздо больше, чем пятнадцать секунд.
Стальной прямоугольник отделился от контейнера и, как был в вертикальном положении, с оглушительным визгом понесся вдоль по проходу к противоположной стене. Заработали гусеницы, робот выкатился, насколько возможно, из контейнера, и тот скользнул назад сантиметров на десять, не больше.
– Оптимизация! – тихо выругался Винсент.
Кран опустил свою клешню над сдвинутым с места контейнером. Захватные стержни толщиной с мою руку выдвинулись в поисках специальных гнезд в крышке, удивленно втянулись обратно в клешню и с идиотской настойчивостью повторили эту операцию четыре раза, прежде чем сдаться. На клешне замигал красный огонек, дважды оглушительно взревела сирена, после чего кран полностью отключился.
Мы находились довольно далеко от места событий. Мне потребовалось двадцать секунд, чтобы добежать туда – с той стороны, где робот не мог меня видеть. К тому времени он уже начал с размаху таранить контейнер, который загораживал ему путь. Каждый раз, когда он отъезжал назад, его собственный контейнер подавался чуть вперед, когда он двигался вперед, контейнер снова скользил назад; в результате движение было направлено все-таки назад. Роботу предстояло провести в окружении еще несколько минут, но надежда на то, что удастся подправить клешню крана, таяла на глазах.
Сбоку к каждому контейнеру была приварена лестница. Случилось так, что робот вырезал из своего контейнера именно сторону с лестницей. Я залез на контейнер, стоявший напротив, и с него перепрыгнул через проход на крышу контейнера, где был робот. Раскачать клешню оказалось гораздо труднее, чем я ожидал. Она висела на шести кабелях, которые были собраны в три пары, что давало сильный демпфирующий эффект. Постепенно мне удалось нарастить амплитуду колебаний настолько, чтобы компенсировать смещение контейнера.
Теперь оставалось правильно выбрать момент. Винсент мгновенно оценил ситуацию – он все прекрасно видел при помощи камеры на потолке. «Н5» без труда рассчитала бы момент включения крана, будь контейнер неподвижен, однако его ерзанье было непредсказуемо. Контроллер самого крана ничем не мог помочь – каждый раз, когда Винсент выдавал команду на захват, повторялась жестко запрограммированная последовательность из пяти попыток, после чего все отключалось. Трижды контейнер сдвигался в самый последний момент, опрокидывая все расчеты Винсента. Я понимал, что четвертая попытка будет последней. Можно было раскачать клешню еще сильнее, но тогда она, двигаясь по дуге, стала бы подниматься слишком высоко над контейнером, и захватные стержни не достали бы до гнезд.
С четвертой попытки стержни вошли куда нужно, и это выглядело так же неправдоподобно, как запущенное в обратную сторону кино, где черепки волшебным образом складываются в вазу. Точнее, в гнезда вошли все стержни, кроме одного, который нелепо застрял в доле миллиметра от своего гнезда, в то время как остальные плавно скользили внутрь. Я с ужасом представил себе, что произойдет, если сейчас какой-нибудь идиотский микропроцессор решит, что нельзя больше ждать, пока сработает этот последний стержень.
Изо всех сил я треснул по стержню ногой – и он скользнул на место. Несмотря на настройку, я испытал такое острое счастье, что даже голова закружилась. Согнувшись, я проскочил между кабелями и перепрыгнул через проход как раз в тот момент, когда громко загудели подъемные двигатели крана. После этого я слетел вниз по лестнице и помчался прочь.
Контейнер плавно поплыл к потолку. МА52, который был все еще на две трети внутри, ничего не оставалось, как подниматься вместе с ним. Когда его гусеницы достигли уровня крыши преграждавшего ему путь контейнера, я отчетливо представил себе, как он сейчас прыгнет вперед и вырвется на свободу, но проход был чересчур широк, и очень скоро робот беспомощно повис под потолком на пятидесятиметровой высоте.
Я услышал приближающийся звук сирен – это подошло подкрепление. У выхода из склада мы встретились с Винсентом.
Я сказал:
– Теперь будем ждать, пока приедут войска и разнесут эту тварь на куски.
Винсент покачал головой:
– А зачем?
– Как зачем?
– Прочностные показатели данной системы, – изрек он, – оставляют желать много лучшего. И разжал клешню крана.
Потом среди обломков нашли такое количество боеприпасов, которого бы хватило, чтобы уничтожить пару пригородов. Этого не произошло только из-за неграмотной работы Детей: они отключили сигнализацию не на том складе. Если бы мы вовремя не получили сигнал тревоги, все бы кончилось тем, что войска охотились за МА52 на улицах. В трех африканских городах так и случилось, и погибших было множество. Ну а в других местах, как обычно, рвались бомбы – от зажигательных до нервно-паралитических. Я не хотел ничего об этом знать, просто смотрел на заголовки и переключался на следующий экран. Слишком быстро приходилось привыкать к мысли, что наша победа была совсем микроскопической.
Несмотря на то, что нам, в сущности, просто повезло, Винсента и меня, как и следовало ожидать, изобразили настоящими героями. Я не возражал – ведь теперь перевод в группу по борьбе с терроризмом был практически гарантирован. Внимание прессы утомляло, но я стиснул зубы и терпел. Карен же была просто взбешена, и я не мог ее винить – всех наших друзей интересовала только эта история, и ей, видимо, так же опротивело в сотый раз ее выслушивать, как мне – рассказывать.
Дальше – больше. Как-то в воскресенье к нам забежал брат Карен, чтобы вместе посмотреть сделанные им – из самых лучших побуждений! – видеозаписи всех моих интервью. Ужас был в том, что Департамент полиции приказал мне давать интервью только под настройкой, и поэтому мы с Карен делали все возможное, чтобы случайно не увидеть их по ГВ. Ничего не поделаешь, теперь пришлось просмотреть их все разом. Карен было почти так же неприятно видеть меня под настройкой, как мне самому. Она назвала меня «бойскаут-зомби», и я не мог не согласиться с таким определением – этот полицейский с моим лицом был таким вежливым, серьезным, таким до идиотизма сознательным и все понимающим, что мне хотелось заткнуть ему рот. (Некоторые таковы от природы, но их мало, и их всегда почему-то жалко.) У каждого полицейского есть не менее шести стандартных настроечных модов – от «H1» до «Н6», но именно «Н3» приводит сознание в оптимальную для несения службы кондицию, «Н3» в буквальном смысле настраивает человека. Я всегда понимал, что «Н3» попросту временно калечит мой мозг, хотя и делает это для моей же пользы, эффективно и без последствий. В данном случае лучше всего называть вещи своими именами. Настроечные моды превращают нас в хороших полицейских, настроечные моды спасают много жизней, но для этого они – временно – убивают в нас все человеческое. С этим нетрудно было смириться, если не слишком задумываться. «Настроечные препараты» недоброго старого времени, грубо, химическим путем подавлявшие эмоции, повышавшие остроту чувств и быстроту реакции, вызывали много побочных эффектов, таких, например, как непредсказуемые переходы между настроенным и обычным состоянием, однако с появлением нейронных модов все эти проблемы исчезли. Моя жизнь просто и ясно делилась на две не связанные между собой части – на службе я был настроен, вне службы нет. Здесь нельзя было ничего перепутать, одна половина никак не мешала другой!.
У Карен не было профессиональных модою. Врачи, вечные консерваторы, до сих пор ворчали по поводу этой технологии, однако их сопротивление постепенно слабело под воздействием дифференцированных премий по страховке от преступной небрежности.
Второго декабря мне сообщили, что вопрос о моем повышении решен положительно (несколькими часами раньше я прочитал об этом в вечерних новостях). Это было в пятницу, а в субботу я, Карен, Винсент и его жена Мария отправились в ресторан отметить это событие. Винсенту тоже предлагали перейти в группу по борьбе с терроризмом, но он отказался.
– Подпортил ты себе карьеру, – сказал я ему, наполовину шутя, наполовину всерьез. – Нам никак не удавалось поговорить об этом раньше – под настройкой такие вещи обсуждать невозможно. – Борьба с терроризмом – дело перспективное. Поработаю лет десять в группе, а потом уйду на бешеные деньги консультантом в международную фирму.
Он странно посмотрел на меня и сказал:
– Я, знаешь, Не настолько честолюбив.
А потом взял руку Марии в свою и крепко сжал ее. Самый обыкновенный жест, но он никак не шел у меня из головы.
В воскресенье я проснулся рано и понял, что больше не усну. Я выбрался из постели – Карен всегда чувствовала, когда я лежу без сна, и это мешало ей больше, чем мое отсутствие. Сидя на кухне, я старался прийти к какому-нибудь решению, но только все больше запутывался и от этого злился. Я ненавидел самого себя, потому что постоянно думал о том, что подвергаю риску Карен. Надо было бы поговорить с ней, прежде чем принимать предложение, но сама идея такого разговора казалась омерзительной. Разве мог я спрашивать разрешения у нее? Разве мог бы я, допуская хоть малейшую вероятность того, что Карен угрожает опасность, все-таки согласиться на эту работу, даже если сама Карен этого захочет? А если я, не говоря ей ни слова, откажусь – она же все равно вытянет из меня, почему я это сделал, и никогда не простит, что я принял решение без нее.
Я подошел к окну и посмотрел на ярко освещенную улицу. После появления Пузыря мне всегда казалось, что фонари год от года светят все ярче. Мимо проехали два велосипедиста. Оконное стекло вылетело наружу мелкими осколками, а за ними сквозь пустую раму вылетел и я.
Все настроечные моды включились без моей команды.
Я сгруппировался и покатился по земле – за этим проследила «Н4». Окровавленный, переводя дух, я несколько секунд лежал на траве. Я слышал шум огня позади, я чувствовал, как сердце забилось быстрее и кожа стала холодной, когда «H1» отключила периферийное кровообращение – управляемый вариант естественного адреналинового ответа. Но поддаться безумию, охватившему мое тело, я был уже физически не способен. Настройка диктовала, что надлежит холодно проанализировать ситуацию. Для этого я встал и обернулся. На газоне были разбройны куски черепицы, бомба, должно быть, была заложена на потолке, ближе к задней части дома, над самой спальней. Я видел ошметки булькающей желеобразной субстанции, которые, вспыхивая голубым пламенем, стекали вниз по остаткам внутренних стен.
Я знал, что Карен мертва. Не ранена, не в опасности, а мертва. Ничто не загораживало ее от взрыва, и она должна была умереть мгновенно.
Потом я много раз вспоминал об этом и всегда приходил к выводу, что обычный человек в такой ситуации бросился бы в дом, рискуя жизнью, в шоке, в отчаянии, не веря в происшедшее, делал бы все самое опасное и самое бесполезное, что можно себе представить.
Но бойскаут-зомби знал, что уже не может ничего изменить, и он просто повернулся и пошел прочь.
Понимая, что мертвым не поможешь, он решил позаботиться о том, кто уцелел.
Глава 3
Я безуспешно пытаюсь найти хоть одну сколько-нибудь убедительную причину, по которой Дети не могут иметь отношения ко всей этой истории. Пусть им до сих пор не приходилось выкрадывать из психиатрической больницы умственно неполноценных пациентов, зачатых в День Пузыря, но ведь таких наверняка раз-два и обчелся, а вообще-то такое абсурдное дело вполне в духе Детей. Верно и то, что Дети до сих пор не были замечены в Нью-Гонконге, но из этого не следует, что у них нет здесь своей базы. Человек пять-шесть вполне достаточно, чтобы провезти Лауру через границу и надежно спрятать в огромном городе.
Пытаясь сохранить спокойствие, я расхаживаю взад и вперед по комнате. Меня охватывает скорее негодование, чем страх – как будто мой клиент должен был все предвидеть заранее и предупредить меня. Так или иначе, но за те деньги, что мне платят, связываться с террористами, а тем более с Детьми, я не намерен. Даже если они и не соизволят оказать моей особе такую честь, как повторное покушение – а обычно они никогда не покушаются вторично на своих случайно уцелевших жертв, как бы не желая признавать неудачу, – я не собираюсь напоминать им о своем существовании, а уж тем более давать повод снова занести меня в черный список.
Я звоню в аэропорт: в шесть часов есть подходящий рейс. Я заказываю билет. Собираю вещи. Все это занимает считанные минуты. Потом я сажусь на кровать и, тупо глядя на чемодан, начинаю постепенно вновь обретать трезвый взгляд на вещи.
Значит, Лаура была зачата в День Пузыря – или где-то около того. Ну и что? Полиции всего света запрограммировали компьютеры на неустанное отыскивание везде и всюду числовых, календарных, астрономических совпадений, на которых так помешаны Дети. Результат всегда один – гигантские, терабайтные файлы, переполненные мусором. Процентов двадцать информации такого рода может, в принципе, иметь отношение к Детям, но доля значимых совпадений исчезающе мала. С таким же успехом можно подозревать в терроризме любого, у кого цвет глаз такой же, как у Маркуса Дюпре.
Вне всякого сомнения, если любому из членов секты Детей рассказать о дате зачатия Лауры, он согласится, что ее похищение – дело чрезвычайной важности. Но разве можно считать это доказательством участия Детей в похищении Лауры?
Нельзя ставить вопрос так: «Что это может значить для Детей?» Потому что если бы Дети принимали участие во всех преступлениях на свете, где можно углядеть связь с каким-нибудь небесным знамением, число последователей Дюпре должно было бы быть примерно в миллион раз больше, чем считалось до сих пор.
Бежать было бы слишком театральным жестом.
И все же. Пока мне нечего терять, кроме денег. Но я могу недооценивать опасность, а значит, мне надо не задумываясь бросать это дело. Допустим. А дальше что? Пополнить ряды тех, кто в паническом ужасе перед зверствами Детей маниакально выискивает в своей биографии роковые знаки, кто запирается дома в годовщину каждого малюсенького этапа в истории прохладного, вялого мученичества Дюпре, отмечая священные дни своей собственной религии – религии страха?
Я распаковываю чемодан.
Скоро рассветет. Бессонная ночь, как это часто бывает, приносит своеобразное ощущение ясности, свободы от рутинного круга мыслей, вновь обретенного глубокого единства с миром. Я вызываю «Босса», чтобы привести свою эндокринную систему в норму, и иллюзия вскоре рассеивается.
Мысль о причастности Детей к похищению обрушилась на меня как гром среди ясного неба. По сравнению с такими откровениями трезвый анализ собранной мной информации выглядит весьма неутешительно. Но надо же с чего-то начать, а МБР – единственная компания в списке, у которой нет очевидных и неоспоримых причин закупать именно ту комбинацию лекарств, что нужна Лауре. У МБР нет держателей акций, для которых могли бы публиковаться отчеты о научно-технических успехах компании. Хакерство в данной ситуации – слишком большой риск. Поэтому мне придется воспользоваться более прямыми методами, чтобы выяснить, каков же предмет исследований МБР.
Я вытаскиваю из чемодана маленькую коробочку и бережно открываю ее. Внутри, уютно устроившись на тончайшей шелковой бумаге, спит комар.
У меня нет специального мода для программирования этого насекомого, но во втором отделении коробочки лежит запоминающее устройство со старомодными последовательными программными средствами, которые помогут сделать все, что нужно, хотя и медленнее. Я вытаскиваю чип и включаю его. Он загорается невидимым, модулированным инфракрасным светом. В коже моего лица и рук разбросаны биологически сконструированные клетки, чувствительные к ИК свету, они улавливают сигнал, демодулируют его. «Красная Сеть» («Нейрокомм», 1499 долларов) принимает нервные импульсы от этих клеток, декодирует данные и записывает их в буфер.
Я пересылаю программу «Фон Нейману» («Континентальная Био-Логика», 3150 долларов). Нейронная сеть плохо приспособлена к моделированию компьютера общего назначения, откуда и необходимость в специальных модах, физически оптимизированных для таких задач. Но никто не может купить все существующие моды, а если бы и мог, то покалечил бы свой мозг, реструктурируя такое количество нейронных связей. Вот и приходится, как ни дико это выглядит, иногда загружать чип с последовательными программами.
Culex explorer, комар-разведчик – чисто органическое существо, только очень сильно модифицированное как генетически, так и на стадии развития. Цель генетической модификации в том, чтобы максимально увеличить количество нейронов, обеспечив фронт работ для наномашин, а также в создании ИК-чувствительных клеток. Мысленно я выбираю из меню нужные мне поведенческие параметры, жду пять минут, пока программа закодирует их на языке нейронных схем комара, затем накрываю ладонью коробочку, чтобы усилить сигнал, и перекачиваю свои распоряжения в крошечный мозг насекомого. В протоколе «Красной Сети» предусмотрены бесчисленные тесты корректности данных, но я все равно провожу контрольное считывание, и сравнение подтверждает, что команды записались правильно.
Когда я иду к метро, на улицах уже немало людей. Продавцы еды стоят у своих тележек, над которыми поднимается вкусный пар, и вокруг них собираются стайки покупателей, игнорирующих соблазнительные на вид, но лишенные запаха голограммы, рекламирующие содержимое автоматов по продаже всяческих закусок. Я покупаю пакет лапши и ем ее на ходу. Мимо шагают тщательно одетые служащие, банкиры и инфоброкеры; люди, которые могли бы заниматься своей работой не выходя из дома, могли бы делать все необходимое прямо у себя в голове и даже поручить это модам, получают удовольствие от хождения на службу. Я нехотя признаюсь себе в том, что вид этой торопящейся куда-то зонтоносной инфократии, излучающей самодовольство, определенно вселяет веру в мощь человеческого духа. Свет неожиданно меркнет, я смотрю на небо и вижу, как два слоя вспененных серых облаков несутся там друг за другом. Через несколько секунд я уже мокр до нитки.
Научно-техническое сердце Нью-Гонконга находится в двадцати километрах к западу от центра города. Поднявшись из метро на поверхность, я оказываюсь в почти безлюдном мире разбросанных тут и там бетонных строений, окруженных настолько идеальными газонами, что легко усомниться в их материальности. После толп и небоскребов Сити здешний простор кажется едва ли не неприличным. Многие институты и производственные корпуса достигают пятнадцати-двадцати этажей, но улицы достаточно широки, прилегающие к строениям участки просторны, и архитектура не заслоняет небо, которое опять сияет ослепительной синевой от горизонта до горизонта.
Я останавливаюсь, чтобы вытряхнуть комара из коробочки на ладонь. Он крепко вцепляется в кожу. Я подношу его к глазам и различаю крошечные точки двенадцати инфохамелеонов по бокам грудной клетки. Прежде чем двигаться дальше, я складываю пальцы в неплотно сжатый кулак – трудно шагать небрежной походкой, держа на ладони разведывательную аппаратуру стоимостью в двадцать тысяч долларов.
Район к северу от станции метро напоминает лабиринт, но легко заметить, что раньше он состоял из нескольких отдельных, независимо спланированных «научных парков», которые впоследствии заполнили разделявшее их пространство. Каждый, должно быть, имел когда-то собственный, строгий или, наоборот, экзотический рисунок аллей, и каждому в той или иной степени удалось распространить этот рисунок за свои исконные пределы, а там, где столкнулись несколько несовместимых планировок, получилось нечто дикое. МБР располагается в глухом конце тупика, так что небрежно пройти мимо главного входа не удастся. Однако весь район представляет собой поистине капиллярную сеть узеньких улиц и их ответвлений, так что я без труда смогу как бы случайно оказаться у задней части здания.
Вокруг тишина, слышно даже пение птиц. Проезжающий велосипедист удивленно оглядывается на меня. Других пешеходов не видно, и я начинаю, несколько преждевременно, чувствовать себя вторгшимся на чужую территорию. Похоже, что все эти улицы для общего пользования, но пройти по ним можно только к нескольким частным владениям. Если, что маловероятно, кто-нибудь остановится и предложит мне помочь найти нужное место, я всегда смогу сыграть роль заблудившегося туриста.
Наконец в промежутке между зданиями «Трансгенетического экоконтроля» и «Промышленного морфогенеза» я вижу то, что, по-видимому, и есть МБР – грязно-белая бетонная коробка, метрах в ста от меня. Под таким углом невозможно увидеть никаких вывесок или эмблем, и я дважды сверяюсь с картой у себя в голове, чтобы исключить всякие сомнения.
Я ловлю себя на мысли, что вряд ли Дети воспользовались бы таким прикрытием, и сам же громко смеюсь над этим «обнадеживающим» соображением. Дети не имеют к этому делу никакого отношения, это ясно и не требует дополнительных подтверждений. Самое страшное, что может случиться, – то, что МБР окажется просто ложным следом.
Я копирую свое визуальное поле в видеобуфер программы Culex. Я отчетливо помечаю здание, а затем выдаю последнюю команду собственно насекомому. Подняв руку, я раскрываю ладонь. Комар сразу взлетает, делает вокруг меня несколько кругов и исчезает.
* * *
Большую часть дня я посвящаю изучению общедоступной информации о владельце МБР, Вей Бай Лине. Прилежно перекопав записи информационных программ за двадцать пять лет – он упоминается в среднем в шести материалах за каждый год, – я не нахожу ничего замечательного. Единственное сообщение не чисто делового характера – информация об открытии нового отдела Музея Науки НГ. Вей возглавлял консорциум, финансировавший это предприятие, и в статье процитированы строки из его банальнейшей речи: «Будущее наших детей зависит от того, насколько мы сумеем развить их интеллект и воображение уже в самом раннем возрасте...»
Мне бросается в глаза, что Вей не проявляет никакого интереса к компаниям, которые достаточно стары, чтобы послужить причиной увечья Лауры. Ему только пятьдесят с небольшим, и он предпочитает новые области деятельности хорошо освоенным направлениям. Конечно, это ничего не говорит о клиентах МБР.
В конце дня мне уже не на что отвлечься хоть с какой-то пользой для дела. Иррациональные страхи по поводу Детей просыпаются снова. Я точно знаю, как справиться с ними, но не хочу этого делать. Пока не хочу.
Я включаю ГВ и попадаю на самую середину рекламы; перебираю канал за каналом, но везде то же самое. Конечно, это никакой не сговор соперничающих телекомпаний (боже упаси!), просто все-станции вдруг решили позволять рекламодателям указывать в договоре время выхода в эфир их рекламы с точностью до сотых долей секунды. Я мог бы вообще отключиться от передач в реальном времени и загрузить что-нибудь поинтересней, но это не стоит труда, ведь мне просто надо убить время.
Молодой человек говорит:
– ...ощущение бессмысленности и бесцельности жизни? Проблему решит «Аксон»! Теперь вы можете купить самые разнообразные цели! Семейная жизнь... успешная карьера... материальное благополучие... сексуальное удовлетворение... художественное самовыражение... духовное просветление.
Пока он произносит каждую фразу, в его правой руке материализуется куб, в котором разыгрывается соответствующее действие, он подбрасывает его в воздух, чтобы освободить место для следующего, и в конце концов начинает легко жонглировать всеми шестью:
– Более двадцати лет «Аксон» помогает вам достигать всего, что вы пожелаете. Теперь мы поможем вам пожелать этого достичь!
Посмотрев конец непонятного, но эффектного сюрреалистического триллера, я выключаю ГВ и начинаю расхаживать по комнате, все более укрепляясь в принятом решении. До встречи с Culex'ом еще четыре часа нескончаемого, беспокойного ожидания. Чего ради, я должен все это терпеть? Из мазохистского желания переживать подлинные человеческие чувства? Нет уж, к чертовой матери эти чувства, из-за них я сегодня утром чуть вообще не бросил расследование.
Я включаю «Н3».
Иногда подтекст, констатирующий полное удовлетворение, бывает несколько криклив. Настройка – это как раз то, что нужно. Я быстро соображаю, действую разумно, эффективно, ничто меня не отвлекает. Все это так, но – забавно – именно аналитическая установка сознания, поддерживаемая «НЗ», и мешает смотреть сквозь пальцы на то, что такое состояние вызвано искусственно. Практически любой мод, воздействующий на личностные параметры, заставляет пользователя принять аксиому: использовать данный мод – благо. Критики такой технологии говорят, что это пропаганда «по методу самообслуживания»; сторонники называют это защитой от своего рода реакции отторжения в сознании, пользователя. Когда я не под настройкой, моя позиция в этом вопросе скорее цинична. Под настройкой я считаю, что не имею достаточных знаний и опыта, чтобы оценить аргументы «за» и «против».
В течение десяти минут я суммирую все, что мне известно о похищении Лауры. Никаких озарений при этом не возникает, но я этого и не ждал – «Н3» отключает отвлекающие моменты и повышает способность к сосредоточению, а отнюдь не усиливает интеллект. Каждый настроечный мод предоставляет пользователю какой-нибудь полезный механизм – «H1» умеет манипулировать биохимическими параметрами, «Н2» расширяет и обостряет чувственное восприятие, «Н4» представляет собой набор физических рефлексов, «Н5» позволяет точно оценивать времена и расстояния, «Н6» занимается кодированием и связью. «Н3» же играет роль фильтра, выбирающего оптимальное состояние сознания из широкого естественного ассортимента, отсекая при этом все «неподходящие мысли».
Делать нечего – только ждать. Теперь я не способен скучать или испытывать беспочвенные страхи. Я жду.
* * *
Я возвращаюсь на то место, где выпустил комара. Особая точность не требуется – он все равно отыщет меня по запаху, избегая незнакомцев. Он приземляется на мою ладонь и передает свой отчет по инфракрасному каналу связи.
Задание успешно выполнено. Для начала Culex отыскал удобный путь для того, чтобы самостоятельно (а не на чьей-нибудь спине) проникать в здание и покидать его. Попав внутрь, он нашел помещение службы безопасности, пробрался в кабелепровод, уходивший в потолок, и установил двенадцать хамелеонов. Потом он отправился в далекую экспедицию (в данный момент работают фоновые программы, восстанавливающие план здания по результатам его облета). Вернувшись, проверил хамелеоны. К тому времени они расшифровали протокол контроля сигналов, поступающих от датчиков службы безопасности и, проверив все тридцать пять кабелей, выявили двенадцать, с помощью которых можно создать удобную цепочку прилегающих друг к другу слепых пятен.
Я просматриваю фантомные снимки того, что комар видел своими фасеточными глазами, путешествуя по зданию (специальная обработка адаптировала их к человеческому зрению). Ничего особенного. Сотрудники, компьютеры. Различное оборудование для биохимического анализа и синтеза. Никаких признаков лежачих больных. Впрочем, Лаура Эндрюс может уже быть и на ногах, а я не имею понятия, как она теперь выглядит – вполне возможно, что похожа на Хань Сю Лиен, но твердой уверенности в этом нет.
На крупных планах компьютерных экранов я вижу блок-схемы лабораторных процессов, модели белковых молекул, цепочки нуклеотидов ДНК и аминокислот, а также несколько нейронных карт. Но на картах не написано ничего вроде «Эндрюс, Л.» или «ТЕМА: врожденные повреждения мозга. КАРТА 1» – только непонятные порядковые номера.
Построение плана здания закончено. В мыслях я прохожу по нему. Пять наружных этажей и два подвальных. Кабинеты, лаборатории, кладовые. Два лифта, два лестничных колодца. Несколько зон закрашены светло-голубым цветом, что означает «ДАННЫХ НЕТ». Комар не смог проникнуть туда ни самостоятельно, ни «автостопом». Самый большой из таких участков, площадью в двадцать квадратных метров, находится в центре второго подземного этажа. Там может быть, например, стерильная комната, низкотемпературное хранилище, лаборатория радиоизотопов, биологически опасная зона, в общем, место, куда люди входят редко, выполняя почти всю работу с помощью дистанционных манипуляторов. Однако на снимках только глухая белая стена и дверь без таблички, никаких предупреждающих знаков нет.
Хамелеоны запрограммированы на два часа ночи, на случай, если бы оказалось, что здание по ночам блокируется от комаров. Но теперь можно не ждать до двух. Я посылаю Culex'a в здание дать им команду включиться через семь минут, в одиннадцать пятьдесят пять. Хамелеоны слишком малы, чтобы принимать радиосигналы, - это, пожалуй, к лучшему – радио слишком легко перехватить.
По дороге «Н2» накладывает план здания на мое естественное зрение. Поля обзора камер наблюдения и участки, контролируемые детекторами движения, окружены еле заметной красной аурой. Так и хочется представить себе, будто теперь я воочию увидел прежде незримую опасность – но это далеко не так. Нет такого волшебного мода, который чувствовал бы работу систем слежения – то, что мне показывают, всего лишь результаты расчетов, которые могут оказаться неполными или неверными.
В 11:55:00 я меняю цвет двенадцати красных пятен на черный – остается только верить, что эти слепые пятна действительно возникли. Впрочем, это скоро выяснится.
Над оградой по периметру натянута колючая проволока, и датчик электрического поля показывает, что по верхним линиям пропущен ток напряжением шестьдесят тысяч вольт – изоляторы в моих перчатках и ботинках выдержат намного больше. Острые колючки на проволоке выглядят угрожающе, но чтобы произвести хоть какое-то впечатление на композитные волокна моих перчаток, они должны были бы состоять из промышленных алмазов, да еще вращаться со скоростью нескольких тысяч оборотов в минуту. Круговым движением я перекидываю свое тело через ограду и скольжу вниз, стараясь приземлиться как можно мягче – на соседних участках датчики движения не отключены, и я не знаю, каков порог их чувствительности.
Раскрыв окно на первом этаже, я проскальзываю в неосвещенную комнату. Здесь находится какая-то лаборатория. «Н2» по возможности быстро повышает чувствительность моего зрения до максимума, но не это, а карта, составленная Culex'ом, позволяет мне идти, ни на что не натыкаясь. Точнее, не натыкаясь на неподвижные препятствия; когда я вижу своим фантомным зрением стул или табуретку, я останавливаюсь и на ощупь определяю истинное положение предмета.
В коридоре тоже темно, но, выйдя из лаборатории, я вижу неподалеку слева красное сияние, а еще один участок, находящийся под наблюдением, начинается в сантиметре от двери на лестницу. Я уже собираюсь повернуть ручку и открыть дверь, когда замечаю, что локтеобразный ограничитель двери может попасть при этом в красную зону. «Н5» однозначно подтверждает, что безопасный угол раствора двери оставляет слишком узкую для моего тела щель. Я дотягиваюсь до ограничителя и ломаю его в месте сочленения. Две половинки безжизненно свисают вниз.
Я спускаюсь в нижний подвал. Хамелеоны постарались дать мне как можно больше возможностей проникновения на каждый из этажей, но эта зона, по-видимому, и без того не очень усиленно охраняется. Поблизости нет активных видеокамер, я иду на риск и включаю фонарик. Это очень оживляет пейзаж в моем фантомном зрении, где все предметы обозначены их «проволочными каркасами». Здесь находятся массивные приземистые контейнеры с реагентами и растворителями, ряд горизонтальных морозильников, у стены центрифуга, полуразобранные – словно недоеденные – платы с торчащей наружу электронной начинкой.
Я приближаюсь к участку, о котором нет данных. Это большая квадратная комната, непонятно откуда взявшаяся в помещении, ничем больше не разделенном. Судя по виду и запаху, ее построили недавно. Но если там, внутри, Лаура, то зачем понадобилось строить для нее это сооружение? Во всяком случае не для того, чтобы ее получше спрятать, – ничто не может вызвать больше подозрений, чем вот такая самодельная тюрьма.
Я обхожу комнату по периметру. Внутрь ведет только одна дверь. Замок не бог весть какой сложный – небольшое зондирование, один хорошо рассчитанный магнитный импульс, индуцирующий ток в схеме отпорного механизма, и дело сделано. Я достаю пистолет, тяну дверь на себя – и вижу другую стену в двух-трех метрах перед собой.
Я осторожно вхожу. Пространство между стенами ничем не заполнено, но внутренняя стена нигде не соединяется с внешней. Прежде чем идти дальше, я закрываю за собой дверь и устанавливаю маленький сигнализатор над дверным проемом.
Дойдя до правого угла, я убеждаюсь, что две стены расположены концентрически. Я иду дальше, и за следующим углом нахожу дверь во внутренней стене. Замок такой же дрянной, как и первый. Хотел бы я знать, зачем все эти нелепые декорации, но это уже следующий вопрос, а пока важно одно – спрятана ли где-то здесь Лаура?
Я открываю вторую дверь, Лауры внутри нет, но... Но есть кровать, постель не заправлена с тех пор, как на ней в последний раз спали, постельное белье сдвинуто к одному краю – обитатель комнаты, видимо, сполз на пол. Унитаз, раковина, маленький стол и стулья. Дальняя стена разрисована цветами и птицами, точно так же, как в комнате Лауры в Институте Хильгеманна.
Постель еще чуть теплая. Куда же ее утащили среди ночи? Может быть, возникли осложнения, и пришлось ехать в больницу? В течение тридцати секунд я обследую комнату, но это уже лишнее – роспись на стене говорит сама за себя. Уверен, Лаура была здесь еще несколько минут назад. Я не застал ее только случайно.
Возможно, она еще в здании. К примеру, проходит мозговое сканирование где-нибудь наверху. Может, МБР так отчаянно старается поскорее выполнить именно этот контракт – что бы за ним ни стояло, – что сотрудники работают круглосуточно?
Выйдя из комнаты, я поворачиваю было направо, чтобы вернуться к выходу кратчайшим путем по собственным следам, но передумываю и решаю пройти «кругосветку» до конца.
Женщина, которая стоит прямо за углом, тяжело опираясь на ходунки, внешне неотличима от Хань Сю Лиен. Подняв на меня взгляд, она разражается слезами. Быстро шагнув к ней, я впрыскиваю ей в нос транквилизатор. Она обвисает, я беру ее под мышки и закидываю на плечо. Не слишком удобно, зато руки свободны, сейчас это главное. Ходунки – хороший признак, возможно, она еще не полностью выздоровела, но ее можно перевозить без особого вреда. Когда я вынесу ее из здания, вызову «скорую помощь» – пока буду прорезать дыру в проволочном ограждении.
До второй двери остается три шага, когда я слышу спокойный мужской голос позади:
– Не оборачивайся. Брось на пол пистолет и фонарик и оттолкни их ногой.
Одновременно я чувствую, что на моем затылке появилось маленькое, но отчетливое теплое пятнышко – инфракрасный лазер на минимальной мощности. Весьма ощутимое предупреждение, что я на мушке; если оружие поставлено на автоматику, любое мое резкое движение мгновенно вызовет мощный импульс излучения.
Я подчиняюсь.
– Теперь опусти ее на пол, осторожно. Потом положи руки себе на голову.
Я и это выполняю. Лазер все время следует за мной. Мужчина говорит что-то на кантонским. Я включаю «Дежа Вю» и слышу перевод:
– Что ты собираешься с ним делать?
Женщина отвечает:
– Отключу его.
Мужчина говорит, уже по-английски:
– Будь добр, не шевелись.
Женщина появляется передо мной, засовывая пистолет в кобуру. Из сумки на поясе рядом с кобурой она достает маленькую капсулу для подкожных инъекций. Перешагнув через Лауру, она берет меня одной рукой за подбородок – я понижаю частот сердечных сокращений – иголка проскальзывает в шейную вену – я перекрываю кровоток к этой области – затем сдавливает капсулу.
Ограничение кровотока даст мне в лучшем случае несколько секунд, но для «H1» этого достаточно, чтобы опознать препарат. Если мод способен нейтрализовать это вещество, действовать надо будет быстро. Если только они не собираются сжечь меня, когда я начну падать под действием наркотика, лазер не может сейчас быть в автоматическом режиме. Если я притворюсь, что теряю сознание, споткнусь, заслонюсь женщиной, схвачу ее пистолет...
Но «H1» молчит. Я пытаюсь пошевелить пальцем и не могу. Через миг все проваливается во тьму.
Глава 4
Я просыпаюсь, лежа на боку на бетонном полу. Я совершенно гол, руки болят, а когда пытаюсь пошевелить ими, холодный металл впивается в запястья. Осматриваюсь. Я в небольшой узкой кладовке, куда свет попадает через единственное окно под потолком. Мои руки прикованы наручниками к длинной, во всю стену, полке с какой-то лабораторной посудой.
«H5» не может определить, где я нахожусь. Этот мод работает на основе моего собственного восприятия, чувства равновесия и пространственного самоконтроля, отслеживая местонахождение с точностью до миллиметра, но при условии, что человек на ногах и в полном сознании. Меня же волокли неизвестно сколько и неизвестно куда, пока я был под действием наркотика. Однако «Н5» утверждает, что сейчас пятое января, а время – 15:21. Другие моды дают те же дату и время, этому можно верить – вряд ли препарат исказил их показания совершенно синхронно. За пятнадцать часов меня могли перевезти в любую точку планеты. Точнее, в любую точку, где в 15:21 по среднеавстралийскому времени утро или полдень. С опозданием до меня доходит, что надо поискать на плане здания у меня в голове комнату таких размеров, как эта кладовая. Оказывается, такие комнаты есть на каждом этаже. Culex не нашел ни в одной из этих комнат ничего заслуживающего фотоснимка, но судя по проволочным контурам, которые он записывал везде, я на четвертом этаже.
На мне не одна, а две пары наручников. Одна из них продета в щель вертикальной перегородки на одной из стоек с посудой. Полки не привинчены к стене, так что стоит мне дернуть чуть сильнее, и все стекло с грохотом обрушится на пол. То же самое произойдет, если я попробую перетереть цепочку о край стойки; к тому же за мной скорее всего наблюдают.
Итак, деваться некуда. У кого же я в плену?
Не исключено, что МБР есть именно то, чем себя называет – институт, ведущий медико-биологические исследования по заказам. Причем, как выяснилось, без предрассудков по части похищений. А платит им фирма X, чьи препараты искалечили мозг Лауры тридцать три года назад. Конечно, фирма Х рискует, но, вероятно, прятать Лауру у себя для нее еще опасней, и поэтому респектабельная фирма Х обратилась к специалистам по грязным делам – к МБР.
Звучит очень банально и правдоподобно, вот только слишком много фактов не укладывается в такую версию. Рассказ Кэйси – раз. Конструкция комнаты в подвале – два. Лаура, слоняющаяся по коридору своей персональной тюрьмы – три. И эти факты подсказывают другую версию, но уже совсем не банальную: Лаура на самом деле сумела выйти из здания клиники Хильгеманна дважды, и без посторонней помощи.
Потому-то ее и похитили. Кто-то узнал о ее способностях и захотел использовать их в своих целях. Вот зачем в подвальной комнате двойные стены – чтобы узнать, действительно ли она идиот-эскейпер. Когда я наткнулся на Лауру, она уже наполовину выдержала тестирование.
А как меня обнаружила охрана? Очевидно, сработала какая-то сигнализация. Но хамелеоны блокировали все устройства слежения за комнатой, соединенные с пультом службы безопасности здания. Если же с Лаурой проводились эксперименты, то и наблюдение за ней должно было вестись с отдельного пульта.
Зачем МБР составляет нейронные карты? Разумеется, не для того, чтобы доказать свою невиновность в причинении вреда Лауре. Должно быть, они пытаются выявить структуры, делающие Лауру величайшим эскейпером в истории со времен Гудини, надеясь закодировать ее способности в мод. Почему ее решили вывезти под видом трупа, не прибегая к марионеточному моду? Потому что не хотели воздействовать на ее мозг, боясь разрушить то, ради чего затевалось само похищение.
Итак, разрозненные факты сложились в четкую картину.
Плохо одно – в эту картину невозможно поверить.
В чем конкретно могут заключаться предполагаемые таланты Лауры, позволяющие ей выйти из запертой комнаты без всяких инструментов? Даже если она умеет интуитивно угадывать код электронного замка (что крайне сомнительно), как можно голыми руками открыть его изнутри? Как можно обмануть видеокамеру без всяких приборов? За двести лет исследований твердо установлено – телекинеза не существует. Еле заметные электрические поля, создаваемые телом человека, по крайней мере в тысячу раз слабее, чем нужно для таких трюков, и никакие случайные мутации мозговых структур не могут изменить этого факта – так же как любые программы, заложенные в обычный компьютер, не заставят его летать по воздуху. Так как же она вышла наружу? В то время как я размышляю над этим, дверь открывается. Молодой мужчина бросает стопку одежды на пол рядом со мной, затем вытаскивает пистолет и устройство дистанционного управления, которым отпирает мои наручники. Я сразу включаю «Красную Сеть», надеясь перехватить код наручников, но мои чувствительные клетки не воспринимают частоту, на которой идет обмен.
Мужчина стоит в дверном проеме, пистолет наведен на меня:
– Оденьтесь, пожалуйста.
Этот голос я слышал прошлой ночью. Выражение лица равнодушное, без всякого самодовольства или воинственности. Как и у меня, у него, конечно, есть моды оптимизации поведения.
Одежда совершенно новая, идеально подходящая по размеру. «Н3» требует относиться стоически к утрате всего моего снаряжения, но, несмотря на это, я еще несколько мгновений ощущаю дискомфорт из-за отсутствия знакомых выпуклостей там, где были потайные карманы с кое-какими полезными приспособлениями.
– Наденьте одну пару наручников и застегните их за спиной.
Я подчиняюсь, он завязывает мне глаза. После этого выводит из комнаты, одной рукой держа за цепь наручников, другой приставив к моей груди пистолет.
По дороге я мало что слышу – обрывки разговоров на кантонском и английском, звук шагов по ковру, гудение приборов в отдалении. Чувствуется легкий запах органических растворителей. Благодаря «Н5» я точно знаю, где нахожусь, хоть это сейчас и ни к чему. Наконец мы останавливаемся, меня толчком заставляют опуститься в кресло, а пистолет перемещается к моему виску.
Женщина спрашивает без предисловий:
– Кто вас нанял? – Она сидит метрах в двух напротив.
– Не знаю.
Она вздыхает:
– Вы еще на что-то надеетесь? Думаете, мы будем возиться ради вас со всеми этими препаратами правдивости, модами правдивости, нейронными картами, снимать копии памяти, которая может оказаться затертой, подделанной, и так далее? Если надеетесь выиграть время, ошибаетесь. Я не собираюсь тратить на ваш вонючий мозг сотни тысяч долларов. Если выскажете нам правду здесь и сейчас, мы проявим милосердие. Если нет, мы убьем вас – здесь и сейчас.
Она говорит спокойно, но это не мод – вместо страшного в своей бесстрастности у нее получается страдальчески-снисходительный тон. Из этого, однако, не следует, что она блефует.
– Я говорю правду. Я не знаю, кто мой клиент, меня наняли анонимно.
– И вы не смогли это выяснить самостоятельно?
– Мне платили не за это.
– Допустим. Но у вас была хотя бы рабочая гипотеза?
– Я полагал, что это мог быть человек, считавший, что Лауру похитили по ошибке, вместо какого-нибудь его родственника, также помещенного в Институт Хильгеманна.
– Кто конкретно?
– Я так и не нашел подходящего кандидата. Кто бы он ни был, он сделал все, чтобы скрыть семейные связи. Сама мысль, что похитители украли не того, кого хотели, могла прийти в голову лишь тому, кто хорошо поработал, чтобы скрыть истинную личность своего родственника. Так что я не пытался это распутать, у меня были дела поважнее.
Поколебавшись, она, видимо, удовлетворяется ответом:
– Как вы узнали, что Лаура у нас?
Я подробно рассказываю о рентгенограммах багажа и о списках заказов на лекарства.
– Кто еще знает все это?
Кого бы я ни назвал, они легко установят обман. Я мог бы сказать, что в общедоступной сети заложена моя программа, замаскированная и неуязвимая, которая оповестит обо всем полицию НГ в случае моего исчезновения. Но они в это не поверят – ведь если бы у меня было достаточно фактов, чтобы убедить полицию вмешаться, я бы так и сделал, вместо того чтобы самому пробираться в здание.
– Никто.
– Как вы проникли в здание?
Здесь тоже врать бесполезно. Наверняка они уже почти все выяснили сами. Подтвердив то, что они и так знают, я вызову больше доверия к себе.
– Что вам известно о работе, которой мы здесь занимаемся?
– Только то, что я узнал из объявления. Биологические исследования по контракту.
– И как вы полагаете, почему нас интересует Лаура Эндрюс?
– Я этого еще не понял.
– Какие у вас гипотезы?
– Теперь уже никаких. – Чтобы убедительно лгать, существуют специализированные моды. Они следят за такими параметрами, как распределение акцентов в речи, температура кожи, частота биений сердца и т, д. Мне это не нужно – о таких вещах заботится «Н3». – Ничего, что согласуется с фактами.
– Совсем ничего?
У меня нет недостатка в ложных версиях, чтобы подтвердить, что я действительно ничего не знаю. Я вспоминаю все, даже самые неправдоподобные гипотезы, которые только мелькали у меня в голове за последние восемь дней – за исключением компании Х с ее лекарствами, калечащими плод, и Лауры-эскейпера. Я чуть не упоминаю даже о моих страхах по поводу Детей, но вовремя спохватываюсь – теперь это выглядит просто смешно и может прозвучать как слишком откровенная ложь.
Когда я наконец умолкаю, женщина говорит: «Хорошо», но не мне, а охраннику. Тот убирает пистолет от моего виска, но не поднимает меня из кресла, и я вдруг понимаю, что сейчас произойдет. На краткий миг меня охватывает ярость – то без сознания, то с завязанными глазами, да как же тут хоть что-нибудь узнаешь! – но «Н3» быстро гасит эту непродуктивную вспышку эмоций.
Игла входит в вену, препарат попадает в кровь. Я не пытаюсь с ним бороться – смысла нет.
* * *
Я просыпаюсь в постели. На мне нет даже наручников. Оглядываюсь вокруг. Я в маленькой, почти пустой квартире. Мужчина, которого я раньше не видел, сидит в углу комнаты, держа руку с пистолетом на колене. Судя по звукам, доносящимся с улицы, мы примерно на пятнадцатом – двадцатом этаже. Шестое января, семь часов сорок семь минут.
Я встаю, иду в ванную. Охранник не пытается меня остановить. В ванной – унитаз, раковина, душ, тридцатисантиметровое окошко с непрозрачным стеклом, вдвое меньших размеров решетка вентиляции на потолке. Помочившись, я мою руки и лицо. Не выключая воду, быстро обыскиваю помещение, но не нахожу ничего, что могло бы хоть как-то пригодиться в качестве оружия.
Квартира состоит из одной комнаты, угол занимает кухня. Небольшой холодильник выключен, дверца его приоткрыта. Микроволновая печь и плита встроены в стол. Над раковиной окно, его закрывают жалюзи. Я направляюсь к кухне, но охранник говорит:
– Тебе там ничего не нужно. Завтрак скоро принесут.
Я киваю и возвращаюсь к кровати, прохаживаюсь возле нее, разминая затекшие мускулы.
Вскоре другой мужчина приносит коробку, набитую всевозможной готовой едой, и кофе. Я ем, сидя на кровати. Охранник не хочет составить мне компанию и игнорирует мои попытки завязать разговор. Его глаза двигаются только вслед за мной, и иногда кажется, что он просто оцепенел, но я точно знаю, что на самом деле он начеку. Я хорошо помню свои двенадцатичасовые бдения в таком же состоянии. Если уж мод обеспечивает бдительность, то человек в принципе не способен ее ослабить. Скука, нетерпение, посторонние мысли становятся физически невозможными. Без настройки я могу острить по поводу зомби, но находясь под настройкой, я твердо убежден, что истинная сила нейротехнологии не в создании экзотических состояний сознания, но в усилении сознательного акта выбора и абсолютной концентрации на главном.
Я уже жду, что после еды меня снова усыпят, но этого не происходит. Пользуясь случаем, я ложусь на кровать и гляжу в потолок с видом образцового заключенного, демонстрируя полную ненужность какого-либо принуждения. Я не намерен причинять своим тюремщикам ни малейшего беспокойства, пока шансы на успех так ничтожно малы.
А если они никогда не станут больше?
Что будет, если я не сумею бежать?
Во многих отношениях самым простым выходом для них было бы убить меня. Но каковы альтернативы? Предположим, просто так, для забавы, что допрашивавшая меня женщина подразумевала что-то конкретное, говоря о «милосердии». Что она могла иметь в виду?
Возможно, стирание памяти, причем грубое. Если МБР не хочет тратить круглую сумму на картирование моего мозга ради поиска нужной им информации, этого тем более не будут делать ради сохранения целостности моей личности. В процессе эволюции человеческой памяти не требовалось вырабатывать механизм удобного стирания информации. Чтобы исключить из памяти заданный набор сведений, не затронув больше ничего, требуется проведение колоссального объема расчетов. Единственный дешевый, но эффективный вариант – пройтись бульдозером.
Итак (в порядке убывания вероятности), они могут убить меня, стереть мою память, отпустить. Как изменить ситуацию в свою пользу? Есть ли надежда найти (или изобрести) причины, по которым моим тюремщикам следует оставить меня целым и невредимым? Ведь я так и не знаю, кто они и чем занимаются, да и вряд ли узнаю, если у меня по-прежнему не будет возможности собирать информацию.
Снимки Culex'a все еще у меня в голове. Я снова просматриваю их, один за другим, надеясь на то, что мог не заметить что-нибудь важное. На экранах рабочих станций полно информации, но я не очень-то разбираюсь в цепочках ДНК, моделях белков и нейронных картах. Я могу прочитать их, как ребенок способен прочитать все буквы даже в самой трудной книге, но нет ни малейшей надежды, что я сумею распознать изображенные на экранах структуры, не говоря уже о разгадке возможного направления исследований.
Меня опять кормят. Охранник сменился. Я часами тасую в голове одни и те же факты, но из противоречий не кристаллизуется ничего нового. Побег представляется таким же невероятным, как раньше. Кинуться на охранника – верное самоубийство, с разбегу выбить стекло и выброситься на улицу – шансов выжить чуть больше, но скорее всего меня застрелят еще на полпути к окну.
Чем более призрачными выглядят возможные пути к спасению, тем в большую отрешенность погружает меня «Н3». Эта настройка требует от меня новой информации и сама же знает, что я не могу ее добыть. Она требует, чтобы я сосредоточился на реалистичных стратегиях выживания, но понимает, что их просто нет. Как она поступит, когда у нее не останется ни единой цели, к которой можно стремиться, а хитроумные критерии оптимизации потеряют всякий смысл? Отключится? Смирится? Предоставит мне самому делать выбор из нескольких безнадежных вариантов?
Ближе к вечеру в комнату заходит человек, который вчера вел меня на допрос. Он бросает на кровать наручники:
– Надень и застегни за спиной.
Что на этот раз? Еще один допрос? Я встаю, поднимаю с кровати наручники. Другой охранник направляет пистолет мне в лоб и щелкает кнопкой автоматического режима.
– Куда вы меня повезете?
Никто не отвечает. Помедлив, я застегиваю наручники. Первый охранник подходит ко мне, вынимая капсулу для подкожных инъекций. Я уже почти привык ко всему этому.
Ага, ясно. Давно знакомая процедура, бояться нечего – именно так это и нужно делать. В руках у охранника такая же светло-голубая капсула, как и прежде, но маркировка на ней закрыта его рукой.
– Скажите, куда мы все-таки поедем?
Не обращая на меня внимания, он вытаскивает капсулу из пакетика. Он смотрит прямо мне в глаза, но моды настолько урезали его сознание, что взгляду уже нечего выражать.
– Я хочу знать...
Двумя пальцами он натягивает кожу у меня на шее. Ровным голосом я произношу:
– Я хочу поговорить с вашим боссом. Я не все рассказал ей в прошлый раз. Мне надо объяснить ей кое-что важное.
Никакой реакции. Оружие по-прежнему на автомате, отбиваться – верная смерть. Игла входит в кожу. Остается только ждать.
* * *
Я открываю глаза и, моргая, смотрю на залитый ярким солнцем потолок. Комната все та же. Настройка, впрочем, снята. Сейчас 16:03, седьмое января. Стул охранника на месте, но самого охранника нет.
Некоторое время я лежу совершенно неподвижно. Мышцы онемели, голова кружится. Когда я пробую встать, чувствую еще большую слабость и остаюсь сидеть на краю постели, обхватив голову руками, пытаясь привести мысли в порядок.
Я испытываю приступ острой, удушливой клаустрофобии. Вот так бы и умер, как славный послушный робот. Хуже всего вспоминать, как я спокойно смирился с тем, что надеяться больше не на что, как послушно прошел все этапы этого пути.
Если бы меня попросили, я бы и могилу себе вырыл.
Но я все еще жив. Почему? Для чего меня усыпили? Если они перекроили мою память, то сработали на редкость чисто – за один день так вряд ли сделаешь. (Впрочем, может быть, прошел целый год, а все, что говорит об обратном, подделано?) Дверь открывается, я поднимаю голову и вижу того охранника, который делал мне укол. Он вооружен, но пистолет висит на поясе, в кобуре. Он, похоже, знает, в каком я состоянии. Может быть, они смыли мои настроечные моды? Я вызываю «Н3», он на месте, и я едва удерживаюсь от того, чтобы включить настройку.
Он что-то бросает мне. Я даже не пытаюсь поймать этот предмет, и он падает к моим ногам. Это магнитный ключ.
– От подъезда, – говорит он. Я смотрю на него во все глаза. Похоже, он немного смущен. По-моему, он отключил все свои поведенческие моды. Он берет стул, стоящий в углу, ставит его рядом с кроватью и садится, глядя на меня:
– Все нормально. Меня зовут Хуан Кинь. Мне надо тебе кое-что сказать.
– Что? – Кажется, я начинаю догадываться. Снова мелькает мысль включить настройку, чтобы смягчить удар, чтобы не впасть в шок, но я уже почти уверен, что это не потребуется.
Он осторожно говорит:
– Ты завербован. Тебя завербовал Ансамбль.
– Ансамбль. – Это слово пронизывает мой мозг, по дороге нажимая на кнопки и щелкая переключателями. На мгновение моему взору ясно предстает новенький, сверкающий механизм, четко очерченный и совершенно понятный. Хотя, быть может, это не более чем иллюзия, побочный эффект, фантом. В любом случае озарение (или мираж) через секунду исчезает, и теперь постичь механику того, что возникло в моем мозгу, мне ничуть не легче, чем докопаться путем самоанализа до тех нейронов, которые управляют моими кишками или сердечной мышцей.
– Что с тобой?
– Все в порядке.
Это правда, так оно и есть. Я – как бы по обязанности – испытываю некий абстрактный ужас и что-то вроде ярости, но все это перевешивается острым чувством облегчения от того, что я наконец узнал и понял свою дальнейшую судьбу.
Так вот что означало их «милосердие». Я жив. Моя память осталась нетронутой. У меня ничего не взяли – наоборот, дали нечто новое.
Я не имею понятия о том, что такое Ансамбль. Но я точно знаю, что в моей жизни нет ничего важнее.
Часть 2
Глава 5
Когда Хуан уходит, я еще несколько минут слоняюсь по комнате, мысленно составляя список необходимых покупок. Одежда, в которой я проник в МБР, уничтожена, но кошелек мне вернули в полной сохранности. Затем я вспоминаю, что у меня есть одежда в «Ренессансе» и, кстати, не мешало бы рассчитаться за номер. Я кладу ключ от подъезда в карман, спускаюсь по лестнице, нахожу табличку с названием улицы, определяюсь на местности. Оказывается, я всего в нескольких километрах к югу от отеля, и я иду туда пешком.
Я не могу удержаться от фантазий на тему о том, что я стал бы делать, если бы мои прежние приоритеты имели надо мной прежнюю власть. Новый мод не препятствует этим фантазиям. В голове непроизвольно проносятся самые невероятные сценарии, вплоть до того, чтобы героическим усилием воли подавить действие мода хотя бы настолько, чтобы успеть добежать до ближайшего нейротехника, который и освободит меня. Я не сомневаюсь, что именно этого я захотел бы раньше, но мне так же очевидно, что сейчас я этого совершенно не хочу. В этом неприятном раздвоении сознания есть нечто, напоминающее настойчивые, но не вполне искренние уколы совести.
На улицах полно народу, влажность такая, что можно задохнуться. С почти механической настойчивостью я пробираюсь сквозь субботнюю вечернюю толпу. Прохожу через большую группу из примерно шестидесяти подростков обоего пола, чьи совершенно идентичные ухмыляющиеся лица скопированы с какой-то поп-звезды. Одинаковые люминесцентные татуировки синхронно мигают, воспроизводя серию психоделических узоров. «Они не ищут приключений, – говорит «Дежа Вю». – Просто хотят, чтобы их видели».
Придя в отель, я быстро собираю вещи и рассчитываюсь. На обратном пути делаю крюк и иду мимо аэропорта. В основном из любопытства – хочу выяснить, следят ли за мной, или МБР отныне полностью мне доверяет. Я хочу войти в зал, попытаться купить билет и посмотреть, станет ли кто-нибудь мне препятствовать, но эта мысль кажется настолько ребяческой, что я тут же забываю о ней и иду дальше.
Подсознательно я ожидаю услышать какие-нибудь внутренние голоса или увидеть галлюцинации, хотя прекрасно знаю, что такие грубые методы больше не используются. Моды верности ничего не нашептывают вам прямо в черепную коробку. Они не забрасывают вас изображениями объекта преданности, одновременно возбуждая центры удовольствия в мозгу, и не скручивают болями и тошнотой, если ваши мысли отклоняются от правильного курса. Они не затуманивают ваши мозги блаженной эйфорией или лихорадочным фанатизмом, не пытаются перехитрить, заставляя поверить в противоречивую, но изящную казуистику. Никакого промывания мозгов, никакой дрессировки, никакого внушения. Мод верности не инструмент, призванный что-то изменить, он сам является конечным продуктом, свершившимся фактом. Не обоснование веры, а сама вера, вера во плоти, или скорее плоть, превращенная в веру.
Более того, нейроны, на которые воздействует мод, перекоммутируются жестко, так что последующие манипуляции невозможны физически. Поколебать такую веру невозможно.
Не знаю, усиливают или ослабляют все эти сведения раздвоенность моего сознания. Мод никак не препятствует мне думать об этих вещах. По-видимому, тот факт, что я понимаю, что со мной произошло, дает такие преимущества, которые перевешивают любые конфликты между искренностью чувств и осознанием их истинной природы. В конце концов, если бы я не знал, почему я испытываю такие чувства к Ансамблю, то, наверное, сошел бы с ума, пытаясь это понять. Мод, конечно, можно было сконструировать так, чтобы он никак не проявлял своего существования. Можно было бы позаботиться и о том, чтобы не возникали вопросы о причинах произошедших перемен. Однако такую цензуру было бы очень трудно реализовать, не низводя пользователя до состояния почти полного идиотизма. Вместо этого мой разум и память остались нетронутыми (насколько я могу судить), чтобы я мог самостоятельно все осмыслить и принять новую ситуацию.
Ансамбль, как объяснил Хуан, – это международный союз исследовательских групп. МБР возглавляет этот союз. Работа, которой они занимаются, должна совершить переворот в науке, и я призван сыграть свою скромную роль в том, чтобы эта работа велась без помех. Я все еще несколько заторможен после легкого шока, но это постепенно проходит, и я начинаю сознавать, в какой восторг приводит меня эта перспектива. Ведь служить Ансамблю действительно очень важно для меня, и то, что это результат действия наномашин, а не более традиционных факторов, ничуть не умаляет этой важности.
Разумеется, залезать без разрешения в чужой мозг – гнусность, но в данном случае, когда речь идет о таких жизненно важных вопросах, как безопасность Ансамбля, такое вмешательство было совершенно оправданно. Да, сутки назад я считал МБР своим противником, но не это было фактором, определяющим всю мою личность. Я тот же человек, что раньше, только у меня другая работа и другие приверженности, вот и все.
Я захожу перекусить в небольшую, битком набитую забегаловку – больше для того, чтобы отвлечься. Я обнаруживаю, что чем дольше я удерживаюсь от того, чтобы заниматься бессмысленным анализом положения, в котором я оказался, тем больше оно мне нравится. Я буду работать на Ансамбль! Чего же мне еще надо? Может быть, это в конечном счете все-таки дрессировка – мод вознаграждает меня за правильный образ мыслей? По-моему, нет. Просто человек быстро устает от раздумий о том, что именно делает его таким счастливым.
Я возвращаюсь на квартиру чуть позже полуночи. «Карен» говорит: «Скажи мне – ты влюбился? Или стал религиозным?»
Я отсылаю ее прочь.
Лежа в темноте, я не могу удержаться от того, чтобы обдумать все это еще раз.
Мод верности – это отвратительно. Но Ансамбль занят важнейшим делом, он должен был как-то защитить себя, и я не хотел бы, чтобы это было сделано иначе.
Почему я уверен, что они заняты важным делом, хотя даже не знаю, что это за дело? Конечно, потому, что мне поставили мод верности.
Я знаю, что мои чувства вызваны техническим путем, но это не делает их слабее. Одна часть моего сознания считает это парадоксальным, другая – вполне естественным. Это противоречие можно обдумывать, пока не сойдешь с ума или пока оно не покажется чем-то вполне житейским. Но устранить само противоречие невозможно.
А я уверен, что не сойду с ума. Я привык к «Н3». Я привык к «Карен». Мне никогда не ставили моды насильно, но принцип-то тот же. В глубине души я, конечно, уже давно смирился с тем фактом, что мои переживания, мои желания, ценности – не более чем детали анатомии. На этом уровне не существует парадоксов, противоречий, нет вообще никаких проблем. Кусок мяса в моем черепе немного переделали, вот и все.
А если говорить о ценностях и желаниях, никогда в жизни я не хотел ничего так сильно, как сейчас хочу служить Ансамблю. Единственное, что мне нужно сделать – как-то согласовать это с моим представлением о том, кто я есть.
Утром приходит Хуан, чтобы помочь мне привести в порядок мои дела. Имея таких спонсоров, как МБР, иммиграцию можно считать простой формальностью. Я заказываю перевозчиков, которые упакуют и доставят сюда содержимое моей квартиры в Перте. Лишь несколько секунд уходит на то, чтобы изменить национальную принадлежность моих банковских счетов и физический адрес моего телефонного номера.
Мой клиент должен звонить двенадцатого, чтобы получить отчет за две недели. Я оставляю на «Ночном коммутаторе» сообщение. Оно будет передано абоненту, который введет условленный пароль (известный моду, но не мне). Сообщение гласит, что я прекращаю работу над делом из-за болезни и прошу указать номер счета, на который можно возвратить полученный аванс.
Пока я навожу порядок в делах своей прежней жизни, я думаю о том, насколько разумнее было завербовать меня, чем убивать. Не надо возиться с трупом, подделывать компьютерные файлы, сбивать со следа полицию. Придется всего лишь пару раз соврать, вполне невинным образом. Жертва добровольно помогает преступнику – наверное, это и есть идеальное преступление.
Днем Хуан показывает мне МБР.
Сотрудников около ста, в основном ученые и техники. Мне объясняют только небольшую часть организационной структуры. Службой безопасности руководит Чень Я Пинь, та женщина, которая меня допрашивала. Но у нее есть и другие, административные и научные обязанности, ее официальная должность – менеджер по организационно-техническим вопросам. Она опять расспрашивает меня, уже не под дулом пистолета, и, кажется, разочарована тем, что мои ответы почти не изменились. Единственный обман, в котором я признаюсь, – это две гипотезы о мотивах похищения, которые я утаил в прошлый раз. Когда я рассказываю о них, по ее лицу невозможно понять, насколько я близок к истине. Я огорчен этим, но не подаю виду. Ансамбль для меня – все, и я хочу знать о нем все, но понимаю, что это надо заслужить.
Позже она показывает мне красиво отпечатанный рекламный проспект новейшей системы электронной защиты от инфохамелеонов. Со всей возможной деликатностью я сообщаю неприятную новость – хамелеоны последней модификации, которые поступят в продажу в конце месяца, сделают эту дорогую систему совершенно бесполезной. Без дотошной предварительной проверки изготовители хамелеонов не станут иметь дело с Чень Я Пинь, но я обещаю держать ее в курсе всех новостей.
Служба безопасности состоит из четырех человек, с которыми я уже знаком. Кроме Хуан Киня, это Ли Со Лунь (которая вколола мне наркотик в подвале), а также Янь Вен Ли и Лю Хуа (который сторожил меня в квартире). Ли, самая старшая, ведет все текущие дела. Она рассказывает мне о предстоящей работе. На дежурстве всегда двое, дежурство ведется круглосуточно семь дней в неделю. Нас теперь пятеро, так что смена будет длиться девять часов тридцать шесть минут. Я заступаю сегодня вечером и дежурю с 19:12 до 04:48.
Перед вечером я звоню родителям, которые путешествуют по Европе. Я нахожу их в Потсдаме. Они, кажется, довольны, что я наконец нашел постоянную работу. Против моего переезда на север они тоже ничего не имеют. «В НГ столько возможностей...» – неопределенно говорит мать. Они рассказывают, что в Германии стало намного хуже. Фронт независимости Саксонии снова взрывает поезда.
До полуночи со мной дежурит Хуан. На службе я под настройкой. У четырех моих коллег есть «Страж» – коммерческая версия «Н3». Несмотря на любопытство, я не спрашиваю – из деликатности, – стоит ли у кого-нибудь из них мод верности. Хуан говорит, что после моего вторжения режим безопасности усилен. Это выражается в том, что мы время от времени обходим этажи и территорию. Все остальное, даже наблюдение за экранами видеокамер, делают компьютеры. Наше присутствие совершенно необходимо, ведь никакие компьютеры не помешали бы мне в ту ночь скрыться вместе с Лаурой, но заняться все равно нечем. В промежутках между обходами мы коротаем время за картами или шахматами. Необходимости в этом нет, ведь моды подавляют скуку, но у Хуана, несмотря на то что он моложе меня на пятнадцать лет, весьма старомодные взгляды:
– Когда ты чем-то занят, бдительность повышается. Кроме того, провести в трансе и оцепенении полжизни – все равно что вдвое сократить свою жизнь.
Некоторые сотрудники работают ночью, но мы с ними почти не общаемся. Одно я угадал точно – за комнатой Лауры ведется особое наблюдение, а группа, изучающая ее, работает круглосуточно. Им выделена половина этажа, набитая вычислительной техникой. Во время обходов некоторые здороваются с Хуаном, но большинство не обращает на нас внимания. Я поглядываю на экраны рабочих станций: нейронные карты, ряды формул. На одном экране мелькает схема подвальной комнаты, но пользователь тут же переключается на другую задачу. Любопытно, как обернулось бы дело, если бы Culex случайно сфотографировал как раз этот экран? Впрочем, что об этом думать.
В полночь Хуана сменяет Ли. Она куда менее разговорчива, из-за этого «Н3» погружает меня еще глубже в режим наблюдения. Я не теряю ощущения времени, просто это меня не отвлекает. Когда Янь приходит, чтобы сменить меня, я не испытываю ни радости, ни облегчения – вообще никаких чувств.
По дороге к метро я снимаю настройку. Когда установки «Н3» рассеиваются, я на мгновение теряю ориентацию и останавливаюсь, чтобы осмотреться и понять, где нахожусь. Пустая кривая улица. Приземистые бетонные корпуса лабораторий и цехов. Предрассветное серое небо. Чудесный прохладный воздух. Я замечаю, что буквально дрожу от радости.
* * *
Мой клиент звонит двенадцатого, как и условленно, но не оставляет никакого сообщения. Возможно, он или она так боятся, что их вычислят по номеру счета, что предпочитают потерять деньги, забывая о том, что, переводя мне аванс, они подвергались почти такому же риску.
Моя мебель доставлена. Вид на жительство утвержден. В свободное время я исследую город, ориентируясь по карте «Дежа Вю» (комментарий для туристов я отключаю). Храмы и музеи меня не интересуют, я иду куда глаза глядят, мимо жилых кварталов и деловых небоскребов, универсамов и уличных рынков. Жара и давка на улицах все так же угнетают, муссонные дожди всегда застают меня врасплох, но я замечаю, что с некоторых пор ругаю погоду как-то по-приятельски.
Хуан Кинь живет километрах в двух западнее, вместе со своей подругой Тео Чу. Она звукооператор и музыкант. Как-то утром они приглашают меня к себе, мы слушаем последнюю запись Чу – гипнотически красивое сочинение, наполненное странными рваными ритмами, где неожиданно нарастающее звучание сменяется точно выверенными паузами. Она рассказывает мне, что в этой работе ее вдохновляла традиционная камбоджийская музыка.
Оба прибыли сюда в качестве беженцев, но не из старого Гонконга. Хуан родился на Тайване. Почти все его родственники были госслужащими при правительстве националистов, и даже спустя одиннадцать лет после оккупации почти все работы были для них закрыты. Когда Хуану было пять, они бежали на юг. Корабль захватили пираты, несколько человек было убито.
– Нам повезло, – говорит он. – Они забрали все приборы и поломали двигатели, но не заметили запасов пресной воды. Через несколько дней на нас наткнулся патрульный катер из Минданао. Они отбуксировали нас в док для ремонта. Филиппины тогда вели антикитайскую политику, нас встречали как героев.
Чу родилась в Сингапуре. Ее мать, журналист, вот уже восемь лет находится в тюрьме – ей ни разу не сказали, за что именно. Когда мать арестовали, Чу училась в университете в Сеуле. С тех пор ей не разрешают возвращаться в Сингапур. Отца у нее нет – она родилась в результате девственного зачатия. Она посылает Деньги родителям своей матери на ведение бесконечного судебного процесса, но пока что суд, как часы, каждые восемнадцать месяцев продлевает решение о содержании под стражей.
Я не думаю, что Чу в курсе истории с похищением, и рассказываю ей о моем переходе в МБР в очень общих выражениях. Хуан опускает глаза и пристально разглядывает ковер, пока я говорю о том, как шесть лет служил офицером тюремной охраны в «Реа-Корп» и как меня сократили, когда у них началась реорганизация. Без «Стража» он часто чувствует себя со мной неловко, и это понятно – у него, по-моему, нет мода верности, и поэтому моя преданность Ансамблю должна вызывать у него некоторое смущение. Ведь в отличие от меня он знает лишь причину такой преданности, но не знает, насколько глубоко она оправданна. Кроме того, я уверен, что он получил указание подружиться со мной, и это еще больше затрудняет общение.
Идут недели, и моя новая жизнь все больше входит в колею. Мне по-прежнему любопытно, как изучают Лауру и чем вообще занимается Ансамбль, но я сознаю, что мое неведение отвечает высшим интересам Ансамбля. Несмотря на это, мне хотелось бы приносить больше пользы, чем проводить по девять с половиной часов в день в качестве сторожа-зомби. Я даже не знаю, от кого мы, собственно, охраняем МБР – ведь я был единственным, кто всерьез пытался разыскать Лауру. Даже если мой бывший клиент нанял другого сыщика, тому вряд ли повезет так же, как мне, – записи о заказах на лекарства уничтожены. Так кто же враг?
Я быстро понял, что лучше не включать «Карен». Ее саркастические комментарии только смущают и злят меня. Я пытаюсь управлять ею, стараюсь представить, что она разделяет мой восторг от новой жизни, но память можно обмануть только до определенного предела – я физически не могу вообразить радость Карен по поводу того, чем я стал. Однако даже без мода она иногда снится мне. Я просыпаюсь в холодном поту от еретических ночных кошмаров, а гневные диатрибы Карен стучат в моем мозгу. Я приказываю «Боссу» не допускать ее в мои сны. Мне очень тяжело без нее, но Ансамбль придает мне силы.
То и дело, когда шумным жарким утром я пытаюсь заставить себя включить сон, я вновь возвращаюсь к противоречию» лежащему в основе моего нового «я». Оно не меняется, никуда не исчезает. Я прекрасно понимаю, что моя судьба должна казаться мне ужасной – но не испытываю никакого ужаса. Я не чувствую себя в ловушке. Я не ощущаю себя жертвой насилия. Умом я понимаю, что мое чувство удовлетворения нелепо, иррационально, противоречиво. С другой стороны, разве то, что делало меня счастливым раньше, было основано на безупречном логическом и философском фундаменте?
У меня бывают минуты одиночества, уныния, смятения – мод верности не вмешивается напрямую в мое настроение. Тогда я слушаю Музыку, смотрю ГВ – есть много способов заглушить боль.
Но и самая прекрасная музыка, и самые увлекательные зрелища когда-нибудь кончаются, и тогда мне остается только вглядываться в собственную душу и задавать себе один вопрос – ради чего я живу? Никогда раньше я не мог ответить на этот вопрос, а теперь могу.
Я живу, чтобы служить Ансамблю.
Глава 6
Когда Чень Я Пинь вызывает меня в свой кабинет, впервые за шесть месяцев, я не могу справиться с волнением. Ежедневный распорядок уже настолько въелся мне в плоть и кровь, что любое отклонение от него – например, такой пустяк, как поехать на метро позже или раньше обычного – меня нервирует. Я подытоживаю все огрехи в служении Ансамблю, которые накопились у меня на совести, и прихожу в ужас. Их так много, что меня следовало наказать уже давным-давно. Что меня ждет – выговор? понижение? увольнение?
Чень немногословна:
– Вы переводитесь на другую работу. В другое здание. Будете охранять одного из добровольцев.
Добровольцев? В первую минуту мне приходит в голову, что это эвфемизм для обозначения таких, как Лаура, похищенных умственно неполноценных людей, но Чень показывает мне фотографию Чунь По Квай, сделанную на церемонии вручения университетского диплома, и становится ясно, что речь идет совсем о другом.
– Вы будете работать в учреждении под названием ПСИ – «Перспективные системные исследования». Там никто не знает, чем мы занимаемся здесь, и на это есть веские причины – в высших интересах Ансамбля, чтобы отдельные части проекта разрабатывались независимо. Так что вы не должны ни при каких обстоятельствах обсуждать с сотрудниками ПСИ то, что вы видели и узнали здесь, в МБР. Точно так же вы не должны никому из сотрудников МБР, кроме меня, рассказывать о работе ПСИ. Все ясно?
– Да.
Меня охватывает головокружительный восторг – я не наказан, не отстранен от работы. Перевод в ПСИ означает доверие. Меня повысили.
Но почему именно меня? Не Ли Со Лунь? Не Хуан Киня?
Конечно, все дело в моде верности. Чего я без него стою?
– У вас есть вопросы?
– От чего конкретно я буду охранять мисс Чунь?
Помедлив, Чень сухо отвечает:
– От непредвиденных обстоятельств.
* * *
Я увольняюсь из МБР. Чень снабжает меня блестящим отзывом и дает номер агентства по трудоустройству, специализирующегося на охране. Я звоню туда. Оказывается, у них как раз есть место, которое мне очень, подходит. Они беседуют со мной по видеофону. Я отсылаю им биографию и отзыв с прежней работы. Через сорок восемь часов я зачислен в штат.
* * *
«Перспективные системные исследования» располагаются в черной как смоль башне, чей фасад, похожий по фактуре на толченый древесный уголь, оплетен пятиметровым слоем сверхтонкой серебряной паутины – ее присутствие выдают только вспышки солнечного света на полированной поверхности нитей. Слишком броская архитектура поначалу удивляет меня, но я понимаю, что в этой части города иной стиль был бы неуместен. К тому же у ПСИ, возможно, нет причин стараться не привлекать внимания – скорее всего они не замешаны ни в какой нелегальной деятельности, а формальных связей с МБР не имеют.
Охрана здесь серьезная, не то что в МБР. На каждом этаже охранники, а при входе проверка, как бывает в хорошей тюрьме. Чунь По Квай и другие добровольцы размещаются в квартирах на тридцатом этаже. Непонятно, зачем им еще и личные телохранители. Наверное, на то есть серьезные причины, а это означает, что у Ансамбля есть враги. При этой мысли меня охватывает ярость и одновременно решимость не жалеть сил, выполняя свою задачу. Под настройкой я, разумеется, не испытываю ярости, но приоритеты, определяемые моим внешним «я», остаются в силе.
Тонг Хой Ман, руководитель службы безопасности, рассказывает мне о моих обязанностях. Мне будут предоставлены дополнительные моды для взаимодействия со сложными информационными потоками охраны ПСИ. Смена будет длиться двенадцать часов, с шести вечера до шести утра. Режим работы мисс Чунь будет гибким – иногда она будет допоздна находиться в лабораториях, иногда отдыхать день-два. Но выходить из здания она не будет, что значительно упрощает мою работу.
Перед первым дежурством я волнуюсь, но настроение приподнятое. Скоро тайна Ансамбля станет еще на шаг ближе. Наверное, слишком самонадеянно считать, что я когда-нибудь узнаю об Ансамбле все. Хотя Чень, например, знает все, не так ли? А ведь у нее нет мода верности, я в этом убежден.
Поколебавшись, я извлекаю на поверхность сознания мои старые версии, касающиеся похищения Лауры. За последние месяцы Ансамбль превратился для меня в совершенно отвлеченное понятие, и даже неловко связывать его с какими-то конкретными, реальными, земными проблемами. Однако бояться нечего – какой бы ни оказалась правда, она не сможет обесценить идеал. Чем бы ни занимался Ансамбль, каким бы обыденным, суетным это ни выглядело, это все равно будет работа Ансамбля, и тем самым – самая важная работа на свете.
Большинство моих тогдашних идей теперь выглядят абсурдом. Не могу поверить, что международная организация, ведущая исследования во многих областях, была создана исключительно для того, чтобы изучить врожденное повреждение мозга, вызванное приемом какого-то неизвестного лекарства. Даже если потенциальный размер причитавшейся компенсации достигал миллиардов долларов, было бы нелепо тратить сравнимую сумму на исследования – куда дешевле и надежнее использовать другие пути для саботажа предстоящей тяжбы.
Только одна гипотеза пока сохраняет какой-то смысл – Лаура-эскейпер. Если я по-прежнему не могу представить, как ее предполагаемый талант может работать на практике, мне остается признать, что я просто слишком глуп для этого. Ведь она же действительно сбежала из Института Хильгеманна. Она же вышла из запертой комнаты в подвале. Другие объяснения выглядят уж слишком надуманными. Например, вдруг в ту ночь, когда я проник в МБР, кто-то забыл запереть дверь внутренней комнаты, а Лаура вышла и захлопнула ее за собой? Но ведь захлопнуть дверь с таким замком невозможно, закрыть ее без ключа ничуть не легче, чем открыть.
Короче говоря, ясно одно – если телекинез все-таки существует, то ради его изучения и использования стоило бы создать научный концерн таких масштабов, как Ансамбль.
А что, если МБР удалось создать мод, реализующий способности Лауры? Тогда этот мод надо испытать.
На добровольцах.
* * *
«Вверх. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вверх».
В комнате 619 слышен только этот спокойный ровный голос. Почти наверняка говорит человек – несмотря на все антропоморфные причиндалы, которыми снабжены системы генерации речи, ни один научный прибор пока не способен охрипнуть от усталости.
Комната уставлена электронными блоками, закрепленными на стойках. От блока к блоку тянутся змеи оптических кабелей. Среди этого хаоса за главным пультом сидит пожилая женщина. Она внимательно смотрит на большой экран, покрытый разноцветными гистограммами. Рядом стоят двое молодых мужчин, они смотрят туда же. «Метадосье» (фирма «Майндволтс», 3950 долларов) мгновенно находит имена всех троих в списке сотрудников, имеющих доступ в комнату: Люнь Лай Хань, Лу Кью Чунь, Цзе Юнь Хон. Обращаясь к каждому из них, надо прибавлять «доктор». Когда я подхожу ближе, доктор Лу бросает на меня взгляд, затем снова поворачивается к экрану. Его коллеги меня не замечают. Чунь По Квай нигде не видно, но я предполагаю, что это ее голос доносится из динамика.
«Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз».
Я замечаю ее второго телохранителя, Ли Хинь Чуня, стоящего у соединительной двери, перед которой в воздухе висит ярко-красная голограмма «НЕ ПОДХОДИТЬ». Мы пожимаем друг другу руки, и в этот момент моя копия «Метадосье» через «Красную Сеть» и мои ИК-чувствительные клетки вступают в стремительный, зашифрованный диалог с копией «Метадосье» в его мозгу, давая нам обоим окончательное подтверждение «подлинности» каждого из нас.
Он шепчет:
– Рад тебя видеть. От этой ерунды я уже готов на стенку лезть.
«Вниз. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз».
– У тебя что, «Страж» не включен?
– Включен. Не помогает.
Я ошарашено смотрю на него, он, кажется, хочет что-то объяснить, но вместо этого лишь уныло качает головой:
– Сам увидишь.
«Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх».
Ли говорит:
– Ты знаешь, что она там делает?
– Нет.
– Сидит в темноте, смотрит на флюоресцентный экран и объявляет, в каком направлении отклоняются ионы серебра, влетающие в магнитное поле.
В голову не приходит ничего умного, и я просто киваю в ответ головой.
– Ну пока, до встречи через двенадцать часов.
– Ну давай.
Я принимаю пост у двери, но не удерживаюсь и украдкой бросаю взгляд на дисплей, которым так поглощены ученые. Гистограммы дергаются, покачиваются, но в целом все они мало отклоняются от своей первоначальной формы. То есть в среднем все флуктуации гасятся. Это означает, как я понимаю, что процесс разлета частиц серебра является случайным по всем возможным показателям.
Если я угадал насчет телекинеза, то Чунь По Квай, наверное, старается как-то повлиять на этот процесс, заставить частицы чаще отклоняться в одном направлении, чем в другом. Учится применять свои новые способности, начиная с малого. Но я не понимаю, почему она сама объявляет результат. Компьютеры наверняка отслеживают показания датчиков, зачем же заставлять добровольца читать их вслух?
Гистограммы гипнотически мигают, но я здесь не для того, чтобы развлекаться, наблюдая за экспериментами. Я отворачиваюсь от экрана и скоро убеждаюсь, что слова отвлекают не меньше.
«Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вверх. Вверх».
Какая-то часть моего мозга ухватывает любой ритм, едва намечающийся в случайных сочетаниях слов, а когда он распадается, с еще большим нетерпением принимается искать новый.
«Вверх. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз».
Под настройкой я должен был бы просто не замечать ничего подобного. Невероятно, но это у меня не получается. Ли был прав, и «Н3» в этом отношении ничуть не лучше «Стража». Я слушаю и не могу оторваться.
«Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Вниз. Вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вниз. Вниз. Вниз».
Самое страшное, что я, невольно и: безотчетно, не могу удержаться и пытаюсь угадать каждый ответ за мгновение до того, как он будет объявлен. Даже хуже – я пытаюсь повлиять на ответ. Пытаюсь внести какой-то порядок. Раз уж я не могу прекратить это бессмысленное бормотание, надо попробовать придать ему какой-то смысл.
Мне кажется, что Чунь По Квай ощущает то же самое.
* * *
Каждый сеанс длится пятнадцать минут, затем следует десятиминутный перерыв. Мисс Чунь выходит из ионной комнаты. На ней огромные солнечные очки – чтобы глаза не отвыкли от темноты. Она выпивает глоток чая, разминает затекшие ноги, отстукивает странные ритмы ногтями на корпусе какого-то прибора. В первый перерыв она перекидывается со мной парой слов, потом молчит – бережет голосовые связки. Ученые игнорируют и меня и ее, деловито просматривая данные и запуская немыслимые статистические тесты.
Каждый раз, когда эксперимент возобновляется, я твердо решаю не слушать эту коварную и бессвязную песенку. Пусть «Н3» меня подвела, но ведь должны же оставаться хоть какие-то следы естественной способности к самоконтролю! Я стремлюсь к привычному состоянию полной отрешенности от всего, кроме службы, – но тщетно. По-видимому, это невозможно. Когда я смиряюсь с таким выводом, мне становится значительно спокойнее.
Похоже, что ученых монотонное бормотание совершенно не раздражает. Впрочем, для них это не шум, который они обязаны игнорировать, а важная информация.
Насколько я понимаю, результаты по ходу эксперимента не улучшаются. Однако я обращаю внимание на одну странность – гистограммы изменяются лишь после того, как объявляется очередное направление разлета. Это легко заметить, когда встречается сплошная серия ионов, улетающих в одном и том же направлении, – гистограммы становятся все более однобокими, и такая их форма сохраняется до тех пор, пока не объявляется ион, улетевший в противоположную сторону. Но ведь если компьютеры получают информацию прямо от приборов, гистограммы должны меняться до, а не после объявления – обработка очередного события занимает не более нескольких микросекунд, за это время человек едва ли успеет даже отреагировать на вспышку света на экране. Что это значит? Компьютеры получают информацию не от датчиков, а со слов По Квай – из вторых рук? Бред какой-то. Наверное, ученым удобнее смотреть на данные именно в таком порядке, и задержка просто запрограммирована.
В 20:35 доктор Люнь наконец-то объявляет, что на сегодня работа окончена. Трое экспериментаторов, склонившись над пультом, обсуждают чувствительность шестого момента биномиального распределения. Мисс Чунь подталкивает меня локтем и шепчет:
– Есть хочется. Давайте удерем отсюда.
* * *
В лифте она достает маленький пульверизатор и брызгает себе в горло.
– Во время работы мне не разрешают этим пользоваться, – говорит она. – Здесь слишком много обезболивающих и противовоспалительных, боятся нарушить чистоту эксперимента.
Откашлявшись, она добавляет:
– А кто я такая, чтобы спорить?
В башне ПСИ есть собственный ресторан, на восемнадцатом этаже. Мисс Чунь торжествующе оповещает меня, что в ее контракте оговорено бесплатное питание – в неограниченном количестве! Она вставляет свой пропуск в специальную щель, и на поверхности стола загорается иллюстрированное меню. Быстро сделав заказ, она удивленно смотрит на меня:
– А вы не будете есть?
– На дежурстве – нет.
Она недоверчиво смеется:
– Будете голодать двенадцать часов? Да бросьте! Ли Хинь Чунь ел на дежурстве, а вам что, нельзя?
Я пожимаю плечами:
– Полагаю, у нас с ним разные моды. Мод, управляющий моим обменом веществ, устроен так, что ему даже проще поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, пока я ничего не ем.
– Что значит, «проще»?
– После еды уровень инсулина обычно повышается, от этого возникает такая, знаете, легкая сонливость. Мод может подавить и ее, но я больше полагаюсь на устойчивую конверсию гликогена.
Она качает головой, с улыбкой, но недоверчиво. Оглядев переполненный ресторан, где над каждым столом поднимается столб пара, бесшумно исчезающего в вентиляционных отверстиях на потолке, она говорит:
– Ну а эти запахи – они не пробуждают в вас хищные инстинкты?
– Связь в данный момент отключена.
– То есть у вас сейчас нет обоняния?
– Есть, но оно не связано с появлением аппетита. Все обычные сенсорные и биохимические сигналы не действуют – я физически не способен ощутить голод.
– Вот как. – Подъехавшая тележка-робот ловко выгружает на стол ее первое блюдо. Она берет порцию каких-то головоногих, быстро жует. – А это не опасно?
– Нисколько. Если запасы гликогена в моем организме упадут ниже определенного уровня, я получу сообщение об этом. И дальше решение будет зависеть от меня. По-моему, куда удобнее, чем неотвязные муки голода, которые могут отвлечь от чего-то более важного.
Она кивает:
– Получается, вы заставили свое тело обращаться с вами, как со взрослым. Отменили политику кнута и пряника – она хороша, чтобы добиться правильного поведения от животных, но у людей свои приоритеты. – Она снова кивает завистливо. – Я понимаю, это очень соблазнительно. Но где граница?
– Какая граница?
– Граница между «вами» и «вашим телом»... между влечениями, которые вы считаете «своими» и такими, которые вы рассматриваете как навязанные извне. Действительно, зачем терпеть неприятные ощущения, когда хочется есть? Но тогда зачем отвлекаться на секс? Или поддаваться стремлению иметь детей? Зачем страдать от горя? От чувства вины? Сопереживать кому-то? Прислушиваться к обычной логике? Вы хотите сами себе установить жизненные приоритеты, но кто-то другой предпочтет иметь свои, естественные.
Она смотрит на меня язвительно, как бы ожидая, что я сейчас вскочу на стол и публично отрекусь на веки вечные от подавления аппетита, ибо предупрежден о тех ужасных последствиях, которые оно может иметь. У меня не хватает духа сказать ей, что ее предупреждения запоздали – по всем пунктам.
Я говорю:
– Все, что вы делаете, вас изменяет. Вы поели – и стали уже другим человеком. Вы не поели – и тоже стали другим человеком. Брызгание лекарством в горло делает вас другой. Какая разница, применять мод, чтобы отключить голод, или применять лекарство, чтобы отключить боль? Это одно и то же.
Она качает головой:
– Так можно все упростить до абсурда. Все имеет свои крайние и умеренные формы, и вы всегда можете сказать, что это, в сущности, «одно и то же». Но нейронные моды и анальгин – не одно и то же. Потому что моды изменяют главные человеческие ценности...
– А пока не было модов, они не менялись?
– Медленно. И только по серьезным причинам.
– Иногда и по несерьезным. Или вообще без причин. Разве обыкновенный человек разрабатывает для себя во всех деталях некую этическую систему, а потом живет строго по ней, по ходу дела исправляя замеченные ошибки? Так не бывает. Большинство людей просто действуют, по обстановке, а их характер формируется вообще без их участия. Так почему они не имеют права себя изменить – если это сделает их счастливее?
– Но кто становится счастливее? Тот, кто прибег к моду, превращается в другого человека.
– Это старо. Изменение равно самоубийству.
– Что ж, может быть, так оно и есть. – Она неожиданно смеется. – Наверное, то, что я говорю, звучит жутко лицемерно. Если маленькая нравственная хирургия создает новую личность, то я, с моим единственным и неповторимым модом, вообще отношусь к другому биологическому виду...
Я быстро прерываю ее:
– Здесь вы не должны об этом говорить.
Она хмурится:
– Почему? Ведь это ресторан нашей фирмы, здесь только сотрудники ПСИ.
– В здании идет работа по двадцати трем проектам. У разных сотрудников допуск к разным проектам. Вы должны иметь это в виду.
– Я только сказала, что...
– Я знаю, что вы сказали. Я прошу прощения, но моя работа заключается и в обеспечении секретности.
Она, кажется, собирается не на шутку рассердиться, но затем говорит:
– Ну что ж, мне так даже удобнее.
– В каком смысле?
– Лучше я буду считать, что вы здесь для того, чтобы я не болтала лишнего, чем думать, что мне действительно необходим телохранитель.
* * *
Ее квартира находится в самой сердцевине здания. В ней нет окон (большой плюс с точки зрения безопасности), их заменяют голограммы реального времени с таким реалистичным изображением, что от настоящих окон не отличишь. Я быстро обыскиваю комнаты и убеждаюсь, что в них никто не прячется. Тщательный поиск микророботов занял бы неделю и обошелся бы в сотни тысяч долларов. О вирусах и наномашинах и говорить нечего.
Пожелав мисс Чунь спокойной ночи, я сижу в прихожей и наблюдаю за входом. Внутри тишина – наверное, она читает. Если в соседних квартирах что-то и происходит, изоляция гасит все звуки. Даже кондиционер работает бесшумно. Доносится только слабое жужжание каких-то насекомых – наверняка синтезированное. Из каких-то псевдопсихологических соображений его транслируют по всему зданию – чтобы мы могли в душе слиться с первозданной природой Арнемленда. Вроде бы беспорядочный шум, но на самом деле тщательно подобранный так, чтобы никого не раздражать. «Н3» отсекает его без всяких усилий. Я глубже погружаюсь в режим наблюдения. Часы идут за часами, а потом приходит Ли, чтобы сменить меня.
* * *
Речитатив Чунь По Квай вторгается в мои сны. Я приказываю «Боссу» отфильтровать его, но он все просачивается, меняя обличья. Беспорядочная телеграфия точек и тире пронизывает каждый звук, каждое движение, каждый ритм. Вот я, еще мальчишка, веду баскетбольный мяч по площадке, меняя руки – правая, левая, правая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, левая, левая... Вот шахтный робот на складе (о нем вообще вспоминать запрещено), то выезжает из контейнера, то вкатывается обратно...
Отказывает «Н3», отказывает «Босс»... Может, у меня опухоль мозга? Я тестирую все моды, которые сидят у меня в черепе. Все докладывают, что полностью исправны.
Эксперимент продолжается, день за днем, без видимого прогресса. По Квай объявляет результаты так же спокойно, как раньше, но вне комнаты 619 ее обычная жизнерадостность начинает приобретать оттенок защитной реакции. Я быстро прихожу к выводу, что лучше не обсуждать с ней ход работы. Что касается Люнь, Лу и Цзе, для меня остается загадкой, что они думают, – они все время спорят друг с другом, говоря при этом по-английски, но на недоступном мне научном жаргоне. Не может быть и речи, чтобы поинтересоваться у них, как успехи, – для них я не более чем элемент охранной сигнализации, что-то вроде камеры на потолке, а ведь никому не приходит в голову держать ее в курсе дела. Это правильно. Так и должно быть.
Тем не менее однажды, придя вечером на дежурство, я оказываюсь в лифте вдвоем с доктором Лу. Он кивает мне и с заметной неловкостью спрашивает:
– Ну, как тебе нравится работа. Ник?
Я потрясен тем, что он, оказывается, знает мое имя:
– Все в порядке.
– Это хорошо. Я слышал, тебя завербовали... не как других.
Я не отвечаю. Раз мне нельзя даже упоминать о МБР, то уж болтать о моде верности и о том, как его установили, – тем более.
Мы быстро доезжаем до шестого этажа. Прежде чем двери открываются, он тихо говорит:
– Меня тоже.
Он выходит первым, не оглядываясь, идет через проходную. Я молча иду в нескольких шагах позади него по коридору и почему-то чувствую себя заговорщиком.
Глава 7
«Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх».
Десять «вверх» подряд попадается довольно редко, но это еще ничего не значит. Подбросьте монету десять раз – вероятность того, что все десять раз выпадет орел, меньше одной тысячной. Но если вы подбросите монету девятьсот раз, то уже с вероятностью одна треть хотя бы раз получите десять орлов подряд. При девяти тысячах бросаний вероятность этого возрастет почти до девяноста девяти процентов.
Я смотрю на гистограммы. После серии из десяти успешных отклонений некоторые из них отчетливо исказились, но уже видно, как они постепенно возвращаются к своей обычной форме.
Я уже давно перестал делать вид, что не обращаю внимания на ход экспериментов. Чем больше стараешься о них не думать, тем сильнее искушение. В конце концов, если произойдет немыслимое, и кто-то, проникнув сквозь все внешние контрольные пункты, ворвется в комнату 619, я среагирую ничуть не медленнее, чем обычно, даже если позволю себе уловить еще один иллюзорный ритм в напевном бормотании По Квай. В подобных компромиссах есть что-то еретическое, ведь моды настройки для того и нужны, чтобы поддерживать именно оптимальную, а не какую-то другую бдительность. Но раз в конструкции «Н3» есть явная ошибка, понятие оптимальности приобретает несколько иной смысл, и мне остается только смириться с этим. Ли и я доложили Тонгу о возникшей проблеме с модом, но ничего не изменилось. Ни «Аксон» (производитель «Н3» и «Стража»), ни ПСИ с ее огромным опытом создания нейромодов не станут тратить кучу времени и денег на поиск такого странного дефекта.
«Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз».
Шестнадцать! Новый рекорд. Я подставляю числа в маленькую программку, которую написал для «Фон Неймана». Я присутствовал при сорока одном пятнадцатиминутном сеансе, что составляет тридцать шесть тысяч девятьсот испытаний, то есть вероятность случайного выпадения серии из шестнадцати успешных испытаний примерно двадцать пять процентов. Но обдумывать этот результат уже некогда:
«Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх...»
Я не выдерживаю и сбиваюсь со счета. Снова смотрю на гистограммы. Знакомые зазубренные очертания исчезли, сменившись острыми пиками, становящимися все уже и уже...
«Вверх. Вверх. Вверх; Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх...»
Доктор Люнь говорит, смеясь:
– По выжала десять в минус четырнадцатой! По-моему, эффект налицо.
Доктор Лу резко отворачивается от экрана, он явно в смятении. Доктор Цзе бросает на Лу хмурый взгляд.
Странное дело, в голосе По Квай нет ни намека на торжество. Она продолжает объявлять результаты так же спокойно, как раньше. И ее голос гипнотизирует все так же, хотя хаос сменился идеальным порядком.
Через три минуты серия успешных испытаний кончается, и до конца сеанса идет обычный шум. Когда появляется По Квай, на ней нет ее черных очков, она на минуту застывает в дверях, заслоняясь локтем от света, затем, прищурившись, оглядывает комнату.
Обведя всех ошеломленным взглядом, она угрюмо опускает глаза.
– Поздравляем, – говорит доктор Цзе.
Она кивает и хрипло шепчет: «Спасибо». Обхватив себя руками, она вздрагивает, и ее подавленность вдруг сменяется неподдельной радостью:
– У меня получилось, да? – поворачивается она ко мне.
Я киваю.
– Так что же вы стоите? Где шампанское?!
Импровизированный праздник продолжается не более часа – ведь участников всего четверо, плюс наблюдатель-зомби. Из «Метадосье» я знаю, что в том же проекте работают еще двенадцать ученых и девять добровольцев, но доктор Люнь явно не жаждет поделиться новостью о своем успехе с конкурирующими группами.
Ученые говорят о работе, обсуждают план напихать в голову подопытной побольше позитронных трассеров, чтобы уточнить некоторые аспекты «эффекта» – но из того, что они говорят, я не могу извлечь даже намека на то, каким образом возникает сам «эффект». По Квай, счастливая и усталая, сидит рядом, время от времени вступая в разговор. Ее научный жаргон еще похлеще, чем у остальных.
В лифте она говорит:
– Ну, по крайней мере теперь ясно, что я настоящая.
– Не понял.
– Не контрольный экземпляр. А разве вы не знали, что по утрам другой доброволец занимался тем, что точно так же считал ионы на той же машине Штерна-Герлаха? Но у одной из нас был плацебо-мод, у другой – настоящий, и только компьютеры знали, у кого что. Бедняжка! На месте этой женщины я бы, наверное, была в бешенстве – представляете, пройти через такие мучения, и впустую. – Она смеется. – Может быть, именно это и нарушило равновесие? Может быть, поэтому я и не контрольный экземпляр?
Я отвечаю ей недоуменным взглядом, в ответ она улыбается, ясно, что она шутит, но смысл шутки от меня ускользает.
Мы высаживаемся на тридцатом этаже. По Квай говорит, что она слишком устала и не хочет есть. Как обычно, я тщательно обыскиваю квартиру. Она вздыхает:
– Послушайте: допустим, что какой-нибудь конкурент ПСИ узнал о нашем проекте и даже сумел добраться до файлов, в которых записано, у кого из добровольцев настоящий мод, – неужели вы всерьез думаете, что одного из нас могут попытаться похитить? Ведь с этим будет столько хлопот...
Ну, положим, МБР не испугалась хлопот по похищению Лауры, и как раз для того, чтобы заполучить те самые способности, которыми теперь владеет По Квай. Но упоминать МБР запрещено, а По Квай не знает ничего о Лауре – судя по некоторым ее замечаниям, она думает, что мод был от начала до конца разработан с помощью компьютера.
Я пожимаю плечами:
– Я почти уверен, что они скорее стали бы охотиться за описанием самого мода, но...
– Вот именно! Ведь это в тысячу раз проще, чем кого-то похищать, потом сканировать...
– Не думайте, что это описание никто не сторожит. Поэтому нельзя делать вариант с похищением слишком заманчивой альтернативой, понимаете? Так что я считаю, что усиленная охрана здесь очень к месту. Никто не знает, как далеко могут зайти конкуренты. Не знаю, каков будет долгосрочный коммерческий эффект от этой штуки, но... посчитайте, сколько вы могли бы, например, выиграть в казино – всего за один вечер.
Она смеется:
– Вы знаете, сколько атомов в паре игральных костей? Вы хотите, чтобы я усилила сегодняшний результат примерно на двадцать три порядка!
– А электронные устройства? Покерные автоматы?
Она весело мотает головой:
– Исключено.
А как с открыванием замков? Может быть, и на это нет шансов. Может быть, Лаура научилась совершать такие подвиги лишь после тридцати лет тренировок. Мод, который стоит у По Квай, – это только прототип, с которым можно сделать первые шаги. У Лауры огромный опыт, которого нет у По Квай. Но тем не менее По Квай имеет право знать правду о таланте, который ей достался, – ведь чем больше она знает, тем большего сможет достичь. Не может быть, чтобы высшие интересы Ансамбля требовали скрывать от нее происхождение и потенциальные возможности мода. Впрочем, это приказ, а приказы не обсуждаются. Но мне совершенно ясно, что это глупый приказ.
Она плюхается на кушетку, потягивается, потом смотрит на меня с укором:
– Мы только что совершили величайший за сто лет прорыв в науке, а вы толкуете о каких-то покерных автоматах.
– Простите. Азартные игры – первое, что пришло в голову. Я как-то не задумывался о более благородных применениях телекинеза.
– Телекинеза? – Она вздрагивает. Затем нерешительно добавляет:
– Ну да, наверное, пресса именно так это и назовет. Если, конечно, мы когда-нибудь избавимся от этой дурацкой секретности и опубликуем наши результаты.
– А как полагается называть ваше открытие?
– Ну, скажем, «нейронное линейное разложение вектора состояния с последующим сдвигом фаз и целенаправленным усилением заранее выбранных чистых состояний». – Она смеется. – Вы правы, надо придумать что-нибудь более броское, а то журналисты исказят смысл до неузнаваемости.
– «Чистые состояния»? Это что-то из квантовой механики?
Она кивает:
– Вы правы.
Мне кажется, она думает, как бы объяснить мне это подробнее, но я ошибся, она просто собиралась зевнуть. Тем не менее я уверен, что, стоит мне только спросить, и она с радостью все расскажет. Просто спросить: а как все-таки работает этот мод? В чем тут фокус? Какой такой секрет составляет самую суть Ансамбля? Короче говоря, для чего же я живу на свете?
Она говорит:
– Ник, я так устала...
– О, простите. Конечно. Спокойной ночи, до завтра.
– Спокойной ночи.
* * *
Я сижу в прихожей, исправно наблюдаю за входной дверью... и в три пятьдесят две ловлю себя на том, что прислушиваюсь к непрекращающемуся писку псевдонасекомых, и этот писк меня раздражает. Совсем чуть-чуть, но определенно раздражает.
Я пытаюсь снова погрузиться в сторожевой режим. Вместо этого я замечаю, что мне скучно. Потом добавляется еще и беспокойство. В двадцатый раз за эту неделю я запускаю диагностику «Н3» и получаю все тот же результат:
<ОШИБКИ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ>
Что со мной творится?
Это не болезнь. Все моды заявляют, что они исправны, и даже если системы проверки сами испорчены, трудно представить, что случайное повреждение нейронов могло привести к такому осмысленному результату, как генерация ошибочных отчетов об исправности.
А что, если повреждения не случайны? Что, если враги Ансамбля заражают службу безопасности наномашинами? Но такая тактика была бы абсурдной. Зачем медленно разрушать наши моды, давая нам время обдумать симптомы? Несравненно разумнее было бы встроить нам марионеточные моды, сначала – в пассивном состоянии, чтобы избежать субъективных ощущений, а потом включить их, дистанционно, все вместе и, в нужный момент.
Тогда что это?
Прямо передо мной появляется «Карен». Я пытаюсь отключить ее, но безуспешно. Она просто стоит – молча, нахмурившись, так же мало умея объяснить свое появление, как и я. Я умоляю ее исчезнуть:
– Я под настройкой. Тебе же так неприятно видеть меня, когда я под настройкой.
Этот аргумент на нее не действует, и неудивительно – ясно, что я не под настройкой, что бы на этот счет ни думала «Н3».
Кому нужен телохранитель, чьи моды оптимизации перестали работать? Который к тому же страдает неконтролируемыми галлюцинациями?
Я закрываю глаза, начинаю себя успокаивать. Все просто: завтра я пойду в санчасть ПСИ, расскажу о своих симптомах, и пусть врачи разбираются. Что бы со мной ни было, они должны знать, как с этим справиться.
Унизительно думать, что в моем мозгу будут копаться посторонние люди, но дальше терпеть невозможно. Но тогда придется рассказывать о «Карен» и о моде верности... Ничего, что-нибудь выдумаю, им не обязательно знать все. В конечном счете главное – служить Ансамблю, а именно этого я не смогу делать, если заболею.
Я открываю глаза. «Карен» на месте.
Я говорю:
– Ладно, если хочешь здесь торчать, оставайся. Что ты будешь делать? Стоять вместе со мной на часах?
– Нет.
– А что?
Наклонившись, она касается моей щеки рукой. Я беру другую ее руку в свою, острее, чем обычно, чувствуя, как мод отчаянно старается, чтобы мои пальцы не прошли сквозь ее воображаемую плоть. Я провожу большим пальцем по тыльной стороне ее руки, где я так хорошо помню каждый бугорок:
– Мне плохо без тебя. Ты же знаешь.
Она не отвечает.
Должен быть способ вернуть ее. Может быть, я сумею удерживать ее от насмешек по поводу Ансамбля. Надо научиться контролировать ее более жестко, не разрушая при этом иллюзию ее самостоятельности. А может быть, я могу заказать для нее мод – мод верности? Как я раньше об этом не подумал! Ведь моды можно адаптировать. Все можно сделать.
Я поднимаю глаза и встречаюсь с ней взглядом. Спокойная, безмятежная любовь, которую она всегда пробуждает во мне, на этот раз чем-то замутнена, словно гладкая поверхность озера, подернувшаяся рябью от невидимых глубинных течений. Подступает холодок ужасного предчувствия. Я не испытываю запретных эмоций – гнева, горя, вины. Но одна мысль о том, что и этот мод тоже может сломаться, и тогда все, что он сдерживает, от чего меня защищает, снова вернется к жизни, – одна мысль об этом повергает меня в панический ужас.
Я выпускаю ее руку, и...
И «Карен» заполняет комнату.
Она распространяется, расплывается по комнате, бесконечно повторяясь, будто включился какой-то обезумевший голографический проектор. Опрокидывая стул, я вскакиваю, а пространство вокруг меня густеет от все новых изображений ее иллюзорного тела. Я заслоняю лицо, но чувствую, как она касается меня одновременно с разных сторон. Нарастает доносящееся отовсюду гудение, нестройное, неразборчивое, но это, несомненно, ее голос.
Я кричу изо всех сил...
...она мгновенно и полностью исчезает.
Во внезапно наступившей тишине память эхом воспроизводит последнее, что прозвучало, – и я слышу, что мой вопль почти заглушил другой крик.
Крик По Квай.
Выхватив оружие, я вхожу в квартиру. Сверкающая реклама за фальшивым окном – голограмма голограммы – освещает путь. «Н2» не может установить источник звука – данные противоречивы, – но я каким-то образом знаю, что кричали в спальне. В любом случае спальню надо проверить в первую очередь. Дверь приоткрыта. Ударом ноги я распахиваю ее. По Квай стоит в дальнем углу комнаты. Она испуганно поворачивается на месте, лицом ко мне. На мгновение я застываю, пытаясь по выражению ее лица понять, нет ли в комнате кого-нибудь еще; ее глаза могут невольно указать, где этот человек. Но она, похоже, просто ошеломлена и напугана моим появлением. Я вхожу в комнату.
– Вы одна?
Она кивает и выдавливает нервный, сердитый смешок:
– А вы что здесь делаете? Хотите напугать меня до смерти?
– Разве вы не звали?
Она мрачнеет и явно собирается ответить резко, но берет себя в руки и осматривается вокруг, словно вдруг забыла, где находится:
– По-моему... мне приснился страшный сон. Возможно, я вскрикнула во сне. Не знаю. – Она вдруг зажимает рот рукой. – Ой, простите. Вы, наверное, подумали...
– Ничего. – Я засовываю пистолет в кобуру, он явно нервирует ее.
– Ник, мне очень жаль, что так получилось.
– Ничего страшного. Все нормально. Это я виноват, что напугал вас. – Напряжение немного отпустило, и я замечаю, что снова настроен. «Н3» работает нормально. Это хорошо, но так же необъяснимо, как и все остальное.
Она продолжает виновато качать головой:
– Я даже не помню, как встала с постели.
– Вы ходите во сне?
– Никогда. Может быть, во сне меня что-то так потрясло, что я выпрыгнула из постели, закричала... и только потом проснулась. Честное слово, ничего не помню.
Я бросаю взгляд на постель. Непохоже, что из нее выпрыгнули. Я не собираюсь спорить. Полезно знать, что она иногда ходит во сне, но смущать ее, заставляя в этом признаться, ни к чему.
– Ясно. Ладно, извините за вторжение. Не буду вам мешать.
Она кивает.
Сидя в прихожей, я слышу, как она беспокойно ходит по квартире. Я жду, когда «Н3» снова откажет, когда появится «Карен» и снова обезумеет, но ничего такого не происходит. Надеяться, что каким-то чудом все прошло само собой, не стоит – это может повториться когда угодно. Будет даже лучше, если я предстану перед врачами в виде трясущегося от страха психопата, которого чуть не задушил призрак его умершей жены – иначе они просто проведут стандартные тесты, которые, как и самопроверка модов, доложат, что ошибка не обнаружена.
Через десять минут появляется По Квай:
– Не возражаете, если я посижу здесь немного?
– Конечно, пожалуйста.
– Спать уже слишком поздно, завтракать слишком рано – не знаю, куда себя деть.
Она приносит стул и садится, наклонившись вперед. Она все еще заметно взволнована.
Я говорю:
– Может быть, вызвать вам врача?
– Ах, бросьте.
– Дать вам успокоительное?
– Ничего мне не нужно! Я себя прекрасно чувствую. Просто еще не привыкла к тому, что вооруженные охранники врываются ко мне в комнату, размахивая пистолетом. – Я начинаю извиняться, но она меня прерывает:
– Перестаньте, я не к тому. Наоборот, я рада, что вы серьезно относитесь к вашей работе. Просто я начинаю наконец понимать, что ваша работа действительно мне необходима. На предварительном собеседовании мне откровенно сказали, что охрана будет очень жесткой, но я пропустила это мимо ушей, не придала значения.
– Но почему вы теперь относитесь к этому иначе? Из-за меня? Мне, конечно, надо было реагировать спокойнее. Но вы не должны чувствовать себя как в осаде – вполне возможно, вне ПСИ никто даже не знает о существовании проекта...
– Все правильно. Но вы знаете, я как подумаю, сколько денег вложено в то, что я в данный момент э... воплощаю... – и ведь все это уже работает. А я теперь знаю, что я не контрольный экземпляр... – Она качает головой. – Я, собственно, влезла в это дело ради физики, думала, что буду полноправным сотрудником, а не только подопытным кроликом. Люнь обращается со мной, как с идиоткой. Цзе на самом деле идиот. А вот Лу относится ко мне как к хрупкому божеству местного значения, не понимаю, что с ним такое. И ведь еще несколько лет ничего не опубликуешь! А надо бы – крупными буквами, на обложке завтрашнего номера «Нэйчур»: РОЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ В КМ ПОДТВЕРЖДЕНА – И ИЗМЕНЕНА!
– Роль – кого?
– Наблюдателя. В квантовой механике. – Она смотрит на меня так, будто я уж слишком неуклюже притворяюсь, потом до нее доходит. – Так они вам даже ничего не рассказали? – Ее хмыканье выражает недоверие и отвращение одновременно. – Ну правильно, какой-то там Ник, телохранитель, простой работяга, зачем ему знать, ради чего он рискует своей жизнью!
Я качаю головой:
– Я не рискую жизнью. А если мне не положено этого знать, то, наверное...
– А, чепуха!
– Я серьезно.
Благодаря «Н3» я спокоен. И я бесстрастно наблюдаю, как во мне нарастает некое душевное головокружение. Я не хочу говорить о заветных тайнах Ансамбля. Это не тема для вульгарной болтовни. Я не хочу, чтобы рухнула священная завеса!
Под настройкой эта паника воспринимается как далекая и несерьезная, как чужая. Под настройкой я запрограммирован на буквальное выполнение приказов – а мне никто не приказывал пребывать в почтительном неведении. Полумистические регалии, которыми я мысленно наделил Ансамбль, не продиктованы мне модом верности, а бойскаут-зомби в них не нуждается.
Так или иначе, выбора у меня нет. По Квай твердо говорит:
– Вы слушайте. Технически все это очень запутанно, но суть проста. Вы слышали о проблеме измерения в квантовой механике?
– Нет.
– А о кошке Шредингера?
– Что-то слышал.
– Так вот, кошка Шредингера – это иллюстрация проблемы измерения в квантовой механике. Квантовая механика описывает микроскопические системы – субатомные частицы, атомы, молекулы – при помощи математического формализма под названием «волновая функция». По волновой функции можно предсказать, какова вероятность получить те или иные результаты при измерениях над вашей системой.
Например, представьте себе приготовленный особым образом ион серебра, проходящий через магнитное поле и после этого налетающий на флуоресцентный экран. Квантовая механика предсказывает, что в половине случаев вы будете видеть на экране вспышку, указывающую, что ион отклонился вверх в магнитном поле, а в половине случаев – такую вспышку, как будто он отклонился вниз. Это можно объяснить тем, что у иона есть спин, из-за которого он и взаимодействует с полем.
Ион получает толчок вверх или вниз в зависимости от того, как направлен спин относительно поля. Значит, наблюдая вспышки на экране, вы измеряете спин иона.
Теперь допустим, что у вас есть радиоактивный атом с периодом полураспада в один час. Наведите на него детектор частиц, который соединен с механизмом, разбивающим бутылку с ядовитым газом. Если атом распадается, детектор это фиксирует, бутылка разбивается, и кошка умирает. Заключите все это хозяйство в черный ящик, а через час загляните туда. Если вы будете повторять эксперимент снова и снова, каждый раз с новым атомом и новой кошкой, квантовая механика предсказывает, что в половине случаев вы найдете кошку живой, а в половине случаев – мертвой. Увидев, жива ли кошка, вы произвели измерение того, распался ли атом.
– Ну и в чем проблема?
– Проблема вот в чем. До того, как вы произвели измерение, волновая функция не говорит вам, каким будет его исход. Она говорит только, что один из двух исходов реализуется с вероятностью пятьдесят на пятьдесят. Но после того, как вы произвели измерение, любое последующее измерение над этой системой даст тот же результат. Если кошка была мертва, когда вы ее увидели, она так и останется мертвой. С точки зрения волновых функций акт измерения каким-то образом превращает исходную смесь двух волн, представлявших смесь двух возможностей, в чистую волну – так называемое чистое состояние, – которая уже представляет только одну возможность. Это и называется «стягиванием» волновой функции – или «схлопыванием» системы.
Но почему процесс измерения должен отличаться от других процессов? Почему он обязан стягивать волновую функцию? Почему измерительное устройство, состоящее из отдельных атомов, каждый из которых сам подчиняется тем же законам квантовой механики, заставляет смесь возможностей свестись к одной из них? Если считать измерительное устройство еще одной частью системы, уравнение Шредингера утверждает, что после акта измерения это устройство тоже будет находиться в смешанном состоянии – так же как и любой объект, с которым оно взаимодействует. Волновая функция бутылки с газом будет смесью «разбитого» и «целого» состояний. Волновая функция кошки будет смесью «живого» и «мертвого» состояний. Но почему же мы всегда видим кошку в одном из двух чистых состояний – живой или мертвой?
– Может быть, вся теория неверна?
– Не так все просто. Квантовая механика – самая продуктивная научная теория из когда-либо созданных, но она невозможна без постулата о стягивании волновой функции. Если бы теория была ошибочна, не было бы микроэлектроники, лазеров, оптроники, наномашин, девяноста процентов химической и фармацевтической промышленности. Квантовая механика подтверждается всеми экспериментами, которые когда-либо проводились, но только если принять допущение, что существует вот такой особый процесс под названием «измерение» и он подчиняется не тем законам, что другие процессы.
Цель исследований проблемы измерения в квантовой механике и состоит в том, чтобы точно установить, что же такое измерение и почему оно так отличается от других явлений. Когда именно стягивается волновая функция – когда срабатывает детектор частиц, или когда разбивается бутылка, или когда умирает кошка? Или в тот момент, когда кто-то заглядывает в ящик?
Можно махнуть на все это рукой и сказать – квантовая механика правильно предсказывает вероятности конечных, видимых результатов, так чего же еще можно требовать? Атомы обнаруживают себя только при взаимодействии с научными приборами, так что если квантовая механика дает возможность правильно подсчитать, каков будет процент вспышек в определенном месте экрана или процент смертности кошек в ящике, то ничего большего ожидать нельзя.
Некоторые люди пытались доказать, что волновая функция обязана стягиваться, если система достигает определенных – критических – размеров, или критической энергии, или критической степени сложности, а все мыслимые измерительные устройства должны далеко превосходить эти критические пределы. Пытались учитывать термодинамические эффекты, квантовую гравитацию, гипотетические нелинейности в уравнениях... все что угодно. Но исчерпывающего объяснения фактов так и не получилось. И есть еще теория множественных миров...
– А, альтернативные истории, параллельные вселенные...
– Именно. В теории множественных миров волновая функция не стягивается. Вся вселенная расщепляется на отдельные версии, по одной на каждое возможное измерение. В одной вселенной кошка жива, и экспериментатор видит живую кошку. В другой вселенной кошка мертва, и экспериментатор видит мертвую кошку. Беда в том, что теория умалчивает о том, почему все это произошло именно так, и даже о том, в какой именно момент расщепляется вселенная. Что к этому приводит – детектор, бутылка, кошка, человек? Ответа нет.
– А если ответа вообще не может быть? Что, если все это метафизические софизмы?
– Эта метафизика стала экспериментальной наукой еще в восьмидесятых годах двадцатого века. Хотя лично я считаю, что всерьез о ней можно говорить только с сегодняшнего дня, – глянув на часы, она поправляется. – То есть со вчерашнего. Со вторника, двадцать четвертого июля две тысячи шестьдесят восьмого года.
Она терпеливо ждет, улыбаясь с легким оттенком самодовольства, и тут до меня вдруг доходит:
– Мозг? Вам что, удалось установить, что стягивание волновой функции происходит в мозгу?
– Да.
– Но... как? И какое отношение это имеет к воздействию на ионы, чтобы заставить их все поворачивать в одну сторону? Вы что, используете какой-то электромагнитный эффект...
– О нет! Биологические поля безнадежно слабы для этого...
– Я так и думал. Но тогда – что?
– Мод делает две вещи. Во-первых, он не дает мне стягивать волновую функцию – он отключает ту часть мозга, которая этим занимается. Но этого мало, иначе ионы так и летели бы с равной вероятностью то вверх, то вниз – просто вы, Люнь, Лу, Цзе, кто угодно схлопывал бы систему вместо меня.
Так вот, во-вторых, мод позволяет мне манипулировать чистыми состояниями. Теперь я не разрушаю, наугад и неуклюже, их все, кроме случайно выбранного одного. Мод дает возможность менять их относительную силу, а значит, менять вероятность того или иного исхода эксперимента.
Теоретически я могла бы изменить вероятности, а после этого сама стягивать волновую функцию, но эксперимент стал бы куда менее изящным. Поэтому волновую функцию системы стягивают люди, находящиеся в комнате управления, – я имею в виду систему, которая включает атом серебра, экран и меня. Но они делают это уже после того, как я подправила вероятности.
– Так... Значит, все, кто находится в комнате управления, тем самым участвуют в эксперименте? Вот почему гистограммы не меняются, пока вы не объявите результат – если бы мы знали результат до того, как вы успеете поменять вероятности, мы бы схлопывали ионы в обычном случайном порядке?
– Правильно.
Некоторое время я обдумываю это:
– Вы говорите, что мы схлопываем всю систему в целом. Значит, и вы существуете в виде смеси состояний, пока, мы не услышим ваш голос?
– Да.
– И что же вы... при этом испытываете?
Она смеется:
– Представьте себе – не знаю! Это меня ужасно злит. Я просто ничего не помню. Когда я схлопываюсь, у меня остается одна-единственная память, я могу вспомнить, как видела только одну вспышку на экране. Я даже не помню, как я работаю с той частью мода, которая меняет вероятности чистых состояний. Вот из-за чего потребовалось так много времени! Я не знаю, «вижу» ли я когда-нибудь вообще две вспышки одновременно, хоть на миг. Подозреваю, что нет, из-за того, что мои два состояния живут слишком независимо друг от друга. Это напоминает модель множественных миров, только в очень небольшом масштабе. Пока я не схлопнула волновую функцию, могут существовать две совершенно различные «версии меня», пусть даже в течение лишь какой-то доли секунды. Но, что бы ни происходило в других областях моего мозга, два состояния мода обязательно взаимодействуют между собой, их волновые функции накладываются друг на друга, усиливая одно чистое состояние и ослабляя другое. Если бы этого не было, эксперимент действительно превратился бы в метафизическую болтовню.
Я ошеломлен. Некоторое время я молчу, стараясь мысленно проследить, с какого места разговор приобрел оттенок ирреальности. Наконец я спрашиваю:
– Вы говорите все это серьезно? Или просто морочите мне голову, шутки ради, за то, что я вломился к вам в комнату? Если так, то я признаю свое поражение – я не могу понять, где в вашем рассказе кончается наука и начинается выдумка.
Она почти оскорблена:
– За кого вы меня принимаете? Я говорю вам правду.
– Просто... это напоминает бред, который с важным видом несут все эти квантовые мистики...
Она яростно мотает головой:
– Ничего подобного! У них все построено на том, что существует некая нефизическая компонента сознания, какое-то «духовное» нечто, которое и стягивает волновую функцию. Вчерашний эксперимент как раз и доказывает, что ничего такого нет. Те участки мозга, которые отключает наш мод, не делают ничего мистического – их функции весьма сложны, но вполне постижимы и физически полностью объяснимы. Понимаете, то, о чем я говорю, похоже на экзотику только на первый взгляд. На самом деле это самая обыденная вещь на свете. Каждый из нас всю жизнь занимается тем, что схлопывает системы, с которыми взаимодействует. Сама идея не нова – еще пионеры квантовой механики считали ключевой роль наблюдателя, а не прибора, в акте стягивания волновой функции. Но для того, чтобы точно выяснить, где именно это происходит, потребовалось более ста лет.
Я все еще не понял, надо ли верить хоть одному ее слову, но она говорит так убежденно, что есть смысл разобраться, в чем же именно она так убеждена:
– Хорошо, значит, измерительного устройства недостаточно, нужен еще наблюдатель. Но что такое наблюдатель? Компьютер может быть наблюдателем? Кошка может быть наблюдателем?
– А-а... Те компьютеры, которыми мы сегодня пользуемся, определенно не могут. Стягивание волновой функции – это особый физический процесс, который не связан с достижением достаточно высокой степени интеллекта или самосознания. Компьютеры просто устроены не так, чтобы вызывать этот процесс, хотя в будущем наверняка появятся и такие, которые смогут это делать.
Что касается кошек... можно предположить, что они это делают, но я не специалист по сравнительной нейрофизиологии, так что ничего утверждать не берусь. Могут потребоваться годы, чтобы окончательно разобраться, какие виды делают это, а какие – нет. Еще один большой вопрос – эволюционное развитие этого свойства, и что вообще означала такая эволюция во Вселенной, где волновые функции первоначально не стягивались... Чтобы разобраться во всех следствиях нашего открытия, понадобятся десятки лет работы многих людей.
Я тупо киваю в надежде, что она умолкнет хоть на минуту, чтобы я мог сам разобраться хотя бы в некоторых следствиях. Если все это правда, то какой свет это проливает на дело Лауры? Могла ли «манипуляция чистыми состояниями» помочь ей открывать замки и избегать видеокамер? Наверное, могла. Но возможно ли, чтобы случайная мутация или случайный порок развития привели к появлению таких нетривиальных умений? Можно еще представить, что какое-то повреждение разрушило у нее аппарат стягивания волновой функции. Но как могло это повреждение породить новый сложный механизм, который реализован в моде По Квай? А между тем эти умения у Лауры есть – иначе как она могла бы сбежать из Института Хильгеманна? Да и откуда иначе МБР могла бы получить сам мод – невозможно представить, что они разработали его с нуля, за шесть месяцев, просто изучая нормальный человеческий мозг.
Что же более неправдоподобно – что МБР смогла изобрести и реализовать способ нейронной манипуляции чистыми состояниями за такое время, которое обычно занимает выпуск нового игрового мода, или что сама природа по чистой случайности преподнесла уже готовое устройство Лауре (и МБР) на серебряном подносе?
По Квай продолжает:
– А между прочим, до тех пор, пока один из наших предков не научился этому фокусу со схлопыванием, Вселенная выглядела совершенно иначе, чем сейчас. Там происходило все и одновременно, все возможности сосуществовали друг с другом. Волновая функция не стягивалась никогда, она только становилась все сложнее и сложнее. Это звучит дико, я понимаю... какой-то грандиозный антропо- или геоцентризм – думать, что жизнь на одной нашей планете могла так повлиять на всю Вселенную, но при таком немыслимом богатстве возможностей, при такой колоссальной сложности было, быть может, неизбежно, что где-то зародится существо, которое положит конец многообразию, породившему его самое.
Она смеется, но в ее смехе чувствуется неловкость, даже смущение. С такой интонацией некоторые рассказывают о зверствах или катастрофах.
– Со всем этим трудно свыкнуться, но вот так мы устроены. Мы – это не просто «вселенная, познающая себя». Мы – это вселенная, которая себя опустошает в процессе самопознания.
Мне трудно в это поверить:
– Получается, первое же животное на Земле, у которого появился этот аппарат, схлопнуло... всю Вселенную?
Она пожимает плечами:
– Это могло произойти и не на Земле, а в остальном так и было. Кто-то должен был быть первым. И конечно, речь не может идти о всей Вселенной. Одного взгляда, брошенного на ночное небо, еще мало, чтобы все-все измерить. Но это должно было очень сильно сузить спектр возможностей – в первую очередь зафиксировать Землю и Солнце, сконденсировать их из смеси всех мыслимых распределений материи, которая должна была занимать пространство Солнечной системы. Кроме того – зафиксировать наиболее яркие звезды с точностью, определявшейся остротой зрения этого существа. Тем самым все остальные возможные конфигурации были уничтожены. Только подумайте, какие звезды, созвездия, миры исчезли навсегда в тот момент, когда один из наших предков впервые открыл глаза!
Я качаю головой:
– Неужели вы говорите серьезно?
– Да.
– Я вам не верю. На основании одного скромного опыта с ионами серебра вы утверждаете, что этот предполагаемый предок людей – а может быть, и кошек тоже – преобразил великую, грандиозную мешанину всех Вселенных, которые имели шанс появиться после Большого Взрыва, в ту крошечную частичку этого невообразимого целого, которую это существо смогло увидеть, посмотрев на ночное небо? А все остальное было мгновенно уничтожено? Это уже какой-то... космологический геноцид!
– Именно так. Возможно, геноцид в буквальном смысле слова. Жизнь – разумная жизнь – не обязательно должна стягивать волновую функцию. Если до нас существовала жизнь, которая не схлопывала волну, то мы должны были схлопнуть эту жизнь. Мы могли уничтожить целые цивилизации.
– И вы думаете, мы продолжаем этим заниматься? Схлопываем то, что находится за световые годы от нас? Другие звезды? Галактики? Другие формы жизни? «Сужаем спектр возможностей», да? Просто смотрим в телескоп, а при этом крушим Вселенную направо и налево?
Со смехом я продолжаю:
– То есть крушили до тех пор, пока...
И, осекшись на полуслове, зажмуриваюсь, ощутив приступ клаустрофобии и головокружения. А недоговоренное тем временем раскручивается в моем сознании, и никакие моды не способны представить его чем-то безобидным. По Квай тихо говорит:
– Вот именно. До Пузыря.
Глава 8
С утра в ионной комнате проводится контрольный тест, подтверждающий, что вчерашнее не было просто случайной удачей. После него По Квай получает перерыв на две недели для отдыха, пока будет готовиться следующая фаза эксперимента. Все это время она будет находиться в здании, но это ее не смущает – кроме чтения, ей ничего не нужно.
– Все прекрасно, особенно если забыть о том, что нет выбора, – говорит она. – Тишина, покой и надежный кондиционер – это моя формула счастья.
Ее несмолкающий речитатив исчезает из моих снов. «Н3» работает отлично. «Карен» не возвращается. Окольными путями я выведываю у Ли Хинь Чуня, что у него установлены только «Страж», «Метадосье» и «Красная Сеть». Никаких проблем с модами, кроме как во время экспериментов, у него не было. Моя решимость докопаться до причин сбоев моих модов тает. Какой смысл идти к врачу или нейротехнику, если нет никаких симптомов? Тем более, что при этом посторонние лица могут узнать о моем моде верности. Я даю себе слово обратиться за помощью при первых признаках неисправности, но дни идут за днями, и я все больше утверждаюсь в мысли, что все наладилось само собой.
Я очень боялся, что подлинная деятельность Ансамбля окажется уж слишком приземленной, боялся, что мне будет мучительно трудно смириться с противоречием между моими возвышенными чувствами и грубой правдой – и, уж конечно, не смел даже надеяться на такое счастье, которое испытал, услышав рассказ По Квай. Теперь мне ужасно стыдно, что я мог всерьез подозревать Ансамбль в намерении грубо и примитивно эксплуатировать эскейперский дар Лауры, в то время как его цель – постижение глубочайших законов мироздания, самой сути реальности, сути человеческой природы. А также, быть может, и причин создания Пузыря.
Ну а если бы и подтвердились худшие предположения – что с того? Служение Ансамблю все равно осталось бы единственным смыслом моей жизни. Мне приходит в голову, что бояться разочарования и радоваться подтверждению лучших надежд в моем положении одинаково абсурдно. Допустим. И что дальше? Повертев эту мысль в голове, я вскоре забываю о ней.
В такой же тупик я захожу, вспоминая ночной разговор с По Квай. Предположим, она права, и жизнь на Земле губительна для всей остальной Вселенной. Предположим, что человечество есть своего рода космический некроз, лишающий мироздание многовариантности, постоянно ведущий истребление неведомых нам миров в непостижимых разумом масштабах. Ну и что отсюда следует? Эти ошеломляющие утверждения совершенно абстрактны, их легко понять, но ничего конкретного, осязаемого я не могу из них вывести. Возникает ощущение, что рассуждения По Квай – вроде тех математических фокусов, когда вам «доказывают», что единица равна нулю. Я начинаю искать замаскированные подвохи, и когда вечером я заступаю на дежурство, мы с По Квай продолжаем наш спор. Я говорю:
– Вы ведь сами признали, что эта теория геоцентрична до нелепости.
Она пожимает плечами:
– Да – в том случае, если утверждать, что мы были первыми. Но может быть, то же самое произошло на тысячах других планет и на миллиард лет раньше. Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем, так это или нет. Но теперь, когда мы выявили тот аппарат в мозгу человека, который стягивает волновую функцию, геоцентризм заключается в том, чтобы утверждать, что любое существо, наделенное чувствами, где бы во Вселенной оно ни обитало, обладает точно таким же аппаратом в мозгу.
– Но я не уверен, что вы действительно выявили этот аппарат. Вы ведь не продемонстрировали, что не стягиваете волну, – вы показали только, что мод воздействует на явление прежде, чем волна стянется. А что, если верна старая теория и волна стягивается только при условии, что система достаточно велика? Допустим, что мод работает на масштабе, который чуть меньше критического, сжимаясь в последний момент, когда он проделывает свой трюк с интерференцией двух состояний?
– Допустим. А что же тогда происходит в тех участках мозга, которые мод отключает?
– Не знаю. Но если эти участки специально созданы для воздействия на квантовые процессы, может быть, они частично реализуют и функции той части мода, которая управляет чистыми состояниями? Возможно, эволюция дала нам средство немного подправлять вероятности – согласитесь, что такая способность была бы полезна в борьбе за выживание. И если волновая функция достаточно большой системы всегда, с самого рождения Вселенной, стягивалась случайным образом, то вся наша вина состоит в том, что у нас начала вырабатываться способность влиять на этот процесс.
Она слушает с интересом, но стоит на своем:
– Видите ли, если я не включаю первую часть мода – ту, которая блокирует некие естественные связи в мозгу, – весь эффект пропадает, и ионы разлетаются как попало. Это мы проверили на следующее же утро после нашего первого успеха. Согласна, вы можете сказать, что эти естественные связи не стягивают волну, а просто мешают моду управлять чистыми состояниями. Но я думаю, что если бы у людей была природная способность «подправлять вероятности», ее бы уже давно заметили. Впрочем, можно придумать много разных объяснений нашему эксперименту, но что вы скажете насчет Пузыря?
– Вот уж где версий хватает. Я слышал не меньше тысячи за последние тридцать лет.
– А сколько из них вы считаете разумными?
– Честно говоря, ни одной. Но и ваша ничем не лучше. Допустим, создатели Пузыря гибнут под действием наших наблюдений. Как же им в таком случае все-таки удалось выжить? Помните, на какое расстояние заглядывали самые мощные телескопы? Миллиарды световых лет!
– Верно, но мы не знаем, какие повреждения – или, если угодно, сколь детальное наблюдение – способны выдержать предполагаемые жители других миров. В то время, когда во Вселенной еще ничто не схлопнулось, могли существовать формы жизни, полностью зависящие от всего спектра возможных состояний. Каждый индивидуум включал в себя почти весь этот спектр, в том числе множество состояний, которые мы бы назвали взаимоисключающими. Представьте, что от вашего тела остался только тончайший срез – вот чем для них было схлопывание!
– А создатели Пузыря были с самого начала очень тонкими, потому и уцелели?
– Именно так! Им требовался совсем небольшой диапазон состояний. Может быть, с их точки зрения это выглядело так, как если бы глубокий океан стал вдруг мелеть. Мы наблюдали галактики в миллиардах световых лет от Земли, но даже в Солнечной системе мы еще не схлопнули все, вплоть до последней крупинки метеорной пыли. А у планетных систем далеких звезд оставалось еще очень много степеней свободы. Возможно, что индивидуум из тех, кто создал Пузырь, способен выдержать практически любое наблюдение, за исключением лишь встречи с человеком лицом к лицу. И вот когда наша астрономия начала становиться все точнее, их волновая функция стала быстро худеть, и создание Пузыря было для них единственной возможностью спасти свою цивилизацию.
– Ну, не знаю...
Она смеется:
– Я тоже не знаю. И весь смысл Пузыря в том, чтобы мы никогда этого не узнали. Впрочем, если вам не нравится эта теория, у меня есть другие. Например, что создатели Пузыря состоят из темной холодной материи – из аксионов или других слабовзаимодействующих частиц, которые нам всегда было трудно обнаружить. В этом случае мы могли задеть их совсем чуть-чуть, но они пришли к выводу, что наша технология быстро прогрессирует и скоро станет для них опасной. В двадцатых и начале тридцатых многие астрономы занимались поиском темной холодной материи, чувствительность их приборов мало-помалу росла – может быть, из-за них все и случилось...
Итак, абстракции в сторону. Когда я проталкиваюсь сквозь уличную толпу, мысль о том, что благодаря этим людям город не расплывается туманом бесчисленных всевозможностей, не кажется абсурдной – просто она о другом. Реальность упрямо остается прежней, какие бы парадоксальные теории ее ни объясняли. Когда Резерфорд открыл, что атомы практически полностью состоят из пустоты, земля не стала менее твердой. Истина как таковая не меняет ничего.
Не имеет значения, верна ли теория По Квай. Важно только одно – Ансамбль занимается наукой о Пузыре. А значит, бесчисленные посты, телохранители, приставленные к добровольцам, хранят не коммерческую тайну.
Потому что враг у Ансамбля один – Дети Бездны.
* * *
При стуке в дверь «Босс» мягко будит меня. Голова патентованно ясная, но бешенство закипает мгновенно – ведь я спал каких-нибудь два часа! Я смотрю по ГВ, кто стоит за дверью. Оказывается, пришел доктор Лу. Ничего не понимая, я быстро одеваюсь. Если бы меня хотели срочно вызвать на службу, Тонг или Ли просто позвонили бы.
Я приглашаю его войти. Он осматривает комнату с таким видом, будто никогда не представлял, что можно жить так убого – а теперь, когда он в этом убедился, он выражает мне свое глубокое соболезнование. Я предлагаю ему чай, но он энергично отказывается. Мы обмениваемся ничего не значащими любезностями, потом наступает неловкая тишина. Долгие полминуты он мучительно улыбается, потом наконец говорит:
– Я живу для Ансамбля, Ник.
Не могу понять, чего больше в его словах – воодушевления или самоуничижения.
Я киваю и бормочу:
– Я тоже.
Это правда, и стыдиться тут нечего, но двусмысленность тона Лу почему-то передается мне. Он говорит:
– Я знаю, каково тебе приходится. Борьба с самим собой, парадоксы. Я-то знаю, что это за муки.
Он говорит искренне, и я чувствую себя виноватым и недостойным его признаний – ведь муки, которым его подверг мод верности, наверняка были куда сильнее тех, что испытал я.
– И я знаю, что ты не скажешь мне спасибо за то, что я причиню тебе еще одну боль. Но правда никогда не дается легко.
Пока я тупо киваю, выслушивая эти банальности, в моем сознании повисает вопрос: что это, следующая стадия? Мазохистское смакование внутреннего конфликта, порожденного модом верности? Вновь и вновь напоминать себе о беспомощности своего разума романтизировать мое страдание, придавая ему мистический оттенок? В этом есть какой-то, хотя и извращенный, смысл: если я не хочу ни в чем обвинять свой мод, то почему бы не рассматривать вызванное им душевное смятение как шаг к более глубокому прозрению и более крепкой вере?
Лу продолжает:
– Мы оба хотим служить Ансамблю – но что значит служить Ансамблю? День за днем мы работаем, выполняем приказы, играем свои роли, веря, что те, кто выше нас по служебной лестнице, думают только об интересах Ансамбля. Но мы обязаны спросить себя – заслуживают ли они нашего доверия? Служат ли они Ансамблю с той абсолютной преданностью, которая для тебя и для меня стала второй натурой? Может быть, они служат своим собственным интересам? Откуда нам это знать?
Я качаю головой:
– Они сами часть Ансамбля, и мы должны быть верны им...
– Именно часть. А мы верны не части, а целому.
Я не знаю, что на это сказать. Он, конечно, прав, в том смысле, что мод обеспечивает верность Ансамблю, а не какому-то конкретному лицу. Но зачем вдаваться в такие подробности, что это меняет практически?
Я инстинктивно отодвигаюсь от него вместе со стулом, но Лу подается ближе ко мне, его молодое, искреннее лицо буквально излучает энергию убеждения. Мы верны целому. У меня появляется опасение, что на основе мода верности он выстроил целую этическую систему. В истории не раз случалось, что сумасшедшие превращали свою болезнь в предмет поклонения, но лично я впервые слушаю безумного пророка, чье безумие тождественно моему собственному – до последнего нейрона.
Я резонно замечаю:
– Мы должны получать указания от кого-то. Мы должны верить, что иерархия работает исправно. Этому нет реальной альтернативы. Я не знаю, как действует даже командное звено ПСИ, не говоря уж об Ансамбле. А если бы и знал, что тогда? Исполнять только указания, исходящие с самого верха? Да ведь вся машина заскрипит и остановится.
Лу мотает головой:
– Я ничего подобного не говорил. Исполнять указания с самого верха? Но «верх» не один, их много. Скажем, Вей Бай Линь является владельцем МБР. – Я начинаю озабоченно бормотать что-то насчет того, что не знаю никакого Вея и никакой МБР, но Лу нетерпеливо перебивает:
– Мне точно известно, как тебя завербовали, так что давай не будем терять время зря. Итак, Вей владеет МБР, но почему ты думаешь, что он управляет всем? У него есть некоторое влияние на участников проекта здесь, в НГ, но не более того. Ты думаешь, это МБР нашла Лауру Эндрюс?
– Я полагаю, что...
– Ее «нашла» группа хакеров из Сеула, которые работали с банком украденных данных о побегах из учреждений Международной Помощи, причем по заказу совершенно другого клиента. Но они знали, что Ансамбль предлагает хорошие деньги за сведения о событиях определенного рода, и передали информацию нам.
– Что значит «события определенного рода»?
– Этого я пока не смог выяснить.
– Имеются в виду необъяснимые побеги из-под стражи? Послушай, я думал, что Ансамбль был создан после того, как МБР наткнулась на Лауру, а ты говоришь, что он уже существовал и активно искал кого-нибудь вроде нее?
– Да.
– Но как они могли предположить, что...
– Не знаю, но сейчас это не важно. Вопрос заключается в том, к чему должна относиться наша преданность? В глобальном масштабе фракция Вея составляет меньшинство. Ему пришлось многим пожертвовать, чтобы сканирование Лауры было проведено в МБР. В конечном счете решающую роль сыграло то, что в НГ очень мягкие законы – в большинстве других стран государство очень жестко контролирует предприятия с подобной технологией. Так что если бы где-нибудь в Аргентине оказался подходящий пробел в законодательстве, мы бы с тобой здесь не работали.
Я трясу головой:
– Ну и что? Я никогда не считал, что Вей самый главный в Ансамбле. Ансамбль – союз различных фракций, но почему это должно меня волновать? Если они могут уживаться друг с другом, то я тем более могу ужиться с ними.
– Пойми, что ты должен быть верен Ансамблю, а не той фракции, которая путем интриг сумела его возглавить. Что ты будешь делать, если какие-нибудь фракции выйдут из союза, если союз реформируется, поставит себе новые задачи, новые приоритеты? Или вообще расколется? За какой из обломков ты будешь сражаться, если до этого дойдет?
Я хочу отделаться ничего не значащей фразой, но вовремя спохватываюсь. Важнее Ансамбля нет ничего в моей жизни, и я не могу отмахиваться от таких вопросов, как будто это меня не касается. Но...
Я говорю:
– Что еще может означать верность Ансамблю как целому, как не верность той его фракции, которая находится у власти? Здесь то же самое, что с правительством страны...
Лу насмешливо фыркает.
Я говорю:
– Ну ладно, я же не предлагаю опускаться до такого цинизма. Но что предлагаешь ты? Ты пока ничего конкретного не сказал.
Он кивает:
– Ты прав, не сказал. Я хотел сначала убедить тебя.
Я не уверен, что он меня убедил, но молчу. Он говорит:
– Есть только одна группа людей, которая имеет право решать, какая из фракций представляет – и представляет ли хоть какая-нибудь – подлинный Ансамбль. Этот вопрос должен решаться со всей тщательностью, и его решение не должно зависеть от случайных обстоятельств, вроде того, кто в данный момент возглавляет Ансамбль. С этим ты, конечно, не будешь спорить?
Я нерешительно киваю:
– А что это за «группа людей»?
– Разумеется, те из нас, у кого есть мод верности.
Я смеюсь:
– То есть мы с тобой? Ты шутишь!
– Не только мы. Есть и другие.
– Но...
– Подумай сам, кому еще мы можем доверять? На что можем положиться, кроме мода верности? Любой, у кого его нет, какие бы высокие посты он ни занимал в организации, всегда рискует спутать подлинное предназначение Ансамбля со своими личными целями. С нами такого случиться не может – чисто физически. Поэтому задача определения истинных интересов Ансамбля должна быть возложена на нас.
Вытаращив глаза, я смотрю на него:
– Но это ведь...
А собственно, что? Мятеж? Ересь? Исключено! Если у Лу действительно есть мод верности, а я не могу себе представить, что он все это разыграл, он не может пойти ни на то, ни на другое. Все, что бы он ни делал, есть, по определению, акт верности Ансамблю, ибо...
От внезапно наступившей ясности у меня кружится голова...
...ибо Ансамбль есть, по определению, то, верными чему делает нас наш мод.
Порочный круг, кровосмешение какое-то, на грани солипсистского бреда. Однако так и должно быть. Ведь мод верности – не что иное, как совокупность нейронов в наших головах, причем вполне самодостаточная. Если Ансамбль – самое важное, что есть в моей жизни, то самое важное в моей жизни, чем бы оно ни было, должно быть Ансамблем. В этом я не способен «ошибиться» или что-то «не так понять».
Это не делает меня свободным от мода – я понимаю, что не в моей власти менять определение «Ансамбля». И все же то, что мне открылось, несет с собой мощный импульс свободы. Раньше я был скован цепями по рукам и ногам, да еще и цепи были обмотаны вокруг чего-то вроде громадного якоря. И вот мне удалось сорвать цепи – пусть не с рук и ног, но по крайней мере с неподъемного якоря.
Лу, как мой брат по безумию, понимает, о чем я думаю – или догадывается по выражению лица. Он сдержанно кивает, и я замечаю, что мое лицо расплылось в счастливой до идиотизма улыбке, но ничего не могу с этим поделать.
– Неспособность ошибиться – наше главное утешение, – говорит он.
* * *
К тому времени, когда Лу уходит, голова у меня идет кругом. Хочу я того или нет, но я вступил в заговор.
Помешанные толкователи природы «истинного Ансамбля» называют свое общество Каноном. Все они имеют мод верности, и все сумели убедить себя в том, что «истинный Ансамбль», которому они верны, не есть организация, носящая это название.
Что же тогда такое «истинный Ансамбль»?
У каждого члена Канона свой ответ на этот вопрос.
Все они согласны только в одном – научно-исследовательский альянс, называющий себя Ансамблем, не что иное, как подделка и мистификация.
Сейчас, когда рядом нет Лу, виртуоза этой причудливой логики, я не уверен, что понял умственные извороты, подтверждающие такой вывод. Ансамбль не есть истинный Ансамбль – что за дурацкая казуистика?
И все же, если я почему-то смогу в это поверить, это тем самым станет правдой. Здравый смысл тут не помеха, ведь у меня нет определенной причины быть верным Ансамблю. Все что у меня есть – анатомический факт наличия в моей голове мода верности, а значит, подлинный Ансамбль – то, что я считаю подлинным Ансамблем...
Но это просто смешно, чистый вздор...
Я хожу взад и вперед по комнате, отчаянно пытаясь нащупать какую-нибудь аналогию, метафору, найти модель, которая поможет навести хоть подобие порядка в моей несчастной голове. Ансамбль не есть истинный Ансамбль. Но что такое истинный Ансамбль? То, что искренне считаю таковым.
Но это безумие! Если каждый член Канона будет решать этот вопрос, исходя из своих личных убеждений, наступит анархия.
И вот тут меня осеняет. Я замираю на полушаге, не успев поставить ногу на пол, и говорю сам себе вслух:
– Да здравствует Реформация!
Все встало на свои места.
* * *
В ряды Канона я вливаюсь постепенно. Время от времени Лу устраивает мне встречи в разных концах города с одним-двумя членами организации. Некоторые работают в МБР, некоторые в ПСИ, остальные не говорят, где они работают. Поначалу я не понимаю, зачем так рисковать, ведь на этих встречах мне не сообщают ничего нового. Лишь постепенно я осознаю, что все члены Канона обязательно должны знать друг друга лично – только так можно убедиться в том, что у всех нас есть мод верности.
Вообще это парадокс, что члены Канона могут по доброй воле встречаться, сотрудничать, даже просто беседовать друг с другом. Мы должны бежать от всякого единомыслия, как черт от ладана – у каждого в голове есть свой Ансамбль, и чужое мнение о, нем никого не может интересовать. Мы освободились от наваждения фальшивого Ансамбля, почему же теперь каждый не идет своим путем?
Потому что фальшивый Ансамбль не переделать в одиночку. Только все вместе мы можем надеяться что-то изменить.
В моей работе ничего не изменилось. Искушение открыться По Квай, рассказать ей о своих переживаниях и обо всем, что от нее скрывают, иногда становится почти непреодолимым – но только не на дежурстве, когда «Н3» наделяет меня неограниченным самообладанием. Приказы Чен теперь не властны удержать меня от рассказа о Лауре и МБР, но преданность Канону заставляет быть еще более сдержанным. Сначала это удивляет По Квай, но вскоре она теряет интерес к происшедшей со мной перемене и погружается в свое любимое чтение. Нашим вечерним спорам о квантовой метафизике и невидимых создателях Пузыря приходит конец. Когда я под настройкой, мне это безразлично, но каждое утро, придя домой, я чувствую странную глухую боль в груди, когда вспоминаю о пустоте пролетевших в сторожевом трансе часов, и никак не могу решиться включить сон.
* * *
Начинается вторая фаза эксперимента. По Квай снова в ионной комнате, но теперь она окружена со всех сторон кольцами гамма-камер высокого разрешения, а ее голова напичкана радиоактивной глюкозой и сигнализаторами нейропередачи. Приборы будут получать гигантское количество информации, но экспериментаторы увидят лишь некоторые ее фрагменты, наудачу выбранные компьютером.
– Нечто подобное делалось в эксперименте «Аспект» в восьмидесятых годах прошлого века – у них был задержанный выбор фотонов. Люнь получила что-то вроде усиленного неравенства Белла, которое утверждает, что корреляция между срабатыванием различных нейронов должна быть ниже определенного уровня, если наши предположения справедливы.
Технические подробности выше моего понимания, но суть дела я улавливаю сразу. Эксперимент не должен оставить камня на камне от моих надежд на то, что структуры, схлопывающие волну, могут играть и иную роль.
Выходит, мне придется смириться с ролью наследника тех, кто беспощадно истреблял все и вся во Вселенной? Я снова и снова раздумываю об этом, пытаясь как-то себя успокоить. Эволюция есть эволюция; взять, к примеру, динозавров – разве я когда-нибудь чувствовал себя виновным в их гибели? Кстати, если По Квай права, динозавры, возможно, никогда не существовали в привычном для нас смысле. Просто однажды появилось некое млекопитающее и сделало наше прошлое определенным и единственным, схлопнув все бесчисленные версии в уникальный путь эволюционного развития. Все это звучит столь же обнадеживающе, как и принципиально непроверяемые метафизические гипотезы типа: «А что, если Вселенная была создана сегодня утром, вместе с фальшивыми воспоминаниями в голове у каждого, а также с отлично подделанными археологическими, палеонтологическими, геологическими и космологическими свидетельствами всех событий, происходивших в течение пятнадцати миллиардов лет?»
Вот только гипотеза По Квай вполне поддается проверке. Поэтому мысль, которую страшно додумать до конца, все не идет у меня из головы.
На этот раз комната По Квай звукоизолирована. Даже если ей будет удобно вслух повторять получаемые результаты, мы избавлены от мучения их выслушивать. С помощью главного пульта управления Люнь, Лу и Цзе будут схлопывать состояние различных частей ее мозга. Я то и дело поглядываю на дисплеи, но все эти красочные гистограммы, нейронные карты, карты потенциалов понять совершенно невозможно, поэтому они меня нисколько не отвлекают.
По наивности я ожидал немедленных результатов, но поначалу все время уходит на вылавливание ошибок в программах, настройку приборов, восстановление навыков По Квай в управлении модом. На меня не обрушивается, как раньше, сплошной поток информации, и мне легко отключиться от всего, даже от разговора экспериментаторов между собой. Вот так и должна работать настройка. Я не знаю, какое решение примет Канон но поводу ценности этих экспериментов, пока что моя задача – служить фальшивому Ансамблю с прежним усердием, чтобы не вызвать ничьих подозрений.
Сменившись со службы и сняв настройку, я начинаю раздумывать над тем, не является ли Канон такой же абстракцией по отношению к реальной жизни, как Пузырь или как откровения квантовой онтологии. Может быть, на практике истинный и фальшивый Ансамбли так и будут неразделимы, а принципиальная разница между ними, столь очевидная для членов Канона, никак себя не проявит на практике? Ни Лу, ни кто-либо другой пока не говорили мне, что конкретно сделает Канон, если ему удастся установить контроль над фальшивым Ансамблем: У меня же пока слишком смутные представления об этих вещах, чтобы составить собственное мнение. В одном я уверен – По Квай следует знать о Лауре и о том, каким путем был создан ее мод. Меня удерживает только то, что я не могу предвидеть последствия такого шага.
Возможно, единственная задача Канона в том, чтобы сделать наше бесплодное диссидентство более ощутимым для нас самих. Возможно, мы будем строить заговоры лишь для того, чтобы убедиться, что мы на это способны, но на деле все сведется к одному – заговору послушания.
* * *
После ритуального ежевечернего осмотра квартиры я выхожу из спальни. По Квай говорит мне:
– Сегодня мы получили, в сущности, решающие результаты. Можно было бы их смело публиковать. Видите, как я научилась держать язык за зубами – ничего не сказала вам в ресторане.
– Поздравляю.
– С чем? Что я научилась молчать?
– С результатом.
Она мрачнеет:
– Не будьте таким сдержанным, мне это противно. Я же знаю, вы не хотите, чтобы наши предположения подтвердились. Разумеется, я не думаю, что вы будете резать себе вены, но хоть немного огорчиться вы можете?
– На службе – нет.
Прислонившись к дверному косяку, она вздыхает:
– Иногда я задумываюсь о том, в ком из нас остается меньше человеческого – в вас на службе или во мне, когда я размазана.
– Размазаны?
– Ну, когда волновая функция не стянута. Когда я нахожусь во множестве различных состояний одновременно. Это наш жаргон. – Она смеется. – Я войду в историю как первый человек, размазанный по собственной воле.
Я мог бы возразить ей, рассказав о Лауре. Молча я борюсь с искушением, и через мгновение оно проходит – слишком велик риск. Но можно попробовать осторожно закинуть удочку:
– По собственной воле – да. Но не могло ли подобное произойти с кем-нибудь из-за повреждения мозга?
Она кивает:
– Очень здравая мысль. Конечно, могло. Но дело в том, что человек не может вспомнить, что с ним произошло такое странное событие. При первом же контакте с кем-то, кто стягивает волну, остается единственный набор воспоминаний. Единственное прошлое.
– Но пока этот человек в одиночестве?..
Она пожимает плечами:
– Не знаю, как придать этому вопросу точный смысл. Я вам говорила, что сама всегда выхожу из этого состояния, имея единственное прошлое, а то, что я была размазана, подтверждается результатами наблюдений. Впрочем, человек с повреждением мозга не обладает модом, который подправляет вероятности. Поэтому не имеет значения, сам он схлопывает свое состояние или это делает кто-то другой – распределение вероятностей останется прежним. – Она смеется. – Думаю, что Нильс Бор сказал бы, что такой человек на самом деле ничем не отличается от других: если никто, включая и самого этого человека, не может знать, что он испытал, пока был вне наблюдения, можно ли считать, что с ним вообще что-то происходило? И я бы, пожалуй, согласилась с ним: ведь сколько бы времени ни прошло с момента размазывания до контакта с другими людьми, в момент контакта все «параллельные» мысли и действия, как бы невероятно они ни выглядели, схлопываются во вполне обыденную, линейную последовательность.
– А если человек с таким дефектом мозга почти все время один? Если за ним, как правило, никто не наблюдает? Смог бы он научиться пользоваться своей особенностью, как вы пользуетесь своим модом?
Она уже открывает рот, чтобы с ходу отвергнуть мое предположение, но задумывается, потом вдруг улыбается:
– Я вот о чем подумала. Насколько мала вероятность случайно получить конфигурацию нейронов, образующую такой мод, как у меня? Если кто-то находится в размазанном состоянии достаточно долго, у его многочисленных версий возникнут не только высоковероятные, но и самые причудливые нейронные конфигурации. При схлопывании будут выбираться, конечно, конфигурации, имеющие наибольшую вероятность, а все прочие исчезнут бесследно. Однако, если одна из причудливых конфигураций окажется в состоянии подправлять вероятности, не исключено, что она поможет себе «выбиться в люди».
– И если такая конфигурация однажды реализуется, то...
– ...то человек, о котором мы, говорим, получит двойное преимущество. Когда он снова перейдет в размазанное состояние, он не только будет изначально обладать способностью подправлять вероятности, но состояния с еще большими возможностями станут куда легче реализуемыми. Возникнет лавинообразный процесс! – Она качает головой, завороженная этой идеей. – Вот уж поистине эмерджентная эволюция – эволюция в течение одного поколения! Послушайте, это просто великолепно!
– Значит, такое могло произойти?
– Очень сомневаюсь.
– Как? Вы же сами сказали...
Она сочувственно похлопывает меня по плечу:
– Это очень красивая идея. Настолько красивая, что опровергает сама себя. Если что-нибудь произошло, то где результаты? Где истории болезни умственно неполноценных людей, умевших жонглировать чистыми состояниями? Увы, начальной стадии невозможно достичь в разумные сроки. Я уверена, что кто-нибудь подсчитает, сколько именно времени понадобится версии, имеющей зачатки мода, чтобы реализоваться в первый раз, – и очень может быть, что это время будет составлять месяцы, годы, десятки лет?.. Можно ли быть в полном одиночестве так долго?
– По-видимому, вы правы.
– Что поделаешь, приходится бороться за место в истории! Какое-никакое, а свое.
* * *
«Карен» говорит:
– Она мне нравится. Умна, цинична, разве что чуть-чуть наивна. Лучшая из всех, с кем ты подружился за эти годы. Мне кажется, она может тебе помочь.
Хлопая глазами, я гляжу на нее, и у меня вырывается тихий стон. Странное дело, я не ощущаю, что внезапно потерял контроль над собой. Просто три последних часа, которые я провел в сторожевом режиме, растаяли в памяти, как наваждение.
Я говорю:
– Что ты от меня хочешь?
Она смеется:
– А ты сам чего хочешь?
– Я хочу, чтобы все шло нормально.
– Нормально! Сначала ты был рабом у шайки похитителей, а теперь ты, похоже, обожествляешь то, что поработило тебя. Ансамбль в голове! Что за чушь!
Я пожимаю плечами:
– У меня нет выбора. Мод верности никуда не денется. Что я, по-твоему, должен делать? Бороться с модом, пока не сойду с ума? Да не хочу я с ним бороться! Я прекрасно знаю, что со мной произошло. Не отрицаю, что без мода я хотел бы вырваться на свободу. То есть если бы я был свободен, то хотел бы быть свободным. А если бы я был совсем другим человеком, то хотел бы совсем других вещей. Ну и что дальше? Это тупик.
– Не обязательно.
– На что ты намекаешь?
Она не отвечает. Она оборачивается к окну и глядит «наружу», на город, потом поднимает руку и – невероятно! – дает окну сигнал увеличить контрастность голограммы, отсекая легкий ореол, окружающий рекламные огни, доводя темноту неба до глубокой черноты.
«Карен» отдает команды «Красной Сети»? Или галлюцинаторный процесс, создающий изображение ее тела, захватил все мое зрительное поле? Обе гипотезы одинаково невероятны, я обдумываю их с тупой покорностью судьбе. Итак, неисправность никуда не делась, и нейротехникам придется разобрать меня на запчасти.
Я смотрю, не в силах отвести взгляд, на абсолютную тьму Пузыря, зачарованный этим зрелищем настолько, что мне не важно, что я в действительности «вижу» – контрастную голограмму «ли просто галлюцинацию.
На черном фоне появляется еле заметная светлая точка. Я трясу головой, моргаю, но она не исчезает. Спутник на высокой орбите, который только что вышел из тени Земли? Точка становится ярче, рядом с ней появляется еще одна.
Я оборачиваюсь к «Карен»:
– Что ты делаешь?
– Ш-ш-ш! – Она берет меня за руку. – Просто смотри.
Звезды продолжают появляться, словно размножающиеся делением фосфоресцирующие небесные бактерии, и вскоре небо становится таким, каким я видел его в самые темные ночи своего детства. Я ищу знакомые созвездия, и через краткий миг уже вижу знакомую кастрюлю Ориона, но она быстро пропадает, утонув в бесчисленных звездах, возникающих вокруг.
Мои глаза выискивают новые, необычные узоры, но они тут же исчезают, словно текучие ритмы в речитативах По Квай. Таких звезд не было ни в спутниковых съемках в День Пузыря, ни в самых пышных космических операх сороковых...
Дрожащая светлая полоса, похожая на Млечный Путь, но куда роскошнее, постепенно становится сплошной и начинает делаться все ярче и ярче.
Я шепчу:
– Ты хочешь сказать, что можно... восстановить то, что мы разрушили? Объясни.
Сияющая полоса взрывается, растекается по всему небу, и абсолютная тьма превращается в слепящую белизну. Я отворачиваюсь. Раздается крик По Квай. «Карен» исчезает. Обернувшись к окну, я вижу пустое серое небо над небоскребами Нью-Гонконга.
У двери в квартиру я некоторое время стою, молча прислушиваясь. Не хочется опять пугать ее, но излишняя любезность тоже ни к чему. Никто не мог войти к ней, минуя меня, но ведь я созерцал космические видения, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Очень странный эпизод; если бы не образ сияющего неба, который по-прежнему стоит у меня перед глазами, я бы мог поклясться, что ни на секунду не выходил из сторожевого режима с того момента, как пожелал По Квай спокойной ночи, и вплоть до ее ночного крика.
Открыв дверь, я вижу, что она входит в гостиную, обхватив себя руками. Она сухо говорит:
– Ну, толку от тебя не много. За это время меня десять раз могли убить прямо в постели.
Несмотря на то, что она пытается шутить, видно, что она потрясена куда сильнее, чем в прошлый раз.
– Снова что-то приснилось?
Она кивает:
– На этот раз я помню... хотя бы что-то.
Я не отвечаю.
Она рявкает на меня:
– Да ты что, и правда робот?! Ну спроси ты меня, что мне такое приснилось?
– Что тебе приснилось?
– А приснилось мне, что я потеряла управление модом. Мне приснилось, что я перешла в размазанное состояние. Мне приснилось» что я... заполнила собой... всю комнату, всю квартиру. А во сне я, видишь ли, не хожу...
Ее вдруг начинает бить крупная дрожь.
– Что?..
Она хватает меня за руку и ведет по коридору к двери в спальню. Дверь закрыта. Она стремительно подтаскивает меня к двери, секунду переводит дыхание, потом говорит:
– Открой.
Я пытаюсь повернуть ручку, но мне это не удается.
– Дверь заперта. Я так боюсь, что теперь запираю ее каждую ночь.
– Значит, ты проснулась?..
– Снаружи. В середине коридора. – Она встает на то самое место. – Но сначала я должна была набрать комбинацию из восьми цифр, чтобы открыть замок, и еще одну комбинацию, чтобы закрыть.
– Ты видела во сне, как открываешь замок?
– Нет, нет. Во сне я не прикасалась к замку. Во сне я уже была снаружи. Внутри и снаружи одновременно. Для этого не надо было двигаться, надо было только усилить нужное состояние.
Я нерешительно говорю:
– И ты думаешь, что...
Ее голос тверд:
– Я думаю, что мое подсознание имеет на меня зуб, вот и все, что я могу сказать. Как ни трудно в это поверить, но я должна была набрать эти коды во сне. А если ты думаешь, что это мод перенес меня сюда сквозь запертую дверь, то ты ошибаешься. Я, видишь ли, не электрон. Даже если бы это было теоретически возможно, этот мод не предназначен для таких задач. Он был сконструирован специально для работы с микроскопическими системами, для демонстрации простейших эффектов, не более.
Я почти наяву слышу свой ответ, который застревает у меня в горле:
– Да этот мод вообще никто не конструировал!
Но механизмы в моей голове не дают выговорить эти слова. Вместо этого я киваю:
– Я тебе верю, ты специалист. И сон видела ты, а не я.
Глава 9
Лу говорит:
– Мы можем извлечь из этого пользу.
– Пользу? Я не собираюсь извлекать из этого пользу, я хочу положить этому конец. Я прошу согласия Канона на то, чтобы рассказать По Квай, что происходит. Я хочу, чтобы все встало на свои места.
Он хмурится:
– Это прекрасно, но ты не можешь рассказывать По Квай о Лауре. Представь, что об этом узнает Чен – что тогда будет с нами? В настоящее время, как мне кажется, никто не подозревает о существовании Канона. Они слишком полагаются на мод верности – или сильно недооценивают его. Они, по-видимому, не понимают, какой мощной может быть комбинация интеллекта и его противоположности. Знаешь, в формальной логике с помощью несовместной системы аксиом можно обосновать все что угодно. Имея единственное противоречие типа «А не есть А», ты можешь вывести из него любые следствия, какие пожелаешь. Мне кажется, это хорошая метафора нашей своеобразной свободы. Забудь о гегелевском синтезе, вместо него мы имеем оруэлловское двоемыслие в чистом виде.
Я раздраженно смотрю по сторонам, на запруженные людьми газоны парка Коулун, на сверкающие под солнцем цветочные клумбы. Он меня явно не понимает, а больше апеллировать мне не к кому.
Я говорю:
– По Квай заслуживает того, чтобы знать правду.
– Что значит заслуживает? Речь не об этом, а о том, каковы могут быть последствия. Поверь мне, я ее очень уважаю, я восхищаюсь ею. Но неужели ты хочешь пожертвовать Каноном только ради того, чтобы По Квай узнала, что ее обманули? Если это случится, фальшивый Ансамбль не будет ставить нам более жесткие моды – нас просто спишут в расход. Убьют. А как ты думаешь, что сделают с ней, если она захочет выйти из игры?
– Значит, мы должны защитить ее и себя. Мы должны разрушить фальшивый Ансамбль.
Говоря это, я осознаю всю смехотворность такого предложения, но Лу серьезно отвечает:
– В конечном счете – да. Но по щучьему велению это не произойдет. Нам необходимо действовать с позиции силы. Нам следует использовать все имеющиеся возможности. – Он делает паузу, ровно настолько, чтобы мое нерешительное молчание можно было считать знаком согласия, и добавляет:
– Такие, как эта.
– Какая же тут «возможность», если По Квай теряет управление модом, а я схожу с ума?
Он качает головой:
– Ты отнюдь не «сходишь с ума». Отказывают некоторые из твоих модов, вот и все. Тебя интересует, почему это происходит? «Н3» представляет собой барьер, рассчитанный на то, чтобы удерживать тебя в определенных, целесообразных состояниях сознания. Тем не менее ты каким-то образом проникаешь сквозь этот барьер, попадаешь в практически недостижимые состояния вроде скуки, рассеянности, эмоционального возбуждения. Это событие имеет крайне малую вероятность, но тем не менее происходит именно оно. Диагностика сообщает, что мод физически невредим. Однако изменилось распределение вероятностей в системе. Это тебе что-нибудь напоминает?
У меня мороз подирает по коже:
– Ты хочешь сказать, что По Квай манипулирует мной, как ионами? Но разве это возможно? Допустим, она умеет менять распределение вероятностей в размазанной системе, такой как ион серебра, когда его спин еще представляет собой смесь из «вверх» и «вниз». Но я-то ведь не нахожусь в размазанном состоянии, я же, наоборот, схлопываю волну!
– Конечно, схлопываешь. Но как часто?
– Все время.
– Что значит «все время»? Думаешь, ты постоянно находишься в схлопнутом состоянии? Ведь схлопывание – это процесс – процесс, который происходит с размазанной системой. По-твоему, размазывание – это нечто необычное, что бывает только в лаборатории?
– Разве нет?
– Конечно, нет. Ведь твое тело состоит из атомов. Атомы – это квантово-механические системы. Предположим, что типичный атом твоего тела, не схлопнутый в течение миллисекунды, может сделать одну из десяти разных вещей (это очень заниженная оценка). Значит, в течение миллисекунды он размажется в смесь десяти чистых состояний. Некоторые из них более вероятны, чем другие, но пока система не схлопнута, они все сосуществуют.
Через две миллисекунды будет уже сто возможных вариантов того, что мог бы сделать этот атом, что означает размазывание в смесь ста состояний, через три миллисекунды – в смесь тысячи состояний, и так далее.
Возьми другой атом. Каждое состояние первого атома может комбинироваться с одним из возможных состояний второго. Значит, надо перемножить два числа. Если один атом размазывается на тысячу состояний, то два – на миллион. Система из трех атомов – на миллиард. Если так считать, пока не дойдешь до размеров, скажем, песчинки, числа станут астрономическими. И будут возрастать со временем.
Я тупо мотаю головой:
– И как же это остановить?
– Я к этому перехожу. Когда одна размазанная система взаимодействует с другой, они превращаются в единое целое. Квантовая механика говорит, что ты не можешь дотронуться до одной части такой системы, не повлияв на все вместе. Когда По Квай наблюдает размазанный ион серебра, образуется новая система – По Квай плюс ион серебра, у которой вдвое больше состояний, чем у самой По Квай. Когда ты наблюдаешь травинку, возникает система, у которой столько состоянии, сколько было у тебя, да еще умножить на число состоянии травинки.
Но система, которая содержит тебя в качестве своей части, содержит и схлопывающий аппарат в твоем мозгу. И этот аппарат тоже размазан по бесчисленным состояниям, отвечающим остальной части твоего мозга, остальной части твоего тела, травинке и всему остальному, что ты наблюдаешь. Когда этот аппарат схлопывает себя самого, при этом делая реальной только одну из своих версий, он автоматически схлопывает и всю систему в целом – остальную часть твоего мозга, остальную часть твоего тела, травинку и так далее. И все это схлопывается в единственное состояние, которое выбрано из несчетных миллиардов возможностей. После этого, разумеется, опять начинается размазывание...
Я говорю:
– Ладно, я понял: чтобы схлопнуться, люди должны сначала размазаться. Чтобы можно было выбрать одну возможность, надо в каком-то смысле иметь их все. Схлопывание напоминает подстригание дерева, которому сначала дают немного подрасти во всех направлениях, а потом срезают все ветки, кроме одной. Но мы должны схлопываться очень часто, чтобы не сознавать того, что в промежутках мы находимся в размазанном состоянии. Не меньше, чем раз сто в секунду, я думаю.
Лу хмурится:
– Что ты такое говоришь? Как мы можем «сознавать, что мы размазаны»? Сознание кажется плавным потоком, но это лишь результат того, как мозг организует наше восприятие, а действительность развивается толчками, спазмами. Опыт неизбежно создается лишь в ретроспективе. Настоящего как такового не существует, настоящее – это то прошлое, которое мы смогли сделать единственным. Единственный вопрос – на каком масштабе времени все это происходит. Ты говоришь, что, если бы размазанное состояние продолжалось дольше нескольких миллисекунд, мы бы не могли не замечать его – но это просто неверно. Речь идет о нашем субъективном времени, о том, как будущее превращается в прошлое с нашей точки зрения. Мы не в состоянии заметить, как или когда это происходит.
Вне всякого сомнения, в экспериментах с По Квай было установлено, что без использования той части мода, которая блокирует схлопывание, она не может влиять на вероятности состояний – но это не доказывает решительно ничего. Даже если она не могла этого делать потому, что схлопывала систему «По Квай Ион» прежде, чем успевала изменить вероятности – а это далеко не единственно возможное объяснение, – нельзя переносить этот вывод с отдельного человека в лабораторных условиях на все человечество в целом. В зависимости от того, находятся люди в группе или в одиночестве, в зависимости от состояния их сознания промежуток между схлопываниями может достигать секунд и даже минут. Выяснить, происходит ли это в действительности, невозможно.
Мне хочется схватить его за шиворот и вытрясти всю эту метафизическую труху. Вместо этого я говорю ровным голосом:
– Я обращаюсь к тебе за помощью. Меня не интересует, как создается опыт. Мне безразлично, является время иллюзией или нет. Пусть ничто не реально, если оно существует меньше пяти минут. Все это совершенно нормально – по крайней мере так было всегда и так должно быть всегда. А что касается того, что каждый размазывается по сто раз на дню, так ведь не каждый же страдает от галлюцинаций, от неполадок модов...
– Возможно, каждый. Возможно, эти «страдания» – и многое другое – есть часть того опыта, который не остается в памяти. А он и не может оставаться – мозги людей, их тела, окружающий их мир не несут и намека на то, что подобное когда-либо происходило. Эти события так и не становятся реальностью для человека, ибо каждый раз, когда этот человек схлопывается, его уникальное прошлое хранит нечто куда более вероятное.
– Но если никто не помнит, почему же помню я?
– Ты сам знаешь почему. Здесь дело в По Квай и ее способности воздействовать на вероятности.
– Но зачем ей снимать с меня настройку? Зачем она стала бы вызывать «Карен»? Она даже не знает о существовании «Карен»!
Лу пожимает плечами:
– Я сказал «дело в По Квай», а точнее было бы сказать – «дело в нейронном моде, который есть у По Квай».
Я издевательски смеюсь:
– Значит, наш мод уже стал самостоятельным? У него свои интересы в жизни, он зачем-то решил снять с меня настройку...
– Нет, конечно, нет. – Он терпеливо ждет, пока молодая влюбленная парочка, то смеясь, то целуясь, проходит мимо нас. Забавная предосторожность – если бы Ансамбль хотел выяснить, о чем мы говорим, он бы не стал подсылать мнимых любовников слоняться рядом с нами. Меня охватывает смятение – я считал, что меня не посвящают в меры конспирации, к которым прибегает Канон, но теперь я начинаю думать, что никакой конспирации просто нет.
Лу продолжает:
– Если кто и совершает осознанный выбор, так это ты. Строго говоря, не ты, а система, состоящая из По Квай и тебя, но так как По Квай в это время преимущественно спит, мотивы надо искать у тебя.
– Преимущественно спит?
– Да.
Я останавливаюсь и ошеломленно говорю:
– Мод у нее, но использую его я?
– Грубо говоря, да. Когда ты и По Квай размазываетесь, вы размазываетесь по всем возможным состояниям, в которых любой из вас мог бы находиться, сколь бы невероятными они ни были. Почему бы среди них не оказаться таким, где модом чистых состояний управляешь ты?
У меня просто нет сил спорить с этим абсурдным утверждением. Опереться не на что – простой здравый смысл объявлен наивным, не относящимся к делу и ничем не обоснованным. Меня хватает только на то, чтобы умоляюще воскликнуть:
– Но ведь я же не хочу, чтобы все эти вещи происходили!
Лу хмурится немного озадаченно и вдруг улыбается, что бывает с ним редко:
– Конечно, не хочешь. Но вполне мог бы хотеть. Твои версии, которые этого хотят, могли быть изначально крайне маловероятными, но когда они получили доступ к моду чистых состояний, понятие о вероятности приобрело совсем другой смысл.
Я хочу сказать ему: «Вот именно с этим я и хочу покончить», но тут он добавляет:
– Если ты считаешь, что с тобой происходят поразительные вещи, имей в виду – ты легко мог бы сделать нечто куда более значительное. Во имя истинного Ансамбля.
* * *
Канон не пытается давить на меня. То, что мне говорят, всего лишь рекомендация, окончательное решение остается за мной. Оно, как известно, не может быть неправильным. Но ведь и мнением других обладателей мода верности не следует пренебрегать, не так ли?
Ясно, что абсурдна сама идея голосования по поводу истинных интересов Ансамбля. В то же время перспектива определять эти интересы в одиночку приводит меня в ужас. Как ни странно, с этим противоречием я примиряюсь без особого труда и, кажется, начинаю понимать, что имел в виду Лу, говоря о нашей своеобразной свободе. Тот узел, который мод верности завязал в моем сознании, невозможно развязать, но его можно растягивать до бесконечности.
Целую неделю в свое свободное время я встречаюсь с теми членами Канона, которые в это время не на службе, причем у каждого нового делегата график работы все ближе к моему собственному. По Квай отдыхает после своих очередных успехов, и поэтому ее мод пока что дает передышку и мне.
В девять утра трудно почувствовать себя заговорщиком. Квартиру для встречи предоставил нам некто, не имеющий, по словам Лу, ни малейшего отношения ни к Ансамблю, ни к Канону. Все настолько обыденно и невинно, что нас можно принять за собрание жильцов-активистов или участников какого-нибудь общественно-политического движения низкооплачиваемых служащих. Сидя вшестером в крошечной гостиной, забитой всевозможным китчем с претензией на буддистский стиль, мы мирно пьем чай и обсуждаем, как взять под свой контроль международный альянс, который считает нас своими рабами, Ли Сю Вай – техник по обработке медицинских снимков. Она часто встречала меня, когда работала в ночную смену, мы много раз обменивались с ней любезностями, не догадываясь, разумеется, о том, что нас объединяет.
Чан Куок Хун – физик из МБР и работает в такой же группе, как Лу, но экспериментирует не со спином ионов серебра, а со спектроскопией отдельных атомов. Их группа еще не добилась успеха, и поэтому они не знают, кто из их добровольцев имеет настоящий мод. Вспомнив, как По Квай говорила когда-то, что она не оказалась контрольным экземпляром потому, что иначе бы просто ужас как разозлилась, я с беспокойством замечаю, что теперь мог бы принять это и всерьез.
Юэн Тинь Фу и Юэн Ло Чинь – брат и сестра, оба математики (точнее, топологи, хотя, как я понимаю, и это название еще слишком общо), университетские преподаватели, которые необдуманно отклонили выгодное предложение добровольно поработать на фальшивый Ансамбль.
Начинает Лу:
– У меня уже достаточно данных, чтобы построить мод, подавляющий схлопывание волны на неопределенное время. Сам по себе он, конечно, бесполезен. Нам необходимо добраться до второй половины – селектора чистых состояний. Его описание хранится в МБР, в сейфе. Никакое хакерство здесь не поможет – описанием уже никто не пользуется, тем более на компьютерах, подключенных к сети. Но Ник мог бы...
Я говорю:
– Минутку. Предположим, что описание мы получили – пока не важно, каким путем. Предположим, ты уже изготовил весь мод целиком. Что дальше?
– В первую очередь мы постараемся как можно быстрее научиться использовать мод с максимальной эффективностью. Научные команды ПСИ действуют очень осторожно, они будут заниматься только микроскопическими системами до тех пор, пока не выработают прочную основу квантовой онтологии. С точки зрения научной строгости это весьма похвально, но для практических целей нужен совсем другой подход. Если Чунь По Квай во сне проходит сквозь запертые двери, то можете себе представить, чего способен добиться опытный пользователь, овладевший всем потенциалом мода.
Чан Куок Хун спрашивает:
– А в более далекой перспективе?
Лу пожимает плечами:
– Преждевременно говорить о долговременной стратегии овладения фальшивым Ансамблем, пока у нас нет мода и мы не знаем всех его возможностей и недостатков.
Ли Сю Вай тихо, но твердо говорит:
– Зачем пытаться реформировать фальшивый Ансамбль? По-моему, нам лучше действовать независимо.
Юэн Ло Чинь возмущена:
– Эта жалкая пародия не имеет права на существование! Фальшивый Ансамбль надо вырвать с корнем, стереть с лица земли!
Ее брат добавляет:
– Вы что же, думаете, они позволят нам спокойно делать свое дело после того, как мы завладеем их тайной?
Ли Сю Вай говорит:
– Нет, но я думаю, что с помощью мода мы сможем оградить себя...
– Будет лучше, если этого не потребуется.
Чан Куок Хун качает головой:
– Фальшивый Ансамбль плох, но в какой-то степени он может быть прототипом истинного, к которому мы стремимся. Мы должны не разрушать его, а настойчиво работать над реформированием, шаг за шагом, год за годом. В конечном счете эта задача неразрешима, но мы должны взять ее на себя, ради мира в наших сердцах.
Лу мягко говорит:
– В свое время мы обсудим все эти альтернативы. Но ни одна из них не достижима, пока у нас нет мода чистых состояний. И здесь все зависит от Ника.
Он смотрит на меня. Остальные тоже.
Я неуверенно начинаю:
– Вы, видимо, в курсе того, что предлагает Лу Кью Чунь. Насколько я понимаю, его план обсуждался и с другими членами Канона. Мы все согласны, что необходимо добыть описание мода, вопрос в том, как это лучше сделать. Хочу знать ваше мнение о плане Лу. Не могут ли на этом пути возникнуть непредвиденные препятствия, опасности? Есть ли вообще уверенность, что этот способ можно реализовать?
Лу прерывает меня:
– В этом сомнении нет. Вспомни, что сделала Лаура Эндрюс, при ее-то тяжелейшей умственной отсталости. Вспомни, что сделала По Квай – во сне! Если Ник «одолжит» мод у По Квай, пока та будет спать, ему ничто не помешает выйти из здания ПСИ, добраться до МБР, незамеченным проникнуть в здание, открыть сейф и вернуться обратно – каким бы невероятным ни был такой ход событий.
Слушая эти слова, я чувствую, как в моей душе закипает смятение. Лаура Эндрюс за тридцать лет научилась лишь тому, как обмануть охрану Института Хильгеманна, да и то прошла не более двух километров, прежде чем ее волновая функция вновь стянулась. Мне же надо будет пересечь многолюдный город и похитить ценнейшее достояние Ансамбля – и при этом мод чистых состояний даже не будет находиться в моей собственной голове!
Чан Куок Хун говорит:
– Вы уверены в том, что Ник сможет все время оставаться в размазанном состоянии?
Лу отвечает:
– Мод, блокирующий схлопывание, будет готов через считанные дни.
– А как вы объясняете странные явления, происходившие с Ником? – спрашивает Юэн Ло Чинь.
Лу пожимает плечами:
– Возможно, что в этих случаях схлопывание не происходило по каким-то естественным причинам. Или же дело было в «Н3», под действием которой Ник в то время находился.
Настройка стремится поддерживать оптимальное состояние сознания, и размазывание она должна считать чем-то совершенно противоположным – но забавно, что она же могла блокировать и попытку схлопывания, рассматривая ее как «отвлекающий фактор». Все это не имело бы никаких видимых последствий, если бы в дело не вступил мод чистых состояний.
Эту его теорию я слышу впервые. Выходит, «Н3» вроде как сама себя отключила? Странно... хотя, когда все кончилось, мне ведь казалось, что я не выходил из сторожевого режима ни на секунду. А может быть, после схлопывания в моей памяти остались следы и того прошлого, где я был под настройкой, и того, где не был? При нормальных условиях у меня может остаться память только одной из моих версий. Но на меня тогда воздействовал мод По Квай, он комбинировал «взаимоисключающие возможности», и две памяти перемешались. Ведь я же помню, как «Карен» заполнила собой всю прихожую! Что это было? Безумная галлюцинация, вызванная испорченным модом? Или воспоминание о тысячах одновременных и независимых воплощений?
Сама по себе перспектива провести несколько часов в размазанном состоянии достаточно неприятна, даже если Лу прав и это происходит со всеми и постоянно. Даже если я могу не сомневаться, что после схлопывания в одном-единственном чистом состоянии воспоминания об остальных исчезнут. Но если все-таки есть риск, что несколько различных состояний оставят неразделимую память о себе, то размазывание станет для меня совсем не отвлеченным понятием – и кто знает, какие физические последствия, какие несовместимости возникнут в этом случае? Если я попытаюсь похитить описание мода, а потом окажется, что я помню и успех, и неудачу, какой же странный гибрид этих двух исходов увидит весь остальной мир?
Лу говорит:
– Следует действовать как можно быстрее. Никто не знает, как скоро По Квай начнет понимать, что происходит. Чем быстрее Ник приступит к тренировкам в управлении модом чистых состояний, тем больше наши шансы держать По Квай в неведении столько времени, сколько нам потребуется, чтобы максимально использовать эту выгодную ситуацию, – для моего успокоения он добавляет:
– Это не только для нашей, но и для ее пользы. Если она обнаружит, что ее обманывают, то вполне может оказаться в опасности. Если же Ник возьмет мод полностью под свой контроль, у нее исчезнет даже этот неприятный «сомнамбулизм» – ведь он может выбрать их совместное состояние так, что она будет просто спокойно спать в своей постели, пока он путешествует по городу.
Ну правильно! Чудом больше, чудом меньше – это уже мелочи.
Ли Сю Вай говорит:
– А если что-то случится с Ником на полпути?..
– Если схлопывание произойдет, когда Ник будет идти по улицам, то он потеряет связь с По Квай и модом чистых состояний. Неприятно, но не смертельно. Собственно, единственное, что от него потребуется в этом случае – выдумать какое-нибудь объяснение для охраны, почему он не на посту. В худшем случае получит служебное взыскание. Кстати, ему будет не так трудно замять это дело – ведь если начнется расследование, другим охранникам придется объяснять, как Ник незамеченным вышел из здания...
Этот сценарий не очень меня воодушевляет. На людей, у которых установлен «Страж», подобный шантаж не подействует.
– Если схлопывание случится в МБР, это уже гораздо хуже, – продолжает Лу. – В этом случае мы все, разумеется, сразу попадем под подозрение. Каждый, у кого есть мод верности, будет подвергнут самой тщательной проверке. Канон придется закрыть как минимум на несколько лет, а возможно – и навсегда. В худшем случае, – он пожимает плечами, – мы рискуем... всем. Но ведь то же самое будет, если мы воспользуемся другими средствами для того, чтобы добыть описание. Так что решать надо сейчас. Или мы продолжаем вести привычную трусливую жизнь, что равносильно служению фальшивому Ансамблю, или делаем наконец первый шаг к тому, что является Ансамблем в нашем, истинном понимании этого слова.
Это уже полный сюр. Ведь у каждого из собравшихся здесь «истинное понимание» свое, не такое, как у других. Но, по-видимому, такие пустяки их не беспокоят. Фальшивый Ансамбль плох тем, что может состоять из враждующих фракций – забавно, что это был главный аргумент Лу, когда он убеждал меня примкнуть к Канону. Но Канон в этом отношении еще хуже, ибо он совершенно открыто и бесстыдно делится на куда большее число фракций. На что же надеются эти люди? Неужели каждый из них верит, что его точка зрения в конце концов чудесным образом восторжествует?
Не знаю. Да и как в этом разобраться, если я не могу четко сформулировать свое собственное «истинное понимание» Ансамбля? Я пробую вообразить себя свободным от ПСИ и МБР, но, по-прежнему верным... чему?
Чан Куок Хун что-то говорит, но я не могу сосредоточиться на его словах. Мне вдруг становится ясно, что главный вопрос надо решить для себя немедленно. Так что же такое Ансамбль для меня лично? Необходимо срочно найти – или выдумать – четкий ответ. Что включает в себя это понятие? До каких пределов можно распускать тот узел, что сплетен в моем сознании?
И меня осеняет, что существует одна вещь, без которой я не могу представить себе Ансамбль: чем бы он ни был, он обязан заниматься изучением и использованием необычных способностей Лауры. Комната с двойными стенами в подвале. Опыты По Квай с ионами. Мои непонятные приключения с модом чистых состояний. Значит, единственный доступный мне путь служения истинному Ансамблю – посвятить все свои силы изучению талантов Лауры.
Это звучит так недвусмысленно, что я испытываю некоторое замешательство. Но логика неумолима, отступать поздно. То, что одна мысль о переходе в размазанное состояние внушает мне ужас, только укрепляет мою уверенность в том, что я нашел единственно верный ответ. Ведь если бы бояться было нечего, чего стоила бы моя верность?
Я обвожу взглядом лица собравшихся, одно за другим. Теперь ясно, что не нужно заставлять себя поверить в донкихотские планы этих людей – они и сами не стараются понять мотивы друг друга. Я украду для них описание мода чистых состояний. Не потому, что это нужно им, а потому, что я считаю, что так надо.
Чан Куок Хун заканчивает:
– ...так что, по-моему, риск оправдан. Мое мнение – пора действовать.
Лу кивает Юэн Ло Чинь. Ее глаза оживают, она принимается за обоснование вывода, который ей давно ясен. Затем то же самое по очереди проделывают Юэн Тинь Фу и Ли Сю Вай. Я внимательно слушаю, пытаясь понять, каким образом глубоко личное понимание Ансамбля, откровенно несовместимое со взглядами всех остальных, приводит к одному и тому же заключению: «необходимо действовать».
Кажется, один только Лу находится в полном согласии с самим собой. Он говорит просто:
– Моя позиция вам известна. Дело за тобой, Ник. Решай.
Я подробно излагаю свои соображения. Члены Канона с каменными лицами выслушивают еще одно подтверждение того, что их точки зрения невозможно примирить друг с другом. Я ни в малейшей степени не затрагиваю ничьих взглядов, не оспариваю никаких аргументов, но тем не менее ясно даю понять, что все они несостоятельны. Я объявляю, что истинный Ансамбль и есть не что иное, как тайна таланта Лауры, а все остальное имеет второстепенное значение.
– Стало быть, несмотря на любой риск, мы не имеем права упустить такую возможность завладеть модом чистых состояний – но отнюдь не ради того, чтобы добиться тактических преимуществ в никому не нужной борьбе за власть. Мод нужен нам потому, что он воплощает самую суть Ансамбля. И не может быть более правильного пути к этой цели, чем использование именно того процесса, который лежит в основе Ансамбля. Я сделаю все, чтобы достичь этой цели – с вашей помощью или без нее.
Когда все расходятся, мы с Лу остаемся вдвоем. Некоторое время я сижу молча, усталый и немного растерянный. Не могу понять, способен ли все-таки Канон действовать как единое целое или наше согласие не более чем иллюзия? Согласие без компромисса – отличный оксюморон в духе Оруэлла.
По крайней мере теперь я знаю, что означает для меня заложенное в мой мозг понятие Ансамбля. Впрочем, остается неприятное ощущение, что через неделю, месяц или год это понятие может наполниться совсем другим смыслом.
Я говорю:
– Скажи мне честно: допустим, я утащу описание; допустим, ты построишь мод чистых состояний. – Показав рукой на ряд пустых стульев, я спрашиваю:
– Сколько еще времени после этого мы будем вместе?
Лу пожимает плечами:
– Достаточно долго.
– Достаточно – для чего?
– Чтобы каждый получил то, чего он хочет.
Я смеюсь:
– Наверное, ты прав, так может продолжаться бесконечно – все будут поддерживать одни и те же решения, хотя и по совершенно разным причинам. Есть только две вещи, по которым мы никогда не согласимся – теория и долгосрочная перспектива. – Удивляясь, почему я никогда не спрашивал его об этом раньше, я говорю:
– Послушай, все держится на тебе одном, но ради чего ты этим занимаешься?
Он, как обычно, немного удивленно хмурится:
– Я же тебе только что сказал.
– Когда?
– Пять секунд назад.
– Я, наверное, прослушал.
– Лично я хочу только одного, – говорит он. – Я хочу, чтобы все были довольны. Вот и все. Очень просто.
* * *
Спустя три дня после собрания, идя от метро домой, я делаю небольшой крюк. Я захожу в лавку, торгующую всякими сомнительными препаратами и нанотехникой: здесь есть интеллектуальная косметика, активные татуировки, естественные половые стимуляторы (те, что воздействуют на нервные окончания в половых органах, а не в мозгу), корректоры мускулатуры (быстро и безболезненно наращивают мышцы, но не увеличивают силу), а также нейромоды из тех, что иногда бесплатно прилагаются к пакетам с кукурузными хлопьями. Уж не знаю, какому кустарю-одиночке заказал Лу изготовление мода, блокирующего схлопывание, раз его приходится покупать в таком ненадежном месте.
Лу сообщил мне номер заказа. Я называю его хозяину и получаю маленький пластиковый флакон.
Перед сном я впрыскиваю содержимое флакона в правую ноздрю, и генетически перестроенные Еndamoeba histolytica – одноклеточные, в своем естественном состоянии вызывающие, среди прочих прелестей, амебный менингит – отправляются в путь к моему мозгу с грузом наномашин. Некоторое время я лежу и думаю о том, какие подвиги навигации и строительства предстоит совершить этим роботам величиной с вирус. Наверное, все-таки стоило предварительно поинтересоваться, много ли модов сконструировал Лу в своей жизни. Если в конструкции есть ошибки, то даже самые лучшие наномашины могут изрубить в лапшу жизненно важные центры мозга.
Но постепенно беспокойство проходит. Я делаю все, что могу, чтобы послужить истинному Ансамблю, а остальное мне безразлично...
Я наблюдаю за тем, как на потолке, пробившись сквозь жалюзи, появляется тонкая полоска утреннего света.
Я включаю сон.
* * *
«Босс», как я и заказывал, будит меня на три часа раньше, чем обычно. Итак, я жив, не парализован, не глух, не нем и не слеп. Пока. Запускаю тесты на исправность своих модов. Повреждений нет. Впрочем, такая ошибка наименее вероятна. Нейроны, являющиеся частью мода, помечены поверхностными белками, которых не может не заметить ни одна исправная наномашина. Кроме этого, у них есть и другие уровни защиты.
Лу не сообщил имени мода, и я вызываю «Мыслемеханизмы» («Аксон», 249 долларов), чтобы составить список всех модов в моей голове. Конечно, просканировать весь мой мозг эта система не может, но она посылает запрос «НАЗОВИ СЕБЯ» на общую для всех модов шину и показывает мне список полученных ответов. Из всех модов только мод верности хранит молчание, отказываясь себя назвать и вообще никак не обнаруживая своего присутствия.
Оказывается, блокировщик схлопывания замаскирован внутри дешевенького игрового мода по имени «Гипернова» («Виртуальная Аркада», 99 долларов). Когда я был маленьким, существовали игровые приставки к персональным компьютерам. «Гипернова» играет ту же роль по отношению к «Фон Нейману». Я пробегаю ее меню и справочные файлы. Чтобы загрузить в нее игровые программы, можно использовать инфракрасный мод, вроде моей «Красной Сети», или грубый старинный способ – модулированный видимый свет.
Так или иначе, маскировке надо придать правдоподобие – никто не хранит у себя в голове игровой мод без единой игры. Я звоню в библиотеку «Виртуальной Аркады». Их главный бестселлер на сегодня – историческая военная игра для отмороженных фанатиков всяческого оружия. Она называется «Басра 91» и знаменита тем, что демонстрирует картины массового уничтожения в подлинной записи с датчиков наведения ракет. Это не для меня. Я останавливаюсь на хите прошлой недели – «Меташахматах», где «каждое расположение фигур порождает уникальный набор правил».
Некоторое время я играю, катастрофически проигрывая даже на уровне для новичков. При этом я по очереди пробую все команды, но той, которая ведет в потайную дверь – к вызову мода блокировки схлопывания, – среди них нет. Я уже начинаю думать, что придется угадывать не просто команду, а целую серию, но вдруг вспоминаю еще об одной функции. Я вхожу в меню загрузки и вызываю архаическую опцию «ЗАГРУЗКА ЧЕРЕЗ МОДУЛИРОВАННЫЙ СВЕТ». Вместо ожидаемого сообщения о том, что я смотрю на неподходящий источник информации, появляется новое меню, в котором всего два раздела – «ВКЛЮЧИТЬ» и «ВЫКЛЮЧИТЬ». Маленькая стрелка показывает на «ВЫКЛЮЧИТЬ».
Сразу решиться трудно. С другой стороны, рано или поздно испытать эту чертову машину придется. И если она пойдет вразнос, лучше узнать об этом здесь, чем в прихожей квартиры По Квай.
Различие между воображаемой и истинной командой, отдаваемой моду, примерно такое же, как между воображаемым и реальным движением собственного тела... Выдачу истинной команды трудно описать словами, но овладеть этой операцией несложно, и она очень скоро начинает выполняться бессознательно. Однако в стрессовом состоянии все меняется. Воображая, как стрелка перескакивает на слово «ВКЛЮЧИТЬ», я остро ощущаю, что тот мысленный образ, которым я манипулирую, и есть само меню.
Ничего не происходит, ничто не меняется – но ничто и не должно меняться. Я поднимаю руку к глазам, но она упрямо не, расплывается в облако бесчисленных состояний. Комната тоже остается, как всегда, отчетливой. Насколько я могу судить, состояние моего сознания не изменилось, если не считать вполне объяснимой радости, что я не ослеп, не парализован и вроде бы не сошел с ума. Есть надежда, что Лу не так уж сильно напутал. Нельзя даже исключить, что мод работает.
Но если так, то я в данный момент размазан, хотя видимых последствий не заметно. Единственность, четкость, совершенная нормальность всего вокруг есть следствие того факта, что когда-нибудь в будущем я схлопнусь. Только на этот раз мод По Квай не будет перемешивать альтернативы.
Что значит «я схлопнусь»? Может быть, разумнее считать, что я «уже схлопываюсь», и это происходит в момент времени, который лишь кажется будущим, а все, что я сейчас испытываю, «ретроспективно» порождается этим процессом? По Квай уверяла меня, что спин иона становится определенным лишь в сам момент измерения, и никак не раньше.
Я вслух смеюсь. Несмотря на эскейперские чудеса Лауры, манипуляции По Квай с ионами и необъяснимые отказы моих собственных модов, в глубине души я воспринимаю все эти теории периодического размазывания и схлопывания как претенциозный и не очень связный бред какого-нибудь философа-недоучки. Но в то же время я не сомневаюсь – именно здесь скрыта сущность истинного Ансамбля, а я, возможно, установил себе эдакий «новый мод Императора»![2] Я снова вызываю меню, перевожу стрелку на «ВЫКЛЮЧИТЬ» – и задумываюсь: а что же будет с теми виртуальными «я», которые этого не сделали? Уничтожены ли они схлопывающими нейронными сетями в моем мозгу – несмотря на то, что половина из них могла быть уже на другом конце города?
Несомненно, они уничтожены – мной или каким-либо другим наблюдателем.
Но все ли?
Положим, мод – блокировщик схлопывания тут ничего принципиально не меняет, он может только задержать схлопывание или ускорить его. Главное, что обычный ход событий должен привести все в норму. Часто ли, редко ли мозг производит схлопывание, но этого должно хватать, чтобы добраться и до самых невероятных состояний, которые «отлетели» дальше всех. Потому что иначе эти невероятные состояния продолжали бы существовать неопределенно долго. Причем другие наблюдатели тоже не все и не всегда могли бы вычистить до конца. Если бы само схлопывание не поглощало абсолютно все версии, то наша единственная и четкая реальность совсем не была бы единственной. Она росла бы, словно одинокое дерево посреди громадной пустыни исчерпанных альтернатив, но эту пустыню окружали бы бесконечные заросли тонких побегов – призраки версий, слишком далеких от реальности, чтобы быть ею уничтоженными.
А это, разумеется, не так.
* * *
Я приступаю к своим собственным опытам, не дожидаясь начала следующей серии экспериментов По Квай. Неизвестно, есть ли в этом смысл – ведь до сих пор самые яркие эффекты наблюдались именно в те дни, когда она успешно работала с модом чистых состоянии. Но попробовать не мешает. Если я не научусь подключаться к ее моду без ее участия, то у меня уйдут годы на освоение даже простейших фокусов, не говоря уж о дерзких взломах сейфов на другом конце города.
По Квай тренировалась на простейшей системе: смесь ионов серебра была тщательно подготовлена, чтобы сделать два возможных состояния равновероятными. Я буду работать совсем в других условиях, но по тому же принципу: взяв систему, которая обычно схлопывается в соответствии с хорошо известными вероятностями, попытаться повлиять на эти вероятности. «Гипернова» и «Фон Нейман» оснащены генераторами случайных чисел – действительно случайных, а не алгоритмических псевдослучайных. Это группы нейронов, балансирующих на фрактальном лезвии между срабатыванием и не-срабатыванием, беспорядочно заикающихся, подчиняясь одним лишь межклеточным химическим флуктуациям, то есть, в конечном счете тепловому шуму. Если мне удастся нарушить равномерность распределения, внести в него любой сдвиг, перекос, это будет означать такой же успех, как в опыте По Квай с ионами.
Три ночи подряд я провожу, пытаясь воздействовать на случайные числа «Фон Неймана». Тщетно. Но этого и следовало ожидать, ведь кроме благих пожеланий, никаких средств управления модом у меня нет. Первая попытка победить физику оканчивается неудачей. От Лу помощи ждать не приходится, он и в глаза не видел описания интерфейса мода чистых состояний. Я принимаюсь усердно переводить разговоры с По Квай на интересующий меня предмет. Боюсь, что мой тон при этом подозрительно неестествен – не лучше ли было спросить напрямик? Она говорит:
– Ты же знаешь, что я не помню, как управляю этой частью мода. Я включаю блокировку схлопывания, а потом просто сижу и смотрю на ионы. Блокировка и выбор состояний работают независимо друг от друга, это две совершенно разные функции, хотя и реализованные в одном моде. Мод чистых состояний работает, только когда он размазан. А когда я тоже размазана, я, видимо, могу управлять этим размазанным модом. Но после схлопывания я забываю все.
– Но... как же ты училась им управлять, если ничего не помнишь?
– Не все умения основаны на ситуативной памяти. Ты помнишь, как учился ходить? Конечно, мое умение воплотилось в какую-то нейронную структуру, но скорее всего в такой форме, которая недоступна сознанию в схлопнутом состоянии. Понимаешь, мод чистых состояний может работать только после размазывания, поэтому и нейронные структуры, образовавшиеся в ходе экспериментов, тоже, я думаю, в схлопнутом виде не работают.
– То есть когда ты размазана, ты знаешь, как управлять модом, но это знание недоступно тебе после схлопывания?
– Именно. Если знание записано в мозг в размазанном состоянии, то логично предположить, что и прочитать его можно только в таком же состоянии.
– Но как же информация о том, что происходит в размазанном состоянии, может сохраняться после схлопывания, если схлопывание уничтожает малейшие следы всех состояний, кроме одного-единственного?
– Не уничтожает! Это было бы так, если бы реализованные при размазывании состояния не взаимодействовали между собой – но мод как раз и позволяет им взаимодействовать. В этом нет ничего нового, половина решающих экспериментов на заре квантовой механики основывалась на том, что размазанная система сохраняет следы того, что она была размазана. Уже сто лет назад были известны неопровержимые свидетельства сосуществования множества различных состояний – дифракция электронов, голограммы. Вообще – любые эффекты интерференции. Например, старые фотографические голограммы получали так: луч лазера расщеплялся на два луча, один из них отражался от объекта, и картина интерференции фотографировалась.
– А какое отношение это имеет к размазыванию?
– Ты знаешь, как расщепляют один луч на два? Его направляют на лист стекла, покрытый тонким слоем серебра, под углом в сорок пять градусов. Половина света отражается вбок, а половина проходит насквозь. Но это не значит, что каждый второй фотон отражается – это значит, что каждый фотон размазывается в смесь двух состояний; в одном из них он проходит, в другом – отражается, и вероятности этих состояний одинаковы.
И если ты пытаешься проследить траекторию отдельного фотона, ты схлопываешь систему в одно из состояний и разрушаешь картину интерференции, то есть портишь голограмму. Но если дать лучам спокойно рекомбинировать, позволяя двум состояниям взаимодействовать, то получается голограмма – как ощутимое доказательство того, что оба состояния существовали одновременно.
Вот так же и взаимодействие между разными версиями моего мозга может оставлять какие-то записи о том, что происходило в период их сосуществования. Лазерная голограмма, если посмотреть на нее невооруженным глазом, выглядит как бессмысленная мешанина, никак не связанная с объектом, который она изображает. Такое изображение надо восстанавливать специальным образом. Точно так же и записи в моем мозгу непонятны мне, но размазанная По Квай способна их использовать.
Переварив это, я говорю:
– Хорошо. Но если «размазанная По Квай» может учиться чему-то, о чем ты и не подозреваешь, как тебе удается побудить ее узнавать именно то, что нужно тебе?
– Может быть, дело в том, что я вслух говорю, куда отклонился ион. Но скорее всего главное – просто очень сильно, отчаянно захотеть, чтобы опыт удался. Чем сильнее я этого хочу, тем больше версий По Квай в размазанном состоянии тоже будут этого хотеть – и в конце концов все они этого захотят. Иначе где же демократия? – Она говорит это шутливо, но лишь отчасти.
Я говорю:
– Наконец-то найден научный способ проверки серьезности намерений. Просто надо сосчитать, сколько твоих версий разделяют данную цель и сколько от нее отказываются.
По Квай смеется:
– Правильно. Так можно все свести к числам. «Я вас люблю так сильно, что... минутку, сейчас подсчитаю чистые состояния...»
Дома, сняв настройку, я задумываюсь, насколько серьезны мои собственные намерения. Я категорически не желал ничего, что со мной происходило во время тех двух памятных переходов в размазанное состояние. А что сейчас? Лично я только о том и мечтаю, чтобы, украв описание мода, послужить истинному Ансамблю. Но как распределяются голоса после размазывания?
Я не занимаюсь самообманом; я сознаю, что мод верности сделал меня другим человеком. Но из слов По Квай следует, что вероятность тех квантовых состояний, где мод верности продолжает работать, велика». Размазывание может порождать десяток-другой виртуальных «я», у которых мод верности отказал, но у многих миллиардов он в полном порядке.
С другой стороны, я терял настройку при включенном «Н3», и мне являлась «Карен», хотя я ее не вызывал. В обоих случаях большинство должно было быть за поддержание статус-кво – тем не менее статус-кво был нарушен.
Что же все-таки происходит, когда я сижу в прихожей, размазываюсь и пытаюсь – или думаю, что пытаюсь – подчинить себе поток случайных чисел, которые выдает «Фон Нейман»? Ничего не происходит? А может, вспыхивает невидимая война между миллиардами возможных версий того, кем я мог бы стать? Генеральные сражения за мод чистых состояний – за супероружие, дающее власть над действительностью? После схлопывания я вижу одну и ту же ситуацию – патовую, но баланс сил может меняться незаметно, и «голограммы» в моей голове записывают все новые ходы...
Мысль о том, что я вызываю к жизни такие варианты себя самого, которые действуют вопреки моему желанию и ненавидят то, ради чего живу я, невыносима. Я стараюсь прогнать эту мысль, высмеять, счесть абсурдной. Но даже если она справедлива – что из того? Как я могу повлиять на исход этих битв? Как мне поддержать те отряды, которые остаются в тисках мода верности – то есть остаются верными мне?
Понятия не имею.
Я бросаю возиться с «Фон Нейманом». Есть что-то в высшей степени двусмысленное в том, чтобы воздействовать на нейроны в собственной голове. На барахолке рядом с моим домом я отыскиваю электронный имитатор игральных костей. Вся машинка размером с небольшую игральную карту, ее сердце – крошечный резервуар с несколькими микрограммами изотопа, излучающего позитроны, окруженный двумя слоями детекторов. Все это заключено в герметическую коробочку и абсолютно нечувствительно, как уверяет меня говорливый голографический информатор, к природным и искусственным помехам – дело в том, что ни одно внешнее явление не может быть спутано с характерной парой гамма-лучей, возникающей, когда позитрон аннигилирует внутри устройства. «Но если джентльмен предпочитает модель, более восприимчивую к разумным аргументам...»
Я покупаю модель, защищенную от всяческих аргументов. Кости можно запрограммировать в форме любых многогранников. Я выбираю традиционную пару кубиков и трачу целый час на испытание машины. Ни малейшего отклонения от случайности нет.
На дежурстве, в прихожей, когда По Квай спит, я то размазываюсь, то схлопываюсь, стараясь заставить моих виртуальных двойников проникнуться общей целью, способной выдержать безжалостное расщепление на миллиарды версий. Настройку я снимаю, несмотря на мучительное ощущение вины перед По Квай. Слишком велик риск – неизвестно, какие осложнения может давать «Н3» при схлопывании. Пытаюсь утешить себя тем, что если Дети когда-нибудь разузнают о кощунственных исследованиях ПСИ, они просто взорвут здание, и никакая настройка тут не поможет.
Однако кости остаются скрупулезно честными.
По Квай начинает третью стадию эксперимента, новые измерения корреляций в ее мозгу. Понятно, почему Лу так раздражают все эти интроспекции, но, по-моему, ПСИ действует совершенно правильно. Я знаю, каких фантастических результатов могу – в принципе – достичь, но тем не менее бесплодно блуждаю в потемках, да еще подвергаюсь огромной опасности. А ПСИ перейдет к таким задачам, лишь полностью поняв устройство мода. Пусть это займет хоть десять лет, зато они будут действовать наверняка.
Мелькает мысль: может быть, именно такие люди и призваны разгадывать тайны истинного Ансамбля. Те, кто работает медленно, тщательно, строго, уважительно...
По Квай добивается успеха уже на второй день. Она довольна, но принимает это почти как должное. Она все увереннее обращается с модом, хотя механизм его работы по-прежнему неясен. Скоро ли это растущее чувство уверенности, чувство власти проникнет в ее сны – и отсечет все мои притязания?..
Я сижу в прихожей, глядя на взлетающие и падающие кости. Час за часом, десять раз в минуту. Перед моим мысленным взором постоянно находятся два меню – «Гиперновы» и программы анализа результатов, которую передал мне Лу через «Красную Сеть» при мимолетном рукопожатии. Это модификация той программы, которая использовалась в экспериментах с ионами.
Размазывание ВКЛЮЧИТЬ.
Кости брошены.
Размазывание ВЫКЛЮЧИТЬ.
Записать результаты испытания.
Под настройкой я мог бы без малейшего волнения повторять этот цикл до бесконечности. Но сейчас мое настроение скачет от взрывов энтузиазма к унынию, переходящему в отчаянную тоску, а после редких периодов блаженного автоматизма меня, охватывает особенно сильная ярость. Впрочем, может это и на пользу – как бы ни разнились между собой взгляды виртуальных «я», они должны быть единодушны в стремлении положить конец самоистязанию. А выход один – добиться успеха.
Впрочем, один ли? Чтобы принудить свои виртуальные «я» к повиновению, управление после каждого схлопывания должно переходить ко мне – такому, как я есть в данный момент. Но мод может с равным успехом воздействовать как на кости, так и на мое сознание. Как знать, не будет ли при очередном схлопывании выбрана та версия меня, которая просто махнула рукой на эксперимент. Или на истинный Ансамбль... При каждом размазывании, вместе с костями в воздух подбрасываются и правила игры. Надежда только на то, что с костями справиться легче.
Я прячу игральную машинку в карман за несколько секунд до того, как Ли Хинь Чунь приходит меня сменить. Пока я еду домой на метро, тестовые программы прочесывают данные, накопленные в моей голове, в поисках хоть каких-то намеков на отклонение от случайности. Под управлением «Фон Неймана» это занимает массу времени, и лишь когда я выхожу на своей станции, заключение готово:
<ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СЛУЧАЙНОСТИ: НОЛЬ>
Как всегда.
* * *
Вопреки моим ожиданиям, на следующий день По Квай снова работает, и я должен дежурить в комнате 619. Ли объясняет:
– Она говорит, что теперь это ее не утомляет. Так что опыты можно не прерывать.
Стоя на часах, я предельно собран, будто пытаюсь загладить свои ночные грехи. Разговоры ученых выведены за рамки восприятия, я равнодушен и к успехам, и к промахам. «Н3» затаилась, готовая в любой момент отсечь непредвиденные отвлекающие факторы. Мое сознание отфильтровано до чистейшей созерцательности.
Через час По Квай выходит из ионной комнаты. Оказывается, вся сегодняшняя программа выполнена. В лифте я спрашиваю ее:
– Ну как дела?
– Хорошо. Сразу пошла полезная информация.
– Так быстро?
Она кивает с довольным видом:
– Мне кажется, я преодолела какой-то барьер. Теперь с каждым разом все легче и легче. Собственно, я-то ничего не делаю, как и раньше. Но впечатление такое, что размазанная По Квай освоила-таки «Ансамбль».
Освоила... Переспросить?! Незачем. Я прекрасно слышал, что она сказала, ошибки быть не может. Почему название мода никогда не упоминалось раньше? Наверняка запретила Люнь, причем так жестко, что это действительно запало в сознание.
Не вижу смысла отчитывать По Квай за ее промах.
За обедом она говорит только о том, какой однообразной стала еда. Я вежливо киваю в ответ. Мое терпение бесконечно.
Я сижу в прихожей. Слышно, как за стенкой ходит По Квай. Я раздумываю о том, что узнал, и о том, меняет ли что-нибудь это знание.
В час ночи я снимаю настройку, и моя радость вырывается на свободу. Истинный Ансамбль есть мод под названием «Ансамбль»! Это уравнение идеально, его восхитительная симметрия служит последним и окончательным обоснованием того, во что я верую. На первый взгляд мне открылось нечто сокровенное, но, если вдуматься, иначе и быть не могло. И главное, ничто не могло бы сильнее вдохновить меня на сплочение виртуальных двойников, стремящихся к одной, заветной цели!
Я вынимаю игральную машинку, включаю моды и начинаю. Кости по-прежнему падают без всякой системы, но меня это не обескураживает. Мое размазанное «я» не может творить чудеса, как бы сильно ни было его стремление к победе. К тому же я, схлопываясь, разрушаю его каждые шесть секунд, и ему приходится начинать все сначала, наугад отыскивая «голографические» следы своего прежнего опыта, сохранившиеся в моем мозгу.
А надо ли мне схлопываться после каждого бросания костей? Да, По Квай делала так, и она добилась успеха, но у нас с ней разные задачи. Ей надо было усилить одно из всего лишь двух возможных состояний. И «Ансамбль» находится в ее голове, а не в моей. Может быть, чтобы породить виртуальные «я», способные воздействовать на мод, я должен дольше оставаться размазанным? Как долго я был размазан к тому времени, когда, незваная, явилась «Карен»? Не знаю и никогда не узнаю – все происходило тогда помимо моей воли.
Тогда – но не сейчас.
Я нажимаю кнопку «ВКЛЮЧИТЬ».
На столе передо мной генератор игральных костей раз за разом подбрасывает изображения кубиков в воздух. Все выглядит очень реалистично, моделируются даже блики света на гранях и легкий стук падающих на стол костей.
Выпадают змеиные глаза. Одно очко на каждом кубике. То, чего я хотел.
Сделав над собой усилие, я вместо привычного до автоматизма «ВЫКЛЮЧИТЬ» сразу выполняю четвертый шаг своей программы – «Записать результаты испытания». Каждый раз, когда я буду повторять эту операцию, «Фон Нейман» будет размазываться на бесчисленное множество своих копий, в которые записаны все возможные комбинации результатов. И мне не надо думать о бросании костей; все что от меня требуется – выбрать то состояние, в котором программа анализа в конечном счете объявляет успешный исход. Вот как просто! (Еще бы, ведь мне помогает истинный «Ансамбль».) Опять змеиные глаза.
И в третий раз тоже.
Что, если я схлопнусь прямо сейчас, пока программа еще не дала окончательного ответа? Как тогда будет истолковано это совпадение – как случайный успех, не влияющий на общую картину? Или же я как раз и наблюдаю доказательство того, что я не схлопнусь прямо сейчас?
В четвертый раз змеиные глаза. Любое сочетание выпадает с вероятностью одна тридцать шестая. Четырехкратное повторение – при тридцати тысячах бросаний, которые я успел сделать за прошедшие десять ночей – имеет вероятность всего 1,7 процента.
Пятый раз. Это уже 0,048 процента. Преодолен наугад назначенный однопроцентный барьер, и программа начинает посылать сообщения об успехе.
Шесть. 0,0013%.
Семь. 0,000037%.
Восемь. 0,0000010%.
Я больше не ввожу данные в программу анализа. Просто сижу и смотрю, как вновь и вновь выпадает одна и та же комбинация. Это похоже на дешевую, бесконечно повторяющуюся рекламку. Может, генератор испортился, вот и все. Но как он мог испортиться? И почему он вдруг испортился? Значит, я своей волей вмешался в работу электронных схем – старый добрый телекинез? Но я ведь даже не стараюсь воздействовать на игрушку – просто сижу и смотрю. По Квай была права – размытое «я» делает все за меня.
И мне никуда не деться от того факта, что я проживаю сейчас ту последовательность событий, которая будет (или была) выхвачена из нескольких квадриллионов таких последовательностей общими усилиями нескольких квадриллионов моих версий, а я сейчас убью (если уже не убил) их все. Кроме одной.
Я нажимаю «ВЫКЛЮЧИТЬ.
Кости продолжают падать. Три и четыре. Два и один. Две шестерки.
Я утираю пот с лица. Я весь дрожу, голова кружится от счастья и ужаса.
Опустив руки, я сжимаю металлический каркас стула. Холодное, прочное железо. Все как всегда. Это ощущение помогает быстро успокоиться. Выходит, я добился успеха, и со мной ничего не случилось. А теперь уже нечего бояться – не будет больше ни галлюцинаций, ни испорченных модов. Все подвластно мне.
И несмотря на хитрые метафизические выверты, с которыми еще предстоит разобраться, ясно главное – когда я отключаю рубильник (жму на «ВЫКЛЮЧИТЬ», схлопываю волну...), все сразу приходит в норму.
Глава 10
Лу составляет для меня программу овладения модом, совершенно игнорируя – в полном соответствии с духом Канона – тот факт, что в этом деле нет лучшего советчика, чем мой собственный инстинкт. По его указаниям я осваиваю все более сложные фокусы – циклы из двух, трех или четырех различных комбинаций, выпадение только простого числа очков, выпадение всегда одинаковых очков на обоих кубиках. С точки зрения вероятности эти задачи ничуть не сложнее, а иногда и проще той, где я впервые добился успеха. Но здесь сложнее сам критерий успеха, а значит, выделить соответствующие ему чистые состояния тоже может оказаться не так просто.
Возможно к тому же, что во всех случаях критерием является не сам успех, а моя вера в успех, и отбирается то состояние, в котором одно из виртуальных «я» полагает, что успех достигнут. А если это «я» по рассеянности решит, что три плюс пять – простое число, оно вполне может в качестве награды обрести реальное воплощение. (Возможно, такое уже не раз случалось, и я медленно, но верно эволюционирую по направлению к повышенной рассеянности и склонности к самообману. На этом пути мой мозг может измениться очень сильно, ведь не исключено, что Лаура именно так «вырастила» свои нейронные сети, положенные в основу «Ансамбля».) Неплохо бы купить карманную ГВ-камеру и записывать все, что со мной происходит, а просматривать запись только после схлопывания – но не хочется нелегально проносить на пост слишком много подозрительной аппаратуры. Если меня застанут играющим в кости, это можно списать на неполадки в «Н3» – мол, старался отвлечься, чтобы не уснуть. Но едва ли кто-нибудь поверит, что я прогоняю сон, снимая любительские фильмы.
Эксперименты продолжаются. Решимость довести их до победного конца не оставляет меня, хотя порой ослабевает. Я твердо убежден, что действую во имя истинного Ансамбля. Всю свою жизнь я стремился к одному – к власти над собой и развитием своей личности. Да, размазывание по сути своей есть антитеза строго управляемого развития – но ведь «Ансамбль» дает мне такую полноту власти над этим процессом, которая оправдывает любой риск. Конечно, оправдывает лишь до тех пор, пока именно я, пусть и косвенно, управляю «Ансамблем». Пока именно мои желания диктуют свою волю моему размазанному «я».
Я нет-нет да и задумываюсь: если я не знаю, как подключиться к «Ансамблю», то кто же это делает? Какой из моих виртуальных двойников овладевает этим секретом? И почему он не использует это умение для того, чтобы не погибнуть при схлопывании? Почему помогает выжить не себе, а другому?
Но чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что По Квай права: «Ансамблем» управляет мое размазанное «я» целиком, а отдельные версии, входящие в него, секрета не знают. Любой, кто реализуется после коллапса, сможет точно так же, как я, расписаться в своем невежестве. Речь идет о знании, хранящемся в распределенной форме, как это происходит в нейронной сети. Ни один нейрон в моем мозгу не обладает никакими из моих знаний, почему же отдельные виртуальные «я» должны знать секреты, принадлежащие всему размазанному «я»? Открывает ли размазанный Ник Ставрианос секрет доступа к моду каждый раз заново, или же считывает его с некоей «голограммы» в моей голове – в любом случае нет никaкиx виртуальных мучеников, alter ego, жертвующих собой, чтобы заставить мод выполнить мое желание.
А как же сам размазанный Ник? Его нельзя назвать мучеником – у него нет выбора, ибо он должен схлопнуться в любом случае.
Но он совсем не обязан схлопываться именно в меня.
* * *
В тот самый момент, когда недавнее чудо становится почти обыденностью (хочу, чтобы сумма очков всегда равнялась семи – нет ничего проще!), Лу вручает мне пачку запечатанных конвертов:
– Здесь списки результатов серий из ста случайных испытаний. Попробуй заставить кости воспроизвести эти серии.
– То есть я должен читать список и заставлять кости ложиться в соответствии с ним?
Он качает головой:
– Нет, это было бы бессмысленно. Ты должен просмотреть список лишь после того, как проведешь серию и запишешь результаты – но, разумеется, до того, как схлопнешься.
Задача вызывает у меня инстинктивную неприязнь. В течение четырех ночей подряд ничего не получается, и, по правде говоря, я этому рад. Более того, меня охватывает настоящее ликование – дерзкое, кощунственное и с явным привкусом самодовольства. Выходит, здравый смысл еще на что-то годится. Ну как, скажите на милость, можно заставить кости повторять какой-то список, если я и в глаза-то не видел этого списка?!
В то же время я прекрасно понимаю, что ничего особенного по сравнению с предыдущими в этой задаче нет. Она требует не больше «ясновидения», чем прежние опыты – способности к «телекинезу». Надо всего лишь выбрать подходящее состояние. Надо заставить нужную мне версию настоящего стать прошлым.
Наступает пятая ночь. Как обычно, я записываю результаты серии бросаний в файл «Мыслемеханизмов», потом наугад вытаскиваю из кармана конверт и вскрываю его. Увидев, что первые три результата совпали, я уже знаю, что совпадут и остальные девяносто семь, но тем не менее прилежно проверяю весь список до конца.
Как ни странно, я не испытываю никакого удивления и ни малейшей обиды – до тех пор, пока не нажимаю «ВЫКЛЮЧИТЬ» и не схлопываюсь.
А собственно, какой прок и в том и в другом?
* * *
Как бы между делом Лу дает мне цифровой замок и небрежно говорит:
– Может быть, попробуешь открыть? С первой попытки.
– Выбросить комбинацию на костях?
– Нет. Самостоятельно.
– При помощи «Фон Неймана»?
– Нет. При помощи угадывания.
Сидя в прихожей, я жду, пока заснет По Квай. Интересно, что ей снится, когда я одалживаю мод? Если мое размазанное «я» правильно выбирает состояние, ничего сниться не должно. Но чтобы выбрать правильно, он должен разбудить ее и спросить. А как же иначе?
Наверное, некоторые виртуальные «я» действительно будят ее и спрашивают.
Я снимаю настройку, размазываюсь, жду пять минут. Надо размазаться «получше», чтобы уверенно управлять «Ансамблем». Ожидание куда проще вытерпеть до начала работы. После выполнения задания – зная, что выбора нет – оттягивать схлопывание будет слишком мучительно.
Вообще вопрос о длительности периода размазывания продолжает меня беспокоить. По Квай легче – ей выбирать не из чего. А у меня должны быть состояния, которые решают схлопнуться раньше или позже, чем то, которое в конце концов реализуется. Но это им, конечно, не удается, ведь схлопывание реально только тогда, когда его выбирает действительно реализовавшееся состояние. Похоже на порочный круг, но на самом деле все логично – волновая функция стягивается в тот самый момент, когда выбранное состояние делает нечто, вызывающее ее стягивание. Точнее, это логично с точки зрения той версии, которая реализуется. А что происходит с версиями, которые пытаются схлопнуться, но терпят неудачу? Знают ли они, что потерпели неудачу? Если да, то что отсюда следует? Или это просто математические абстракции, которые ничего не знают, не помнят, не чувствуют?
Я достаю из кармана замок, смотрю на него, и меня охватывает тревога. Известно, что человеку очень трудно назвать действительно случайное число. Надо было плюнуть на приказ Лу и бросить кости. Но; уже поздно. Так, а если верная комбинация – 9999999999? Или, скажем, 0123456789? Мне ничего не стоит набрать любую последовательность цифр, но смогу ли я, чисто психологически, заставить себя ввести такую «неслучайную» последовательность?
Пожалуй, стоит постараться. Иначе мое размазанное «я» при помощи «Ансамбля» найдет кого-нибудь другого, кто сможет это сделать.
Смешно! Стать другим человеком равносильно самоубийству? Так считает По Квай, но я с ней не согласен. В любом случае эти сомнения запоздали, ведь если до схлопывания ничто не реально, значит, я наверняка «уже схлопнулся». Весь ход событий, который я сейчас переживаю, уже был однажды выбран, и я уже стал тем, кем должен был стать, чтобы суметь открыть замок. И пока не замечаю в себе особых перемен.
Но когда я подношу указательный палец к кнопкам замка, ситуация вдруг предстает в совсем иной, ошеломляющей перспективе.
Я один из десяти миллиардов человек, которые сидят в десяти миллиардах комнат, глядя на десять миллиардов замков. Если я наберу правильную комбинацию, я буду жить. Если нет – умру. Все очень просто.
Почему я так уверен, что «уже выполнил» задание? Потому что комната выглядит как всегда? Потому что я вообще хоть что-то ощущаю? Но схлопывание не изготавливает последовательность событий, а просто отбирает один из ее возможных вариантов. Различные виртуальные «я» вполне могут находиться в сходной обстановке. Стать реальным выпадет лишь одному состоянию, но казаться реальными могут очень и очень многие.
Я начинаю было опускать замок на стол – в конце концов, никто не может заставить меня провести этот опыт. Но меня тут же осеняет, что это худшее, что я могу сделать. Размазанное «я» выберет того, кто откроет замок, а не того, кто просто откажется от эксперимента. Если я сдамся, мои шансы выжить равны нулю.
Не отводя глаз от замка, я стараюсь разогнать эти абсурдные страхи. Я уже много раз размазывался, и всегда это кончалось благополучно. Да, благополучно – иначе меня бы здесь просто не было. Но в данной ситуации это ничего не значит. Я мотаю головой. Бред какой-то. Даже смешно. Каждый человек ежесекундно схлопывается, но отсюда не следует, что повседневная жизнь зиждется на непрерывных массовых убийствах?! Такое невозможно себе представить, даже если иметь в виду каких-то мифических инопланетян, не говоря уж об обыкновенных людях!
Мифических? Кто же, в таком случае, построил Пузырь?
Так. Что же делать? Сидеть и ждать, пока Ли придет сменить меня и все решится само собой? Или я надеюсь всю оставшуюся жизнь прожить незамеченным? Впрочем, даже это меня не спасет – когда та версия, которая реализуется, примет решение схлопнуться, я исчезну... если только та версия – не я. А можно поставить десять миллиардов против одного, что это уже не я.
Неожиданно – не знаю почему – ко мне возвращается прежний скептицизм. В сознании неторопливо проплывает: «Если квадриллионы виртуальных личностей каждую секунду умирают, то смерти нечего бояться...» Впрочем, это из области отвлеченных размышлений. Главное – я просто не верю, что могу сейчас умереть. Я поднимаю замок и нажимаю десять кнопок наугад, почти не глядя, и лишь потом внимательно гляжу на маленький светящийся индикатор: 1450045409.
Слишком упорядоченная комбинация? Или слишком случайная?
Поздно. Я тяну за кольцо.
* * *
Лу стоит на берегу центрального пруда в парке Коулун, бросая уткам крошки хлеба. Похоже, насмотрелся плохих детективов. Я останавливаюсь совсем рядом с ним, но он не удостаивает меня даже мимолетным взглядом.
Я говорю:
– Какой смысл скрывать, что мы знакомы? Наш наниматель наверняка уже об этом знает.
Он пропускает мои слова мимо ушей:
– Как прошло вчера ночью?
– Успешно.
– С первого раза?
– Да, с первого раза. – Я смотрю на воду и не могу понять, чего мне больше хочется – убить его или заключить в объятия.
После короткой паузы я говорю:
– Это была хорошая идея. С замком, я имею в виду. Пять минут помучился, но надо признать, дело того стоило. – Я пытаюсь рассмеяться, но выходит не очень убедительно. – Честное слово, когда эта дрянь щелкнула и открылась, я был счастлив, как никогда в жизни. Такое резкое облегчение вдруг наступило, что я чуть сознание не потерял. И... сам не знаю почему, но после этого я абсолютно уверен, что со мной ничего плохого уже не будет.
Он важно кивает:
– Научиться управлять модом нетрудно. Трудно заставить свое сознание свыкнуться с тем, что делает мод. Нельзя допустить, чтобы у ворот МБР тебя парализовал метафизический ужас.
– Это верно. – На этот раз мне удается рассмеяться по-настоящему. – Но имей в виду, вряд ли в МБР стоят замки с такими простыми комбинациями. Десять девяток! Такого на свете не бывает.
Лу качает головой:
– Что значит – простые комбинации? Для тебя они все теперь одинаково просты.
* * *
Еще неделя уходит у меня на то, чтобы научиться справляться с замками, которые открываются ключом. Лу показывает мне свои расчеты. Вероятность того, что пара-тройка крошечных транзисторов в микропроцессоре замка облагодетельствует меня, в нужный момент перегорев, не меньше, чем вероятность выпадения змеиных глаз сто раз подряд. То, что подобных событий обычно приходится ждать дольше, чем существует вся Вселенная, к делу не относится. (Не стоит, впрочем, всуе поминать такие гигантские интервалы времени. Ибо возможно, что практически вся история Вселенной прошла без всяких «событий» – в человеческом понимании этого слова.) Главное, я убедил себя, что задание выполнить можно, а размазанный Ник Ставрианос сумел этим воспользоваться.
Однако видеокамеры наблюдения меня по-прежнему беспокоят:
– Если меня заметят, я схлопнусь, причем наугад. Меня схлопнет тот, кто будет сидеть у монитора.
Лу говорит:
– Нет, не наугад. Ты по-прежнему управляешь модом чистых состояний. И ты не схлопываешься, если сделал вероятность этого события достаточно малой. Ведь ты же не схлопываешь сам себя, когда не хочешь этого, правда? Хотя такое событие, безусловно, возможно. Перестань думать о своем размазанном «я» как о хрупкой, беззащитной, ненадежной системе, которую может разрушить единственный случайный взгляд.
– Но ведь этот взгляд действительно разрушит...
– Нет. Он может это сделать, только и всего. Кости тоже могут падать, как им вздумается – но ведь они падают так, как хочешь ты. Наблюдение как таковое не схлопывает волну. Ведь ты же не слепнешь, когда размазываешься, верно? Схлопывание – это особый процесс. Если кто-нибудь наблюдает тебя, две волновые функции вступают во взаимодействие и превращаются в единое целое. Это дает наблюдателю возможность схлопнуть тебя, но это же дает и тебе возможность воздействовать на наблюдателя и избежать схлопывания.
– То есть мы с наблюдателем вступим в бой за судьбу волновой функции? А я только-только перестал переживать по поводу битвы против сразу всех моих виртуальных версий! Теперь выясняется, что придется заняться перетягиванием каната, да еще не с виртуальным, а с реальным противником!
– Придется. Но это будет игра в одни ворота. Твои «противники» даже не знают, что такое волновая функция, не говоря уж о возможностях ею управлять.
– Тем не менее миллиарды людей схлопывают волну тысячу раз на дню.
– Да, схлопывают – самих себя, неодушевленные предметы и таких же невежественных и беспомощных людей, как они сами. Они же никогда не сталкивались с такими, как ты.
– С Лаурой Эндрюс некоторые сталкивались.
Лу улыбается:
– Вот именно. И все же ей удалось дважды вырваться из Хильгеманна, так? Разве это не лучшее доказательство?
* * *
В первую ночь, когда я покидаю свой пост, я остаюсь на своем этаже и хожу только по тем комнатам и коридорам, которые должны быть в этот час пусты. Я брожу под объективами десятков камер наблюдения и детекторов движения. Мои коллеги на центральном посту охраны должны как минимум немедленно связаться со мной и выяснить, в чем дело. Но инфракрасные приемопередатчики на потолке молчат. Что отсюда следует? Что я «заставил» камеры и датчики вежливо отвернуться? Или «сделал» дежурных ротозеями? А может быть, вытеснил поднятую охраной тревогу за пределы своего сознания и буду разоблачен немедленно после схлопывания?
Проходя мимо квартир других добровольцев я – ревниво! – думаю о том, что некоторые из них, возможно, тоже начинают осваивать «Ансамбль». Лу думает, что это не так, но до конца не уверен. То, что я оперирую «Ансамблем» при бессознательном посредничестве По Квай, меня не слишком смущает. Однако мысль о том, что кто-то другой приближается к овладению тайнами истинного Ансамбля, просто невыносима. Благодаря моду верности я достиг такого глубокого понимания сути Ансамбля, как никто в целом свете, и никто, кроме меня, не смеет ступить на этот путь. Я верю в это так же искренне, как и в то, что нет для меня дела важней, чем передать «Ансамбль» в распоряжение Канона. Вопиющее противоречие! Но мое сознание воспринимает его как не относящуюся к делу абстракцию.
Вернувшись в прихожую, я схлопываюсь. Скоро выяснится, сумел я стать невидимкой, или спрятал голову в песок наподобие страуса. Способно ли мое размазанное «я» отличать состояния, где меня действительно не заметили, от тех, где я обманул только себя самого? Иначе говоря, что менее вероятно: пройти перед камерой незамеченным или не заметить, что ты обнаружен?
Этого я не знаю. Пока ясно одно – в течение часа никто не обвинил меня в самовольной отлучке с поста. В принципе возможен и такой вариант: я уже давно обездвижен и валяюсь где-нибудь в подвале, а сегодняшний успех мне лишь пригрезился. Просто мое размазанное «я» схлопнулось в версию, подверженную очень реалистичным галлюцинациям. Да, это маловероятно. Но я уже столько раз реализовывал абсолютно невероятные варианты выигрыша; значит, я могу и проиграть самым фантастическим образом?
Ли Хинь Чунь заступает на дежурство вместо меня. В поезде, по дороге домой, я внимательно гляжу на пассажиров. Если это иллюзия, пусть она скорее рассыплется, превратится в сюрреалистический хаос! Но вагон по-прежнему цел, станции сменяют друг друга согласно расписанию, я встречаю равнодушные, как всегда, взгляды и начинаю думать, что подделка, пожалуй, слишком уж смахивает на правду.
Дома все сомнения окончательно развеиваются. Если это галлюцинация, то вся моя жизнь тоже галлюцинация. Лежа в постели, я вслушиваюсь в знакомый уличный шум, и обыденность, обыкновенность мира непривычно ласково обволакивает меня. Каждая трещинка на потолке, каждый луч солнца на шторах упорно остаются самими собой, и это чудо стойкости сильнее любых логических аргументов. Можно ли назвать все это иллюзией и обманом, если никаких признаков другой, «настоящей» реальности не высмотришь и за миллиард лет?
Свет солнца меркнет, и в окно ударяют струи внезапно налетевшего дождя. Мне вдруг приходит в голову: а что, если мы, люди, на самом деле создали не осязаемый, отчетливый мир нашего житейского опыта, а наоборот – размытый и многозначный квантовый фундамент для него? По Квай считает, что наши предки схлопывали Вселенную. А может быть, те, кто в двадцатом веке создавал квантовую механику, не столько открыли ее законы, сколько вызвали их к жизни? И если так, то меняет ли это хоть что-нибудь? Что же создал человеческий мозг – квантовый мир из классического или классический из квантового? Во что легче поверить? И есть ли надежда, что наши, неизбежно антропоцентрические, эксперименты способны установить объективную, внечеловеческую истину?
Наверное, это невозможно. Но лично я пока не сомневаюсь в том, какой вариант ближе человеческой природе.
Под окном визжит компания детей, которых дождь застиг на пути в школу.
Я включаю сон.
* * *
Следующий этап подготовки – спуститься с тридцатого этажа здания ПСИ. Я вооружаюсь дюжиной оправданий на случай, если меня заметят. Двое охранников на пункте проверки документов при моем приближении четко и слаженно отводят взгляд в сторону. Но что это на самом деле – блестящий успех или первоклассная галлюцинация? Я на мгновение зажмуриваюсь и уверенно говорю себе, что выбросить змеиные глаза сто раз подряд не более фантастично. Увы, звучит не слишком убедительно.
Я решаю спускаться по лестнице. Она, как и лифт, находится под наблюдением, но я боюсь, что спуск на лифте может «связать» меня с кем-нибудь, кто тоже захочет им воспользоваться.
Я решаю спускаться по лестнице. А есть ли у меня выбор? Может быть, мои мысли и действия уже расписаны до мельчайших деталей моим размазанным «я»? Однако иллюзия свободной воли остается, как всегда, убедительной, и я не могу (не способен?) отказаться от мысли, что выбор за мной.
Я спускаюсь на шестой этаж. В это время он должен быть наглухо запечатан, однако дверь легко открывается, как будто она не заперта. На посту охраны нет никого, проход закрыт тяжелыми стальными створками, которые начинают скользить в разные стороны даже прежде, чем я успеваю посмотреть на пульт управления. А ведь чтобы их открыть, нужны два магнитных ключа и команда с центрального поста.
Вхожу на этаж. Голова кружится от приступа мании величия, смешанной с паническим страхом. Я ощущаю себя то всемогущим, то беспомощной марионеткой. Мне удается все, чего я ни пожелаю, но это происходит как бы помимо моей воли. Начиная с первого трюка с игральными костями, мое размазанное «я» послушно исполняет все распоряжения. Страхи, что оно может взбунтоваться, оказались неосновательными. Отказы модов, видения «Карен» были, конечно, не более чем аберрацией. Это и понятно, ведь я абсолютно не сознавал, что происходит, и поэтому не мог ничем управлять.
Передо мной открываются все лаборатории, все кладовые. Я наугад захожу то в одну, то в другую комнату, не обращая внимания на замки и телекамеры. Я ни на минуту не допускаю мысли, что все происходящее на самом деле сон, но ощущение нереальности нарастает, и после недолгой борьбы я покоряюсь ему. Нет больше сил сражаться с впитавшимся в плоть и кровь житейским опытом, яростно восстающим против всех этих чудес. Лу прав: самое трудное не научиться управлять модом, а сохранить рассудок, управляя им.
Все действительно подчиняется логике сна – двери открываются, потому что они должны открываться, я остаюсь невидимкой, потому что меня не должны видеть. И, как герой любого сна, я лишен свободной воли, я ничем не управляю. В комнате 619 мне почему-то приходит в голову пожелать, хотя и без всякой настойчивости: хорошо бы вон тот стул поднялся в воздух или подъехал ко мне по полу. Ничего не происходит, но я не удивлен – дело не в том, что это невозможно, просто это было бы неправильно.
Как бывает в снах, мне вдруг становится ясно, что с шестого этажа пора уходить. Подъем по лестнице на двадцать четыре пролета требует совершенно реальных физических усилий, отчего я постепенно выхожу из оцепенения. Былые страхи тут же возвращаются: а как же все эти двери, замки, камеры?.. Прикинув вероятности, я вновь ужасаюсь от того, насколько безнадежным выглядит мое предприятие.
У входа на тридцатый этаж я резко останавливаюсь, охваченный мучительным предчувствием. Не ударят ли мои сомнения рикошетом, карая за маловерие? Потакая почти забытому инстинкту самосохранения, я дожидаюсь, пока дыхание немного успокоится.
Собрав всю волю, я открываю дверь, и это скромное чудо, еще одна немыслимая удача, что легла на вершину шаткой башни ей подобных, свидетельствует – все идет как надо.
Охранники ухитряются меня не заметить так же ловко, как в прошлый раз (а я-то все переживаю из-за своей свободы воли!). Глядя прямо перед собой, я прохожу мимо них, не оглядываясь, поворачиваю за угол, и в тот же миг меня охватывает неудержимое желание схлопнуться. О, как я хочу скорее превратить свою бредовую ночную удачу в надежное, необратимое прошлое! Меню «Гиперновы» уже вспыхивает перед моим мысленным взглядом, но я вовремя вспоминаю, что этот участок коридора просматривают еще как минимум две камеры.
В качестве реверанса нормальной реальности я открываю дверь в прихожую обычным путем: кодовый импульс через «Красную Сеть», затем сличение отпечатка большого пальца, затем магнитный ключ. Проделав все это, я соображаю – увы, слишком поздно, – что эти действия скорее всего будут зафиксированы в центральном компьютере. С досадой захлопывая за собой дверь, я бормочу:
– Ну нельзя же так расслабляться! Внимание, внимание и еще раз внимание.
– По-моему, ты даже слишком внимателен, – смеется По Квай. – А где ты был? – Ее лицо мрачнеет. – Случилось что-нибудь?
Я качаю головой:
– Нет, ничего. Просто показалось, что в коридоре кто-то ходит. Ложная тревога.
– В коридоре? А как же датчики, камеры?.. Значит, все-таки можно...
– В принципе и датчики можно обмануть. Теоретически. Но ты не думай об этом, там никого не было.
– У тебя такой вид, будто ты гнался за этим «никем» до самой крыши и обратно.
Я замечаю, что на моем лице выступила испарина. После подъема по лестнице ее не было. С виноватым видом вытираю лоб платком:
– Да нет, проверил пару пролетов вверх и вниз, и все. Теряю форму, видимо.
– Странно, что твои моды позволяют тебе по-настоящему потеть.
Я выдавливаю смешок:
– Знаешь, одно дело – подавить аппетит, а совсем другое – отключить терморегуляцию. Это уже попахивает самоубийством.
Она кивает и молчит. Вид у нее подавленный. Наверное, решила, что от нее хотят скрыть какой-то опасный инцидент. Возьмет и спросит завтра у Ли: «Ну, что там у вас ночью случилось?» А что я могу сделать? Предупредить: «Ты только никому не рассказывай, потому что...» – что? Потому что меня будут дразнить, что я гоняюсь за привидениями? Но она знает, что два охранника на выходе не могли меня не видеть...
Ладно, это не так страшно. Главное: давно ли она проснулась? Ясно, что раньше, чем я прошел через контрольный пункт на этаже – потому что оттуда я дошел до прихожей секунд за двадцать. Но тогда как же я прошел мимо охраны? Либо она схлопнулась, схлопнув тем самым меня и лишив связи с «Ансамблем», либо... либо мы оба до сих пор размазаны! Так, а что будет, если я схлопнусь прямо сейчас? Останется ли неизменным то прошлое, которое я помню? Вдруг его заменит другая цепь событий – случайная или выбранная размазанным «я» По Квай?
Я должен оставаться размазанным до тех пор, пока она опять не уснет. Я должен быть уверен, что выбор чистого состояния останется за мной.
Я делаю несколько шагов в глубь прихожей. Надо сохранять спокойствие, говорить о пустяках, ждать, пока она устанет:
– От чего ты проснулась?
– Не знаю. – Она пожимает плечами. Подумав, робко добавляет:
– Опять приснился дурацкий сон.
– Какой сон? Впрочем, прости, это не мое дело...
– Да ничего особенного. Будто я брожу по лабораториям шестого этажа – из комнаты в комнату, как какой-то взломщик, но ничего не краду. Просто чтобы убедиться, что могу войти, куда я захочу. – Она смеется. – Наверное, подсознательная реакция на то, как меня не допускали к научной стороне проекта. Мои сны всегда очень легко разгадать.
– И произошло что-то, отчего ты проснулась?
Ее лицо становится серьезным:
– Точно не помню. Я поднималась по лестнице и... вроде бы чего-то боялась. Боялась, что меня поймают. Я шла сюда и почему-то страшно боялась, что меня кто-нибудь увидит. – Помолчав, она с непроницаемым видом добавляет:
– Может, это ты и слышал в коридоре? Как я возвращалась.
Она, конечно, шутит, но у меня пробегает мороз по коже. Кто выбирает этот разговор? Мое размазанное «я»? Ее размазанное «я»? Наша с ней совместная волновая функция?
– Ясно, значит, опять квантовые переходы сквозь стены? И сквозь перекрытия заодно? Зачем же ты шла по лестнице, лучше перенеслась бы прямо из пункта А в пункт Б!
– Почему бы и нет – это же сон? Ты знаешь, наверное, моему подсознанию не хватает воображения, чтобы понять квантовую физику до конца. Воображения и смелости.
– Смелости?
Она пожимает плечами:
– Может быть, даже не смелости, а честности. Не знаю. Понимаешь, я в последнее время много думаю о том... о той части меня, которая исчезает, когда я схлопываюсь. Глупо, конечно, но когда я представляю себе, что есть какие-то женщины, почти неотличимые от меня, что они существуют две-три секунды, с ними происходит что-то совсем другое, чем со мной, а потом они исчезают... – Она почти сердито встряхивает головой, отгоняя эти мысли. – Трогательно, не правда ли? Переживать за судьбу своих виртуальных версий! Где взять столько жизней?
– Сколько?
– Лично мне хватит и одной. Но каждая из моих версий тоже не отказалась бы от одной – своей. – Она опять решительно качает головой. – Так рассуждать нельзя, это безумие. Это все равно что... проливать слезы над сброшенной кожей. Мы так устроены, вот и все. Делая выбор, люди «убивают» тех, кем могли бы стать. Моя работа слишком наглядно показала это, но по сути ничего не изменила – существовать как-то иначе мы не способны. Пузырь защищает от нас Вселенную, и нам осталось только примириться с самими собой.
Вспомнив свои прежние сомнения, я запоздало добавляю:
– Прежде чем примиряться, надо еще убедиться, что эта теория верна.
Она закатывает глаза к потолку:
– Слушай, да не паникуй ты раньше времени. ПСИ не собирается завтра оповещать весь мир о том, что Пузырь создан для того, чтобы защитить Вселенную от истребления людьми ее альтернатив. Люди потихоньку свихиваются от Пузыря и без таких объяснений. А если мы докопались до правды, то это очень тяжелая правда. Она может так взорваться, что... я даже не знаю, что будет опаснее – если нас не поймут или если поймут. Ты представь, какие секты могут вырасти вокруг идей типа «человеческое восприятие опустошило Вселенную» или «жизнь человека есть бойня себе подобных»! А подумай, как на это посмотрят нынешние секты. Те, которым уже давно все ясно.
– Догадываюсь. Между прочим, от них-то я тебя и стерегу.
По Квай все ниже клонит голову, затем потягивается, подавляя зевоту, но я удерживаюсь от вопроса, не устала ли она.
– Ох, и надоела я тебе, наверное, своей болтовней, – говорит она. – То сны рассказываю, то начальство ругаю, то выплескиваю на тебя свои страхи по поводу других цивилизаций, виртуальных двойников...
– Ну что ты. Мне все это интересно.
– Неужели? – Она испытующе смотрит на меня, потом качает головой в шутливом отчаянии. – Загадочный ты какой-то. Не могу понять, искренне ты говоришь или нет. Ничего не поделаешь, придется поверить на слово. – Она бросает взгляд на наручные часы, нарочитый символ того, что в ее голове нет модов (хотя теперь это уже не так). – Господи, три часа ночи. Я, пожалуй, пойду. – Сделав несколько шагов к двери, она останавливается. – Слушай, я понимаю, что ты физически не можешь разлюбить свою работу, но как твоя семья все это терпит? Ты же работаешь каждую ночь!
– У меня нет семьи.
– Как? Неужели у тебя нет детей? Я всегда представляла тебя с...
– Ни жены, ни детей.
– Но у тебя кто-нибудь есть?
– Что значит «кто-нибудь»?
– Ну, подруга. Или друг.
– Нет. С тех пор как умерла жена, никого нет.
Она вся съеживается:
– Ой, Ник, прости. Господи, вечно я ляпну что-нибудь. А когда это случилось? Уже... здесь? Мне никто не говорил, понимаешь...
– Нет, нет. Семь лет назад.
– Семь лет... И ты до сих пор в трауре?
Я качаю головой:
– Я никогда не был «в трауре».
– Что это значит?
– У меня есть мод, который... контролирует мои реакции. Я не горюю о ней, не скучаю. Просто помню ее, вот и все. И никто другой мне не нужен. Не может быть нужен.
Она колеблется, прежде чем задать следующий вопрос. Любопытство борется со старомодными представлениями о такте. Наконец до нее доходит, что раз я не испытываю горя, то бестактности быть не может.
– Но ты что-то испытывал тогда... Пока еще не установил мод?
– Тогда я был полицейским. Когда она умерла, я был... можно сказать, на службе. Так что. – Я пожимаю плечами. – Так что ничего не испытывал.
Говоря это, я с ужасом осознаю, что в обычной жизни мне и в голову бы не пришло рассказывать о таких вещах. Значит, размазанная система «Ник-плюс-По Квай» помимо моей воли проникла в мир, где я способен на подобные признания, в такие же тончайшие сферы на грани мыслимого и немыслимого, как те, откуда до этого были извлечены мои ночные триумфы над запертыми дверьми и бдительными часовыми. Эта мысль приводит меня в состояние, близкое к шоку, но оно длится не более секунды, затем все встает на свои места, и я продолжаю с прежней бесстрастностью:
– В момент ее смерти я ничего не почувствовал. Но я знал, что как только сниму настройку, горе обрушится на меня. И это будет страшно. Поэтому я, естественно, принял меры, чтобы этого не случилось. Точнее, мое настроенное «я» приняло меры, чтобы защитить ненастроенное «я». В общем, бойскаут-зомби поспешил на помощь.
Она хорошо умеет скрывать свои чувства, но догадаться о них нетрудно. Это смесь жалости и отвращения:
– И твои начальники даже не пытались тебя остановить?
– Пытались – это мягко сказано. Мне просто пришлось уйти в отставку – управление хотело отдать меня на съедение всем этим шакалам: терапевтам горя, профессиональным советчикам, специалистам по душевным травмам... – Усмехаясь, я говорю:
– Такие вещи, знаешь ли, на самотек не пускают. Есть специальный свод наставлений длиной в пару мегабайт, куча сотрудников, которые работают по этим наставлениям... Честно говоря, мне их не в чем обвинить – на меня не давили, предлагали самые различные варианты. Но на такой вариант, чтобы оставаться под настройкой, пока проблема не решится путем нейронной модификации, они не соглашались. И не потому, что это отразилось бы на моих служебных показателях. Просто боялись создать себе антирекламу. Приходите, мол, служить в полицию – получите такой мод, что вам будет наплевать на смерть ваших близких. Наверное, если бы я стал судиться, меня бы не уволили. По закону я могу иметь какие угодно моды, если только это не мешает службе. Но какой смысл поднимать шум, если я и так был вполне счастлив?
– Как то есть счастлив?
– Конечно. Мод сделал меня таким же счастливым, каким я был с Карен. Это не восторг, не эйфория, обычное тихое счастье.
– Счастье?!
– Ну конечно! Пойми, я не просто испытывал счастье – я был счастлив. Это происходит на уровне нейронной анатомии.
– Значит, она умерла, а у тебя было легко и весело на душе?
– Я понимаю, так может сказать только абсолютно бесчувственный человек. Разумеется, я хотел, чтобы она была жива. Но ее уже не воскресишь. Вот я и сделал так, что ее смерть... как бы ничего не изменила.
Помолчав, она спрашивает:
– А ты никогда не думал, что лучше было бы...
– Что? Пережить нормальное человеческое горе и спустя какое-то время вернуться к нормальной человеческой жизни, с нормальными чувствами, эмоциями?.. А то, что у меня есть – всего лишь подделка, да? – Я качаю головой. – Ты знаешь, не думал. Дело в том, что мод исключает всякую непоследовательность в этом вопросе. Ненужные сомнения просто не могут возникнуть, в том числе и по поводу уместности самого мода. Бойскаут-зомби знал, что делал. Я не способен жалеть о том, что у меня есть этот мод. Я хочу, чтобы он у меня был, и всегда буду хотеть.
– Но разве ты никогда не пытаешься себе представить, что ты думал и чувствовал бы без мода?
– А зачем? Какая мне разница? Я такой, какой я есть, вот и все. Ты, например, часто воображаешь, о чем бы ты думала, если бы была совершенно другим человеком?
– Но ведь ты сделал себя таким искусственно...
Я вздыхаю:
– Ну и что? Каждый так или иначе искусственно воздействует на свое сознание. Каждый старается сам сформировать себя как личность. Нейронные моды просто делают это эффективно, помогают людям действительно изменить себя так, как им этого хочется. Что в этом ужасного? Ты что, считаешь, что естественное происхождение структур твоего мозга гарантирует их совершенство? Конечно, уже много тысячелетий люди ищут – и находят! – религиозные или наукообразные «объяснения» того, почему наш мир есть лучший из миров, а значит, пытаться поправить Бога (если угодно – эволюцию) – кощунство! Но если честно взглянуть фактам в глаза, все это служит одной цели – не дать людям захотеть того, что они не в силах получить. Остальное – шелуха, от которой давно пора избавиться, но наша культура еще не скоро до этого дозреет.
Вот ты считаешь, что такое счастье, как мое – трагедия, верно? Но заметь, что я хотя бы точно знаю, почему я счастлив. И мне не нужно внушать себе, что случайный результат триллионов случайных совпадений есть венец, творения и недостижимый идеал.
После того как По Квай уходит, я жду ровно час, затем схлопываюсь. Ничего, разумеется, не происходит. Прошлое (естественно) «остается» таким же, каким я его помню. Я прекрасно сознаю, что это ничего не доказывает, ведь мне и не могло показаться, что в прошлом что-то изменилось. Однако тот запредельный опыт, который связан с первым открыванием цифрового замка, получил новое развитие. Как и тогда, я боялся, что для реализации будет выбрано какое-нибудь «другое» из моих «я». Как и тогда, реализовался именно я, и на первый взгляд это кажется чудом, хотя на самом деле это просто тавтология. Я все больше укрепляюсь в убеждении, что из всех виртуальных «я» только одно – «настоящее». Возможно, это самообман. Но без такого самообмана я просто не смогу жить дальше.
При воспоминании о моей вынужденной откровенности я чувствую себя слегка униженным, но это быстро проходит. Что ж, теперь По Квай знает о «Карен», ей это не нравится, ей меня жалко. Ничего, переживу.
Меня беспокоит другое.
Что, если размазанная По Квай опять перехватит управление модом? Просто так, из любопытства, она заставила меня открыть тайну, которую я ни за что в жизни не открыл бы ей по своей воле. Для этого надо было очень сильно изменить меня.
Теперь она вооружена знанием этой тайны. Она вооружена жалостью. Она вооружена неодобрением.
Что она изменит во мне в следующий раз?
Глава 11
Лу согласен, что из-за усиливающегося влияния По Квай операцию надо проводить как можно скорее. С одной стороны, я рад этому, с другой – меня терзает неуверенность в своих силах, я рассчитывал постепенно оттачивать мастерство на многочисленных тренировках. Теоретически взлом сейфов МБР сводится к длинной цепочке действий, которые я уже выполнял по отдельности. Однако я все еще не могу избавиться от мучительного чувства, что каждый новый фокус, совершаемый мной, – это еще одна карта, которая ложится на и без того шаткий карточный домик. Когда я в прошлый раз пробирался в МБР, я по крайней мере представлял себе, что за опасности могут меня ожидать. Теперь я должен полностью положиться на готовность моего размазанного «я» схлопнуться – а для него это сродни самоубийству – в желательном для меня состоянии. Но почему он обязан поступить именно так? Потому что так решили, большинством голосов, мои виртуальные двойники? Это не более чем мои домыслы, а каковы истинные мотивы его действий, неизвестно.
Сначала я превращаюсь в него, потом он становится мной, но его натура по-прежнему скрыта от меня. Приятно думать, что он разделяет мои стремления, сочувствует моим тревогам, но это лишь благие пожелания. Весьма вероятно, что у него гораздо больше общего с создателями Пузыря, чем с любым из жителей нашей планеты, включая меня.
Разумеется, я в любой момент могу отказаться от операции. Канон никоим образом не намерен меня принуждать. Но я не думаю о том, чтобы сдаться или отступить. Я знаю, что для меня это единственный путь служения истинному Ансамблю. Это убеждение, конечно, не гарантирует успеха, но по крайней мере оправдывает риск.
В парке Коулун, за тридцать шесть часов до начала прорыва в МБР, Лу вручает мне устройство, размером и формой напоминающее спичечный коробок. Совершенно черный ящичек, наглухо запечатанный, на его поверхности видна единственная маленькая лампочка – светоизлучающий диод.
– Еще один, самый последний фокус, – говорит он. – Попробуй зажечь эту лампочку.
– Что это такое? – спрашиваю я, пытаясь скрыть раздражение. Мне хочется добавить, что сейчас не время заниматься опытами, непосредственно не связанными с предстоящей работой, но я вспоминаю, что все его прежние задания в конечном счете помогали двигаться к главной цели:
Он качает головой:
– Пока не хочу рассказывать. До сих пор ты всегда точно знал, с чем имеешь дело. Реши эту задачу, и ты убедишься, что даже знать это совсем не обязательно. И тогда тебе будут не страшны любые сюрпризы, с которыми ты можешь столкнуться в МБР.
Я пытаюсь понять его мысль, но, честно говоря, не очень-то получается.
– Я и так не боюсь никаких сюрпризов. Не беспокойся, я давно забыл миф о «телекинезе», и прекрасно понимаю, что ни на что не воздействую, а просто выбираю оптимальный исход. Генератор игральных костей, замки, телекамеры были для меня такими же черными ящиками, как эта коробочка – ведь я же не знал их схем.
Я пытаюсь вернуть ему устройство, но он не берет.
– Это совсем другое, Ник. Куда меньше шансов угадать, чем в твоих предыдущих опытах. По сложности сравнимо со всей операцией прорыва в МБР. Если ты добьешься успеха, это будет означать, что даже такие слабые состояния все-таки достижимы.
Я подкидываю коробочку на ладони. Лу врет, но зачем – не понимаю. Я решительно говорю:
– Давай-ка разберемся. Это тест на сюрпризы или тест на невероятные состояния?
– И то и другое. – Пожав плечами, он прибавляет подчеркнуто любезно:
– Если угодно, я готов объяснить подробнее...
Прочитав в моем взгляде, что я не верю ни единому его слову, Лу умолкает.
Коробочка настолько мала, что даже «Н5» не может точно определить ее вес. Но ясно, что, кроме стандартного чипа величиной с булавочную головку и батарейки, в ней есть что-то еще. Лу усиленно пытается выглядеть равнодушным, глядя, как я подбрасываю коробочку в воздух. Судя по тому, как она вращается, в ней нет пустот, она равномерно заполнена – но чем? Какое электронное устройство может иметь такие громадные размеры?
Я говорю:
– Там, наверное, графит, который надо превратить в алмаз. Потому что для свинца, который надо превратить в золото, легковато, – продолжаю я с угрюмым видом. – Ладно, не хочешь – не говори. Я просто вскрою корпус и посмотрю, что внутри.
Лу спокойно говорит:
– Не надо ничего вскрывать. Это оптический суперкомпьютер. Он пытается разложить на множители миллионозначное число. Работает методом случайного поиска, ибо систематический подход занял бы примерно десять в тридцатой степени лет. Но шансы, что случайный поиск даст ответ за несколько часов, почти так же малы. Однако в твоих руках...
Я, что называется, шокирован. Вот тебе и честный страдалец Лу Кью Чунь! Как грязный сутенер, он нагло продает мой талант (заимствованный у По Квай, украденный у Лауры...). Впрочем, шок очень скоро, хотя и неохотно, уступает место восхищению его идеей. В самом деле, достаточно как следует размазать компьютер, и вы получаете параллельную машину с астрономическим числом процессоров. Каждый процессор выполняет одну и ту же программу, но с разными данными. Все что вам нужно – схлопнуть систему именно в тот процессор, который найдет иголку в математическом стоге сена. Вот и первая в мире служба по взламыванию сверхнадежных кодов, ведь они все построены на разложении на множители гигантских чисел. Ох какое состояние можно на этом сделать! От клиентов отбоя не будет – во всяком случае, пока об этом не узнает слишком много народа и люди не перестанут доверять таким кодам.
Я спрашиваю:
– Откуда ты знаешь, что я просто не заставлю машину сделать ошибку? Ведь с замками я поступал именно так. Возьму и выберу состояние, где что-то портится и свет загорается при неверном ответе.
Он пожимает плечами:
– В принципе это возможно, но я принял меры, чтобы минимизировать относительную вероятность такого варианта. В любом случае ничего не стоит проверить полученный ответ. Если он окажется неверным, мы можем попробовать еще раз.
Со смехом я спрашиваю:
– И сколько же тебе заплатят за это? И кто? Правительство или частная компания?
Он с важным видом качает головой:
– Мне это неизвестно. Видишь ли, есть еще третья сторона, некий брокер... который тоже не склонен афишировать свое участие, не говоря уж о...
– Ладно, все ясно. Но ты сам сколько получишь?
– Миллион.
– Всего-то?
– Есть, э-э-э, определенный скептицизм, что вполне понятно. Когда метод будет апробирован, мы сможем поднять цену.
Ухмыльнувшись, я подбрасываю коробочку высоко в воздух:
– А какова моя доля? Мне кажется, девяносто процентов будет справедливо.
Он не улыбается в ответ:
– Канон понес существенные расходы. Мы еще полностью не расплатились за мод, который позволяет тебе размазываться.
– Вот как? А когда у тебя будет мод чистых состояний, я тебе вообще не буду нужен, верно? Вот я и хочу извлечь выгоду из своего положения. – Я начинал говорить это в шутку, но заканчиваю совершенно серьезно. – Выходит, это и есть истинный Ансамбль в твоем понимании? Взламывать коды для любого, кто готов заплатить?
Он ничего не отрицает. Просто молчит и смотрит на меня со своим обычным выражением затаенной душевной муки в глазах.
Мне бы следовало разозлиться, ведь он не только хотел меня надуть, но еще и совершил кощунство по отношению к Ансамблю. Однако на фоне патологического фанатизма других членов Канона его мелкое предательство выглядит просто умилительно человечным. Я очень стараюсь впасть в ярость, но – безуспешно. Единственное, что я чувствую, – укол зависти к человеку, который сумел так распутать свои цепи, что уже почти не замечает их. Похоже, что он практически полностью сумел восстановить свою личность, какой она была до того, как – если только он не был в то время ангелом, не допускавшим и мысли об обогащении за счет Ансамбля.
Моя зависть к нему, мое восхищение его ловкостью ведут к очевидному выводу – но, увы, сделать этот вывод не в моих силах. Я хорошо знаю, что за штука мод верности, и не могу не порадоваться, что Лу сумел от него освободиться. Однако это отнюдь не значит, что я способен пожелать такой же свободы для себя.
Он говорит:
– Предлагаю тебе тридцать процентов.
– Шестьдесят.
– Пятьдесят.
– Согласен. – На самом деле деньги для меня ничто, мне важен принцип. Мне хочется, чтобы он понял, что и меня можно считать почти полноценным человеком. – Кто еще в Каноне знает об этом?
– Никто. Пока никто. Я хочу поставить их перед свершившимся фактом. Уверен, они все согласились бы, что наши финансовые ресурсы следует пополнить, но мне не хотелось увязать в обсуждении деталей.
– Очень мудро.
Он устало кивает.
Он, как всегда, напряжен, исполнен чувства вины, терзаем мучительными сомнениями. Но теперь все это предстает в совершенно другом свете – наполовину как чистое притворство, наполовину как результат понятной усталости от тяжкого нагромождения множества слоев лжи. Впрочем, я не чувствую себя обманутым и одураченным. То, что я так долго заблуждался относительно его истинных мотивов, лишь придает добавочную прелесть неожиданной нормальности его рассудка.
* * *
Я размазываюсь за десять минут до того, как достать из кармана черный ящичек. Обычная предосторожность против некоторой дезориентации, наступающей после потери иллюзии свободы воли. Лампочка не горит. Я пристально смотрю на нее, но ничего не происходит. Любопытно, почему мое размазанное «я» до сих пор не выбрало то состояние, в котором лампочка загорается из-за неисправности? Видимо, оно выжидает, чтобы начали появляться состояния, где компьютер исправен и получен правильный ответ, чтобы с их помощью подавить ложный сигнал.
Я начинаю скучать, потом злиться, потом снова скучать. Как хочется включить «Н3»! Наверняка можно имитировать ее действие, выбрав состояние, где я «случайно» чувствую себя в точности так же, как под настройкой. Но моему размазанному «я» такие мелочи, видимо, нипочем. Подсознательно я жду, что в любую минуту могу услышать крик проснувшейся По Квай, и тогда придется все бросить. Правда, раньше такое случалось только при сильных эмоциональных потрясениях. А какие могут быть потрясения, если просто сидеть и смотреть на черную коробочку? Вот завтра – другое дело. Если мне завтра удастся сохранять спокойствие, может, я и уцелею. Хотя что значит «удастся сохранять спокойствие»? Ведь сам факт, что я мог разбудить По Квай и тем самым частично передать ей управление ходом событий, тоже надо учитывать при попытке узнать, разбудил ли я ее на самом деле. Бессмысленно пытаться выстроить цепочку причин и следствий. Самое большее, чего я могу добиться, это логической последовательности наступления событий в процессе работы и, до некоторой степени, их непротиворечивости post factum.
В четыре семнадцать лампочка наконец вспыхивает пронзительным синим светом. Я медлю, прежде чем схлопнуться. Такой невероятности я еще не достигал никогда. Сколько же виртуальных «я» погибнут на этот раз? Кажется, предшествующая «селекция» дает свои плоды – подобные угрызения теперь почти не мучают меня. Я по-прежнему не знаю, что происходит на самом деле. Но каждый раз, когда «я» выживаю после очередной предполагаемой гекатомбы, мне все легче поверить в свою неуязвимость. Я нажимаю «ВЫКЛЮЧИТЬ» и...
...и кто-то остается жив. Мои воспоминания непротиворечивы, память хранит лишь одну последовательность событий. Чего еще я могу желать? А если секунду назад десять в тридцатой степени живых человеческих существ действительно сидели здесь, гадая, когда же для них наконец загорится лампочка... что ж, они погибли мгновенно и без мучений.
В любом случае По Квай права. Быть человеком – значит непрерывно истреблять бесчисленное множество тех, кем мы могли бы стать. Будь это квантово-мистическая метафора или кровавая и осязаемая правда, лично я ничего не могу в этом изменить.
* * *
Неожиданно легко справившись с летаргией Зенона, я включаю сон и сплю почти до полудня. Потом я отношу компьютер в тот же магазин дешевой нанотехники, где покупал «Гипернову». (Знакомый стиль Лу. До чего же дикие у него представления о конспирации! Я даю себе клятву навести в этом деле порядок – если сегодня ночью все обойдется.) Лампочка на крышке до сих пор горит – хороший признак. Видимо, программа бесконечно повторяет перемножение найденных чисел и получает правильный ответ. Одно из двух – либо я вызвал такую неисправность, которая заставляет машину убедительно врать, либо наша нахальная попытка привела к желаемой цели, и независимая проверка скоро это подтвердит. Понятия не имею, как отнесутся наши недоверчивые клиенты к этому непостижимому подвигу. На их месте я бы заподозрил, что меня пытаются сбить с толку мощным потоком дезинформации. Наверное, расшифруют кучу настоящих секретных данных, а потом решат, что их специально подсунули им, чтобы окончательно запутать.
Бросив взгляд на квадратик безоблачного синего неба над головой, я громко хохочу.
У По Квай сегодня выходной, но не беда, я трижды успешно работал с «Ансамблем» при таких же условиях. Размазанные «Ник-плюс-(спящая)По Квай» уже освоили это искусство в совершенстве, и все нужные навыки надежно записаны в одной из наших голов (или в обеих сразу).
Я сижу в прихожей, под настройкой, но тем не менее полный томительного ожидания. Не слишком томительного, конечно, но достаточного для того, чтобы не погрузиться полностью в сторожевой транс. Я лениво играю с идеей, которая уже не впервые посещает меня: можно ли «украсть» «Ансамбль» прямо из головы По Квай, заказав моему размазанному «я» найти виртуальное «я», у которого «случайно» возникает конфигурация нейронов, в точности повторяющая «Ансамбль»? Единственное что непонятно – как размазанное «я» может убедиться в успехе, ведь для этого необходимо будет схлопнуться...
За обедом По Квай в отвратительном настроении. Я спрашиваю у нее, в чем дело.
– Да ни в чем. Просто осточертело, что все кому не лень командуют, грубят, затыкают рот.
– Опять Люнь?
– Да при чем тут Люнь! Все как всегда, ничего нового. Только сегодня это как-то особенно мерзко. Утром читала статью в «Физикл ревю» – совершенно новый подход к проблеме измерения! Добавили пространству-времени несколько измерений, вставили в уравнения пару нелинейностей, пару асимметрий, домножили на что нужно и делают революционный вывод – волна схлопывается!
Согласно инструкции, я обязан следить, чтобы слово «измерение» вообще не произносилось. Но не хочется даже делать вид, что я следую инструкции, уж очень это было бы лицемерно.
Она говорит:
– Люди тратят драгоценное время, они ищут новые пути, но я-то знаю, что на самом деле это тупики. Значит, мое молчание равносильно лжи. Я не требую, чтобы Люнь раскрывала коммерческие тайны – нейронные карты, конструкцию мода, – но я не понимаю, почему мы не можем опубликовать хотя бы результаты экспериментов. – Она почти плачет от отчаяния. – Я никого не обвиняю, я сама, добровольно, дала подписку о неразглашении. Конечно, без этого меня бы не взяли на работу, так что выбора, можно сказать, не было. Только от этого не легче.
Я мягко говорю:
– Ничего, придет время, и МБР разрешит напечатать все, что ты захочешь. Ты когда получила первые результаты? Всего три месяца назад? Ну вот видишь. Ньютон, например, несколько лет не публиковал свои работы.
– Работа Ньютона, – горько говорит она, – не была настолько важна.
* * *
Я снимаю настройку, размазываюсь, жду – знакомая процедура. Сначала я стараюсь успокоиться, но вскоре понимаю, что испытываю не страх, а просто возбуждение. Я совсем отвык от таких эмоций, уже очень давно я не начинал ничего серьезного (а тем более опасного) без «Н3». От этой мысли в душе мгновенно вспыхивает негодование: бойскаут-зомби украл у меня полжизни! Он просто делал за меня нужные движения, как лунатик, не давая прожить все это по-настоящему... Этот сентиментальный бред я подавляю без труда. Я сам решил жить так, как живу. А бойскаут-зомби тысячу раз спасал мне жизнь. Никогда я не хотел снова превратиться в идиота, обезумевшего от адреналина. Если у меня что-то и «украли», так это преждевременную смерть.
Да и о какой опасности сейчас можно говорить? Я уверен, что обману любую аппаратуру. Я уже делал это десятки раз. Я могу выбирать сколь угодно невероятные состояния. Чего же бояться?
Только одного – что я могу стать другим.
Глядя в «окно» на сгрудившиеся башни небоскребов, окутанные облаком золотистых огоньков, я думаю: а ведь это совсем не тот город, который я знаю. В настоящем Нью-Гонконге запертые двери не отворяются сами собой, охранники не отводят бдительного взгляда. Я выйду в город сновидений, где возможно все.
Я тихо смеюсь. Возможно-то все, но из этого бесконечного многообразия я выберу не что иное, как самое ловкое похищение в истории. Выберу только успех, без всяких осложнений – и без всяких подмен.
* * *
Для начала самое простое – выйти за проходную тридцатого этажа. Если в этот момент все схлопнется, я скажу, что хотел попросить коллегу подменить меня на минутку – мол, живот схватило, а мод не справляется. Так делать не положено, но, во всяком случае, за это не убьют.
Я мельком смотрю на охранников, молодого мужчину и женщину средних лет. Они застенчиво отворачиваются. Интересно, кажется ли им, что ими манипулируют? Или они считают все свои действия совершенно нормальными? Ведь в самом факте того, что они отвернулись, нет ничего неестественного. Просто это произошло в удобный для меня момент. Если размазанное «я» выбирает состояние, в котором охранники невнимательны, но не заботится об их мыслях, есть надежда, что они сами находят себе хорошее оправдание. А если мозг способен на такие чудеса, причем в наугад выбранных состояниях, то мне беспокоиться не о чем.
Между двенадцатым и одиннадцатым этажом я слышу, что внизу открывается дверь. Я замираю, оценивая возможность отступления, но в следующее мгновение мимо меня вверх по лестнице пробегает техник, нестройно насвистывая на ходу.
Я вжимаюсь в стену. Через несколько секунд на тринадцатом этаже хлопает дверь. Видел ли он меня? Неизвестно, ведь он так спешил, что в любом случае не стал бы смотреть на меня. А вдруг мое размазанное «я» не смогло отличить состояние, где он просто на меня не смотрит, от состояния, где он меня действительно не замечает? Ну что ему стоило подержать этого чертова техника в коридоре, пока я пройду по лестнице?!
Схлопнулся я или нет?
Я вынимаю электронные игральные кости, бросаю кубики. Змеиные глаза. Еще раз. И еще, и еще...
Я вздыхаю с облегчением. Правда, в такой проверке есть что-то противоестественное, на грани безумия. Если бы я схлопнулся, то шансов на выпадение этой последовательности практически не было бы. Но если я размазан, то возможны любые варианты. Подбрасывая кости, я понижаю вероятность состояния, которое добивается успеха, увеличивая тем самым нагрузку на размазанное «я», да еще порождаю множество версий, которые знают, что не будут реализованы.
...что доказывает, что окончательное схлопывание переживу именно я? Или хотя бы мой «потомок», «сын», некто, кто появится из нынешнего меня? Вовсе не доказывает. Каждая версия, бросавшая кости, размазалась на версии, которые получили все возможные результаты. Если миллиард версий бросали кости, то миллиард их «отпрысков» получили змеиные глаза четырежды подряд.
У меня нет другого выбора – я должен принять на веру, что в конце реализуюсь именно я.
Я иду дальше.
Итак, теперь я связан еще и с техником и удерживаю его от схлопывания системы «Ник-плюс-По Квай-плюс-охранники». А может быть, я связан и с другими людьми из его смены? Я продолжаю спускаться, хотя мое сознание этому противится. Даже «если бы он не вышел» на лестницу – что бы это ни означало, пока мы еще не схлопнулись – разве того факта, что он мог бы выйти на лестницу, недостаточно, чтобы связать наши с ним волновые функции? Ведь я-то связан с По Квай, не так ли? Хотя данная версия меня не видела ее с тех пор, как произошло размазывание.
Я выхожу в фойе на первом этаже и иду к двери, пристально глядя на охранников, которые пристально глядят в потолок. Я «делаю все, что могу», чтобы понять, заметили меня или нет, чтобы «облегчить» моему размазанному «я» выбор нужного состояния.
Двери на улицу скользят в разные стороны, и я выхожу в передний двор, отделенный рядом продовольственных магазинчиков, которые в этот час закрыты. Невдалеке слышится громкий говор, смех, издали доносится жужжание велосипедных колес. В поле зрения, слава богу, никого. Обогнув здание, я подхожу к припаркованному автоматическому фургону-доставщику. По пути я успеваю оглянуться, готовый в душе к тому, что увижу бегущего за мной охранника, который вышел из транса секундой раньше, чем нужно. Наверняка это происходит с кем-то из виртуальных «я». Но не со мной.
График составлен с большим запасом – сейчас 1:07, а фургон отправится только в 1:20. Я забираюсь в кузов и сижу в темноте. Мое присутствие никак не отразится на работе фургона. Его маршрут и расписание запрограммированы заранее, и те, кто увидят его в пути, не будут наблюдать меня – то есть «измерять», внутри я или снаружи. Но они будут схлопывать сам фургон, удерживая его тем самым на единственной, нормальной «классической» траектории отсюда до МБР. Приятно думать, что хотя бы фургон не может выбрать наугад любой возможный путь по городу. Не знаю, впрочем, облегчает ли это мою задачу. Однако мне почему-то кажется, что для моих виртуальных «я» не может быть ничего страшнее, чем приехать совсем не туда.
Фургон почти неощутимо трогается с места. Мотор работает бесшумно, скорость нарастает очень плавно. Когда сидишь на холодном металлическом полу, вдыхая легкий запах пластиковых мешков, в которых недавно везли какой-то груз, от подчеркнутой обыденности обстановки возникает некоторое замешательство. Оно усиливается, когда я обнаруживаю, что совершенно нечем занять время. О предстоящих опасностях думать не хочется – что пользы бесконечно размышлять об исчезающе малой вероятности успеха? Чтобы отвлечься, я начинаю угадывать, где сейчас проезжает фургон, не обращаясь при этом ни к «Н5», ни даже к карте из «Дежа Вю». Я чувствую, когда машина поворачивает на перекрестках, и отмечаю эти места на воображаемом плане маршрута в своей обычной памяти. Время от времени фургон притормаживает, пропуская другой транспорт, но это всего лишь случайные малые отклонения от расписания, и главное, никак не связанные со мной. Я был не прав – за стенками фургона не город снов, а обыкновенный Нью-Гонконг.
А внутри?
Я не могу удержаться. Я снова достаю игральную машинку. Оказывается, она работает слишком хорошо – точно имитирует, как выглядели бы кости в темноте фургона, то есть делает их почти невидимыми. Итак, есть возможность отказаться от бросания костей... рискуя оказаться не выбранным для реализации? Я зажигаю фонарик и вижу, что выпадают змеиные глаза. Это здорово успокаивает, несмотря на все логические построения. После шести выпадений подряд (что понижает вероятность моего состояния примерно в два миллиарда раз!) я выключаю генератор костей.
Судя по тому, что плавные повороты все учащаются, фургон въехал в сумасшедший лабиринт разветвляющихся улочек и приближается к МБР. Здесь уже совершенно невозможно мысленно следить за маршрутом. Наконец фургон останавливается. Я выжидаю тридцать секунд, чтобы убедиться, что он не просто наткнулся на какое-то неожиданное препятствие. Потом выбираюсь наружу и оказываюсь почти на том же месте, с которого тогда, в январе, я запустил в здание Culex'a. В памяти с кристальной ясностью оживают воспоминания той ночи, но это больше похоже на подсматривание за кем-то другим, чем на ностальгию. Я не вправе так бесцеремонно копаться в прошлом этого незнакомца, который давно мертв.
Сейчас три минуты третьего. У меня в запасе пятьдесят семь минут. Я смотрю на серое небо – на Пузырь, давящий, как нависшая грозовая туча. Откуда-то всплывает неприятная мысль: надо было дождаться, пока Лу мне заплатит. Все-таки пятьсот тысяч долларов. Получить деньги, а уже потом решать, входит ли безумство, которое я сейчас совершаю, в мои обязательства перед истинным Ансамблем.
Можно ведь и залезть обратно в фургон.
Однако я не залезаю. А все версии, которые залезли, могут считать себя покойниками, и они это знают. Интересно, какая логика толкает их поступить именно так?
Я направляюсь к забору.
Перебираюсь через него тем же способом, что в прошлый раз. Не хочется лишний раз творить чудеса, особенно на открытой местности. Размазанное «я», как всегда, не обманывает моих ожидании. Или я – его ожиданий.
Я представляю себе, что сегодня дежурят Хуан Кинь и Ли Со Лунь. Причем они играют в карты вместо того, чтобы следить за монитором. По-прежнему не знаю, что конкретно не срабатывает, чтобы я мог обмануть наблюдателей, – микропроцессор телекамеры, кабель, дисплей, или же сетчатка или мозг дежурного. Я выбираю только исход, и неизвестно, какой механизм оказывается наиболее вероятным.
Я залезаю в то же самое окно, что в прошлый раз. Только теперь вскрывать его не требуется – при моем прикосновении створки сами скользят в стороны. Забравшись внутрь, я медленно двигаюсь по лаборатории, вытянув руки и думая о том, как хорошо было бы иметь в голове план расположения предметов. Я натыкаюсь на табурет, потом на скамейку, но ничего стеклянного не разбиваю. Те «я», которые разбили, могли здорово порезаться. Я выхожу в холл и иду к лестнице. Если верить Ли Сю Вай, хранилище находится на четвертом этаже, в задней комнате кабинета Чень Я Пинь. Мне кажется, что я до сих пор помню синий квадрат «Данных нет» именно в этом месте схемы, составленной Culex'ом.
На полпути вверх по лестнице я резко останавливаюсь, как от удара в грудь. По Квай в двадцати километрах отсюда. Она крепко спит. Мы с ней не «связаны», не «размазаны», и она не помогает мне «выбирать реальность». Да как я вообще мог поверить в эту квантово-мистическую галиматью? Лу просто подставил меня, это же ясно. Он выдумал Канон, чтобы проверить мою лояльность. Он выводил из строя мои моды. Он подбросил обманный генератор игральных костей в магазинчик возле моего дома. Он договорился и с По Квай, и с охраной ПСИ, и с охраной МБР.
Допустим. А цифровой замок? Откуда он знал, что я с первой же попытки выберу такую дурацкую комбинацию, как 9999999999?
Господи, да если он добрался до моих модов, он мог сделать со мной все что угодно. «Гипернова» вполне может обеспечить ему полный контроль над всем, что я делаю и даже думаю. Ему ничего не стоило заставить меня угадать верную комбинацию.
Привалившись к стене, я лихорадочно пытаюсь решить, что является большим безумием: верить в этот бессмысленный, комичный, неправдоподобный заговор всех против меня или всерьез полагать, что я могу открывать запертые двери, распадаясь для этого на десять миллиардов независимых личностей?
Я гляжу вниз, в темноту лестничного пролета. А как же истинный Ансамбль? Тайна, во имя которой я живу на свете? Неужели тоже обман? Конечно, тут дело в моде верности, и ни в чем другом, но все же...
Я обшариваю карманы в поисках монетки или чего-нибудь в этом роде, до чего не мог бы добраться Лу. Кроме плоской круглой батарейки, ничего подходящего нет. На одной стороне ее выгравирован знак «плюс», на другой – «минус». Присев на корточки на лестничной площадке, я включаю фонарик. Его луч высекает освещенный клин на бетонном полу.
– Пусть выпадет пять плюсов подряд, – шепчу я. – Только это, и больше ничего.
Вероятность – одна тридцать вторая. Не бог весть о каком чуде я прошу.
Плюс.
Плюс.
Я улыбаюсь. Могло ли быть иначе? Истинный Ансамбль никогда не предаст меня.
Минус.
Меня начинает охватывать странное оцепенение, но я сразу же подбрасываю батарейку снова, как будто новый результат может каким-то образом отменить предыдущий – если только делать все очень быстро.
Плюс.
Минус.
Я тупо гляжу на окончательный приговор и постепенно осознаю, что и он ничего не решает. Все, ради чего я жил до сих пор, по-прежнему может оказаться либо правдой, либо обманом.
Впрочем, в любом случае двигаться дальше не имеет смысла.
* * *
Последние два лестничных пролета я пробегаю на одном дыхании. Я ликую. Я неуязвим. Если пять плюсов подряд не вытравили последние страхи из моей души, то на эти страхи просто не надо обращать внимания.
В кабинете Чень я включаю фонарик. Не знаю, почему я не «рискнул» сделать это в лаборатории на первом этаже – сейчас я твердо знаю, что это мне ничем не грозит. Я могу включить хоть все освещение в здании, могу орать во все горло – все равно никто не заметит, что я здесь.
За обычной дверью в маленькую внутреннюю комнату находится само хранилище – неприметное сооружение из серого полимерного композита, который труднее прорезать, сточить, расплавить или прожечь, чем метр-два сплошной стали, хотя он и легче стали раз в тысячу. На панели управления – окошко для сканирования подушечки большого пальца, числовая клавиатура и три скважины для ключей. Я не спешу, словно давая замку время «получше размазаться», но зеленый свет зажигается на панели почти сразу же. Все правильно, замок же неодушевленный предмет. Значит, он находился в размазанном состоянии с момента последнего наблюдения. Я же всего лишь пронаблюдал его без схлопывания, отчего мое размазанное «я» вызвало к жизни новые бесчисленные ветви моего «рода», по одной на каждое состояние замка, и выбрало нужную из них.
Я сильно дергаю за ручку – куда сильнее, чем нужно. Дверь с легким щелчком распахивается, едва не ударяя меня в лицо. Обогнув ее, я вхожу в хранилище.
Помещение размером шесть на шесть метров почти пусто. Лучом фонарика я веду по дальней стене. Там стеллажи от пола до потолка. Восемь полок, на каждой – двадцать аккуратных пластиковых коробок с носителями информации. В каждой такой коробке хранится двести чипов памяти.
Я подхожу ближе. Почти на всех коробках цифры – диапазоны серийных номеров, к примеру, «с 019200 по 019399», и так далее. Коробки на двух нижних полках и две крайние коробки справа на третьей полке пусты, и на них нет номеров. Остальные, похоже, заполнены. Стало быть, всего в них находится двадцать три тысячи шестьсот чипов.
Я вынимаю из кармана генератор игральных костей – почему бы не облегчить себе жизнь, – но сразу передумываю и прячу его обратно. Уцелеет ли хоть один из моих «сыновей» или «племянников», кто все-таки бросил кости? И у тех и у других есть шансы. Я быстро протягиваю руку и хватаю с полки коробку. Она закрыта простеньким, чисто механическим замком. Наверное, я мог бы и его заставить самопроизвольно открыться. Это был бы мой первый успех в непосредственном квантовом воздействии на макрообъекты. Но я открываю его отмычкой, что занимает примерно минуту. Вытаскивая чип из гнезда в литом лотке, я подавляю искушение зажмуриться. Когда я замечаю, что выбрал чип из самого крайнего гнезда, мне хочется положить его обратно и взять другой. Но я справляюсь и с этим искушением.
Я вставляю чип в считыватель, снабженный инфракрасным приемопередатчиком. Потом включаю «Красную Сеть» и «Шифроклерка» и обращаюсь к считывателю. Я говорю ему:
– Покажи мне титульный лист. На английском языке.
Тени в хранилище сгущаются до абсолютной черноты, а в середине моего поля зрения вспыхивает квадрат с текстом белыми буквами на ярко-синем фоне:
«АНСАМБЛЬ»
Алгоритм нейронной модификации.
Международные биомедицинские разработки, 2068.
Авторские права защищены.
Несанкционированное воспроизведение данного программного продукта на любом носителе является нарушением Конвенции об интеллектуальной собственности от 2045 года и преследуется по законам Республики Нью-Гонконг, а также других стран, подписавших Конвенцию.
Я на ощупь вставляю чистый чип во второй порт считывателя и говорю:
– Скопировать все, убирая только защиту и кодировку. Проверить результат одну тысячу раз.
На фоне текстового окна появляется изображение часового. Оно произносит:
– Пароль?
Я закрываю глаза (зачем?), отключаюсь от всех мыслей и слышу, как в моей голове кто-то шепчет что-то на кантонском диалекте. Это не осмысленное слово, и я не прошу «Дежа Вю» перевести. Часовой кланяется и исчезает. На его месте появляется средневековый монах, с комичной быстротой переписывающий свой манускрипт.
Легонько покачиваясь, я стою посреди хранилища. Нет способа узнать, переживаю я успех или некую комбинацию ошибок аппаратуры, мода и собственного мозга, которая внешне неотличима от успеха. Судя по промежуточным этапам, шансы на подлинный успех неплохие. Если я действительно нахожусь в хранилище в здании МБР, то состояний, где я наугад выбираю нужный чип из всего лишь двадцати трех тысяч шестисот, неизмеримо больше, чем тех, где считыватель или/и «Шифроклерк» врут, выдавая за «Ансамбль» что-то совсем другое. Но как оценить, какая вероятность выше: того, что все события сегодняшней ночи пригрезились мне от начала до конца, или того, что все эти запертые двери действительно открывались передо мной? Вот после схлопывания все сразу станет ясно – либо у меня в кармане будет лежать копия «Ансамбля», либо нет.
Тысячекратная проверка – это, пожалуй, слишком. Если размазанное «я» не стремится внести ошибку специально, то ее вероятность можно не принимать в расчет. Но я не жалею, что заказал такую проверку – после всех этих фокусов с отказом камер и замков трудно поверить, что существует аппаратура, на которую по-прежнему можно положиться.
Через несколько минут монах заканчивает работу, кланяется и исчезает. Я отключаю «Шифроклерка», вытаскиваю чип из считывателя, кладу его на место в коробку, прячу считыватель в карман, запираю коробку и ставлю ее обратно на полку. Смешно, но я проделываю все это с большим облегчением. Лучом фонарика я шарю по стеллажам, высматривая, не перепутал ли что-нибудь – нет, все выглядит в точности так же, как до моего появления.
Я поворачиваюсь к выходу. В дверном проеме стоит женщина в ночной рубашке. Худощавая, тридцати с небольшим лет. Тип лица англосаксонский, кожа, как и у меня, черная.
Лаура Эндрюс, но не та, которую я видел в подвале, преображенной в Хань Сю Лиен. Лаура Эндрюе с фотографии в Институте Хильгеманна.
Как же она выбралась из подвала? Глупый вопрос. Но почему ей не удавалось это раньше, а удалось именно в эту ночь? Может быть, я нечаянно заблокировал систему наблюдения за ней? И почему, выбравшись из подвала, она направилась сюда?
Я тянусь за баллончиком усыпляющего газа. Зачем мое размазанное «я» позволяет ей мешать мне? Не значит ли это, что я не буду выбран? Что я уже все равно что мертв?..
Она говорит:
– Ты получил то, за чем пришел?
Вытаращившись на нее, я киваю.
– Что конкретно ты собираешься с этим делать?
– Кто ты? Лаура? Ты реальна?
Она смеется:
– Нет. Но твое восприятие меня будет реальным. Я говорю от имени Лауры – или от имени Лауры-плюс-размазанные-Ник-плюс-По Квай и так далее. Но в основном от имени Лауры.
– Что значит «от имени»? Ты Лаура или не Лаура?
– Лаура находится в размазанном состоянии, она не может говорить с тобой сама. Она говорит с размазанными «Ником-плюс-По Квай», но чтобы говорить с тобой, она создала меня.
– Я не...
– Ее личность распределена по чистым состояниям. Вы с ней не могли бы непосредственно взаимодействовать. Но она перевела в режим единственного состояния достаточно информации, чтобы передать тебе главное. Она установила контакт с размазанными Ником-плюс-По Квай, но они как дети, на них нельзя положиться. Именно поэтому я говорю с тобой.
– Я не...
– Ты похитил «Ансамбль». Лаура не собирается этому препятствовать. Но она хочет, чтобы ты до конца понимал, что может делать «Ансамбль».
Я по-прежнему растерян, и от этого говорю слишком резким тоном:
– Я и так знаю, что он может делать. Ведь я же сумел проникнуть сюда? Я же открыл хранилище? – Наверное, не следует удивляться тому, что у размазанной Лауры нет и следа идиотизма, ведь у нее было тридцать четыре года на то, чтобы постоянно улучшать работу своего мозга в этом режиме. Но как она научилась создавать призраки, которые читают мне лекции по работе с «Ансамблем»?..
Она качает головой:
– Ты не понимаешь меня. Но обязательно поймешь. Лаура усилит состояние, в котором ты сможешь понять.
– Она что же, управляет мной?..
– Она поддерживает с тобой связь единственным доступным ей способом. Я обещаю, что ее действия не помешают действиям размазанных Ника-плюс-По Квай. А при вашей физиологии мозга лучший путь к пониманию – беседа, такая, как у нас с тобой.
«Такая, как у нас?» Ну конечно, значит, есть другие, и не обязательно, что успешной будет именно эта. Но до сих пор все, что я делал, было успешным, и теперь трусить уже просто нелепо.
– Продолжай.
Женщина – посланец Лауры говорит:
– Первое, что ты должен понять: сфера действия схлопывания конечна. Человеческий мозг имеет определенную степень сложности, и конечное число людей, имеющих мозги конечной сложности, не способны разрушить бесконечное число состояний. Более того, есть такие состояния, в которых структуры мозга, производящие схлопывание, вышли из строя. А без таких структур эти состояния недосягаемы. Схлопывание – явление локальное. Оно разрушает часть суперпространства – пространства всех чистых состояний, – но всего лишь часть. Бесконечно много состояний остается нетронутыми.
Единственная ветвь реальности среди гигантской пустыни, окруженной бесконечными зарослями. Ведь именно такую картину мира я себе представлял, когда размазался и схлопнулся в первый раз! Но...
– Как же мы можем жить в окружении всего этого... и ничего не замечать?
– Чтобы обнаружить состояние, вы должны схлопнуть его, перенести в реальность. А эти состояния не участвуют в схлопывании.
– В таком случае откуда о них знаешь ты?
– О них знает Лаура.
– Откуда?
– Несхлопнутые области суперпространства обитаемы. В них есть разумная жизнь, рассеянная по состояниям. Когда одна из цивилизаций обнаружила опустошенный район, который населяете вы, она осторожно обследовала его границы, а потом приняла меры, чтобы изолировать этот район.
– При помощи Пузыря?
– Да. Но до того, как Пузырь был установлен, один индивидуум решил провести дальнейшие исследования. Решил проникнуть в глубь района.
– И... Лаура видела это существо? Оно разыскало ее и вошло с ней в контакт – потому что она не схлопывает волну?
Женщина-посланец улыбается:
– Нет. Лаура и есть тот исследователь. По крайней мере, исследователь сделал ее строение близким, насколько возможно, к своему собственному. Исследователь пересек опустошенный район и вступил во взаимодействие с вашей реальностью. При этом он схлопнулся, то есть погиб, но он устроил схлопывание так, что часть его сложности закодировалась в генах Лауры. Когда Лаура схлопнута, она едва способна поддерживать физиологические процессы, ибо почти весь ее мозг занимают структуры, работающие лишь в размазанном состоянии. Но когда она размазывается, то превращается, в сущности, в того самого исследователя.
– Что?! Лаура – это инкарнация одного из создателей Пузыря? – Далекий голос шепчет: «верь в это, не то обязательно погибнешь». – Зачем же она жила у Хильгеманна? Зачем она жила здесь? Она могла сбежать, и...
– Она так и поступила. Она изучила почти всю планету.
– Почти всю планету? Но ее дважды поймали...
– Да, ее ловили рядом с Институтом, но не потому, что она пыталась скрыться из него навсегда. Она хотела схлопываться только в своей комнате, но было два путешествия, когда ей это не удалось. Институт Хильгеманна – спокойное, безопасное место, удобная база, где она могла подолгу оставаться без наблюдения. Это давало ей возможность размазываться до такой степени сложности, чтобы можно было устраивать экспедиции. Достигнув этой сложности, она уже могла избегать схлопывания. Тебе это знакомо.
– А зачем вообще было возвращаться в Институт? Почему не остаться размазанной навсегда?
– Размазывание идет экспоненциально быстро. Через пару дней ей пришлось бы подавить схлопывание всех жителей Земли. А еще через пару дней... – Она запинается.
– Что?
– Еще через пару дней опустошенный район был бы вновь заполнен. Человечество проникло бы сквозь Пузырь и вошло бы в контакт с остальной частью Вселенной. Трудно предсказать, к чему бы это привело. Но есть вероятность, что волновую функцию этого района больше не удалось бы стянуть никогда.
Я напряженно пытаюсь понять это. Мир был бы размазан целиком и навсегда? Каким образом? Ведь все сосуществующие варианты должны включать состояния, которые вызывают схлопывание? Правда... срабатывает только то схлопывание, которое делает само себя реальным. Мир, где схлопывание никогда не делает себя реальным, так же непротиворечив, как и тот, где существует единственная реальность.
– Так... Значит, Лаура не оставалась размазанной, чтобы не ввергнуть нас всех в катастрофу?
– Совершенно верно. И именно это тебе следует понять – каждый, кто использует «Ансамбль», может сделать то же самое.
– Ты имеешь в виду, что я мог бы...
– Это может любой, кто достаточно долго остается в размазанном состоянии. Потребуется всего несколько дней. Лаура не хочет лишать вас возможности покинуть Пузырь – но она не хочет и навязывать вам это. А ваши размазанные «я» могут оказаться не столь деликатными.
– Мое размазанное «я» всегда делало только то, чего я хотел.
– Разумеется – ведь ты держишь его в качестве заложника. Ваш мир ему враждебен. Без тебя оно пропадет. Но каждый раз, когда ты размазываешься и схлопываешься, оно способно не только выбирать нужные тебе исходы, но и совершенствовать само себя. Оно выбирает те изменения в структуре твоего мозга, которые делают его более изощренным и сложным. Оно развивается, набирает силу.
По моей спине пробегает холодок:
– Но... позволит ли оно мне хотя бы вспомнить то, что ты сейчас говоришь?
– Лаура это гарантирует.
Я качаю головой:
– Лаура то, Лаура се... А почему я вообще должен верить тому, что ты говоришь? Откуда я знаю, что ты та, за кого себя выдаешь?
Она пожимает плечами:
– Так или иначе, ты в это поверишь – должны быть чистые состояния, в которых ты веришь. Что касается меня, то я набор ощущений, и достаточно убедительных. Не больше, но и не меньше.
Я брызгаю в нее из баллончика. Пока облачко оседает на ее кожу, она улыбается, затем округляет губы и легонько дует. Облако крошечных капелек опять появляется перед ней, затем оно несется ко мне, сжимается и, раньше, чем я успеваю заслониться рукой в перчатке, втягивается обратно в сопло баллончика.
Я оседаю, опускаюсь на колени. Она исчезает.
Через некоторое время я с трудом поднимаюсь на ноги и направляюсь прочь из здания.
* * *
На полпути фургон резко останавливается. Я слышу, как машина сигналит, затем кто-то отчаянно кричит:
– Ник! Выходи! Случилось что-то серьезное! – Я узнаю голос Лу.
Я не спешу выходить. Я зол и растерян. Он что, с ума сошел? Или в самом деле хочет, чтобы все пошло насмарку? Если я останусь в фургоне, может быть, мне удастся успешно вернуться в ПСИ. Но тут до меня доходит, что без важной причины он бы здесь не появился. Наверняка я уже схлопнулся.
Я вылезаю наружу. Он стоит на пути грузовика, расставив руки в стороны. Мимо нас, оглядываясь, проезжает группа велосипедистов. Я стою посреди улицы, чувствуя себя совершенно голым. Я снова доступен наблюдению, снова подвержен тем же неожиданностям, что и все.
Машина остановилась недалеко от центра. Мигая, я смотрю вперед, где, окруженные сиянием, угадываются контуры небоскребов. Трудно свыкнуться с мыслью, что я снова выброшен в обычный мир, не ощутив при этом ровно ничего.
Лу говорит:
– Они знают, что ты ушел с дежурства.
– В чем дело? Почему я не смог это скрыть?
Он сердито трясет головой:
– Откуда я знаю почему? Может, участников было слишком много. Теперь это не имеет значения – знают, и все.
– Что значит – слишком много участников?
– Они нашли бомбу. Минут двадцать назад.
– О, черт. Это Дети. Что с По Квай?..
– С ней все хорошо. Бомбу удалось обезвредить. Никто не пострадал. Но всю охрану подняли по тревоге, обыскали каждый уголок – в общем, представляешь. Нашли еще три бомбы. И обнаружилось, что тебя нигде нет. Наверное, ты был просто не в состоянии перетасовать все возможные варианты – сделать так, чтобы бомбы не взорвались и чтобы их не нашли. Не знаю. В любом случае тебе необходимо уехать из города.
– А ты? А остальные?
– Я остаюсь. Канону придется на время затаиться, хотя они до сих пор не знают о нашем существовании. Думаю, ПСИ решит, что Дети каким-то образом добрались до тебя. Марионеточный мод или что-то в этом духе...
– Если бы Дети поставили мне марионеточный мод, они бы заставили меня остаться в здании и проследить, чтобы бомбы взорвались.
Он бросает на меня свирепый взгляд. Он явно спешит:
– Ладно, допустим. Что подумает ПСИ, я не знаю. Это не важно. Тебе надо бежать. Остальные члены Канона смогут позаботиться о себе сами. – Он отходит в сторону с пути грузовика, и тот, набирая скорость, уносится во тьму. Затем он достает из кармана рубашки карточку и вручает ее мне. – Пятьсот тысяч долларов. Чистый кредит на предъявителя, взятый с орбитального счета. Поезжай в морской порт, а не в аэропорт. Там ПСИ будет труднее использовать свои связи. А с этим ты сможешь подкупить кого угодно.
Я качаю головой:
– Я не могу уехать.
– Не делай глупостей. Если останешься, ты погиб. Но имея мод чистых состояний, Канон сможет предвидеть все их шаги. Мод у тебя?
Я киваю:
– Да. Но пользоваться им нельзя – риск слишком велик.
– Что ты имеешь в виду?
Я рассказываю, что случилось со мной в хранилище. Он выслушивает это откровение с замечательным равнодушием. Сомневаюсь, что он поверил хоть одному слову. Когда я заканчиваю, он говорит:
– Мы будем осторожны – будем использовать его только в течение короткого времени. Ты оставался размазанным четыре часа, и ничего не случилось.
Я ошарашено смотрю на него:
– Ты что, собираешься играть судьбой... – Не могу найти подходящее слово. Планеты? Человечества? Нет, ни то ни другое ведь не исчезнет. Просто станет частью чего-то большего. Но дело не в этом.
– Ник, ты же на своем опыте доказал, что это безопасно. Час-другой не причинит вреда никому. Что ты предлагаешь – закопать эти данные в землю? Сделать вид, что ничего не было? Невозможно. У фальшивого «Ансамбля» по-прежнему есть описание. Ты хочешь сохранить превосходство за ними – после всего, что они с тобой сделали? Так или иначе, любой вопрос, связанный с модом, должен быть исследован. Я думал, что для тебя это важно.
Механически я отвечаю:
– Конечно, важно.
И тут же осознаю, что это неправда. Мне и на хрен не нужна тайна истинного Ансамбля. Ошеломленный, я жду, что сознание нанесет ответный удар – но его нет.
Тишина. Так, значит, мод верности исчез. Я выскользнул прямо из его лап. Я закрываю глаза. Мне кажется, что душа, лишившись своей единственной цели, сейчас отлетит прочь, растворится в воздухе.
– Ник, что с тобой?
Я трясу головой, открываю глаза:
– Ничего, прости. Голова закружилась. Наверное, реакция на схлопывание.
Я снимаю перчатки и засовываю руку в карман, туда, где в считывателе находится чип с копией «Ансамбля». Не вынимая устройства из кармана, я вызываю «Красную Сеть» и «Шифроклерка» и начинаю копировать информацию с чипа в буферы «Шифроклерка».
Лу говорит:
– Нельзя терять время на споры. Отдай мне чип и срочно уходи.
– Я же сказал тебе, мод слишком опасен. – Зачем же тогда я копирую его, прежде чем стереть? Вполне ли я уверен, что буду обращаться с ним разумно – сколочу небольшое состояние на взламывании шифров, не подвергая угрозе Жизнь, какой мы ее знаем? У меня дух захватывает от самонадеянности. Но я не останавливаю копирование.
Лу тихо говорит:
– Позвони в банк, проверь карту. Полмиллиона долларов. Как договорились.
Я качаю головой:
– Дело не в деньгах. – Я хочу отдать ему карточку, но если я сделаю это свободной левой рукой, он обратит внимание на то, что правая осталась в кармане.
Лу отворачивается со своим обычным печальным, страдальческим выражением. Я думаю: «Наверное, он очень хотел бы делать деньги при помощи этого мода. А люди обычно становятся невыносимыми, когда вы посягаете на то, что для них свято». Я включаю настройку и тянусь за пистолетом. Тянусь левой рукой – и не успеваю. Ощутив луч лазера у себя на лбу, я застываю. Через мгновение две вооруженные женщины появляются из аллеи напротив. Ни одна из них нe целится в меня, значит, кто-то третий прикрывает их из засады.
Лу говорит:
– Положи руки на голову.
Копирование на девяносто процентов окончено. Я начинаю валять дурака:
– Послушай, я не ожидал подобного...
Он хватает меня за руки и рывком поднимает их в нужное положение. Бойскаут-зомби очень к месту замечает: надо было стирать исходные данные по мере их копирования.
Лу забирает мой пистолет, обыскивает меня и быстро находит считыватель. В тот момент, когда он вынимает его из моего кармана, я даю команду стереть данные с чипа, но руки слишком далеко, команда не воспринимается, перед моими глазами возникает инструкция, и начинается лекция о том, как найти неполадку в устройствах инфракрасной связи. Я отключаю систему.
Лу говорит:
– Карточка настоящая. Полмиллиона долларов. Я тебя не обманул. Отправляйся на пристань, и к рассвету ты будешь уже далеко от этого кошмара.
Я говорю:
– Значит, ты не поверил тому, что я рассказал о Лауре, о создателях Пузыря, обо всем?
Он смотрит мне прямо в глаза и тихо говорит:
– Разумеется, поверил. Ведь я сам выяснил почти все это еще шесть месяцев назад. Почему, ты думаешь, фальшивый Ансамбль искал следы таких событий, которые в конце концов привели их к Лауре? Потому, что они догадались, зачем был создан Пузырь, и надеялись, что его создатели могли оставить нам ключ – пример того, чем нам надо было бы стать, чтобы покинуть построенную ими вокруг нас тюрьму.
Он делает шаг в сторону, и ко мне подходит одна из его охранниц. Возникает отчетливое ощущение, что все это уже было, и я жду знакомого усыпляющего баллончика или подкожной инъекции в шею.
Вместо этого женщина извлекает универсальную дубинку и круговым движением бьет меня сбоку по голове.
Глава 12
Когда я прихожу в себя, «H1» сообщает об ушибах и легком сотрясении мозга. Лечение не требуется. Никаких неприятных ощущений – боль преобразуется в информацию о боли. Шатаясь, я отхожу на обочину и снимаю настройку, но по-прежнему ничего не чувствую – в стандартном режиме «Босс» берет анестезию на себя.
Я вызываю службу проверки «Пан Пасифик Бэнк» и вставляю карточку в свой спутниковый телефон Сэтфон. Кажется, все обстоит так, как и говорил Лу – полмиллиона долларов в транснациональных ликвидных фондах, полностью очищенные, без всяких ненужных концов. Я заказываю серию переводных операций, в результате которых деньги должны промчаться несколько сот раз вокруг земного шара, чуть-чуть теряя в весе при каждом витке. Вся процедура длится минут десять. За это время деньги проходят около тысячи тщательных проверок в различных финансовых организациях и становятся неоспоримо реальными и теперь уже по-настоящему моими. Сумма, правда, уменьшается процентов на пять, но это пустяки.
Зачем ему было мне платить – он же все подготовил для того, чтобы отнять у меня описание мода силой? Конечно, на «Ансамбле» он будет зарабатывать столько, что полмиллиона для него ничего не значат, а заплатив мне, он может надеяться, что я не стану ему мешать этим заниматься. Дал мне взятку, чтобы убрать с дороги. А мог ведь и просто убить – получается, мне повезло.
Надо последовать его совету. Отправиться в порт. Подкупить кого надо. Бежать из страны. Здесь мне больше делать нечего.
Нечего? Я перебираю в памяти события последних нескольких часов, пытаясь нащупать точный момент освобождения от мода верности, но не нахожу ничего похожего ни на мучительную борьбу за свое подлинное «я», ни на восторг от ловкого мысленного кульбита, позволившего наконец-то выскользнуть из пут. Но ведь и установка мода тоже не вызвала в моей душе никакого смятения. Все это касается лишь физиологии, а отнюдь не логики или силы воли. И я никогда не узнаю, что же в конечном счете повлияло на эту физиологию. Может быть, те немногочисленные виртуальные «я», которые сумели проскочить сквозь воздвигнутую модом стену запретов, как-то заставили мое размазанное «я» выбрать для реализации одного из них (а точнее, меня самого...). Возможно, из-за чрезвычайных происшествий в ПСИ размазанному «я» пришлось утрясать столько разнообразных конфликтов, что оно забыло о таком пустяке, как идол, которому должно поклоняться реализовавшееся «я». Не исключено, что вмешалась По Квай. Короче говоря, дело сделано...
А сделано ли? Ли утверждал, что я схлопнулся и, кажется, сам в это верил. Но реально лишь то схлопывание, которое само себя реализует. Может быть, до сих пор размазаны и мы с Лу, и вся охрана ПСИ, а все случившееся – бомбы, встреча с Лу, и так далее, вплоть до этой самой секунды включительно – часть чистого состояния, которое в конце концов будет отброшено; часть невероятной платы, которая полагается за невероятный успех этой ночи.
Подавляя панику, я вызываю «Гипернову» и жму на «ВЫКЛЮЧИТЬ», но тут же соображаю, что это ничего не меняет. Миллиарды моих виртуальных «я» делали, несомненно, то же самое не один раз за эту ночь – но безуспешно. На мгновение меня охватывает ужас: а вдруг вообще невозможно установить, реализовался я или нет?
Глупости, это очень легко сделать. График, график! Сейчас 4:07, и если бы все шло по плану, я уже был бы сейчас схлопнут и находился бы на посту. От облегчения я разражаюсь нервным смехом. А меня там нет, и это неотъемлемая часть моего единственного прошлого, как и освобождение от мода. Сколько бы виртуальных «я» ни осталось в тисках мода верности, все они уже мертвы, а я жив.
Итак, нет причин задерживаться. Ансамбль, истинный или какой-нибудь другой, не значит для меня ровным счетом ничего.
А что касается опасностей, связанных с применением «Ансамбля», то Лу хотя и жаден, но ни в коем случае не глуп. Если он действительно все это время знал о потенциальном риске, он будет действовать предельно осторожно. Не хотелось бы доверять судьбу планеты его сомнительной ловкости – но у меня нет выбора. Если я обращусь к властям, ПСИ тут же объявит меня главным подозреваемым в установке бомб в здании; скорее всего они искренне в это верят. Что же делать? Может, послать в полицию НГ анонимное письмо: предупреждаю, что технология, способная разрушить основы нашей реальности, попала в нечистые руки...
Допустим, что Лу можно доверить мод. Но где гарантия, что никто другой не получит доступа к моду? Предположим, один из его клиентов – тех, для кого он взламывает шифры – заинтересуется его методикой, захочет работать с ним без посредников или исключить конкуренцию? Имея дело с таким крупным конспиратором, как Лу, этот клиент уже через неделю будет знать все. «Ансамбль» в руках гангстеров... или, еще хуже, «Ансамбль» в руках разведок КНР или США... Допустим даже, что они осознают меру ответственности, и планета не скатится в необратимое размазывание. Но жить в реальности, конструируемой в Пекине или в Вашингтоне? Зачем тогда вообще жить?
Рядом со мной появляется «Карен». Я в замешательстве, мне страшно, что от одного моего слова она может исчезнуть – или взорваться, распадаясь на бесчисленные воплощения. Наконец я набираюсь мужества и говорю:
– Как я рад тебя видеть. Без тебя мне было плохо.
Было ли? Память не подсказывает ничего подходящего к случаю. Ладно, главное, что без мода верности обязательно было бы плохо.
Она мрачно говорит:
– Ты завалил все дело.
– Угу.
– И что дальше?
– А что дальше? Меня ищут как террориста. Жить мне негде, у меня ничего не осталось...
– У тебя есть полмиллиона долларов.
Я качаю головой:
– Да, конечно, но...
– И ты скопировал девяносто пять процентов «Ансамбля».
– Девяносто пять процентов в данном случае все равно что ничего, – с горькой усмешкой говорю я. – Наномашины не построят ничего хорошего по девяноста пяти процентам описания мода.
– У тебя описание не одного, а двух модов.
– Как это двух?
И до меня доходит. «Ансамбль» выполняет две совершенно независимые функции – блокировку схлопывания и выбор чистого состояния. Две части мода, отвечающие этим двум функциям, могут не иметь ни единого общего нейрона. Если так, каждая часть может работать независимо от другой. Осталось только выяснить...
Я вызываю «Шифроклерка» и начинаю перерывать массивы данных. Пролистав пару десятков страниц предисловия, я вижу заголовок:
«УПРАВЛЕНИЕ ЧИСТЫМИ СОСТОЯНИЯМИ»:
НАЧАЛО РАЗДЕЛА
Я ищу следующее вхождение фразы «УПРАВЛЕНИЕ ЧИСТЫМИ СОСТОЯНИЯМИ». Пролистав несколько сот тысяч страниц, система выдает:
«УПРАВЛЕНИЕ ЧИСТЫМИ СОСТОЯНИЯМИ»: КОНЕЦ РАЗДЕЛА
(контрольная сумма: 4956841039)
/*****************************************************************/
«БЛОКИРОВКА СХЛОПЫВАНИЯ»:
НАЧАЛО РАЗДЕЛА
«Карен» говорит:
– У тебя есть полмиллиона долларов. У тебя есть половина «Ансамбля» – в «Гипернове» – и описание второй его половины. А твой опыт работы в размазанном состоянии больше, чем у любого на этой планете, не считая Лауры. И ты говоришь, что ничего не осталось?
Я качаю головой:
– Я не могу доверять своему размазанному «я» – Лаура предупреждала меня и об этом тоже. До сих пор оно играло на моей стороне, но неизвестно, как оно поступит, когда наберет достаточно сил.
– Вот как? А кому ты больше доверяешь – ему или размазанным «я» Лу и его клиентов?
Я замечаю, что меня бьет озноб:
– Неужели ты не понимаешь, что мне просто страшно? – со смехом спрашиваю я. – Ведь я мог превратиться в кого угодно. Только что я потерял то, что составляло суть всей моей жизни. Потерял мгновенно, незаметно. А мог бы потерять все что угодно. Даже тебя.
– Мое описание хранится в архиве «Аксона», – резко говорит она. – Ты всегда сможешь восстановить меня.
– Да, – говорю я и отворачиваюсь, чтобы не смотреть ей в глаза. – Да. Но я боюсь, что если потеряю тебя, то уже не захочу восстанавливать.
* * *
Многие мелкие магазинчики открываются почти с восходом солнца, и я успеваю купить себе комплект косметических наномашин и новую одежду еще до того, как улицы заполняет обычная утренняя толпа. Запершись в кабинке общественного туалета, я наблюдаю, как моя кожа постепенно светлеет от того, что наномашины разрушают почти весь защитный слой меланина. Руки и предплечья на глазах приобретают оливковый цвет, вызывающий в памяти юношеские фотографии моего дедушки, сделанные еще в двадцатом веке. Спустя час мои почки выделяют накопившиеся метаболита, и я мочусь сюрреалистической черной струей, расставаясь тем самым со своим прежним цветом кожи. Странно, но это приводит меня в такое же смятение, как и самые невероятные события последних двенадцати часов. Наверное, дело в том, что до сих пор все изменения происходили только в моем мозгу, и хотя бы внешне я выглядел так же, как всегда.
Разглядывая себя в зеркале, я стараюсь сосредоточиться на практических вопросах. Опознающие программы узнают мое лицо независимо от его цвета, но теперь по крайней мере на меня не обратит внимания насмотревшийся криминальной хроники случайный прохожий.
Однако, заглянув в «НГ Таймс», я не нахожу там упоминания о неудавшейся попытке взрыва, предпринятой Детьми или кем-нибудь другим. Нет ничего похожего и в глобальных системах новостей. Похоже, ПСИ решила не посвящать никого в случившееся. Наверное, не захотели, чтобы полиция НГ ломала себе голову, почему Дети напали именно на них.
Это меня немного успокаивает. Я по-прежнему в опасности, ПСИ наверняка пустила по моему следу десяток частных агентств, но все-таки приятно сознавать, что я не окончу свою жизнь за решеткой в качестве террориста из группы «Дети Бездны».
Я сижу в парке на скамейке, залитой – отраженным! – утренним солнцем. При помощи «Шифроклерка», «Красной Сети» и Сэтфона я общаюсь с внешним миром. Подключаюсь к экспертной системе по наномашинам, чтобы она проверила, все ли в порядке с моим описанием «Ансамбля». Очень вовремя – оказывается, что надо не только выбросить весь второй раздел, но и поправить кое-что в предисловии, чтобы наномашины поняли, что речь идет не о двух модах, а об одном. Нанотехника – дело непростое.
Стерев напоследок раздел об охране авторских прав, я копирую готовую спецификацию из буферов «Шифроклерка» на чип, который уже можно отдавать в работу. По справочнику нахожу ближайшего изготовителя модов. Фирма называется «Третье полушарие» и находится в каком-нибудь километре отсюда.
Здание в конце унылого тупика доверия не внушает, но, войдя внутрь, я сразу замечаю синтезатор – настоящий «Аксон», во всяком случае, фирменный знак разрешения на производство выглядит правдоподобно. Женщина, которая принимает заказы, вставляет чип в оценивающую машину:
– Тридцать тысяч долларов, – говорит она. – Наномашины для вашего мода будут готовы через две недели.
От экспертной системы я узнал, что синтез мода потребует не более восьми часов. Значит, остальное время приходится на ожидание в очереди. Я говорю:
– Пятьдесят тысяч. Но выполните заказ сегодня, к десяти вечера.
Подумав, она говорит:
– Восемьдесят тысяч – и к девяти.
– Согласен.
* * *
Я покупаю пистолет. Точно такой же лазер, как тот, что отобрали у меня сегодня утром. Оружие – одна из вещей, за которыми в НГ следят серьезно. Это отражают цены черного рынка – мне приходится выложить пятьдесят семь тысяч, тройной тариф. Щедрость Лу смущает меня по-прежнему, но теперь я понимаю, что ему было выгоднее помочь мне как можно быстрее покинуть город, чем рисковать, что я выдам его Ансамблю. А сумму гонорара за взламывание кода он, разумеется, преуменьшил раз в десять, если не в сто.
Мне надо где-нибудь остановиться, но отели слишком пронизаны компьютерными сетями. В поисках жилья я провожу почти весь день, но в конце концов снимаю маленькую квартирку в не слишком зачуханном районе на юго-западе. Соответствующая доплата снимает проблему с паспортом. Когда агент вручает мне ключи и уходит, я валюсь в постель. Сотрясение мозга начинает давать знать о себе – бороться со сном все труднее.
«Карен» говорит:
– Итак, с чего начнем? Какую опасность надо предотвратить в первую очередь?
Я вздыхаю:
– Ты сама понимаешь, что это безнадежно. Лу наверняка уже имеет не меньше десяти копий описания.
– Конечно. Но доверит ли он их кому-нибудь, или предпочтет спрятать? – Комната постепенно расплывается у меня перед глазами, но образ Карен остается совершенно четким. Зажмурив глаза, я пробую сосредоточиться:
– Не знаю. Во всяком случае, он не отдаст их членам Канона. Скорее всего он скажет им, что операция сорвалась – если вообще увидится с ними.
– Значит, не исключено, что он по-прежнему единственный, кто имеет доступ к описанию?
– Да. Конечно, если не считать той фирмы, которой он заказал изготовление мода для себя. Если он планирует самостоятельно заниматься взламыванием шифров за деньги, ему надо установить «Ансамбль» в своей голове и научиться с ним обращаться.
– Как называется фирма?
– Не знаю. – Я заставляю себя снова подняться на ноги. Пол подо мной покачивается, но через секунду приходит в равновесие. – Но кажется, я знаю, как это выяснить.
* * *
Мне везет. Лу поддерживает связь со второсортными фирмами нанотехники через своего прежнего, известного мне посредника. Это владелец лавки, где я когда-то получил «Гипернову». Для вида поломавшись, он быстро сдается перед все теми же неотразимыми аргументами. При таких расходах я через пару дней останусь без гроша, но ничего не поделаешь, надо ловить попутный ветер. Он говорит:
– Сегодня утром я отправил оба пакета с курьером в «Неомод». Примерно в семь утра. Клиент заплатил за срочность – заказ должен был быть выполнен к двум часам. Но работу ко мне не присылали, клиент позвонил в двенадцать и сказал, что сам заберет ее прямо с фабрики.
– Что значит «оба» пакета? Сколько модов он заказал?
– Только один мод, но он приложил к заказу свой собственный носитель для наномашин. Это очень необычно, но... – Он пожимает плечами.
«Необычно» – это мягко сказано. Стандартная Еndamoeba не способна жить дольше нескольких минут вне специальной культуры, в которой она поставляется. Строение амеб намеренно сделано таким, что они не могут существовать без определенного энзима, который в природе не встречается. Это свойство вместе с некоторыми другими конструктивными особенностями гарантирует, что амеба погибнет, едва успев проникнуть сквозь слизистую оболочку носа пользователя. Шансы «заразиться» модом не больше, чем шансы забеременеть от мужчины, который спит со свой подругой в соседней комнате.
Нестандартный носитель может понадобиться только для одного – чтобы можно было установить мод тому, кто этого не хочет.
Но это абсурд! Если Лу хочет заняться взламыванием шифров, зачем ему устанавливать мод своим сообщникам, да еще против их воли?
– А что это за нестандартный носитель?
Он качает головой:
– Не знаю. Он купил его в другом месте, а я только отослал на фабрику вместе с чипом.
– На флаконе было что-нибудь написано? Фирменный знак? Название?
– Флакона я не видел. Он был запечатан в маленькую черную коробочку, а на ней ничего не было.
– Маленькая черная коробочка?
– Да. Без маркировки... только крошечная синяя лампочка на крышке. – Он пожимает плечами: странная деталь, конечно, но ему-то какое дело... – Коробочку принесли отдельно, раньше, чем описание мода. Вчера днем.
Порывшись в карманах, я вынимаю и показываю ему свой пропуск в ПСИ. Прищурившись, продавец рассматривает мою фотографию, потом говорит:
– Да, это он принес. Южанин. По-моему, он.
Обесцвеченный оригинал, находящийся перед ним, явно не вызывает у него никаких ассоциаций.
Я пробираюсь сквозь толпу, запрудившую улицы в час пик. Иду куда глаза глядят. Endamoeba должна была размазаться в совокупность всех возможных мутаций, как бы трудно ни было их получить обычным путем. В коробочке должно было быть достаточно биоэлектроники для того, чтобы проверять полученную породу на необычные свойства, которых хотел добиться Лу, и дать сигнал в случае, если простейшие выдрессированы так, как он того желает. А я-то клюнул на его вранье о шифрах и суперкомпьютерах, и в блаженном неведении выбрал состояние, где загорелась лампочка. Но что же за порода получилась в результате? И зачем она ему? Какую выгоду можно отсюда извлечь?
Впрочем, почему я считаю, что истинный Ансамбль в понимании Лу имеет какое-то отношение к деньгам? Потому, что он заплатил мне полмиллиона долларов? Потому, что он покорно «признался», что в коробочке – суперкомпьютер для взламывания кодов? Что ж, без денег тут не обошлось, ведь он должен был каким-то образом оплачивать все расходы. Но если деньги не цель, а только средство, то средство для чего? Допустим, что он все-таки не сумел вывернуть затянутый у него в сознании узел так, чтобы превратить его в простую человеческую жадность. Тогда какую же квазирелигию он выстроил для себя на самом деле?
Если он с самого начала знал, что представляет собой Лаура, зачем был создан Пузырь, чем именно грозит размазывание...
Я резко останавливаюсь посреди улицы, не обращая внимания на толкающих меня пешеходов. Это так просто – представить себе, что делал бы я, если бы события происходили в другом порядке. Если бы мне пришлось решать для себя, что такое подлинный Ансамбль, уже зная всю правду о Лауре.
Прародитель Лауры умер – схлопнулся – в акте сотворения ее, словно некое божество, жертвующее собой, становясь женщиной. Она же, размазываясь, становясь из женщины – божеством, со всей ясностью показала нам, как можем и мы прекратить схлопывание и вновь обрести нашу божественность, вновь войти в суперпространство.
Я не знаю, какое воспитание получил Лу. Если он вырос в НГ, он может быть даосом, буддистом, христианином или таким же атеистом, как я. Но это скорее всего не имеет значения. Мощное впечатление от истории Лауры в сочетании с безусловным приказом мода верности рассматривать работу Ансамбля как важнейшее дело на свете привело бы любое сознание в тот же грозный резонанс.
И любому сознанию с ослепительной очевидностью открылось бы, в чем именно должна состоять работа Ансамбля.
Я беспомощно озираюсь по сторонам. На город спускаются сумерки. Мимо меня протискиваются люди, усталые, напряженные, полные собственных забот. Мне хочется схватить их за плечи, встряхнуть хорошенько, заставить оглянуться вокруг.
Если я прав, то Лу мог придать своему носителю наномашин нечувствительность к внешним условиям, способность заражать через воздух и стремительно размножаться – как раз те свойства, которых изо всех сил старались избежать, конструируя стандартный носитель. Он мог бы сделать его идеальным средством, чтобы осчастливить все человечество тем бесценным даром, который принесла ему Лаура.
Но кого я могу предупредить?
Кто поверит мне? В здравом уме – никто. Нейромодовая чума – явный продукт фантазии параноика. Сами по себе наномашины хрупки и не способны никого «заразить». Более того, их работа невозможна без теснейшей связи с многочисленными и весьма специфическими механизмами изуродованной биохимии носителя. Из-за этого даже самые изощренные нелегальные носители способны существовать не более часа – достаточно для инфицирования отдельных индивидуумов, но отнюдь не для эпидемии. Специалисты всегда были едины в том, что мало-мальски «заразный» носитель потребовал бы создания специально приспособленных к нему наномашин, а это уже работа, сравнимая по объему с созданием самой нанотехнологии. Никакие террористы и религиозные секты на такое не способны, и даже правительство не могло бы вести эти работы в полной тайне.
А что касается того, чтобы некий одиночка у себя в гараже получил острозаразный штамм носителя, совместимый со стандартными наномашинами, то вероятность этого, конечно же, не больше, чем вероятность... наугад разложить на простые сомножители миллионозначное число.
Толпа вокруг меня постепенно тает, небо становится совсем темным. Все в мире идет, как всегда. В конечном счете все всегда приходит в норму. С двух часов мод находится в распоряжении Лу. Вполне возможно, что он уже начал распространять его. Сколько времени на это уйдет? Ему придется сделать одну небольшую коррекцию по сравнению с модом, установленным у По Квай: подавление схлопывания будет выполняться автоматически, а не по желанию пользователя. У ничего не подозревающих пользователей выбора не будет. Много ли времени понадобится размазанным «я» десяти тысяч или ста тысяч человек, чтобы научиться подавлять схлопывание остальных жителей города? И размазанных «я» сразу станет двенадцать миллионов, а тогда...
Взглянув на небо, я вдруг замечаю крошечную светлую точку над последними отсветами заката. Добрых десять секунд я не могу отвести от нее взгляд, пока не соображаю, что это всего лишь Венера.
* * *
Женщина в «Третьем полушарии» недовольно смотрит на меня и говорит:
– Еще рано. Приходите через два часа.
– Ускорьте работу. Я заплачу.
Она смеется:
– Процесс ускорить невозможно, сколько бы вы ни заплатили. Синтезатор уже запрограммирован и строит ваши наномашины.
«Невозможно?» А если я заплачу ей, чтобы она оставила меня один на один с синтезатором, потом размажусь и не буду схлопываться до тех пор, пока не окажется, что «Ансамбль» установлен у меня в голове, что и даст мне в конечном счете возможность выбрать всю эту последовательность событий так, чтобы она занимала «невозможно короткое» время? При этом нет опасности, что машина в спешке сделает неисправный мод: ведь если бы он оказался неисправным, чудесное ускорение просто не состоялось бы.
Или все-таки могло бы состояться? Например, при совсем незначительном дефекте, который сразу не проявится? Глядя на бесшумно работающую машину, чем-то удивительно похожую на автомат по продаже газированной воды, я склоняюсь к мысли, что лучше подождать. Она оперирует на молекулярном уровне, где уже действуют квантовые неопределенности, и я не хочу усиливать их до такой степени, чтобы на выходе мог получиться любой мыслимый результат. «Ансамбль» – мой единственный шанс найти Лу вовремя, и я не могу рисковать этим шансом.
– Я подожду на улице, – говорю я. – Позовите меня немедленно, как только...
Женщина озадаченно пожимает плечами:
– Вы прямо как молодой папаша в роддоме.
* * *
Надо бы включить настройку, войти в сторожевой режим, и время пройдет незаметно. Но что-то в душе отчаянно противится этому как безответственному, эскапистскому шагу, как чему-то крайне неестественному...
Эти доводы настолько чужды мне, что я прислушиваюсь к ним как будто со стороны, скорее ошеломленный, чем испуганный. Последнее схлопывание непостижимым образом избавило меня от мода верности – легко допустить, что во мне изменилось и многое другое. Вероятно, усиливающееся отвращение к нейронным модам неизбежно или почти неизбежно при стремлении вырваться на свободу.
Так что я жду, как обычный человек, мучимый бессмысленными страхами. Жду, пытаясь вообразить невообразимое. Что будет происходить с людьми, если вся планета необратимо размажется? Ничего – потому что не будет схлопывания, которое только и делает некоторые события реальными? Или все – потому что не будет схлопывания, которое только и лишает некоторые события возможности реализоваться? Все по отдельности, когда каждому чистому состоянию отвечает отдельное сознание, словно в модели множественных миров? Или все сразу – какофония совместно реализовавшихся возможностей? То, что испытывал я сам – по крайней мере воспоминания об этом, пережившие схлопывание, – может не иметь ничего общего с тем, что будет, когда схлопывание исчезнет навсегда. Когда исчезнет механизм, делающий прошлое единственным, весь наш опыт может стать абсолютно иным, чем теперь.
Так или иначе, в одном я убежден – нельзя позволить Лу довести его дело до конца.
Вся надежда на то, что мое размазанное «я» придерживается того же мнения.
* * *
Женщина из «Третьего полушария» не спрашивает, что это за мод, который мне так не терпится испытать. Я перевожу ей деньги, она вручает мне флакон, и я сразу впрыскиваю в нос его содержимое.
Она говорит:
– Надеюсь, наши деловые контакты продолжатся.
– Очень сомневаюсь, – отвечаю я, закончив терзать свою ноздрю.
Я дважды чихаю. Капелька жидкости падает на пол.
* * *
Идя по переулку, я даю задание «Мыслемеханизмам» сообщить мне, как только «Ансамбль» объявит о своем существовании. Экспертная система оценила время на установку мода в два-три часа, в зависимости от особенностей нейроанатомии пользователя.
Витрины магазинов на большой улице сияют голографическими рекламами. В этом году фотореализм непопулярен, и все, от ботинок до кастрюль, ослепительно сверкает. Я поднимаю руку, и она проходит сквозь переднее колесо висящего в двух метрах над землей велосипеда. Колесо стремительно вращается, спицы словно раскалены добела, что вызывает подсознательное ожидание острой боли.
Некоторое время я стою, глазея на публику. У меня еще достаточно денег, чтобы через два часа оказаться на другом конце земного шара. Может быть, Лаура ошиблась, и все, что бы ни случилось здесь, можно будет как-то локализовать. Когда станет ясно, что началась эпидемия, границы закроют, и...
Как закрыть границы от людей, которые могут проникнуть сквозь любую преграду? Сбросить город в черную дыру? Построить вокруг него еще один Пузырь?
«Карен» говорит:
– Однажды тебе удалось похитить мод, и ты можешь сделать это еще раз. МБР не удалось тебя остановить, тем более это не удастся Лу.
– А если он уже выпустил амеб на свободу?
– У тебя нет сведений, что он это сделал.
– У меня нет и сведений, что он этого не сделал.
Я пристально вглядываюсь в небо, подавляя волну головокружения. В сущности, Пузырь – это никакая не тюрьма. Он просто помог нам увидеть, что мы находимся в тюрьме. Удар был не в том, что нас заперли, а в том, что нас заставили осознать бесконечность недоступной нам свободы.
Я говорю:
– Кажется, у меня начинается «страх Пузыря».
«Карен» качает головой:
– «Страх Пузыря», – говорит она, – совсем вышел, из моды.
* * *
Мне остается только ждать, пока «Ансамбль» будет установлен, но ничто не мешает мне пока заняться подготовкой к поиску Лу. Я пишу маленькую программу для «Фон Неймана», которая, получив на входе шестизначное число, обратится к географической базе данных «Дежа Вю» и выдаст карту участка размером сорок пять на сорок пять метров, находящегося где-то в городе (поверхность залива исключается из рассмотрения). Некоторое время я размышляю, какие еще зоны поиска, кроме воды, надо исключить. Есть много мест, где искать «заведомо» бесполезно – слишком открытые, слишком недоступные и т. д. Однако в конце концов я решаю сделать ограничения минимальными. Взлетные полосы аэропорта из поиска выведены, но те виртуальные «я», которым предстоит обследовать поле для игры в регби или канализационные отстойники, должны будут смириться с мыслью, что этой ночи им скорее всего не пережить.
Рассматривая мысленным взором карту, я думаю: к утру город будет усеян моими невидимыми трупами. А единственному наследнику моего прошлого, «чудом» пережившему еще одно схлопывание, все эти смерти покажутся еще менее реальными, чем прежде...
Для меня, однако, они вполне реальны, все до одной – это мое собственное будущее.
* * *
Перед самой полночью загорается надпись:
<Мыслемеханизмы: Получено извещение.
Отправитель: «Ансамбль» («Третье полушарие», 80000 долл.)
Категория: Завершение автогенерации.>
Я пытаюсь вызвать «Ансамбль», но не могу обнаружить никаких интерфейсов или управляющих панелей. Ничего удивительного – этот мод должен использоваться не мной. Я сажусь на постель, вызываю «Гипернову» и возвращаю к жизни существо, для которого предназначен «Ансамбль».
Как это сказала о нем женщина – посланец Лауры? «Оно ненадежно, как ребенок?» Это существо состоит из миллиардов моих версий, бесконечно расщепляющихся на себе подобных, и что для него могу значить лично я? То же, что для меня значит крошечная частица чего-то целого – отдельная клетка крови или отдельный нейрон? Но ведь я, несомненно, вынужден считаться с интересами своих клеток крови или нейронов – так сказать, ан масс. Я уже сотни раз подчинял его своей воле, что особенного в том, чтобы совершить еще одно чудо? Тем более что виртуальные «я» будут почти единодушны – кому из них придет в голову желать успеха Лу?
Я жду десять минут, потом выхожу из комнаты.
Моим мечтам о том, чтобы прокрасться незамеченным по боковым улочкам и темным переулкам, не суждено сбыться. Ночь – час пик для туристов, а также для всех, кто продает им и покупает у них. Боковые улочки и переулки полны народа. Проталкиваясь сквозь толпу, я думаю о том, что либо давно уже схлопнулся, либо делаю за Лу его работу. Так что если я блокирую схлопывание любого человека, который наблюдает меня, а также любого, кто наблюдает этого человека, и то же самое делают мои версии, расползаясь по городу все шире, то... так недолго и размазать всю планету. У Лауры это потребовало бы одного-двух дней, но ко мне ее мерки неприложимы. У нее могли быть средства минимизировать свое воздействие, какие-то способы сфокусировать свое присутствие. Я же наоборот – решил прочесать весь город, а никак не фокусироваться в одном месте.
У входа в метро женщина играет на скрипке. На виртуальной скрипке, с помощью старомодных сенсорных перчаток. Играет, надо сказать, здорово – если только ома не просто имитирует игру. Спускаясь по эскалатору, я вынимаю генератор игральных костей, бросаю шесть десятигранников и ввожу результат в мою программу выбора точки на карте.
Бросать кости, чтобы найти безумца... Отличная идея! А еще можно заглянуть в его гороскоп. Или, черт возьми, обратиться к «Книге перемен».
Отбросив последние крупицы здравого смысла, я втискиваюсь на переполненную станцию и покупаю билет к своему наугад выбранному пункту назначения.
* * *
Моя цель – мрачного вида многоквартирный дом на застроенной жильем полоске земли, проникшей в глубь северного района, занятого складами. Я подкрадываюсь к дому с предельной осторожностью, разрываясь между мрачными мыслями о том, что мои шансы найти Лу не больше одного на миллион, и не относящимися к делу, но ободряющими воспоминаниями о том, что до сих пор именно я всегда переживал схлопывание, назло любым шансам.
Парадная дверь, снабженная видеопейджинговой системой для посетителей, заперта, но при моем приближении она отворяется. Проходя через фойе, я на мгновение оборачиваюсь и с невыносимой яркостью вдруг мысленно вижу себя стоящим перед запертой дверью в напрасном ожидании чуда.
Тридцать этажей, по двадцать квартир на каждом. Не задумываясь, я бросаю три десятигранника. Выпадает восемь, девять, пять. В первое мгновение меня охватывает паника, но я встряхиваю головой, смеюсь – меня так просто не возьмешь! Я могу играть в эту игру по своим правилам. Я вычитаю из полученного номера шестьсот и направляюсь к лестнице. Если в некоторых квартирах окажется больше моих виртуальных «я», чем в других, это еще не конец света.
Я спокойно поднимаюсь по ступенькам. В здании почти полная тишина. С третьего этажа еле слышно доносится музыка, на седьмом плачет ребенок. Иногда слышится звук спускаемой в туалете воды. Глупо, но банальность всего этого вселяет уверенность. Как будто существует некий закон сохранения неправдоподобия, согласно которому мои неудачливые «я» должны сейчас слышать за дверью каждой квартиры одну и ту же версию «Рая» Анжелы Ренфилд.
Добравшись до десятого этажа, я принимаю решение: если Лу нет в квартире 295, я обыщу все здание, от крыши до подвала. Терять мне нечего. А если его нет в здании? Тогда обыщу всю улицу.
У двери квартиры 295 я замираю, но лишь на мгновение. Вытащив пистолет, я осторожно нажимаю на дверь.
Дверь открывается.
Глава 13
Лу стоит у стола, заставленного лабораторной посудой, и наблюдает, как вращающийся магнит перемешивает жидкость в колбе с культурой. Он сердито смотрит на меня, но выражение его лица вдруг смягчается, и он говорит почти радостно:
– А, это ты, Ник. Я тебя не узнал.
– Отойди назад и положи руки на голову.
Он подчиняется.
Надо ли схлопнуться сейчас, чтобы сделать мою победу необратимой? Нет. Успокаиваться рано, кто знает, какие подвиги еще потребуется совершить. Я делаю глубокий вдох:
– Ты выпустил амеб?
Он с невинным видом качает головой.
– Если ты врешь, я...
Что я сделаю? И как я узнаю, врет он или нет? Соседние дома вроде бы не распались на квадриллион версий – но ведь и я сам выгляжу вполне обыкновенно:
– Почему ты их не выпустил? Он смотрит на меня немного ошарашено:
– Культура, которую я послал в «Неомод», была ослаблена. Я не мог знать, каким тестам они ее подвергнут и как себя поведут, обнаружив что-нибудь слишком необычное. Это заведение из тех, что готовы сделать марионеточный мод, чтобы один гангстер подсыпал его в рюмку другому гангстеру, но не более того. Если бы они поняли, что штамм способен распространяться, как чума, они отказались бы интегрировать наномашины. – Он кивает на колбу, в которой крутится магнит. – Теперь я провожу обработку ретровирусом, который возвращает в геном важнейшую промоторную последовательность. То, что было до этого, – обычная нелегальщина, а здесь уже вещь серьезная.
Верить ему нет причин, но, с другой стороны, зачем он стал бы возиться со всем этим хозяйством, вместо того чтобы ходить по улицам, распространяя мод? Глянув на колбу, я вижу, что она наглухо запечатана. Сначала это меня удивляет, но потом я догадываюсь, что он боится случайно размазаться, занимаясь таким ответственным делом. Я ведь тоже решил оставаться схлопнутым в процессе синтеза «Ансамбля».
Я спрашиваю:
– У кого еще есть копии мода?
– Ни у кого.
– Вот как? Значит, ты не сумел внушить свои идеи никому из членов Канона?
– Не сумел. – Помедлив, он небрежно добавляет:
– Ты был единственным, который мог бы их понять.
Я сухо улыбаюсь:
– Не надо лишних слов. Я больше не принадлежу к Канону. Похоже, хоть из этого сумасшедшего дома мне удалось удрать.
А ты скоро последуешь за мной – хотя и не столь экзотическим способом.
Он качает головой:
– Мод верности тут ни при чем. Ты размазывался и схлопывался – достаточно часто, чтобы понять, как неизмеримо много это тебе дает.
– Дает? – По правде говоря, я никак не могу прочувствовать истинный масштаб того, что я в данный момент предотвращаю. Застигни я его с чем-нибудь более безобидным – с хорошим куском плутония, например, – смертельная угроза была бы куда очевиднее.
– Я же знаю, в чем дело, – говорю я. – Истинный Ансамбль, мод верности, двоемыслие – все это я помню. Потому и не виню тебя в том, что ты не можешь отказаться от своей идеи. Но признайся, ведь и ты всегда понимал – умом – насколько чудовищна эта идея. Ты хочешь ввергнуть двенадцать миллиардов человек в какой-то метафизический кошмар...
– Я хочу избавить двенадцать миллиардов человек от смерти, которая обрушивается на них каждую микросекунду. Я хочу положить конец гибели все-возможностей.
– Схлопывание – не гибель.
– Вот как? Подумай о тех из твоих версий, которые не нашли меня...
Я горько усмехаюсь:
– Ты сам учил меня о них не думать. Ладно, я готов признать, что они – если они вообще что-либо испытывают – должны ожидать неминуемой смерти. Но обычных людей это не касается. И меня тоже это никогда больше не коснется. Люди делают выбор, и только одно из чистых состояний выживает. Это не трагедия, это наша природа, так и должно быть.
– Ты сам знаешь, что это не так.
– Нет, не знаю.
– Тебе не жалко тех твоих «я», которые убедили По Квай использовать ради тебя «Ансамбль»?
– А почему мне должно быть их жалко?
– Думаю, они были с ней в близких отношениях. Возможно, любили друг друга.
Эта мысль ошеломляет меня, но я спокойно говорю:
– Для меня это пустой звук. Эти «я» не реализовались. Она ничего об этом не помнит, я тоже...
– Но ты можешь вообразить, как счастливы они были. И то, что положило конец этому счастью, ничем, кроме смерти, не назовешь.
Я пожимаю плечами:
– Люди умирают каждый день. Что я могу с этим поделать?
– Ты можешь сделать так, чтобы этого не было. Бессмертие возможно. Рай на Земле – возможен.
Со смехом я говорю:
– «Рай на Земле?» Ты что, решил ждать второго пришествия? Ты знаешь не больше, чем я, о том, к чему приведет необратимое размазывание. Но если оно породит рай на Земле, то оно же породит и ад! Ведь если не исчезают никакие состояния, то все мыслимые формы страдания тоже...
Он невозмутимо кивает:
– О, конечно. И все мыслимые формы счастья. И все, что между ними. Абсолютно все.
– И конец свободе выбора, свободе воли...
– Да не будет никакого конца. Восстановление изначального разнообразия вселенной не может означать изъятие чего-либо.
Я качаю головой:
– Честно говоря, мне все это безразлично. Я просто...
– Значит, ты лишаешь всех остальных права выбора?
Я смеюсь в ответ:
– А ты – псих, который собрался навязать свою волю...
– Совсем нет. Когда планета будет размазана, все будут связаны друг с другом. Размазанная человеческая раса сама решит, схлопываться ей или нет.
– И ты полагаешь, что решение судьбы всей планеты, которое примет этот... младенческий коллективный разум, можно будет считать справедливым? Создатели Пузыря и то больше уважали человеческий род.
– Разумеется, они уважают человеческий род. Ведь они сами состоят из человеческих существ.
– Ты имеешь в виду Лауру?
– Нет. Всех. А ты думал, это какая-то экзотическая форма жизни с другой планеты? Разве они смогли бы запрограммировать гены Лауры так, чтобы блокировать ее схлопывание и позволить управлять чистыми состояниями, если бы они сами не были размазанными людьми?
– Но...
– Схлопывание имеет конечный горизонт. Всегда есть чистые состояния за пределами этого горизонта. Ты думаешь, ни одно из них не содержит человеческих существ? Создатели Пузыря сделаны из наших версий – настолько невероятных, что им удалось избежать схлопывания. Я хочу только одного – дать нам возможность присоединиться к ним.
* * *
У меня кровь стучит в висках. Я опять бросаю взгляд на запечатанную колбу с культурой – насколько спокойнее было бы вверить ее заботам кислотной ванны или плазменного мусоросжигателя.
Стволом пистолета я показываю Лу на стул:
– Сядь сюда. Боюсь, мне придется связать тебя, чтобы спокойно избавиться от этой дряни.
– Ник, прошу тебя, только...
Ровным голосом я говорю:
– Слушай внимательно. Если ты будешь мешать, мне придется убить тебя. Не ранить, а убить. Чтобы ты случайно не расколотил тут всю посуду. А теперь иди и сядь на стул.
Он нерешительно делает движение к стулу, потом останавливается. Внезапно я замечаю, что он ближе к столу, чем мне сначала показалось. Если он сделает шаг, то сможет дотянуться до колбы рукой.
Он говорит:
– Только об одном тебя прошу – вдумайся в то, что я сказал. За пределами Пузыря должны быть состояния, полные самых невероятных событий! Чудеса. Сны...
Его лицо буквально светится в экстазе, куда только делась обычная гримаса озабоченности и отвращения к самому себе. Может быть, ему удалось наконец разделаться с двоемыслием, и больше не существует той части его сознания, которая понимала, что «истинный Ансамбль» есть всего лишь нейронная аберрация? Может быть, мод верности окончательно уничтожил прежнего Лу Кью Чуня?
Я очень мягко и спокойно говорю:
– Лично мне чудес уже вполне достаточно. Больше я просто не выдержу.
– ...и обязательно должны быть состояния, где твоя жена...
Я обрываю его:
– Так вот к чему весь этот «рай земной» и прочий бред? Эмоциональный шантаж! – Я устало смеюсь. – Как трогательно. Да, моя жена умерла. А ты знаешь, что мне на это на-пле-вать?!
Он явно потрясен. Наверное, это была его последняя надежда сломить мою решимость. Он смотрит мне в глаза и неожиданно спокойным, почти смиренным тоном говорит:
– Это неправда.
Он делает стремительный выпад, выбросив вперед правую руку. Я прожигаю дырку в его черепе, он клонится набок и рушится на пол, слегка толкнув стол.
Колба остается на месте, магнит продолжает бесшумно вращаться.
Обойдя вокруг стола, я сажусь на корточки рядом с трупом. Рана прямо над глазами, края отверстия обуглены, отвратительно пахнет жареным мясом. Резко подступает тошнота. До сих пор я еще никого не убивал, и даже не стрелял из пистолета и не подходил к трупам без настройки. Я не должен был до этого доводить. Мне надо было быть осторожнее.
Ведь он-то сам, черт бы его взял, ни в чем не виноват. Виноват Ансамбль. Виновата Лаура. Ничего себе – холодный исследователь, пассивный наблюдатель. Уж кто-кто, а она хорошо знает, что такое невозможно в принципе.
Мне надо было действовать осторожнее – во-первых, сразу отогнать его подальше от стола...
Может быть, я так и сделал.
От этой мысли у меня по коже пробегают мурашки. Может быть, я так и сделал. Ну конечно, наверняка я так и сделал. Кого же теперь выберет мое размазанное «я» – меня, или моего кузена, у которого хватило ума делать то, что нужно?
А кого я хочу, чтобы оно выбрало?
Я гляжу сверху вниз на окровавленное лицо Лу. Я почти не знал его – а с другой стороны, чем мне придется пожертвовать, чтобы воскресить его из мертвых? Всего лишь двумя минутами моей жизни. Это будет краткий миг амнезии. Пустяк в сравнении с теми часами, которые за всю жизнь исчезли из моей памяти – стерлись без малейшего следа, как будто их никогда не было. А сколько моих виртуальных «я» умерли в то время, когда я был под настройкой, чтобы реальным оставался тот, кто принимал оптимальное решение? Так что дело привычное – я всю жизнь умирал ради того, чтобы все шло как надо.
Право на решение мне не принадлежит, но, вызывая «Гипернову», я громко шепчу:
– Выбери кого-нибудь другого. Пусть выживет он. Мне все равно.
Я нажимаю кнопку «ВЫКЛЮЧИТЬ».
...и ничего не меняется (как и следовало ожидать). Я подхожу к единственному в комнате стулу и тяжело опускаюсь на него. Карен молча стоит рядом, и это успокаивает.
Через пятнадцать минут – любому, кто работал более грамотно, чем я, этого хватило бы, чтобы привязать Лу к стулу и схлопнуться, – я вызываю «Шифроклерка». «Доктор Панглосс» подскажет мне, что делать с колбой самой заразной на свете культуры простейших.
* * *
– Только об одном тебя прошу – вдумайся в то, что я сказал. За пределами Пузыря должны быть состояния, полные самых невероятных событий! Чудеса. Сны. И обязательно должны быть состояния, где твоя жена до сих пор жива.
На мгновение его слова зачаровывают меня, но...
– Ты не можешь знать это наверняка. Ты не можешь знать, что создатели Пузыря – люди. Все это только спекуляции.
Не обращая внимания на мои слова, он тихо повторяет:
– Вдумайся в это.
Я невольно повинуюсь. Если представить, что Карен жива, то... Не будет больше галлюцинаций, вызванных модом, не будет этих солипсистских шаржей. Вернется вся наша с ней жизнь – пусть вместе с прежними трудностями и промахами, но по крайней мере настоящая, реальная жизнь.
Эти мысли приводят меня в ужас. Голова идет кругом. Так вот какова цена избавления от мода верности? Допустим, с недавних пор любые моды вызывают у меня отвращение – но ведь «Карен» должна была по-прежнему делать подобные сантименты физически невозможными.
Не надо его слушать. Надо заставить его заткнуться. Я говорю:
– Даже если ты прав, что это может означать? Для меня это никогда не станет реальностью. Чистые состояния расходятся, расщепляются, но никогда не соединяются друг с другом.
– Как только мир перестанет схлопываться, все станет возможным, – говорит он с блаженной улыбкой. – Схлопывание является причиной асимметрии времени. Ты сможешь проскочить обратно в прошлое, туда, где она еще жива...
Я качаю головой:
– Нет. Это сделают некоторые мои версии, но далеко не все. Получится хаос, безумие. Создавать миллиарды копий самого себя, чтобы горстка их смогла добиться того, чего я хочу – так жить невозможно!
«Невозможно?» А ведь сегодня ночью я поступил именно так.
Помедлив, он говорит:
– Значит, ты действительно не хочешь, чтобы кто-то – кто-то, в кого превратишься ты – смог вернуться в ту ночь, когда она умерла? Вернуться и все исправить?
Я открываю рот, чтобы сказать «да, не хочу», но вместо этих слов у меня вырывается какой-то звериный вой.
Он бросается вперед. Придя в себя, я прицеливаюсь, но поздно – он хватает колбу за горлышко и высоко поднимает ее над столом. Если я застрелю его, она упадет и разобьется.
Неуловимым движением он швыряет колбу в открытое окно, и, разрывая сетку от насекомых, она вылетает наружу.
Секунду я остолбенело гляжу на него, готовый нажать курок исключительно от злости на собственную глупость. Затем бросаюсь к окну и смотрю вниз. Переведя лазер в режим освещения, я вижу, как световое пятно скользит по осколкам стекла и мокрым пятнам на тротуаре. Лучом я испаряю лужицу и выжигаю бетон вокруг нее.
Лу говорит:
– Ты зря тратишь время.
– Заткнись, мразь!
Кто-то высовывает голову из окна прямо подо мной. Я ору на него, и голова исчезает. Я веду луч все более широкими кругами, пытаясь убедить себя в том, что есть еще надежда: ветерок совсем слабый, диффузия происходит медленно... Пустяки по сравнению с тем, чтобы найти Лу в двенадцатимиллионном городе.
В конце концов я смиряюсь с горькой правдой: не имеет значения, уничтожу я амеб или нет. Допустим, я как раз из тех маловероятных версий – возникших после того, как колба ударилась о землю, – которым удастся полностью стерилизовать воздух и тротуар. Но это не важно – никто из тех, кто так позорно прокололся, не будет реализован. В той реальности, которая будет выбрана, Лу и пальцем не дотрагивался до колбы.
Я оборачиваюсь и смотрю на него:
– Мы с тобой уже принадлежим истории, – говорю я со смехом. – Теперь ты понимаешь, что мне приходилось переживать из-за твоих паскудных замков.
Я закрываю глаза, пытаясь подавить страх. Жить останется то виртуальное «я», которое сумело победить там, где я проиграл. На что еще я могу надеяться? Я сам хотел победить – но теперь уже поздно.
Я говорю:
– Если я застрелю тебя, это будет убийством? Ведь ты уже все равно что мертв?
Он не отвечает. Я открываю глаза, прячу пистолет в кобуру. Под моим пристальным взглядом он по-прежнему молчит. Он не очень-то похож на человека, признавшего свое поражение и готового героически погибнуть. Наверное, до сих пор верит, что «истинный Ансамбль» может его спасти.
Я говорю:
– Хочешь знать, как все было? Я вошел в комнату, привязал тебя к стулу и уничтожил Endamoeba. А вот что будет дальше: я освобожу тебя от мода верности. Ты будешь мне благодарен. Потом мы с тобой сделаем то же самое со всеми членами Канона. Они выступят в качестве свидетелей, и тогда ничто не спасет от правосудия ПСИ, МБР, а может быть, и весь Ансамбль. После этого каждый из нас пойдет своей дорогой, и мы будем жить долго и счастливо.
Выйдя из здания, я иду по направлению к центру, огибая залив, – иду просто, чтобы идти, и стараюсь ни о чем не думать. Я мог бы вызвать «Н3» с ее абсолютным стоицизмом. Я мог бы вызвать «Босса» и включить сон. Но я не делаю ни того, ни другого. Пройдя около трех километров, я наконец смотрю, который час. Один час тринадцать минут.
Достигшая успеха версия должна уже минут сорок быть в квартире. Я поворачиваю обратно и иду, выкрикивая ругательства. На улице полно людей, но на меня никто не оглядывается. Внезапно обессиленный, я сажусь на землю на краю тротуара.
Привычка пересиливает отвращение, и я пытаюсь вызвать «Карен». Ничего не происходит. Я запускаю «Мыслемеханизмы»: мод по-прежнему подключен к шине. Я запускаю диагностику – и моя голова переполняется сообщениями об ошибках. Отключив тест, я обхватываю голову руками. Что ж, придется умирать в одиночку. Я хочу одного – чтобы все кончилось как можно скорее.
Через некоторое время я поднимаюсь на ноги. Я спрашиваю у проходящей мимо женщины:
– Это что – виртуальная загробная жизнь?
– Насколько мне известно, нет, – отвечает она.
Я вынимаю игральную машинку, потом прячу, потом снова вынимаю. Чем это мне поможет? Если я до сих пор размазан – а я, конечно, размазан, – я буду расщепляться на тридцать шесть версий при каждом бросании костей, и один из вариантов будет все больше укрепляться в своем знании, в то время как остальные так и останутся в сомнениях.
Я все равно бросаю кости.
Семь. Три. Девять. Девять. Два. Пять.
«Чего ты еще ждешь? Собираешься еще раз обыскать город в поисках спрятанных копий описания мода? Еще раз пробраться в МБР и на этот раз уничтожить оригинал?»
Но я не собираюсь делать ни то, ни другое, прежде чем схлопнусь – надо сберечь чудесный успех сегодняшней ночи и уменьшить риск необратимого размазывания.
Я бросаю взгляд на пустое серое небо и направляюсь в город.
* * *
К рассвету сомнений не остается – я схлопнулся. Я единственный уцелевший. Любая достигшая успеха версия уже схлопнулась бы к этому времени. Сам факт моего существования подтверждает, что моя неудача реальна и необратима.
Над заливом Карпентария быстро поднимается солнце, яростно вспыхивая в узеньких просветах между небоскребами, и куда ни повернись, увидишь его слепящее отражение. Голова гудит, руки и ноги болят. Мне не хочется умирать, просто хочется оказаться вдруг кем-нибудь другим. Как мне радоваться тому, что я остался жив, если цена этого так высока?
Я продолжаю искать оправдание. Может, никакой неудачи нет, и мне удалось выжечь всю разбрызгавшуюся культуру? Но как мое размазанное «я» могло предвидеть, что я сумею это сделать? И даже если могло, почему оно выбрало такой шаткий путь к успеху, если есть множество вариантов, при которых колба с культурой просто не разбивается?
Ответ один: он – размазанный «я» – специально выбрал этот вариант. Он хотел, чтобы носитель мода распространился по городу. Он, видимо, понял-таки, что это дает ему – возможность непрерывного существования, прекращение череды воскрешении, вызывающих его из голограммы в моем мозгу, как джинна из бутылки, чтобы исполнить мое очередное неосуществимое желание. А чего я ожидал? Что он не воспользуется своим шансом обрести свободу – или как он там обозначает мир, лежащий за пределами Пузыря – только ради того, чтобы потрафить одной из клеток своего тела, одному атому своего мизинца, бесконечно малой частице своего необозримого многообразия?
Я съедаю завтрак, даю десять долларов на чай и иду в квартиру ждать конца света.
* * *
Я просматриваю системы новостей в поисках признаков начинающейся чумы, но едва осознаю то, что читаю. Я то впадаю в фатализм, то хватаюсь за какие-то нелепые надежды. Горячечные порывы к слиянию с чуждой, но единственно подлинной реальностью сменяются моментами тупого неверия. Разглядывая привычный городской пейзаж за окном, я думаю: пусть правда, что человечество удерживает все это в таком виде искусственно – непрерывно, микросекунду за микросекундой, подновляя; но за столько тысячелетий должна же была выработаться какая-то устойчивость, инерция – какое-то подобие независимой реальности?
Да ничего подобного! Разве ежесекундное схлопывание неодушевленной материи лишает ее способности размазываться, принуждает к подчинению, словно некий метафизический империализм? Неужели я надеюсь, что прочный макромир, созданный нами, теперь удержит от распада нас самих? О нет, лишь только мы прекратим навязывать этому миру однозначность, он тут же разлетится на миллиарды версий с той же легкостью, как в момент рождения Вселенной.
Все ясно – мне просто нечем заглушить боль этих последних часов. Одна мысль о том, чтобы найти утешение в модах, вызывает отвращение. Я прекрасно помню, как мод верности придал смысл моей жизни, как счастлив я был с «Карен» – но я не хочу вновь испытать это синтетическое счастье, постыдную имитацию любви. А замены всему этому нет – ее и не может быть, ведь я пришел в этот мир лишь несколько часов назад. Мое нынешнее «я» – это не угнетенная прежним «я» личность, сумевшая наконец вырваться из-под спуда. Я чужестранец – в собственной жизни, пришелец – в собственном сознании. Память сохранила все, но это уже не моя память.
* * *
Системы новостей терпеливо пересказывают обычную безумную хронику. Гражданская война на Мадагаскаре. Голод на северо-западе США. Загадочные взрывы в Токио. Очередной бескровный путч в Риме. В местных новостях тоже ничего серьезного – борьба корпораций, мелкие политические склоки. К позднему вечеру я уже почти уверен, что ничего не понял в событиях последних двух дней, и начинаю склоняться к приятной мысли, что стал жертвой изощренных галлюцинаций.
Изображение на экране мигает и пропадает. Я хлопаю по корпусу терминала, и он вновь оживает – но ровные строки текста на экране делаются волнообразными, распадаются на отдельные буквы, которые медленно расплываются в разные стороны, словно обломки кораблекрушения или космический мусор в невесомости – сначала по экрану, а потом и по всей комнате. Я набираю пригоршню букв, они тают у меня на ладони, как снежинки.
В окно я вижу, что по всему городу рекламные голограммы распадаются на части, растворяются, видоизменяются. Некоторые превратились в яркие цветные струи, медленно растекающиеся в ночном небе. Другие узнаваемы, но приобрели сюрреальный облик: у реактивные лайнеров выросли клешни, смеющиеся дети обратились в полупрозрачных розовых эмбрионов. Гигантская струя кока-колы, непрерывно льющаяся в гигантский рот, вспыхивает, будто напалм, озаряя окрестные дома, и посылает в небо крутящийся столб черного дыма.
У дверей лифта ждет старик. Я здороваюсь с ним, но он лишь молча смотрит на меня безумными глазами. Я нажимаю кнопку вызова, но на табло появляется лишь бессвязный поток цифр и букв, прерываемый краткими сообщениями на бай-гуа, которые я не успеваю перевести. Старик шепчет по-кантонски: «Оно читает мои мысли». Я оборачиваюсь к нему, и он начинает всхлипывать. Я хочу помочь ему, успокоить, попробовать объяснить, что случилось, но не знаю, с чего начать. Да и вряд ли его успокоят мои объяснения.
Я спускаюсь по лестнице.
На улицах полно народу, вид у всех подавленный, обычного шума не слышно. Я ожидал массовой истерии, вспышек насилия, но люди ходят, будто под гипнозом или во сне. И не из-за сумасшедших вывесок и бешеных голограмм – это вполне можно принять за изощренный розыгрыш, а о том, что в действительности предвещают все эти чудеса, явно никто не догадывается.
Впрочем, почему я так в этом уверен? Размазанные «я» этих людей могли уже не раз обогнуть земной шар и постепенно соединиться друг с другом, породив разум, которого Земля еще не видела. Разум, способный открыть своим схлопнутым ипостасям такие откровения, о которых я и понятия не имею.
Проходя по Обзерватори-роуд, я вижу, как сквозь мостовую вдруг пробивается усыпанный цветами вьюнок, танцуя, как змея на хвосте. Среди бледных зевак, замерших, как зачарованные, с хохотом хлопают в ладоши двое малышей – наверное, они выбирают это событие. Лепестки белых цветов превращаются в светящихся бабочек, порхающих над головами толпы, но цветы остаются на месте, постоянно обновляясь.
Какое из чистых состояний более вероятно – где это действительно происходит или где это привиделось всем прохожим сразу? Неизвестно! – я упрямо держусь за эту спасительную мысль, но не знаю, надолго ли хватит моего упрямства.
Повернув голову, я вижу плавающего в воздухе юношу. Обхватив колени руками, он плавно вращается, совершая одно сальто за другим; глаза его закрыты, налицо блаженная улыбка. Публика вежливо наблюдает за его упражнениями, словно это уличный жонглер или акробат на ходулях. Пожилая женщина врастает в землю, ткань ее брюк и кожа на ногах срастаются, делаясь древесной корой. Другая женщина превращается в стеклянную статую. Цвет плоти покидает сначала ее руки и ноги, а затем вовсе исчезает. Какая же версия могла выбрать этот самоубийственный исход? Однако «статуя» деловито направляется прочь, вытянув руки в стороны. Я пытаюсь последовать за этим существом, но оно скоро теряется в толпе.
Я иду дальше.
Кое-где уличные фонари пылают, как маленькие солнца, но в ста метрах от них уже царит тьма. Свернув в переулок, я оказываюсь по пояс в золотых монетах. Я беру пригоршню – монеты тяжелые, твердые, холодные, совсем как настоящие. Тем не менее я прохожу по переулку без малейших усилий.
Выйдя на ярко освещенную улицу, попадаю под кровавый дождь. Люди, крича, закрывают лица от тяжелых, пахучих капель, другие припадают к земле, хнычут и дрожат. Что это, конец света в воображении какого-нибудь психа? Неужели в эти последние часы все на свете бредовые эсхатологии обрушатся на нас? Или случайная авария, нестыковка? Многие из размазанных людей еще неопытны, одиноки – может быть, схлопывание застает их врасплох, создавая мозаичную реальность из случайных образов их младенческого восприятия суперпространства? Я беспомощно стою и смотрю, пока кровь не заливает глаза и я не перестаю что-либо видеть.
В соседнем квартале с неба падает чистая, вкусная вода, и люди пьют ее, обратив к небу просветленные лица.
Улицы кипят от превращений. Лица некоторых меняются на глазах, у кого плавно, у кого мгновенно. Никто этого не замечает, все погружены в какой-то транс. Я трогаю собственное лицо, чтобы узнать, не происходит ли то же самое со мной. Повсюду появляется растительность – делянки пшеницы, сахарного тростника, бамбука, а кое-где настоящие заросли тропического мелколесья. Некоторые магазины рассыпаются в пыль, другие перерождаются в причудливые архитектурные попурри. Стены одной из лавок стали живой плотью, я вижу, как кровь пульсирует в венах толщиной в мою руку. Над всем этим возвышаются небоскребы, сюрреалистически неизменные – не успеваю я об этом подумать, как с фасада одного из них начинают осыпаться фрактальные украшения, превращаясь в разноцветное конфетти.
В квартале от ПСИ я замечаю По Квай. Она сидит на тротуаре напротив продовольственного магазина, уставившись неподвижным взглядом в толпу. Когда я касаюсь ее плеча, она поднимает на меня глаза и сразу отшатывается.
– Привет. Это я, Ник.
– Ник? – Она с ужасом смотрит на мою побелевшую руку, робко прикасается к ней. – Ты стал таким из-за меня. Прости.
Я смеюсь:
– Из-за тебя? Ну что ты, я сам это сделал – это самый быстрый способ изменить внешность.
Я сажусь рядом с ней.
Она показывает на толпу и говорит без выражения:
– Я разрушаю город. Я превращаю всех в уродов. И я не могу ничего поделать. Пробовала остановить это – не получается.
Я беру ее за плечи и поворачиваю лицом ко мне. Она съеживается, но смотрит мне прямо в глаза.
– Послушай, – говорю я. – Ты ни в чем не виновата.
Она как-то странно, сдавленно всхлипывает, потом вдруг неестественно весело говорит:
– Не виновата? Ты знаешь еще кого-нибудь, кто умеет это делать?
У меня мелькает мысль – а стоит ли ей рассказывать? Ведь через час-другой это не будет иметь уже никакого значения. Сейчас ей тяжело, но принесет ли облегчение правда?
Все же я беру себя в руки и начинаю отвечать на ее вопрос.
Поначалу мои слова до нее как бы не доходят, но мало-помалу логика того, что я говорю, начинает преодолевать ее шок и оцепенение от возведенной на себя вины. Когда я дохожу до встречи с Лаурой в хранилище, передо мной опять прежняя По Квай.
– Значит, она вдула снотворное обратно в баллончик? – Со слабой улыбкой она кивает. – Все правильно, нет схлопывания – нет и асимметрии времени.
– Лу говорил то же самое.
– Лу? Когда?
– Я до этого еще не дошел.
Насколько ей известно, в ночь моего проникновения в МБР никаких бомб никто не находил. Утром Ли Хинь Чунь сказал ей, что я исчез. Может быть, от нее решили все скрыть. Впрочем, столь же вероятно, что Лу сам устроил мое схлопывание, а мне в очередной раз наврал.
Когда я рассказываю, как амебы оказались на свободе и как я неожиданно остался жив, она говорит:
– Думаю, ты напрасно обвиняешь твое размазанное «я». Как оно могло сопротивляться существу, которое сильнее в двенадцать миллиардов раз?
– Что ты имеешь в виду?
– Всю планету, размазанную человеческую расу.
– Но они же не были размазаны и до сих пор еще не... По крайней мере, не вся планета.
– Конечно, но если они будут размазаны или могут быть размазаны – неужели ты думаешь, что они не в состоянии выбрать свое прошлое? Неужели сплав из двенадцати миллиардов «я» не смог бы пробить себе путь к существованию, чего бы это ни стоило? Твои виртуальные «я», которым удалось помешать Лу разбить колбу, должны были схлопнуться так, чтобы это не повлияло ни на кого другого. Но те, которые потерпели неудачу, должны были подсоединиться ко всему этому. – Она взмахивает рукой, показывая на окружающий нас хаос. – По воле по крайней мере нескольких тысяч размазанных людей. Все это само нашло способ произойти, а ты просто был частью этого, вот и все.
– Понимаю.
Теперь мое «освобождение» от мода верности и от «Карен» выглядит совсем смешно. Я тот, кто я есть, только потому, что послужил проводником этого апокалипсиса, неисправной линией, через которую размазанное человечество будущего сумело вызвать себя к жизни.
В толпе происходит нечто новое – люди начинают собираться группами. Некоторые просто берутся за руки или стоят рядом, но другие в буквальном смысле сливаются. Подавляя панику, я отворачиваюсь. Я не могу на это смотреть. Пока не могу.
Цепляясь за последнюю ниточку нормальности, я начинаю просить прощения у По Квай за то, что так долго обманывал ее. Она только отмахивается:
– Какое это имеет значение теперь? Я понимаю, ты сказал бы мне правду, если бы не мод верности...
– Но я же не сказал тебе правду. Какая разница, что я мог бы сделать. У меня только одно прошлое. Я должен... отвечать за него. Я должен востребовать его, сделать его моим.
Она смеется:
– Ник, все кончено. Какая теперь разница?
– И я подлец, что использовал «Ансамбль», я же тайком проникал в твой мозг... Она устало качает головой:
– Ты не проникал в мой мозг. Я делала то, о чем ты просил, только и всего.
– Что?!
Она пожимает плечами:
– Я плохо помню, обрывками. Я думала – точнее, знала, что это мне снится. Мы не раз сидели с тобой вместе и смотрели на игральные кости, и я заставляла их падать так, как ты хотел – и знала, что это невозможно. Но ты ведь ничего этого не помнишь, правда?
– Не помню.
– Ладно. – Она отворачивается.
Я поднимаю глаза к небу и вижу звезду. Пока я успеваю сказать об этом По Квай, рядом с первой звездой загорается вторая. Через минуту По Квай говорит:
– Какие они бледные. Я всегда думала, что они гораздо ярче.
Толпа затихает. Все как один смотрят на небо. Звезды раздваиваются, множатся, заполняя собой все небо, именно так, как мне однажды привиделось на дежурстве в прихожей. Могла ли размазанная раса дотянуться так далеко в прошлое? Неужели мои состояния выбирались уже тогда?
По Квай охватывает дрожь. Я шепчу ей какую-то утешительную чепуху, беру ее за руку. Она говорит:
– Я не боюсь. Просто я не готова. Останови это, пожалуйста, я еще не готова.
Толпа начинает расплываться. Отдельные клетки распадаются, меняют форму, все увеличиваясь в размерах.
В просветы между клетками я вижу одиноко идущего человека. Карен оборачивается, смотрит на меня, слегка хмурится, словно я отдаленно напомнил ей какого-то знакомого. Затем она поворачивается и уходит.
Через все небо вспыхивает звездная дуга. Я встаю, продолжая крепко держаться за По Квай, поднимаю ее на ноги и тащу вместе с собой вперед.
На краю толпы я в нерешительности останавливаюсь. Текучие формы, напоминающие людей, продолжают сливаться друг с другом. По Квай вырывается. Я отступаю. Карен в последний раз мелькает вдалеке, удаляясь, но я почему-то не могу пошевелиться.
Я поднимаю глаза к Небесам; небо становится совершенно белым.
Эпилог
В течение недели я ищу ее, перебираясь из лагеря в лагерь. Предполагается, что все, кто находится в лагерях, зарегистрированы в центральном компьютере, но она могла из осторожности зарегистрироваться под чужим именем.
В то первое утро, глядя на развалины, оставшиеся после кровавой бойни, я не верил, что помощь когда-нибудь придет. Ни воды, ни транспорта, ни электричества, еды не больше, чем на день. И миллион гниющих на улице трупов. Я не сомневался, что вся планета выглядит так же, и нас ждет голод и холера. Когда в парке Коулун начали приземляться вертолеты, я чуть не перерезал себе вены – я думал, что это опять какое-нибудь чудо и все начинается сначала.
Похоже, эпидемия не распространилась за пределы города, или по крайней мере те версии, где это произошло, не реализовались. Может быть, население земного шара и размазалось, но чистое состояние, которое было в конечном счете выбрано, ограничило район бедствия Нью-Гонконгом. Если в Лондоне или Москве, Калькутте или Пекине, Сиднее или даже Дарвине и были чудеса, от них не осталось ни следов, ни воспоминаний. Наверное, последствия были минимально возможными из тех, что не противоречили последнему моменту определенного прошлого – последнему моменту, когда все и всюду были еще схлопнуты.
По Квай сначала путешествовала вместе со мной, но на третий день она встретила свою семью. Мне кажется, мы оба были рады, что приходится расстаться. Я точно знаю, что в одиночку гораздо легче думать, что ты такой же, как все – оглушенный, ничего не понимающий, случайно уцелевший.
«Ничего не понимающий» – понятие относительное. Вряд ли я когда-нибудь узнаю, почему размазанная человеческая раса, положив столько усилий, чтобы появиться на свет, прикоснулась наконец к бесконечному пространству за пределами Пузыря – и отшатнулась. (Наверное, не по своей воле. Наверное, ее заставили вернуться. Вмешались создатели Пузыря, и... Впрочем, если судить по посланцу Лауры, такого быть не могло.) Но если размазанное человечество не вынесло – неважно, по какой причине – того, с чем оно столкнулось за пределами Пузыря, у него не оставалось другого выхода, кроме самоубийства. Кроме схлопывания в состояние, из которого оно не смогло бы появиться вновь. Размазывание – это экспоненциальный рост, безграничное увеличение. Альтернатива этому одна – устойчивая и однозначная реальность. Середины быть не может.
Каналы связи жестко контролируются. Геосинхронные спутники НГ переведены в специальный режим, и доступ к ним теперь имеют только войска ООН, поэтому я не знаю, что, по мнению остального мира, здесь произошло. Землетрясение? Выброс отравляющих веществ? Съемочные группы новостей ГВ летают над нами, но им пока не разрешают приземляться. Все же с помощью телеобъективов они могли успеть заснять самые экзотические трупы до того, как их похоронили. А новые культы, несомненно, распространяются уже сейчас, давая всему происшедшему единственно верное толкование.
Несомненно, что распространяются и рассказы уцелевших, которые полагают, что видели, как люди вставали из мертвых.
Я начинаю, впрочем, подозревать, что, как бы ни были надежны свидетельства этих очевидцев, они не подтвердятся при тщательном расследовании. Дело не в том, что они врут или неправильно поняли то, что видели. Все было так, как они говорят – просто это так и не стало реальностью.
Я обосновался в этом лагере, на западной границе прежнего города. У меня есть регистрационная карточка, два раза в день я стою в очереди за едой, я точно исполняю все, что мне приказывают. Большая часть тех, кто занят на общественных работах, – только что набранные добровольцы. Они в один голос говорят, что не пройдет и года, как мы снова будем жить в нормальных домах. Более опытные, впрочем, признают, хотя и неохотно, что рассчитывать надо лет на десять. Нью-Гонконг не будут восстанавливать на прежнем месте до тех пор, пока расследование не выяснит, почему город рухнул. А это – надеюсь – произойдет не скоро.
Мне почти нечем заняться, чтобы скоротать время. Я пытаюсь заставлять себя побольше двигаться, но главным образом лежу на своей койке, вновь и вновь обдумывая происшедшее.
И вот до чего я додумался прошлой ночью.
Может быть, размазанное человечество достигло границ Пузыря – и все-таки не отступило. Может быть, планета до сих пор размазана. Приходится по одному сознанию на чистое состояние, и все это продолжает бесконечно разветвляться. Реализовалась модель множественных миров. Над небоскребами Нью-Гонконга по-прежнему идет кровавый дождь. Дети по-прежнему колдуют с танцующими цветами. Каждая мечта, каждое видение обрели жизнь. На Земле воцарились рай и ад одновременно.
Каждая мечта, каждое видение. В том числе и это, вполне обыденное – посередине между бесконечным счастьем и бесконечным страданием.
И я здесь – лежу, уставившись в темноту, сам не зная, смотрю я в бездну или на изнанку собственных век.
Но мне и не нужно этого знать. Я просто повторяю про себя, снова и снова, пока не чувствую, что могу включить сон:
«В конечном счете все – всегда – приходит в норму».
Примечания
1
Голографическое телевидение. – Примеч, пер.
(обратно)2
Намек на книгу Р.Пенроуза «Новое сознание Императора» (The New Emperor's Mind), в которой выдвигается идея о «квантово-механическом» характере человеческого мышления. – Примеч, ред.
(обратно)
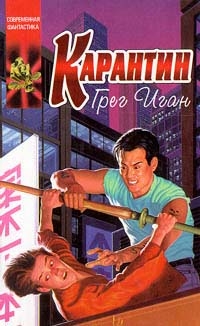
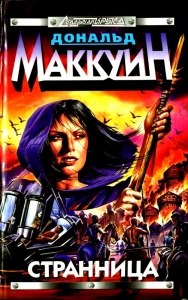

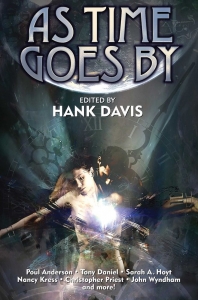
Комментарии к книге «Карантин», Грег Иган
Всего 0 комментариев