ЩЕРБИНИН ДМИТРИЙ
ОБЛАКА
Катеньке за вдохновенье...
Облако белое над землей летело,
Ну а над заводами быстро потемнело...
В ядовитой гари все вперед летит,
Стонет и о смерти у ветров молит...
Впереди были и боль и горечь, и печаль, однако, в тот нежный, ранний вечер предпоследнего майского дня, никто из действующих лиц, этой трагедии не ведал еще о предстоящем.
Но каждый из них, в тот теплый вечер, смотрел на небо, и чувствовал, что-то важное произойдет в жизни его, в ближайшее время. И, несмотря на это, каждый прибывал в покое. Хотя их разделяло с полсотни километров, они видели одно и тоже сине-облачное небо. А облака были огромные - серебристо-белые горы. Возносящиеся плавными бастионами, они, сказочными объемами своими, направляли мысли в спокойный, творческий лад. Они, медленно и величаво, незаметно изменяясь, казались теплыми, да и сам их вид ласковыми поцелуями согревал душу.
Катя жила в подмосковном селе, и в этот час, сидела в саду своего дома, под сенью многолетней, развесистой яблони. Солнце, выйдя из нижних ветвей, ласкало ее спокойное лицо. Да - вся она выражала собой спокойствие, - мягкий свет глаз; и тот ровный, сильный, но не жгучий - мудрый свет звезд, исходящий не только из очей, но и из всего юного, девичьего лика ее; даже и из светло-серебристых, таких же, как и облака, длинных, прямых, но и пышных волос ее. Также светлой была и длинная одежда ее.
На коленях Катиных лежал, сладко мурлыча, маленький серенький котенок и, чуть приоткрывши зеленоватые зрачки, тоже смотрел на небо, следил за кружащими там бабочками.
Кате думалось о том, как хорошо было бы стать ей облаком, таким вот спокойным и прекрасным, плыть медленно в небе - над полями, над лесами, да над городами, быть спокойным, созерцать небо, чувствовать вечное...
Вот, на фоне облачных гор, появились две птицы - из-за расстояния не понять, было что это за птицы и, казалось, что летят они медленно...
Катя вздохнула и тут чувство, откуда-то с неба, нахлынуло на нее незримую, но сильную волною. Чувство это было спокойно, сильно и печально: средь гор облачных увидела она призрачный город, неожиданно поняла, что впереди - испытания, что впереди горечь, но приняла это спокойно, почувствовав себя облаком спокойным...
В это же самое время, на это же огромное, горообразное облако, но только с другой стороны смотрел худой юноша, с длинным лицом, на котором выделялся прямой нос с широкими ноздрями и густые, черные брови. У юноши были каштановые волосы, сам он был загорелым, а одежда - вся темная. Из кармана джинсовки его виднелась полная стихами тетрадь, так как юноша этот, именем Дмитрий, был поэтом.
Только недавно он вышел из леса и теперь присел среди желтого моря одуванчиков. Довольно долго смотрел он на небо, чувствуя при этом тоже, что чувствовала и Катя. Вот он вздохнул глубоко, достал свою тетрадь и, открыв на последнем свободном листке записал, быстро и не останавливаясь, не исправляя ни одного слова. Глаза его, имеющие таинственный изумрудно-серебристый цвет, пылали при этом, а сам он, сосредоточившись слышал только пение птиц небесных, а гудение пролегающего в километре шоссе мешал ему полностью слиться с голосами птиц, с этим вечером; вот те строки:
Облачные горы, птичьи голоса,
Теплое сиянье - вечера краса.
Бастионы света, синие луга,
И в душе моей - радуга дуга.
Теплый голос Солнца, тихо мне пропел:
"Ты, ведь, на пороге столь печальных дел.
То всю жизнь изменит, боль в тебя войдет,
Но заре навстречу душа твоя взойдет".
И вот, читая облаков стихи,
Принимаю в сердце, хоть они лихи.
Там, в печали вижу, свет, сиянье дня,
Принимаю в душу, небо не виня...
Дима перечитал написанное, вновь поднял голову навстречу облачному сиянию, и, вновь созерцал эти теплые горы.
Чувство полнило его и вот он протянул руку к спокойным этим, недвижимым громадам, провел по ним, словно по струнам, длинными своими музыкальными пальцами...
В это время, среди одуванчиков раздался громкий чих, и к Диме подбежал, запрыгал перед ним, радостно повизгивая, виляя своим пушистым хвостом - его пес. Это была маленькая, рыжая собачка, весьма похожая, особенно если смотреть на нее издали, на лису.
- А, вот и ты, Джой! - улыбнулся Дима, и почесал собачку за ухом, отчего пришла она в больший восторг и задорно тявкнула...
* * *
Дима, Катя, а с нею и ее серенький котенок, встретились на следующий, последний майский день.
Также, как и накануне было солнечно, также плыли бело-серебристые облака, но в городе, где встретились они, за стенами были видны лишь обрывки величавых гор - совсем не то, что на фоне. К тому же, улицы шумели, улицы бежали, гудели машинами - в общем делали все, чтобы оторвать от неба.
Катя брала котенка с собой в институт, так как дома у нее в тот день никого не оставалось, а оставаться в одиночестве этот маленький, серенький зверек очень боялся.
Теперь, после института, она сидела с ним в сквере, на лавочке возле фонтана, ела мороженое, угощала и котенка, который, по нежности своей, мурлыкал; заглядывая зелеными своими глазищами в спокойные очи своей хозяйки.
Дима же, заезжал к другу своему и торопился теперь домой.
Всю ночь, да и с утра оставалось в нем то, навеянное облаками чувство предстоящей печали, предстоящего и горького и страшного, над чем, однако, оставался нежный свет облаков.
Дима вообще был человеком внимательным - на природе. На природе он замечал многое, очень многое. В городе, да и вообще в житейском быту - он почти ничего не видел, был рассеянным, да и вообще, старался, как можно быстрее суету эту пробежать, да вновь, рядом со спокойствием природным оказаться.
Катю он увидел потому, что мяукнул ее котенок. Только он взглянул на нее, как поблизости разрывно, пронзительно залаяла собака, раздался гневный голос мужской окрик:
- Да куда ж ты, окаянный?! Стой!
Одно лишь мгновенье смотрели они друг на друга.
Дима, только увидел светлый лик ее, так и вздрогнул, так и почувствовал, что вот и начало того, предначертанного накануне облаками.
А Катя, когда увидела Диму, внешне оставалась столь же спокойной, как и всегда, но в сердце же и она почувствовала, что раз встретившись, они уже не расстанутся...
Это чудесное мгновенье, когда города, шума - ничего не осталось, кроме них. И видели они не друг друга, но вчерашние облака, мягкий свет меж ними, теплые объемы, средь которых плыл небесный город...
Одно лишь мгновенье, а потом котенок, напуганный рычащим, несущимся на него псом, сорвался с Катиных коленей, что было сил, серым росчерком бросился туда, где шумела, перемешивалась с машинами людская толпа.
Катя тут только опомнилась - заметила и пса - плавно, словно в небо взмывая, вскочила ноги, окрикнула и теперь спокойным, сильным голосом:
- Томас! Томас, постой, не туда! На дерево давай!
Сама же бросилась наперерез псу - огромному, черному боксеру, за которым волочился по земле ошейник, а, позади, поспевал и хозяин - мужичина столь же огромный среди людей, как и пес его, среди собак.
- Стой же! - ревел мужик вперемешку с матом.
Катя намеривалась перехватить пса за ошейник, однако не успела - он продолжал мчаться за котенком.
Дима же, как только увидел, как котенок спрыгнул с Катиных рук, бросился, что было сил за ним. Он намеривался подхватить его на руки и защитить от клыков боксера, который, впрочем, мог проглотить его и сразу...
И, убегая, не поворачиваясь, хоть и страстно желая обернуться, крикнул:
- Я вернусь!
Хоть и чувствовал он, что впереди боль да горечь, не знал он, сколь многое за этим его: "Я вернусь!" стоит, но к счастью, иль к несчастью, не дано нам в точности видеть будущего, и, потому, он бежал не останавливаясь.
Каким же быстрым оказался Катин Томас! Вжиих! Замелькал среди ног прохожих! Вжиих! - Его уже едва видно - вот промелькнул у входа во внутренний дворик одного и из домов. Туда и бросился Дима, уже не видя серого...
- Стой! - взревел мужик, своему боксеру, тут засвистел страж порядка, а пес, испугавшись грузовика, еще раз, для порядка оглушил воздух лаем, и повернул к своему хозяину...
Катя не видела продолжения этой сцены, да оно и не интересовало девушку. Она поспешила туда, где в последний раз промелькнула темная Димина джинсовка.
Как же много составляющих в этом вечернем потокt! Лица, спины, голоса, вновь лица, спины, голоса... Немудрено в этакой круговерти потеряться двоим! Катя помнила, где в последний раз видела Диму, пробралась туда - и что же? толпа передвигается, а его не видно - куда он побежал?
- Томас! - позвала она котенка, но тут же и замолчала, понимая всю тщетность своего зова - он попросту тонул в сотнях иных голосов.
* * *
Дима пробежал под аркой, ворвался на внутренний дворик. Там стояли высокие, обвитые молодой листвой тополя, на лавочке сидели старушки - в общем, обычный Московский дворик. Напев листьев приглушал здесь шум толпы, да рев машин - но Дима, ненавидевший толпу, теперь бы назад, к этим людским потокам бросился - там, ведь, была беловолосая девушка, имени которого он так и не узнал.
Вот с тревкогой обернулся он назад, к арке - так как ясно услышал он за многогласым ревом ее, спокойный, добрый голос: "Томас!"
- Не потеряться бы нам, только бы встретится потом... - прошептал Дима, чувствуя, как часто, с гулом отдаваясь в крови, колотится его сердце. - Ты будь там. Ты только дождись. - прошептал он, чувствуя, как выступает на лбу испарина.
Он оглядывал двор - котенка нигде не было видно. Тогда Дима подбежал к лавочке на которой сидели старушки. Уж они-то должны были знать про свой двор все! Они, как к прикрепленные к одному участку на долгие годы наблюдатели - ведали все его секреты, замечали и тут же перемалывали языками хоть самое незначительное изменение в этом, данном им участке.
- Извините, вы не видели - котенок здесь пробегал? - спросил Дима.
- А что, убежал от тебя? - проворчала старушка.
- Да.
- Значит хозяин такой. Значит не житье ему у тебя было, а мука!
- Куда же он? - с чувством выдохнул Дима.
- А что ему в нашем дворе? Вон вишь - проход на малую улицу - туда твой серенький побежал...
Последних слов Дима уже не слышал, так как он уже рванулся к тому самому проходу, на который указали старушки.
Как же стучит в груди сердце! Про себя Дима надеялся, что, когда он найдет Томаса, то встретится с девушкой у метро - она, ведь, не стала бы возвращаться домой без своего зверька. Он, ведь, кричал ей, что вернется, с котенком.
Вот пробежал он под аркой - узенькая улочка, оглянулся в одну сторону, в другую - котенка не видно, тогда он позвал, как мог громко:
- Томас! - крик, переливаясь, разнесся среди стен, не породив никакого ответа, кроме воя машинной сигнализации.
- Я вернусь. - еще раз прошептал Дима и, выбрав наугад направление, бросился бежать...
Томаса он нашел в тот час, когда Солнце, давно уже поглощенное стенами домов, разлило по небу мягко-бордовую завесу, и между успокоенных в этом кровавом океане островов-облаков прорезалась ярким, ясным светом первая звезда.
К тому времени Дима совсем уж устал бегать, звать, вздрагивать, видя чуть ли не в каждой кошке Томаса. А он, воодушевленный, вновь и вновь вспоминающий светлый лик девушки, пробегал за эти, два с лишним часа, очень много - едва ли не весь центр Москвы. В каких только подворотнях он не побывал, сколько раз выкрикивал это имя: "Томас!"
Наконец он, запыхавшийся, проходил через опустевший детский садик, да и увидел серенького - он улегся клубочком на шляпе деревянного гриба и сонно глядел на приближающегося Диму.
Возможно, Томас сразу и побежал в этот садик - ведь он находился неподалеку от той станции метро.
- Ну вот ты... - запыхавшийся тихо говорил Дима. - Только, пожалуйста, не убегай от меня. Я сейчас верну тебя хозяйке. Она, ведь, ждет нас у метро... - вот он протянул руки, и котенок, потянувшись, сам перепрыгнул на Димины ладони.
Юноша, хоть и колол ему бок, бросился к метро бегом, ну а серенький сладко замурлыкал...
* * *
За два с лишним часа до того, как Томас перепрыгнул со шляпки гриба в Димины ладони, Катя, окруженная людским потоком, с привычным своим спокойствием размышляла, что делать дальше.
С одной стороны, она помнила крик юноши "Я вернусь!", с другой понимала, что шанс найти Томаса увеличится вдвое, коль она не на месте останется, но тоже побежит по дворам.
Все же она решила, что Дима, может, найдет котенка и вскоре вернется. Потому она прошла к той скамеечке, где совсем недавно сидела с Томасом...
Потянулись минуты ожидания - как мучительно ждать! Как же ползет время при ожидании! Замечаешь каждое мгновенье, и идут, и ползут эти мгновенья без конца и без края, а потом и удивляешься - неужели не часы, но лишь несколько минут прошло...
Тягостное выжидание! Нет - Катя была терпеливой девушкой, она со спокойствием могла перенести и любую боль, и ожидание, сколь бы длительным оно ни было. Но она, прождавши с полчаса, решила, что юноша все-таки не нашел котенка, что он, устав, махнул на это рукой, да и поехал домой...
И Катя пошла по дворикам. И спрашивала она у тех же самых, сидящих по прежнему на скамеечкой бабушек. И та же самая бабушка, которая отвечала Диме, ответила и Кате, что да - мол пробегал несколько минут назад котенок, а за ним и "хулиган" какой-то: "Уж не разбойник ли?" - выпучила глаза старушка.
- Нет, что вы... - успокоила ее Катя и поспешила в арку.
Если Дима носился по дворам, да улочкам стремительно и безостановочно, да так носился, что в некоторых местах по несколько раз успел побывать, - то Катя, со свойственным ей спокойствием, шла по улицам не спеша, заглядывала в каждый подъезд, много раз спрашивала у прохожих про котенка, или про юношу с длинными каштановыми волосами.
Ответы ей давали противоречивые - кто-то видел юношу с каштановыми волосами, кто-то серого котенка, однако, указания были противоречивые - да и право - мало ли юношей с каштановыми волосами, да серых котят?
В поисках, стремительно прошел час и другой, - Катя устала ходить; и, понимая, что котенок уже спрятался где-то, вернулась к метро, откуда позвонила домой, предупредить, что задержится на два часа (именно столько занимала у нее дорога до дома).
Катя печалилась, но не унывала, рассудив, что котенок, все равно к ней вернется. Она надеялась, что у него достаточно быстрые лапки, чтобы убежать и от иных псов, и что он найдет себе пропитание по крайней мере до следующего дня. Также она надеялась, что он не уйдет далеко от того места, где видел хозяйку в последний раз...
"Но как я могла подумать, что этот юноша оставит поиски?.." - уже на эскалаторе она вспомнила Димино лицо: прямой нос с широкими ноздрями, густые черные брови, сосредоточенный, вдохновенный пламень в глазах его: "Нет этот юноша, раз сказал, значит искал котенка сколько мог... Но, ведь, я почувствовала сегодня - это то, принесенное еще в день вчерашний, облаками. Любовь ли это? Любовь к юноше? В первый раз так - увидела и, словно бы, вновь, то облако, вновь вчерашнее тепло там увидела... Мы еще должны встретится - быть может завтра, быть может после, но то, что это не последняя встреча - точно".
* * *
Дима, чуть согнувшись от засевшего в боку копья, выбежал к метро, всего-то через полминуты, после того, как туда вошла Катя. Если бы он бросился сразу по ступенькам, он мог бы еще нагнать ее, и все сложилось совсем по иному; однако, Дима побежал к скамейке, где они встретились.
А скамейка уже была занята - там собралась одна из бессчетных подвыпивших компаний - громко и быстро разговаривали, заходились нервным смехом...
Дима уже понял, что Кати там нет, огляделся по сторонам - нет, - нигде не видно ее светлой фигурки, уж ее то он не с кем бы не спутал. Сердце сжалось тоскою - он так надеялся!
Уже зная ответ, но все же, на что-то надеясь, он крикнул в подвыпившую компанию:
- Катя, ты не тут?
Вперед вышла девица, описывать которую не стоит, так как, Дима ее и не увидел - ведь - это была не Она.
- А ты кто такой? - спросила девица.
Тут еще поднялся пьяный детина и показал Диме кулачище:
- Ты...
Дальше Дима уже не слышал, так как он повернулся и побрел в сторону метро, поглаживая котенка, который, услышав обращенные к нему слова, проснулся и, продолжая напевать свою сладкую песнь, разглядывал Димино лицо.
А Дима шептал:
- Ну что, Томас? Не дождалась нас хозяйка... а, может, и сейчас ищет... он с тревогой и надеждой оглядел входы во многие подворотни. - ...Быть может, попытаться найти ее? Ведь, может, она и впрямь тебя еще ищет? Нет не могу - за меня уже дома бабушка волнуется, а у нее здоровье знаешь какое - нельзя ей волноваться. Так что, Томас, возьму я тебя пока домой, ну а завтра вернусь сюда, здесь мы ее и встретим...
И Дима прошел в метро, сел на электричку, доехал до последней станции, и там пересел на автобус, который повез его домой в Подмосковный город.
Дима смотрел в окно, в проплывающие за ним фонарные огоньки да и вспоминал вновь и вновь Катин лик; и, видя ее в ночи - он и ночь видел сказочной, небесной любовью наполненной. Он в нетерпении ждал, когда автобус приедет и он поднимет голову, да на звезды взглянет...
Далеко не сказочная атмосфера ждала Диму дома...
Жил он без родителей, так как погибли они при столкновении машин, когда Диме было еще двенадцать лет. Тот страшный удар для мальчика - тогда он и узнал, что такое смерть, и возненавидел ее - тогда он и написал первое стихотворенье:
Ты взглянешь в милые черты,
И не поверишь - их уж нету,
Ушли, как детские мечты,
Сказав "прощай" дневному свету.
И не поверишь, что они,
Не скажут слова, не ответят,
Ох, боль ты - боль ты, не вини!
Быть может, где то тебя встретят...
И Дима остался жить в трехкомнатной квартире с бабушкой и дедом. Бабушка, прожившая тяжелую жизнь - отдавшая молодость войне с фашизмом, а потом, надрываясь, восстанавливала с миллионами других покореженную махину империи... Теперь она была слаба здоровьем, часто кашляла, но осталась, как и была в юности доброй, ласковой.
Дед, в противоположность ей, был человеком грубым, и всегда, когда были у него деньги, обращал их в выпивку. Только получал он свою пенсию - тут же усиленно начинал ее пропивать - допивался, порой, до белой горячке. Матерился он на бабушку, а, порой, и на Диму. Иногда он доводил до квартиры и своих дружков, а, когда кончались деньги, занимал и у них.
Сам же Дима, по смерти родителей получал некоторое пособие, которое, однако, было столь незначительно, что жить бы на него пришлось впроголодь, отказывая себе во всем. Потому Дима, по окончании школы, где проучился он кое-как - с двойки на тройку - поступил он на завод, где и работал теперь, но не целый день, а в полсмены, отдавая вторую половину дня прогулкам по лесам да по полям, сочинению стихов...
У порога Дима был встречен пронзительным лаем рыжего пса своего Джоя, который, виляя хвостом, запрыгал было пред ним, но тут, увидев кота, отступил, - черные глаза собачки обиженно заблестели, казалось - выступят из них слезы...
Дима поставил Томаса на пол - и котенок, не сколько не смущаясь, тут же забегал по коридору - вот перепрыгнул чрез спину пораженного такой неслыханной дерзостью Джоя.
- Ничего, не волнуйся. - Дима почесал за ухом пса, который неотрывно и внимательно смотрел в глаза своего хозяина. - Завтра я его уже заберу и ты останешься властителем этой квартире.
Собачка неуверенно вильнула хвостом.
- Да, да - Джой, даже и не беспокойся, а пока - познакомьтесь.
Дима прошел на кухню, где стал подогревать ужин. Вышла из комнаты бабушка - шла медленно опираясь на палочку - Дима вкратце рассказал ей историю про котенка. Вообще, он не привык много разговаривать, - да и из-за уединенного своего образа жизни, был человеком нелюдимым, мрачным даже.
Бабушка поворковала немного с Томасом, после чего ушла в свободную комнату - а из большой комнаты рвался вопль телевизора, у которого засыпал пьяный дед...
Дима угостил ужином и котенка и собаку, стал наблюдать, как станут они знакомиться.
Здесь ярче проявились их характеры. Томас - веселый, все время прибывающий в стремительном движении - он ничего не стеснялся, можно даже сказать, что был он по своему, по кошачьи наглым.
Он, желая стянуть побольше из тарелки, запрыгивал сначала на стул, а потом и на стол; когда же Дима сгонял его - бил его лапкой - требовал добавки, которую и получал.
Также котенок пытался подружиться с Джоем. Он все кувыркался возле него, несколько раз толкнул его в бок, чего уж песик не мог выдержать и ответил серому, весьма гневным рыком. Такой уж был и Джоя характер - он мог быть веселым на природе, когда рядом только он, хозяин, да бабочки - дома же он становился угрюмым, гневливым и отважным сторожем, нисколько не стесняющимся своих, совсем не великих размеров. У Джоя глаза были сосредоточенные и печальные, у котенка - озорные, выдающую его склонность ко всяческим проделкам и озорству.
Вот котенок запрыгнул Диме на колени, и тот, поглаживая котенка, пообещал, что на следующий день, непременно встретятся они "с девушкой"... Лик ее все светился в Димином воображении, и очи его пылали...
* * *
Но на следующий день не суждено им было встретиться - следующий день принес только новую печаль, только новый виток в развитии трагедии.
Утром, случился очередной приступ болезни у Диминой бабушки, и он, дожидался доктора - не мог же он оставить ее на попеченье пьяному деду, который забился в угол, да и ворчал оттуда что-то...
Наконец, пришли врачи и Дима, выяснив, что у бабушки временное недомогание сбегал в аптеку, купил необходимые лекарства и уж, взял посадил в сумку Томаса, и выбежал из подъезда, уже видя, как встретит ЕЕ, да тут был остановлен двумя милиционерами.
- Вы Дмитрий... - тут они назвали его фамилию.
- Да - это я. - отвечал, стараясь ничем не выдавать своего изумления Дима.
- Так - пройдемте-ка с нами.
А через полчаса он уже стоял перед столом приемной комиссии в военкомате.
- Так-так. - постукивал по столу ручкой, откормленный доктор. - Мы тебе уже столько повесток прислали - ты что же, увиливаешь?
- В ящик... мы газет не выписываем... а, зачем?...
Нет - Дима, конечно же знал, что существуют такие повестки, по которым призывают в военкомат, но он, чувствуя себя оторванным от мира, почитал, что и мир, также оторван от него.
- Сейчас осмотр, и будьте готовы к строевой службе. - сообщил полный человек в белом халате.
- Подождите... глупость какая... армия... бред какой... - прошептал Дима.
Живя с бабушкой, он привык к нему ходу жизни - вот неприятная обязанность - утреннее посещение завода, зато потом - часы свободы, часы творческого роста средь полей да лесов. Он никогда и не думал и не хотел думать, что что-то зловещее так вот - как острие ножа в спину - вклинится в его жизнь. Для него этот вызов, был столь же неожиданным, как для иных - взрыв атомной бомбы.
- Нет, вы не понимаете. У меня котенок, я вот отдать его должен. Вы не имеете права... Я...
- На комиссию. - махнул рукой белохалатный. - А будешь сопротивляться применим силу.
Итак, прошло еще какое-то время и вот, побледневший Дима, в ряду с еще несколькими незнакомыми ему парнями, стоял перед тем же самым полным врачом, а тот подписывая какие-то бумаги и, не глядя на них, быстро говорил:
- Что же, отклонявшиеся. Все вы были осмотрены и признаны годными к службе. Причем, дотянули вы до последнего срока, так что завтра уже день сборов... - тут он назвал время и место, куда они должны были явиться на утро следующего дня.
Дима аж почувствовал черную мрачность, тоску, боль, которая загудела в воздухе - он то был человеком очень впечатлительным, и, если что-то было не в порядке - болью это отзывалось в его голове.
- Подождите, подождите! - обратился он ко врачу. - Вы не понимаете, вы же ничего не знаете...
- Сцены попрошу не устраивать. За истерика все равно не сойдете. говорил врач, при этом взгляда не поднимал, все перелистывал свои бумаги, и заметно было, что пальцы его подрагивают.
- Куда же вы меня хотите? - с болью прошептал Дима, и почти ничего не видел - слезы застлали глаза его. - У меня, ведь, бабушка - как она на попеченье деда пьяного останется... И вы еще не знаете... Как вы можете увозить меня...
- Все, попрошу удалится. - нахмурил над бумагами брови доктор. - Не забывайте - в случае завтрашней неявки - вас ждет уголовная ответственность.
Дима выбежал из военкомата, взглянул на небо - час уже был поздний - в выси протянулись, похожие на кровоточащие шрамы, борозды; ветер почти не дул, было душно, а Диме и вовсе жарко, пот выступал на лице - сердце стремительно в груди колотилось.
"Как же так?!" - вспыхивало в голове его, когда он бежал к автобусу. "Как же сейчас, когда жизнь то - настоящая Жизнь поэта только начинается - так вот оборвать ее. Как же я смогу ехать неведомо куда, так и не встретив ЕЕ?
Котенок, чувствуя боль своего хозяина, да еще к тому же и проголодавшись, жалобно замяукал. Дима купил ему плавленого сыра и, наконец, сел в автобус!
Как же он жаждал, чтобы автобус вез его побыстрее, - он, ведь, верил, что она - Дева с ясным лицом, ждет его на скамейке...
* * *
И Катин дух ждали в тот день испытания.
Она решила пропустить этот день в институте - потратить его на поиски котенка.
Сначала она, уселась в ожидании Димы на скамейку, но потом - просидев около часа - а еще и до полудня было далеко, решила отправиться на поиски самой, и, если до вечера не найдет - вернуться к скамейке.
Она прошла в тот самый дворик с тенистыми тополями, где сидели накануне старушки. Теперь во дворе никого не было, веяло прохладой, кроны тополей плавно качались, несли свое чарующее пение...
Казалось бы - прошла она только арку - всего несколько шагов от суетной улицы, а это уже был совсем иной мир - таинственный, вот-вот готовый разразиться волшебной историей.
Она намеривалась обойти все подъезды, этого массивного, сороковых домов сооружения, намеривалась и на чердак подняться и в подвал спуститься, как услышала окрик:
- Эй, тетенька! - и, хоть она вовсе не "тетей", была, поняла, что именно к ней обращаются - обернулась.
У входа в один из подъездов стоял мальчик, лет семи, хотя точного возраста определить было невозможно. На мальчике была грязная рубашонка и штаны - и сквозь разодранную эту одежку видно было и худющее тело. Голова то - что череп обтянутый кожей, давно не мытый - видны были грязевые пятна.
При всем том, мальчик приносил милое впечатление - все благодаря глазам своим - они, большие, печальные и очень добрые. Благодаря глазам этим, казалось, что - это ангел павший с неба, да испачкавшийся о земной тленный прах.
- Тетенька, а тетенька у вас покушать, или денежки не найдется?
Да - у Кати были и бутерброды, а так же и некоторое количество денег на еду - все это она, нежно улыбаясь, протянула мальчику, и, продолжая вглядываться, в добрые глаза его, молвила, словно поцеловала, спокойным своим голосом:
- Меня зовут Катя. А тебя как?... Расскажи, я тебе постараюсь помочь.
Мальчик взял у нее бутерброды, деньги и, ничего не ответив, зато испуганно оглянувшись по сторонам, бросился к подъезду.
Катя намеривалась начать поиски именно с того подъезда, а потому направилась следом за оборванцем. А мальчик, уже в дверях оглянулся на нее, и прошептал с тоскою:
- Пожалуйста не ходите. Пожалуйста... - и он юркнул в подъезд.
Катя постояла несколько секунд у двери, потом уж вошла. Подъезд, как и следовало ожидать в этом старом здании, оказался массивным, с объемистыми лестничными площадками, с дверьми, похожими больше на ворота в старинные замки с приведеньями.
- Томас... Томас... Томас... - негромко звала, поднимаясь по лестнице, Катя. Раз пред нею метнулся черный кот, а за дверью залаяла собака, заворчала что-то старуха...
Вот последний пролет и - люк на чердак. Катя надавила - неужели заперто.
Нет - не заперто - все-таки поддается, просто сверху на люке лежал какой-то груз. "Вполне возможно, что ты через другой подъезд на чердак пробрался... ну а не окажется тебя там - значит, в подвале посмотрю..."
Она надавила сильнее - люк поддался и, вдруг, стремительно откинулся в сторону - грохнул о пол. Забили крыльями голуби, однако за ними - услышала Катя и быстрые шажки...
- Томас. Томас. - звала она, выбираясь на чердак, оглядываясь.
Это был не чердак - настоящая обитель таинств. До потолка было метра три, стены а стены поднимались полусферой, обозначая подъезды, выступали каменные блоки, однако, они только образовывали укрытия, оставляя проход свободным на несколько десятков метров - тут и там, неведомо из каких отверстий пробивались мягко-златистые солнечные колонны, в которых дивным вальсом кружили пылинки. Свет вокруг колонн несколько рассеивался, однако, в отдалении, все плавно расплывалось в чарующем полумраке. Было тепло и чисто, пахло соломой, пышные перины которой, неведомо кем, и неведомо для чего в это место принесенные, лежали на полу, и особенно много - между каменных блоков.
- Томас. Томас. - Катя медленно пошла вперед, и, когда ступала в солнечные колонны, свет поцелуями обнимал ее.
Вот очередной "тайник", между блоков - оглянувшись туда, Катя остановилась.
Там забившись в угол, сидел мальчик с добрыми глазами - а рядом с ним, обнявши его - девочка - лет семи.
И Катя сразу поняла, что мальчик этот и девочка - брат и сестра. Хоть и были они и грязными, и тощими, но, в лицах было что-то неуловимо общее; были одинаковыми и густые русые волосы - но, самое главное глаза. И у девочки эти большие, пронзительно печальные, наивные и добрые - невинные детские глаза. На девочке - одето было некогда темно-голубое, а теперь почти темное платьице.
Глядя на этих двоих, смотрящих с испугом, с недоверием, но и с надеждой, и с нежностью - Катя поняла, что не оставит их, пока не сделает для них все, что только сможет сделать.
- Извините. - прошептала она и, вдруг, почувствовала, как из очей ее выступила слезы. - ...Извините, я вашему брату представилась, а вам еще нет - меня Катей зовут. Я хочу дружить с вами.
Она шептала, и весь воздух наполнялся чем-то возвышенным, облачным. Она говорила и прекрасен был ее лик, ее очи - в которых с таким нежным чувством заблистали слезы.
И сестра и брат, не чувствовали больше испуга, но доверие и радость, что теперь Катя присоединилась к их маленькой компании.
Девочка даже улыбнулась, взглянув в личико своего брата, потом протянула ручку Катя и звонким детским голоском, точно колокольчик пропела:
- А меня, Машенькой зовут. А братика моего - Петрушенькой...
- Сама ты Петрушка! - без всякого раздражения улыбнулся мальчик. - Вы ее зовите Машенькой, ну а меня - Петр.
Катя присела с ними рядом, на солому, спросила:
- И вы тут живете? Это ваш дом?
- Да - это наш дом. - ответил Петр.
- А родители... - Катя кивнула на двух голубок, которые прохаживались неподалеку.
- Ах. - совсем не по детски вздохнула Машенька. - Если бы наши родители были голубками, мы бы так взмахнули крылышками, да и улетели бы в теплые страны - такие страны, где синее море, и весь год греет Солнышко...
- Ладно, чего уж там - расскажу все. Но вы, Катя, смотрите - сохраните наш рассказ, как самую великую тайну. Дайте самую страшную клятву, какую знаете! - очень серьезно произнес семилетний Петр.
- Я просто даю слово, что никому и никогда не открою.
- Даже, если вас пытать станут!
- Даже, если меня пытать станут. - в тон Петру, очень серьезно, отвечала Катя.
- Родители у нас пьяницами были. - начал рассказывать Петр. - И отец и матерь. Ничего хорошего от них не было ну вот и отдали нас в детский дом. Вы, Катя не знаете - это совершенно не выносимо. Даже и не скажешь, что хуже - у родителей, или в детском доме. Только и не туда и не туда, мы возвращаться не собираемся. В общем сбежали мы - в товарном вагоне до Москвы доехали, а было это полтора месяца назад - в середине апреля. С тех пор живем на этом чердаке. Иногда выходим за подаяниями, но уж очень боязно, что нас схватить могут. Один то раз чуть и не схватили - мы только в толпе успели затеряться. Мы, ведь, юркие... Вот и вся наша история.
Катя помолчала некоторое время, потом спросила:
- И что же? Как же вы дальше жить станете? Неужели в бродяг бездомных желаете превратиться?
- Все что угодно, только не возвращаться в этот дом!... А я бы хотел учиться, а Машенька, вы не смотрите, что она такая маленькая - она шить умеет!
- Что же нам делать... Знаете что - пока вы здесь оставайтесь...
- Да куда ж нам идти-то! В Москве и не найдешь лучшего чердака!
- Так вот вы и оставайтесь здесь, ну а я придумаю что-нибудь, вернусь завтра, и еды вам принесу.
Петр кивнул:
- Вы только про клятву свою не забывайте.
- А вы котенка здесь не видели?
- А какого?
Тут Катя описала Томаса, и дети ответили, что "Нет".
Однако Машенька, уже принявши Катю в сердце, как сестричку свою, предложила:
- А мы вам поможем. Вы в подъездах посмотрите, ну а мы в подвале покличем...
До вечера продолжались безрезультатные поиски, и там уж, в тот час, когда Дима торопил автобус, Катя вновь подошла к скамейке, вновь вспомнила юношу, и чувства свои облачные.
В голове ее, спокойной печальной рекою текли мысли: "Так, ведь, я и предчувствовала все. Впереди - печаль. Встретились мы - сердце мне обожгло, да так обожгло, что и не знаю - заживет ли когда. А встретится... какая светлая надежда - встретится! Но к чему обманывать себя, Катя? В этом то городе, среди этих толп... Нет - нельзя жить без надежды. Я буду заботится об этих детях и каждый вечер хоть на полчаса приходить к этой скамейке..."
И она, хоть и уставшая и голодная - у нее не было денег даже купить жетон, позвонить домой - она прождала его целый час, а потом, тяжело вздохнув, направилась к метро...
* * *
И вновь их разлучила какая-то пара минут. Совсем недавно у скамейки стояла Катя, и вот выбежал Дима, постоял там некоторое время, все больше погружаясь в отчаяние, затем побрел в метро...
Вот он уже дома - бабушка заметив его бледность, тут же и спросила, что за беда случилась.
Армия. - Нет, Дима не мог, не решался так просто сказать, что его на следующий же день забирают в армию. Он чувствовал каким ударом станет подобное известие для бабушки - он не решался потому что предчувствовал слезы, а потом - ухудшения ее здоровья.
Потому Дима ответил, что так - пустяки - хоть и понимал, что на следующий день, по крайней мере, придется ей все рассказать.
Даже лучше бабуши почувствовал Димину боль Джой - он разлегся перед ним на полу, отказался от предложенной любви, но с пониманием, с тоскою смотрел на хозяина. Томас же разлегся на коленях, да и замурлыкал ласковою свою песенку.
- Эх, вы звери, зверюшки. Вот, если бы ты, Томас, мог говорить, так рассказал бы мне на прощанье про свою хозяйку. Всю бы ночь ты мне рассказывал, ну а я бы - слушал, да слушал... Как жаль... А я слышал, что все кошки и коты - немного волшебники. Вот если бы ты сделал так, чтобы она, где бы не была сейчас, почувствовала, что я ее люблю...
Так просидел он, смотря за окно, в темень ночную, до тех пор, пока часы не показали полночь - подумал было о сне, и понял, что в эту ночь не сможет заснуть до самого утра.
Тогда Дима взял тетрадку, ручку; едва ли не разрывая бумагу, принялся писать:
Ах, кто же судьбами слепо так вертит?
Кто двигает нас по игральным полям?
Не ведая, в людях, что кровушкой светит,
Без спроса даря жизнь тоскливым ролям.
Кто ты?! Проклинаю твое я творенье!
Градов суету, этот улей разлук!
Судьбы проклинаю зловещее пенье,
И хватку небесных, карающих рук!
Так будто, всех создал себе на потеху,
Театр из мрачных, безликих теней,
И ты, развалясь - право, дело не к спеху,
Наш движешь в изгибах игральных полей!
Дима не стал перечитывать написанное, отложил лист, обхватил голову руками, застонал слабо.
- Куда... В ад?... - шептал он, роняя слезы, глядя то на котенка, то на Джоя. Потом он взял лист бумаги и стал писать следующее стихотворение, потом еще и еще одно - все мрачнее и мрачнее. Он все вспоминал лик Девы, и все мучительней были эти воспоминанья, так как уверился он, что никогда он ее больше не увидит, а впереди - только Ад...
Он так и просидел за столом на кухне, записывая одно стихотворение за другим и, в конце концов, так устал, что просто повалился головой на листы.
Разбудила его бабушка:
- Что это ты такие тяжелые стихи пишешь? - спрашивала она держа в руке один из Диминых листков; внимательно на своего внука глядя.
- Положи пожалуйста...
Дима выхватил из ее рук листок, положил в кипу иных и посмотрев на разгорающееся на улице рассветное зарево, понял - "Надо говорить".
- Меня в армию сегодня забирают. - и дальше скороговоркой. - Ты только не волнуйся, все будет хорошо. Я буду возвращаться, я буду письма писать. Не успеешь оглянуться, как я уже вернусь.
Мучительно было смотреть на бабушкино горе, на то, как побежали по ее морщинистым щекам слезы, от того, как запричитала она - мучительно вдвойне от понимания того, что изменить то он ничего не в силах.
- Ты только за Джоем, за Томасом пригляди, ну а я скоро вернусь. Нежданно, конечно, так получилось, но ничего... Деньги у меня в столе найдешь, в серебряной коробке... Вот, а если Томаса, кто искать станем - ну объявление там прочитаешь, иль еще что, ты обязательно позвони - о встрече договорись - ну а телефон оставь - обязательно оставь. Все я побежал, некогда уже.
И он, позабывши свои стихи на столе, на кухне бросился одеваться в коридор. Это бабушкин плач наполнял голову горящей болью - этот надрывный, тоскливый плач, прервавшийся вдруг сухим кашлем...
Джой тихонько завыл, а Томас, запрыгнувши на полку с обувью, не мурлыкал больше, но, выпучив глаза, смотрел на торопливо одевающегося Диму и, казалось, хотел что-то сказать...
* * *
На следующий день Катя взяла с собрала с собою побольше еды, а также положила несколько книг со сказками, что и было замечено ее матерью.
- Куда это ты собралась?
Катя врать не умела, да и любая ложь вызывала в ней отвращение, сказать же правду она не могла, так как поклялась, а потому неопределенно пожала плечами и постаралась поскорее уйти из дому.
И, перед тем, как отправиться на чердак, заглянула она в сквер - нет, ни Димы, ни котенка там не было...
Катя решила зайти ненадолго на чердак - отдать книги и еду ребятишкам, а потом идти в институт - как-никак были последние учебные дни.
Вот и знакомый двор с тополями.
У подъезда стояли внимательные старушки, а рядом с ними милиционер.
Катя услышала обрывок из базарной, ветвистой речи, одной из старушек:
- ...Да вот хоть раз в день то и видим... Да - таких ободранных. Все то чаще малец выходит, - весь грязный, тощий - смотреть страшно - больной, наверное. А один раз, видели - с ним и девка выходила... Тоже грязная - ага, как кукла на помойке... У них там целый тараканник! Ага, небось у нас на чердаке то и вертятся...
Катя, внешне оставаясь спокойной, пошла мимо разговаривающих в подъезд. Но одна из старушек узнала девушку, позвала ее:
- Ну, девица, нашла своего котенка?... - и не дожидаясь ответа, затараторила милиционеру, что вот мол бегают еще всякие хулиганы за кошками (она имела ввиду Диму).
Милиционер, однако, заподозрил что-то, тут же спросил Катю:
- А вы здесь проживаете?
- Нет.
- А куда идете?
Катя ничего не ответила, вбежала в подъезд - в голове - спокойное и сильное, вспыхнуло решение: "Я обязательно должна предупредить их. Должна успеть, а иначе выйдет, что я не сдержала клятву".
С улицы донесся окрик:
- Стойте! Немедленно стоять! Я говорю!
Хлопнула дверь - раздался говор старушек, похожий на карканье встревоженных ворон.
Катя, что было сил, бросилась по лестнице. А она хорошо бегала! Недаром, каждое утро, вместе с отцом да старшей сестрою устраивала пробежку, по парковым аллеям!
Вперед - через две, через три ступеньки! Позади пыхтел, громко топал, а раз споткнулся и с руганью грохнулся милиционер.
Разрыв меж ними был бы значительно больше, если бы не Катина сумка с книгами и едою... Вот последний пролет - вот люк - только бы он оказался не запертым.
Катя толкнула - крышка откинулась в сторону. А девушка, голосом громким, но, по прежнему спокойным, возвестила:
- Петя, Машенька! Скорее - уходите! Милиция здесь!
Встрепенулись из своих укрытий голуби; перелетая в солнечных колоннах, выпорхнули в небо.
Из-за бетонной колоны выглянули дети - эти добрые, невинные глаза - как же, до боли, сжалось Катино сердце - так ей захотелось остаться здесь с ними, показать книги... Но времени не было - Катя перекинула им свою сумку, еще раз крикнула: "- Бегите!", а сама встала на люк.
А там уже налетел преследователь - ударил - люк подпрыгнул - Катя едва удержалась на ногах.
- Черт, забаррикадировали что ли?! Притон что ли?!... Подмогу вызвать...
Тут еще один удар, и теперь Катя не удержалась - упала на солому. Оглянулась - Машеньки не видно, а Петя замер над распахнутым люком в соседней подъезд, в руках его - Катина сумка.
- Беги за сестренкой! - успела она еще крикнуть, как ее схватили за руку, да рывком поставили на ноги - в руке вспыхнула боль, однако, Катя сжала губы - ни звука не издала.
Милиционер, оглядывал опустевший чердак. Он вспотел от бега по лестнице; видно было, что зол и напряжен до предела - того и гляди взорвется.
- Что у вас тут? Притон? Кто здесь - наркоманы? Показывай, где, что прячете - будет учтено.
Катя молчала, она, вообще поклялась не говорить ничего, - тем, может, выгадать время для Пети и Машеньки.
Чердак пугал "стража порядка", ему все мерещилось, что из-за угла бросятся на него преступники, оценил уже, что здесь можно спрятать целый боевой арсенал и за руку поволок Катю обратно, к люку:
- Пошли, пошли! И не вздумай рыпаться!... Сейчас в отделении, все, как миленькая выложишь...
* * *
И вот Томас и Джой остались в квартире, где проживала, совсем захворавшая, с уходом внука, бабушка и дед, который, пил уже не переставая...
Бабушка почти все время лежала на кровати, кашляла страшным, разрывающим, сухим кашлем, плакала. Томас забирался к ней на живот, свернувшись там клубком, мурлыкал, и тогда бабушке становилось немного полегче... Все же болезнь, отверженность ее от людей, скотское состояние уж потерявшего человеческий рассудок - все это медленно брало вверх. С каждым днем все труднее ей было подняться с кровати, пройти к холодильнику - отдать Томасу и Джою последнее из того немного, что оставалось в холодильнике.
Шли эти страшные дни и ночи. Возвращался пьяный дед, валился в кресло весь грязный, жалкий - рыскал остекленевшими, безумными глазами по комнате, бормотал какое-то бессвязное безумие.
Этот рыжий песик и серенький котенок, сначала держались поодаль - не сошлись характерами.
Томас, словно бы и не замечая раздражения, которое вызывал своим бурным нравом у серьезного и сдержанного Джоя, все пытался познакомиться с ним поближе, поиграть. Он крутился возле, прыгал через него, а в ответ получал весьма недвусмысленное рычанье...
Но все ж они сдружились. Этими страшными вечерами, когда бабушка наполняла болезненный, жаркий воздух кашлем, а дед, хрипел обезумевшим голосом что-то на своем кресле.
В эти вечера и пес, и котенок убегали в соседнюю комнату, прятались там под пустующей Диминой кроватью, да и лежали там друг против друга. Как известно, кошки и собаки видят в темноте так же хорошо, как и при свете. Вот Джой и отворачивался поначалу от котенка - положив голову на передние лапы с угрюмым видом прислушивался к тем звукам, которые доносились из соседней комнаты.
А Томас постоянно пытался его развеселить - бил лапкой по уху, или же играл с пушистым, рыжим хвостом. Постепенно Джой привык к этому веселому, теплому комочку, который так часто, да так нежно начинал мурлыкать - понял, что он, в общем-то, хоть и легкомысленный, но все ж неплохой парень.
Джой несколько раз обнюхал Томаса и шумно повел ноздрей, что, по его мнению, выражало:
- Ладно уж, станем приятелями.
Невыносимо становилось пребывание в квартире - есть было нечего - болезнь все накалялась - старик пьянствовал, а есть было нечего.
И котенок с собачкой, глядя друг другу в глаза, решили действовать бежать из квартиры, найти пропавшего Диму, где бы он ни был...
Пропал где-то дед: он просто не пришел в один вечер, а бабушка, прибывала в таком состоянии, что могла только плакать, да шептать, шептать, шептать моля у неба о внуке своем...
На улице, уже несколько дней, как зарядил дождь, - отчаянными барабанящими порывами налетал на стекло, стучал у приоткрытой двери на балкон.
Джой, чувствуя нависшую над старой хозяйкой смерть, завыл; а Томас уселся в изголовье ее кровати, прижался пушистой щечкой к раскаленному лбу. От прикосновения этого, от прокравшегося сквозь дождь урчания, бабушке немного полегчала, и она смогла вымолвить:
- Миленькие вы мои, подойдите сюда... Ох, послушайте, что я вам скажу... Вы... - она задыхалась, слова вырывались из нее отрывисто, словно разодранные облака. - Вы уходите теперь отсюда, вы Димочку найдите - там и вы ему в радость будете, да и он вам поможет... Все, - оставьте теперь меня...
Она закрыла глаза и не кашляла больше - отрывистое дыхание ее становилось все более спокойным, все более тихим.
Джой хотел было залаять, отогнать то незримое, что просочившись через стены, обвивало старушку. Но тут он почувствовал, что - это никаким лаем не отгонишь, и не стоит разрывать пустой брехней мрачной величавости этого мгновенья...
Потому песик, не смея пошевелиться, замер, да и просидел так до того мгновенья, пока незримое не отхлынуло, а бабушка осталась бездыханной - вот тогда он завыл - пронзительно, завыл, вспоминая непостижимую людьми, тоску далеких своих предков - волков.
А Томас уже пробежал к приоткрытой двери на балкон, и нетерпеливо забил там хвостом - не понимал он этих нежностей, изливаний чувств. Котенок признавал только действие, а потому и считал, что его друг без толку теряет время.
Нет - Джой не торопился. Он был поглощен печалью, и пока не излил в вое, хоть часть ее, не отходил от умершей своей хозяйки...
Уж затем он, опустивши голову и хвост, проковылял на балкон - туда, куда за несколько минут до того так стремительно пронесся Томас.
Пес глянул своими слезящимися, черными глазами - котенка нигде не видно. "Неужто оставил? Неужто не мог подождать? Тоже мне - друг!"
И Джою стало тогда совсем уж печально. Только тут почувствовал он, как сблизился с котенком за эти дни - теперь же он чувствовал себя самой одинокой и несчастной собакой на всем свете.
Вот он запрыгнул на мокрый от бьющих под углом дождевых вихрей стол и тут увидел Томаса - он пристроился на ветви клена - в нескольких метрах от балкона. Он мяукал нетерпеливо: "Да что же ты такой медлительный?! Скорее, скорее - прыгай за мной!"
Одно дело прыгать с балкона на ветви кошкам - совсем иное - собакам.
Они находились на четвертом этаже и, взглянув вниз, Джой увидел темную бездну стремительно поглощавшую мириады капелек.
В собачке взыграла природная гордость - что, какой-то там котенок не испугался, перепрыгнул, ну а я перед ним струшу?
Джой отошел на несколько шагов, а потом стремительно разогнался - поджал уши - рванулся вперед навстречу каплям...
В тот же миг рассекла небо слепящими ветвями молния, сразу же вслед за тем затрещал громовой раскат...
Джой ухватился за ветвь, а она прогнулась под ним, стряхнула - собачка перевернулась в воздухе и вцепилась в следующую, более толстую ветвь. Джой повис, вцепившись в ветвь передними лапами и клыками - и эта ведь качалась, но не в силах была его сбросить.
Легко, плавно, так будто по земле ходил спрыгнул - прошел к нему по ветке Томас. А Джой, увидевши невозмутимость котенка, завилял своим намокшим хвостом - мол: "Все хорошо у меня и совсем не страшно".
Однако, собачка не удержалась и на этой ветви - вновь небольшой полет вновь падение на ветвь, и оттуда уж - с отчаянным выражением в глазах последний прыжок - на землю.
Котенок, так легко, словно плавный падучий лист, перелетел с дерева на землю и, одобрительно мяукнув, встал перед своим другом.
Теперь предстояло решить, куда идти. Они смотрели друг другу в глаза один, время от времени, начинал мяукать, другой негромко рычать, и, если можно обличить в слова, те импульсы-чувства, которые между ними проносились, то было бы это так:
"Пойдем за моим хозяином! Тут и никаких сомнений! Р-рав!"
"М-мяу! А знаешь ли ты где он? Он очень далеко, нам никогда его там не найти..."
"Гррр... Ты просто трусишь! Я готов пройти до края мира, ради него! Рассказать ему все! Решено!"
"М-мяу... Ты никогда до него не дойдешь. Ты собьешься с пути. Можно я скажу тебе - моя хозяюшка нас примет с нежностью. Я чувствую, где она далеко, но ближе Димы..."
"Ррр... Придется пройти хоть до края земли - я, все равно, должен до него добраться!"
Так и спорили они довольно долго - все же победа оказалась на стороне котенка. Он, хитрыми уговорами, сокрушил уверенность Джоя. Он пообещал, что хозяюшка его, поможет им найти Диму и выйдет это гораздо быстрее, чем если они направятся на поиски сами.
И вот они повернулись, повернулись и стремительно были поглощены, рычащую дождем ночью...
* * *
Фронты дождевых туч застлали небо на обширных территориях. И за сотни километров так же шумело, так же озарялась ночь слепящими разрядами...
Дима сидел согнувшись за маленьким столиком, горевшая пред ним лампа едва-едва могла высветить тетрадь, в которой Дима выводил тайным, ему одному понятным шифром:
"15 июля.
Ну вот и середина лета, хотя какого лета я не знаю. Знаю, что где-то есть счастье, что где-то есть ОНА, которой столько поэм посвящено в этих тетрадях. Но я отвергнут от того мира - все продолжается по старому. Не знаю, куда влечет меня рок, но я чувствую себя листиком попавшим в отравленный стремительный поток. Листик влечет, листик мечет по камням, его травит, его жжет и все несет и несет вперед - обессилевший, изодранный.
Мне завязали глаза и заткнули рот в тот же день, как я прибыл сюда. А это уже - полтора месяца. По прежнему, с утра и до вечера нас дрессируют, но к чему - то неведомо мне. По прежнему заставляют обучаться военному делу - с утра и до вечера и перед глазами моими, к боли великой, уже и в ночи вспыхивают эти винтовки, автоматы, затворы, полосы препятствий. Нас сосредоточенно, выжимая все, что можно к чему-то готовят. Занятиями из нас выжимаю все силы физические, чтобы мы не задавали лишних вопросов, не думали. Чтобы мы вырабатывались, потом падали в этот проклятый сон, а потом вновь начинали эту, неведомо к чему - изнурительную подготовку.
Да к дьяволу все это! Сколько можно! Это и так видишь каждый день - еще писать об этом...
Со временем облик ЕЕ, так ярко запылавший в памяти моей, в то единственное мгновенье нашей встречи - не затух. Против того, теперь всегда, и в самые тяжелые минуты, я вспоминаю ее. Для сердца, души моей воспоминания эти и нежны - одно мгновенье, вспоминая, я действительно счастлив - вновь вижу ясное лицо ее, но потом приходит тоска - понимание того, что мы разделены; страстная жажда разорвать оковы судьбы - вырваться, вырваться, как орел из темницы.
Господи... Слезы тут... Стихи...
Когда свободный, он скован судьбою,
В темнице времен и тоски,
И сердце, как кровью там бьется мечтою,
И помыслы так высоки!
Но крылья сожжены - лишь сердце в груди,
И цепи холодны - хоть плачь, хоть зови...
И шепчет он в муке: "О, Солнце, взойди,
О, высвети поле небесной крови!
За ржавой решеткой, ко мне ты прильни,
И нежным объятьем меня исцели!
О, Солнце родное, меня ты взметни,
Возьми ты из темницы, из тленной пыли!"
В голове вихрятся сотни рифм, образов, но я уже не в силах больше писать - слишком утомился за день. Рука дрожит, голова неудержимо клонится, почти падает на стол - перед глазами ничего не вижу. Все слипается. Пишу наугад. Продолжу завтра".
Дима непослушными пальцами сгреб тетрадь, изминая страницы, закрыл ее, и спрятал под бельем в нижнем ящике стола. Затем, покачиваясь, протирая слипающиеся глаз, доплелся он до своей койки, повалился на нее...
Несмотря на смертную усталость сон не шел.
Измученная, выжатая казарма храпела, ворочалась во сне; в черноте за маленьким окошечком, что повисло под самым потолком, хлестал дождь. Вновь и вновь прорезались там молнии, гулкий глас которых едва проходил чрез бетонные стены.
По Диминым впалым щекам одна за другою скатывались большие, похожие на капельки расплавленного свинца слезы.
"Одно лишь мгновенье..." - вихрилось в его голове. "-Сколько же я вычерпал, глотнул из этого мгновенья... Да в этом мгновенье и вся вечность..."
Мысли разбивались, мысли дробились - вспыхнуло пламя - полоса препятствий - ровный солдатский строй - тошнотворная дробь выстрелов - тошно - тошно над всем этим - бетонные стены.
Погружаясь в темное забытье, шептал он со страстью, с болью:
"Быть свободным и безмятежным, как облако. Раскинувшись над родимой землею, лететь туда, куда несет самый прекрасный ветер. Тот ветер, который и есть свобода - ветер Любви. Свободы!.."
* * *
Катя... Милиционер отвел ее в отделение.
"Имя? Фамилия? Адрес? Кто? Почему? С какой целью? Имена сообщников? Где они могут быть?"
Но Катя молчала. Она решила не называть не только Машеньку и Петю, но и свою фамилию и домашний адрес. Она понимала, что - назвав своих родителей, принесет им немало волнений. Понимала, что матушку ее, отца, сестру и брата - всех их ожидают часы нервотрепки, а то и слез. Врать же она не умела потому и молчала, прямо смотря ясными своими очами на тех людей, которые ее допрашивали.
День был жаркий, в помещении - душно; где-то за стеной голосила пьянь - в воздухе повисло напряжение, злоба.
В помещении, помимо, приведшего Катю, было еще двое "стражей порядка" один, с красным опухшим лицом, нетерпеливо постукивая кулаком по столу, сидел перед нею - другой рукой теребил пустой протокол.
Второй - стоял у Кати за спиной и от него несло перегаром, перемешанным с одеколоном. Приведший же девушку, стоял рядом со своим начальником, гневливо поглядывал на Катю и трепал:
- Василий Романович, вы вон посмотрите - глазки вам строит. А я говорю целый у них там притон. Я уже рассказал, как все было - это же профессионалка. Не в первый раз! Сама то - мордашка хорошенькая, тем и кроет своих дружков. А они уходят! Что время то терять... Подправить бы мордашку у нас же все улики...
Катя оставалась совершенно спокойной - ничто не дрогнуло в светлом лике ее и очами она с жалостью смотрела на этих напряженных, несчастных от своего раздражения, видящих вокруг мрак, да преступные замыслы людей.
- Помолчи! - оборвал своего подчиненного начальник. - По указанному адресу уже выслан наряд... А ты девица - долго ты еще собираешься отмалчиваться... Тебе бы... - он сжал кулачищи свои и взглянул в окно, за которым сидела на древесной ветви, какая-то маленькая птичка, смотрела не то на него, не то на Катю.
- Обыскать ее! - рявкнул начальник.
Катю отвели в комнату, где пришлось ей раздеться. Занимавшаяся этими делами женщина тщательно обыскала ее, но так ничего и не было найдено студенческий билет остался в сумке - с книгами, и с едою...
Она оделась, и вновь ее привели к начальнику, входя в комнату, услышала она обрывок стремительного разговора:
"Да, точно, никаких результатов... Там точно должно было что-то находится... Да - возможно... Объект до конца месяца должен быть найден... Ни адреса... ни родителей..."
Таким образом, Катя поняла, что Машеньке и Пете удалось бежать - чему и была рада...
"Никаких улик" - проворачивалось в голове начальника, когда Катю ввели в комнату. "Но она должна что-то знать - она должна назвать нам имена сообщников, за те часы, которые по закону мы можем ее держать. К черту мордашка хорошенькая, ясная... Но к черту эти предрассудки - тут преступность, тут люди из-за наркоманов этих гибнут. Она - наша единственная зацепка."
- Вот что, красавица. Назови, где проживаешь и будет все хорошо. Ты ведь не хочешь больше неприятностей?
За Катиной спиной вновь стоял "страж порядка" с перегаром - вновь за стеной вопил пьяной. У Кати разболелась голова - как ей хотелось стать птицей и выпорхнуть в окно, да в небо свободное!
Но внешне она оставалась совершенно спокойной.
- Ты знаешь, что мы так или иначе должны выйти на твоих сообщников? Так или иначе - понимаешь? Тут дело знаешь какое... - болезненный жар повис в воздухе. - Отделаем тебя так, что мать родная не узнает... Отвечай. начальник треснул кулачищем по столу.
Катя ясным своим честным взглядом неотрывно смотрела прямо в напряженные глаза его, и он не потупил взгляд - ему было мучительно больно за происходящее, за свои слова, за то, что он сам, как раб, не в силах вырваться из того, что должен был делать. Ему было тошно от самого себя, от тех слов, которые он совсем не хотел говорить...
- Ну что взяться за нее? - спросил тот перегарный "страж порядка" с нечеловеческим лицом - и видно было, что ему и впрямь хочется "взяться", что ему ничего не стоит и избить девушку до полусмерти.
И вот начальник замер, глядя на это светлое лицо, на это непостижимое, жалостью к нему обращенное сострадание в очах; ему казалось, что в его болезненный мир ворвался родник из мира иного, давно уж им позабытого... И вот человеческая совесть боролась в нем, с жаждой раскрыть шайку - раскрыть любыми средствами, ради повышения, ради денежной награды.
И неожиданно он твердо понял, что ничего он от нее не услышит. Ее могли избить и до полусмерти, ее могли провести через любые муки - в ее спокойных глазах он прочел, что ничего она не скажет - это была уверенность, это была твердость, от которой дрожь пробежала по спине начальника.
- Ну, возьмусь я за нее? - в нетерпении вопрошал "перегарный".
- Да ты это... - вновь забилась в голове его борьба... - К черту!... Возьмись...
Лицо Катино оставалось столь же спокойным, "перегарный" схватил ее за руку, поволок к двери. Начальник знал, что предстоит ей - все потом будет выведено так, что, якобы, она в таком состоянии и была найдена - никакой ответственности, такое проводилось не один раз и было в совершенстве отработанно (не с девушкой, правда).
Сейчас хлопнет дверь и... Он знал, что вновь и вновь будет видеть этот, проникший в его мир, светлый лучик, вновь и вновь будет вспоминать родник глаз... Дверь хлопнула... Поздно...
Он вскочил из-за стола, бросился к двери - шаги в коридоре - еще не поздно все остановить - открыть дверь - окрикнуть подчиненного - он схватился за ручку - капельки пота выступили на лбу его.
- Ведь, он же "возьмется", ведь, он же... Остановить... остановить... - и он уже дернул ручку, как за спиною, на столе пронзительно и долго заверещал телефон.
И с этим треском отхлынуло мучительное решение. С треском - ворвался привычный его адский мир с преступниками, графиками их отлова, с кровью, со злобой обоюдной, с жаждой выслужится. С тупым этим треском вырвалась былая уверенность, что ничего она не расскажет - точнее он знал, что она ничего не расскажет, но в тоже время, не веря, уверял себя, что с ее помощью выйдут они на преступников: "Ничего не отвечает - тут ясно, что преступница профессионалка - честный бы человек во всем сознался..."
И он, отгоняя совесть свою, вырывая, что было в нем человеческого закрыл дверь, и на ослабших ногах прошел к ненавистному, разрывающемуся звоном столу - схватился за него потными, могучими ручищами - вновь боль: "Ведь и теперь еще можно все остановить. Если прямо сейчас броситься - все будет остановлено. Сказать, чтобы отвел ее в камеру - отсидит положенные часы, да и пускай летит - птица... Пусть летит из этой чертовой дыры!"
И он передернулся к двери - но, все же, телефонный разрыв одержал победу, вклинилась мысль: "Кто это звонит? Ни мой ли начальник? Я должен быть на месте, я должен отчитаться за проведенную в этом месяце работу".
И он взял дрожащей рукой трубку и дрожащим голосом, спросил:
- Да?...
* * *
Оставив мертвую квартиру, Томас и Джой бежали сквозь, наполненную дождем и молниями ночь. Впереди, задравши хвост трубой, поспешал Томас, за ним мокрый, с обвисшим хвостом - Джой. Этот песик, обычно пушистый, теперь, охваченный водными потоками, выявился совсем тоненьким - сырость ему совсем не нравилась и он часто отряхивался, фыркал.
Они бежали - сначала по улицам заполненным фонарным светом, потом - по темному парку и, наконец, пробежав открытое пространство замерли у шоссе. Даже и в ночное время оно представляло смертельную опасность - одна за другой проносились стремительные, покрытые гудением машины - для котенка и собачки они подобны были настоящим железным скалам.
Они появлялись неожиданно - одна за другой, и по реву не разобрать было, когда налетит следующая - рев этот метался в дождевых стенах, переплетался; налетал, казалось, со всех сторон...
"Брагррр!" - с воем пронесся грузовик, "Вррааур!" - метнулась еще одна громада. Надо было сосредоточиться.
Они залегли на обочине - вот мгновенье - рывок. Налетает железная масса еще один рывок - это пронеслось совсем близко - обдало их волною грязных брызг... Еще рывок и вот они уже на обочине - шоссе осталось позади.
Теперь - впереди то самое поле, на котором, за пару недель до того, Джой бегал среди одуванчиков, ну а Дима - сидел там, да любуясь на облака, чувствовал предстоящее...
То самое поле - теперь оно преобразилось до неузнаваемости! Низкие клубящийся массы, рассекающие ночь молниями, пронзительный ветер; травы жалобно на этом ветру колышущиеся; а за ливневыми стенами все размыто - все неясна. Ночь тревожна, ночь бесприютна, холодна...
Котенок, плавно протекал сквозь травяные стены, Джой же едва за ним поспевал - он цеплялась за стебли, несколько раз даже падал - кубарем катился...
Котенку приходилось останавливаться, поджидать своего друга, - он нетерпеливо мяукал - так ему жаждалось увидеть свою хозяйку...
Томас не чувствовал Катю - не мог определить, где она, и - что с нею. Однако, он чувствовал, то место, где жил он, тот домик, в саду которого так часто играл он. Это было далеко - за многие дни пути, и дорога к тому месту представлялась не прямым путем, но чем-то размытым. Он чувствовал только, что бежит в верном направлении...
Вот их объял лес - Джой хорошо знал эти места. Здесь он чуть ли не каждый день гулял с Димой. И в то время, как хозяин, пристроившись на каком-нибудь бревне ловил вдохновение - Джой пытался поймать бабочек, стрекоз иль, даже, проворных птах.
По этим то местам, но уж в ночную пору, средь шумящих, сбрасывающих водяные веера ветвей они теперь бежали. Через какое-то время дала о себе знать усталость - Джой порядком запыхался, вывесил язык, а хвост его уныло волочился по земле.
Пора было думать и о ночлеге - они нашли место среди корней древней ели. Там было совсем сухо - густые ветви, словно зонтик батюшки-леса, хранил их от дождевых каскадов.
Там улеглись они, прижались друг к другу, да тут же и заснули.
Судя по тому, как вилял хвостом Джой, и примурлыкивал котенок - снилось им что-то приятное.
Дождь пел им колыбельную до самого утра, а рассвет прогнал тучи, пробрался чарующими, звонкими волнами сквозь ветви, дотронулся до век спящих.
Джой почувствовал прикосновенье солнечной длани, во сне еще повел ноздрю, чихнул и открыл глаза - встрепенулся и вот уже готов был бежать за своим другом...
Котенок, проснувшись, выразительно облизнулся - действительно, пора было заняться охотой - ведь прошло уже больше суток, как они ничего не ели.
Для охоты они избрали такую тактику: Джой открыто выходил на край поляны, на виду прохаживался и тем самым отвлекал внимание пичужки сидевшей в траве, от подкрадывавшегося сзади Томаса.
Пока они этим занимались, стоит заметить, что утро выдалось просто чудесным! В эти первые летние дни - как нежна, да ясна была зелень! Нежно светло-лиственные колонны, пышными облаками поднимались повсюду, уходили в глубины леса, а само нежное, тепло-голубое небо связывалось с лесом птичьими голосами. Ах, как много этого пения было разлито в воздухе - у Джоя и Томаса аж в животе урчало!
Не следует их винить в таком восприятии пернатых - они и лиственными колоннадами не могли любоваться - однако у них были свои понятия - они лучше кого-либо чувствовали доброту, и вообще какие-либо чувства. По-своему, не давая себе в том отсчет, они любили и лес, и вообще природу - ведь здесь им было много лучше, нежели в городе...
Но вот Томас подкрался - серой стрелой метнулся - эх, не вышел из него охотник! Пичужка, испуганно вскрикнув, вспорхнуло в ласку небесную, оставив в коготках котенка одно перышко.
Что ж, делать нечего - на следующей полянке отвлекал внимание Томас, а Джой подкрадывался. Тут собачку выдал чих - птица вспорхнула, а Джой даже и прыгнуть не успел.
Так успели поменяться в ролях раза три, да все безуспешно.
Вот вышли они к берегу лесного торфяного озера. Вода казалась черной, как беззвездная ночь, но на ее поверхности, перепрыгивали, золотились, словно очи русалок, солнечные блики. Как же ясно зелено сиял над водами лес! Сколь же глубок и нежен этот омытый дождем, ранний летний цвет!
Но котенок и Джой, как завороженные, не на лесные красоты любовались, а на уток которые с веселым кряканьем плавали в центре озера. И, надо сказать, что отнюдь не изящная красота беззаботных водоплавающих интересовала их - да уж, потекут тут слюни...
Так, зачарованные видом недоступного обеда, и не заметили они, как беззвучно раздвинулись кусты за их спинами - поглощенные аппетитным кряканьем не услышали они угрожающего скрежета клыков. И вот...
Джой краем глаза увидела, как к его маленькому другу метнулась некая громада. Для человека этакая громада подобна была бы слону - причем не добродушному слону - но рычащему, кровожадному, наделенному метровыми клычищими!
Джой, однако, не размышлял ни мгновенья. Он, рявкнув, метнулся наперерез громаде, подпрыгнул и вот вцепился в складки твердой плоти, где-то возле шеи.
Здоровяк, а это был почти двух метровый темный пес неопределенной породы, был поражен столь дерзостным нападением - он гневливо зарычал, закрутился, пытаясь стряхнуть, болтающегося на нем, точно рыжая тряпка Джоя.
Томас же успел отскочить в сторону и теперь замер в траве, готовясь запрыгнуть догу на голову, да и пустить в ход свои коготки.
Но тут на берег выбежали еще две собаки! И сразу бросалось в глаза, что это добрые и умные собаки. И глаза у них были почти человеческие - такие там чувство были - эти глаза, блистая в солнечном свете, и привлекали в первую очередь внимание.
Сами же псы были довольно большие - один густо-коричневого цвета, и самка - цвета старого золота.
Они остановились и залаяли - лишь несколько раз гавкнули - степенно, спокойно, как государи, отдающие своим поданным приказания и уверенные, что эти приказания будут исполнены.
Так оно и вышло: дог замер, а Джой, повинуясь эту мудрому, спокойному лаю разжал челюсти, упал на траву. Тут же, впрочем, он вскочил и бросился к своему маленькому другу, встал над ним гордо задрав голову: знайте, - мол, может, вы и лесные короли, однако никому не позволю обижать своего друга.
Томаса никто больше и не собирались обижать. Подошли эти два пса с мудрыми и добрыми, почти человеческими глазами. Обнюхали сначала Джоя, потом Томаса - в знак примирения махнули хвостами. Подошел Дог и также вильнул хвостом - вот и все обида была забыта, а котенок, раз уж за него так отважно заступился Джой, был принят, как свой.
И вот завязался собачий, основанный на тончайших проявлениях чувства, разговор. Они виляли хвостами, они перебирали лапами - издавали всевозможные звуки.
Повелитель лесной предлагал Джою погостить, однако, песик уверял, что его ждут неотложные дела. Король же убеждал, что надо им подкрепиться - этот аргумент, да кряканье уток, решили дело - Джой согласился.
Томас выразил сомнение, но, бросив взгляд на птичью стаю, также утвердительно мяукнул.
И вот пошли они вдоль озерного берега. Впереди, словно царственная чета, ступали двое мудроглазых пса; за ними, бок о бок, похожий на лисичку Джой и, ставший в солнечном водопаде совершенно пепельным Томас; позади них вышагивал дог, и подобен он был охраннику, сопровождавшему знатное семейство.
Они прошли по старому, перекосившемуся мостику над нежно-говорливым ручейком, и там берег откинулся большой поляной, посреди которой высился огромный дуб. Ветви его, подобные великанским ручищам, подобные широким зеленым молниям, повисли над травами. Казалось, что исполину этому было тесно, среди своих братьев и сестер, вот и вырвался он от них - распахнул во всю волю свои длиннющие руки-ветви под солнцем, да и цвел, взметался год от года все выше да могучее. Ствол покрывали наросты, которые придавали ему только большей величавости и загадочности.
Однако у этого вольного великана побывал некогда человек. Кто ж еще мог приставить деревянную лестницу, да устроить на нижних ветвях дощатый настил? Однако и лестница и настил были древними, потемневшими уже от лет, покрывшиеся мхом, да и ставшие уже словно частью самого дуба.
Когда процессия выбежала на поляну, дог несколько раз глухо пролаял, словно возвещая:
"Подданные! Ваш король и королева вернулись с прогулки да не одни, а с гостями!"
И подданные выбежали. Их было не менее двух дюжин псов. В основном то были беспородные, но была среди них и овчарка, и два пуделя, и упомянутый уже дог.
Они грелись где-то в траве и вот уже стояли нестройную толпою, в изумлении разглядывая котенка. А Томас, бесстрашно задрал хвост трубою, и, в свою очередь, разглядывал их.
Король и королева (да назовем так двух мудрых псов) подошли к маленькому котенку, вильнули возле него хвостами - что ж - дело было решено - раз так того хотели повелители, котенок был гостем принят в лесную стаю.
Поглазев немного на невиданного гостя, собаки разошлись по своим местам. Король же, радушно, словно бы в извинение за грубость дога, сам вызвался показать Джою и котенку свое маленькое королевство и угостить их.
Сначала он провел их к стволу дуба и там, между корнями, открылось большое дупло - в этой древесной пещерке лежала сухая трава, а так же дремал старенький пес.
После король провел их к мшистой лестнице, ведущий на подстил - эта основательная лестница вела под углом и собаки легко могли подниматься. На подстиле дремали, а также кувыркались щенки - следила за ними колли, которой - нацепи на нос очки - выйдет старушка-воспитательница. Щенята радостно повизгивали, а когда увидели такую диковинную игрушку, как котенок, пришли в такой восторг, что залили всю поляну своим визгом.
Наконец, пришло время угощенья. Король повел их к оврагу. Там в стене, под тенью павшего ствола, крылся вход в пещерку. У входа лежал, свернувшись клубком, бульдог - увидев своего повелителя, он отошел в сторону да и выпучил глазищи на Томаса...
В пещерке было прохладно, отчего лежащие на полу птичьи и заячьи тушки не портились по несколько дней - как раз на сколько был рассчитан этот запас предназначенный для щенков, и немощных псов.
Король благодушно перекинул Джою заячью тушку, ну а Томасу досталось тельце какой-то птахи.
Отобедав, разомлев - двое странников пришли в благодушное настроение, и не знали, как отблагодарить короля - Джой усиленно вилял хвостом, ну а Томас, потягиваясь, мурлыкал...
Да... от всего своего, почти человечьего сердца, хотел собачий король угостить своих гостей. А тушки, которые он им выделил были самые свежие. Желудок Томаса, хоть и в первый раз, спокойно принял сырое мясо. А вот желудок Джоя взбунтовался!
Песик почувствовал сильное недомогание и, без устали вертящийся до того хвост, теперь сник, а сам он стоял, глядел своими печальными глазами и тяжело дышал.
Что ж - хорошо хоть то, что отведал он сырого мяса в окружении друзей, которые могли за ним позаботится... Он, все же, вышел из пещерки, но тут, к великому сожалению короля, заскулил, и не мог уже дальше никуда идти.
А король остановился над ним и взором своим молвил:
"Уж извини - не знал, что ты такой неженка. Ну, ничего страшного - мы тебя излечим, и ты привыкнешь к нашей пище!"
"Придется задержаться..." - угрюмо мотнул хвостом рыжий песик.
"Ничего страшного - ты только получше лес узнаешь".
Джою ничего не оставалось, кроме как согласиться.
* * *
"17 октября.
Пишет Дима. Да, не смотря на все то, что пережил я за эти месяцы, я, кажется, остался прежним... Снаружи то все покрылось коркой боли, а внутри то - внутри погребенный под этой коркой, словно в темнице - прежний я, Дима.
Все чаще стал задаваться такими неразрешимыми вопросами - что такое жизнь и, вообще, зачем она...
Наш боевой отряд сегодня, как и целую вечность, делал что-то мерзкое, в этой ненавидящей нас горной стране. Целый день беготня среди развалин кругом трескотня выстрелов - сколько трупов с сожженными лицами - плачь голодных детей из подвалов. Но самое страшное: страшнее трупов, страшнее, даже детского плача - это лица людей которые меня окружают. Это же мертвые лица! Меня окружают мертвые безумцы! Они сосредоточенны до крови из носа, но внутри то у них происходит постоянный надлом.
Из них темная, отчаянная мгла исходит и - лучше смотреть на развалины, чем на эти растворившиеся в войне лица...
О, где ты свет?! О где ж ты лучик мой?! Господи, господи! Да где ж ты весна моя ясная, светлая?! Как же, каждый день, в аду вспоминаю я то мгновенье, когда видел тебя... Так и Дьявол, этот несчастный, в бессчетных тысячелетиях, в смертной муке вспоминает те дни, когда был он еще могучим ангелом и видел небо; и как и ему - воспоминания дают силу не умирать духу, подниматься выше этот грязи! Болота, темного облака, топи... О, любимая, останься со мною, не меркни! Прошу! А я, ведь, даже и не знаю твоего имени... Но я знаю тебя лучшего кого бы то ни было во всем мире. В одном мгновенье - вечность. Я пробыл с тобой вечность! Господи, не дай мне сойти с ума! Вырваться - как же жажду вырваться из смерти туда - в жизнь...
Вот - что-то рвануло поблизости. Я сижу тут, забившись в угол, в полуразрушенном доме - на улице этот адский свинцовый стрекот - кто-то вопит - пахнет кровью - воздух упругий, гневливый - грудь давит... Еще один разрыв... Кажется, меня зовут - нет не меня - кого-то другого.
Вот берусь писать стихотворение - понимаю, что оно может оказаться последним... Быстрее, быстрее вырвать эти строки:
Как же жаль, что я не птица,
Нет и крыльев у меня,
И что очи боли спица,
Вырвала, лишив огня.
И вот стою в кружении,
Из стали, лиц и слов,
Весь в боли и молении,
Здесь без любви, без снов.
И круговерть железная,
Срывает кожу, плоть,
А высь - а высь небесная,
Жива - за дымом хоть.
Как жаль, что я не птица!
Да - вырваться, лететь,
За той - в душе хранится,
Лететь, над адом петь!.."
Стихотворение еще было не закончено, однако, дописать его Диме не дали; со двора налетела целая волна отчаянных воплей, ворох взрывов, безумная трескотня пулеметов...
К Диме подбежал их командир - лицо все в копоти, а в глазах - твердое знание того, что надо делать и, затаенный до поры до времени, ужас от непонимания, что это его окружает, и что за безумие, и по какой причине он творит.
Со злобой, стараясь вырвать из груди эту боль непонимания, эту жажду НЕДОЗВОЛИМОГО, заорал он на Диму:
- Ну, что ты тут расселся?! В атаку! На прорыв! Ты понял, рядовой?! Встать!
Он вырвал из Диминых рук тетрадь, отбросил ее в сторону, побежал куда-то дальше...
- Все, на прорыв! - неслось по полуразрушенному зданию эхо его воплей. Времени нет! Нас окружают!..
Дима вскочил было, подхватил автомат свой, но тут заскрипел зубами, автомат отбросил, подхватил смятую тетрадь - отполз в густую тень под рухнувшим перекрытием, забился там в самый темный угол - и, едва видя пред собою лист, продолжил писать дрожащей рукою, и писал он теперь не шифром, но обычным русским языком:
"И, вновь, они хотят, чтобы я бежал куда-то... Бежать... Предательство? Трусость? Что я задумал - называют дезертирством. Не хочу оправдываться... Да, черт, оправдываться не хочу! Хочу крикнуть во весь голос! Нам всем надо уйти отсюда...
Здесь нет героев - здесь есть пустота,
И кто мы - не знаю, но с болью чета.
И кто создал этот рокочущий ад,
И нами порушил цветущий сей град?..
Веленьем чего, должен здесь я страдать,
И ради ли мира людей убивать?..
Кто я, - есть ли воля, иль робот пустой?
И кто нынче правит в безумии мной?..
Но, я вырываюсь из адских кругов,
Я вихрем пронзаю заслоны богов,
Я дьявол, восставший из темных оков,
Лечу ж я тебе в вое вольных ветров!
Вот - написал. Не знаю - пусть винят меня в трусости. Им ли винить меня?! Им ли, убийцам?!... Да, они двинулись на очередной прорыв. Да, вновь будут бежать стрелять, вновь - кого-то потеряют, вновь изможденные, пустые, копящие до иных времен боль свою, залягут в какой-нибудь грязи на ночь; и вновь бег, вновь стрельба по людям...
Нас будут подбадривать словечками о доблести, о долге... В чем доблесть стрелять незнамо за что по людям?! Долг - перед кем, перед чем?! В чем долг?! Для чьего блага этот самый долг...
Я не боюсь смерти физической - боюсь духовной. А здесь все пронизано этим умиранием - чернота вливается из лиц, из стен, из пламени, из трупов...
Вижу трусостью оставаться здесь, в Аду. Тупо двигаться с общим вязким течением к бездонной пропасти... Нас окружили... Что же - я попробую прорваться из этого круга к свету, к НЕЙ..."
И тут Дима замер минут на десять, и не слышал он больше ни разрывов, ни криков удаляющихся...
С какой же нежностью, лелея в душе словно хрупкий цветок, нырнул он в хрустально мягко-лиственные воспоминания - из этого то ада... Рука его вновь задвигалась по листку стремительно выводя стих:
Там где-то был город огромный и шумный,
И трижды чуждый мне,
Я жаждал темноты безлунной,
Бежал там в творческом огне.
И город был совсем ничтожен,
Закрыт для сердца и души,
Весь мир в душе моей положен
Во царстве лиственной тиши.
Но вот лишь лик - один, весь в свете,
Один - весь город поглотил,
Напомнил - я ведь в жизни лете,
Вдруг мир весь светом озарил.
Преобразил мой взгляд и мысли,
И стены светом озарил,
И милы толпы в граде были,
Тот лик меня, как дуб, взрастил.
И вот - разлука, но я помню,
Очей прекрасных родники,
Отца и духа, сына тройню,
И звезд безбрежных огоньки!"
И вновь Дима замер, потому что совсем поблизости услышал речь, тех людей, на родине которых они творили убийства и разрушения. Голоса войны отрывистые, все время скрывающие внутреннюю надрывную боль... О эти герои местного масштаба, охотники за головами, о эта злоба... злоба... злоба переплетающаяся, сталкивающаяся, набирающая обороты в этом кровяном, давящем грудь воздухе...
От этих голосов - вновь напряженных, вновь темных - боль отдалась, разрезалась по Диминой голове. Он едва сдерживался, чтобы не застонать.
Они подняли оброненный Димой автомат, долго обсуждали что-то, потом дали молотом в череп врезавшуюся дробь - один из них заглянул под перекошенную плиту, где укрывался Дима.
Дима хорошо видел смуглое, бородатое лицо - метнулся страх, но тут же и тошно, ему стало от этого страха. У Димы в голове горной рекой неслись мысли и, казалось ему, что он их записывает...
"Ведь это же Человек. Ведь в нем же чудо Творца - Жизнь. Почему, велением кого иль чего, мы должны бояться друг друга? Почему я должен считать его своим врагом, а он меня - своим. Что это за безумные обстоятельства причиняющие боль и мне и ему - заставляющие меня тут прятаться, а его в напряжении оглядываться, высматривая ловушку? Почему мы должны делать то, что обоим нам причиняет боль, то от чего мы бы оба с радостью избавились. Что же эта за сила незримая, которая не дает всем нам, людям, стать свободными? Да какой он враг?! Враг мой - пустота. А с этим вот человеком, мы могли бы сидеть возле костра, в окружении гор. Ах, сколько бы чудесных, горных сказок он мог мне поведать!"
Горный человек не мог видеть Диму - однако, что-то неладное почувствовал он в темноте под перекосившимся блоком, вскинул винтовку...
Дима увидел, что дуло направленно прямо в его лицо. Время замедлилось, растянулась в тонкую, натянувшуюся до предела черту. Вот с улицы долетел разрыв - не сразу - он медленно, тягуче, вязко завибрировал, передаваясь от стен пронзительной, точно пульс умирающего дрожью, к Диминой спине. Дуло пронзительный черный кружок, словно пустая глазница смерти.
Больно было смотреть в эту черноту - она иглами жгла глаза, она вот-вот должна была прорваться - стремительно дотянуться до него... Не было сил оторваться от этого режущей черноты - она, расширяясь, гипнотизируя, направлялась в самые глаза...
Вихрь чувств и мыслей, не оформившись в ясное, бурлящим вихрем взметнулся в Диминой голове, и разбившись о незримый купол, вновь вобрался в ровные, текущие средь замедленного времени берега: "Ну вот и все - так нежданно, так негаданно смерть пришла за мною. Жаль той сознательной, молодой жизни в которой столько бы я еще мог сделать... как жаль, как до слез, господи! Как же жаль того, что то мгновенье было последним - с ним и уйду я в вечность!..."
Чернота стала наполняться багрянцем, затем что-то надвинулось и принесло грохот - такой грохот, что бетонное укрытие должно было рассыпаться в прах Дима больше ничего не слышал. Однако, он оставался недвижим, и, видя, как заполняется пред ним мир тьмою, ожидал окончания...
Горный человек посмотрел прямо на него, перекинул через спину винтовку, несколько раз раскрыл и закрыл рот - поднялся - и вот его уже не было видно...
Темнота нахлынула на Диму - глаза наполнялись ею, тело он больше не чувствовал. Не было больше и боли, не было напряжения:
"Я не хочу исчезнуть в черноте! Я хочу вернуться в Рай! Пустите же меня!" - безмолвный вопль взметнулся в душе его...
Нежданно нахлынули поэтические виденья:
Он скакал на коне, по родимым лугам,
Вокруг росы цвели, по зеленым долам.
Вон поток ясных вод - золотистый чуток,
Чрез него белый конь - в пенье радостном - скок!
Впереди же она, на холме, средь цветов,
Там сидит в тишине, среди гор-облаков.
Ветер власы ее поцелуями вьет,
А она пенье слов над просторами льет.
И в руках тех цветы, обнимают ее,
Жизнь, сказания в них из нездешних краев.
В мягком облаке снов обернется она,
И поймешь, что она в мире целом одна.
Что она целый мир, что поля, где скакал
На коне и простор перед нею весь мал.
Что она выше снов, что она из ветров,
Что она из богов - вышел ты из оков!
* * *
Катя очнулась. Увидела над стиснутыми тисками, грязными крышами, старых, обветшалых домов низкое, блекло-серое, вот-вот готовое дождем разразиться небо... Она видела одним глазом, да и то - через кровяную дымку, на втором же глазе расползлось что-то горячее, непроглядное, жгучее.
Попыталась пошевелиться - боль все тело охватила. Все заломило, все заполнилось давящим, ломающим. Нет - пусть даже ее никто и не видит - она не может себе позволить застонать...
Тут вспомнилась последняя ночь - хотелось, чтобы это был лишь кошмарный сон - но нет - это была жизнь.
"Перегарный" отвел ее в камеру, где все стены, и пол обильно были залеплены слоями спекшейся крови. Даже и он - потерявший всякую совесть остановился пред нею - увидев ясный взор ее, и ощущая в деградировавшем своем сознании что-то, что он прикрыв глаза со злостью отогнал - начался кошмар...
Катя и не помнила почти ничего...
Больно было только при первых ударах; потом пришло спокойствие понимание того, что она не выдаст ИМ своих родителей, чтобы с ней не делали. Она знала душевную свою силу, а потому и не боялась, что выдаст, потому и оставалась спокойной...
Она помнила, что упала на окровавленный пол, и тут к "перегарному" присоединился еще кто-то, желающий "взяться" - они били ее ногами, потом устав, отливали водой, разговаривали о каких-то своих делах - о воспитании детей, о дачных участках, ждали пока она очнется - вновь били.
Потом у Кати горлом хлынула кровь и дальше она уже ничего не помнила...
Сколько времени она так пролежала? Что это за подворотня? Что с родными? - Ничего этого она не знала, и еще раз попыталась подняться...
Нет - тело было слишком разбито, чтобы подняться на ноги. Она, все же, смогла, облокотившись на руки, прислониться к чему то спиной, оглядеть единственным зрячим глазом себя.
На ней было разорванное, мешковатое рубище, под которым виделось и тело все покрытое отеками, ссадинами, запекшейся кровью; вывернуты сломаны были два пальца на правой руке - те самые музыкальные пальцы, которыми она так прелестно играла когда-то на пианино... Огляделась - кругом большие мешки с мусор, а все это - глухая подворотня, подобная камере, отгороженной от всего мира непреодолимыми стенами.
- Ты теперь, наверное, Квазимодо. - спокойным, светлым шепотом молвила Катя, переваливаясь на кровоточащие колени, склоняясь над лужей.
Да - лица больше не было. Бесформенное, распухшее, перемолотое сапогами еще кровоточащее - даже и волосы ее потемнели от крови:
- Что же... - тихий голос спокоен - в нем внутренняя несокрушимая гармония, в нем - любовь к Жизни, к самой Любви, к Творцу, ко всему Миру прекрасному, а не к каким-то жалким подвальчикам в которых, так жалко пытались сломить ее душу. - Что ж... Родителям я скажу, что на меня напали хулиганы. И это не оттого, что боюсь ТЕХ, даже и не от понимания того, что все устроено так, что все равно "правда" останется у них. Просто, если я расскажу родным, их ждут страшные чувства: ненависть к тем, попытки мести, тоска, ужас. Безрезультатные суды на которых проведут они в криках, в спорах многие дни, бессчетные письма по всяким ведомствам - а подвале "возьмутся" за кого-нибудь другого... Нет - я, лучше, скажу, что ничего не помню - это, в общем-то и правда. Ради спокойствия родителей скажу так...
Из туч начался дождь; лужа над которой склонилась Катя, замутилась, и ничего там уже не было видно.
Наступили сумерки, когда она, наконец, смогла подняться. Уже в ночном часу, дошла он до метро, там, опустивши голову, прошла возле дремлющей старушки-вахтерши. В безлюдном вагоне доехала до вокзала, там села в последнюю электричку...
Мучительно было осознание того, что вызовет ее появление в доме. Она уже видела слезы матери, она видела побагровевшее лицо отца; брата грозящего расправиться с мерзавцами - только бы вспомнила она их. Она готова была пройти еще раз через все, лишь бы только не приносить в дом эту боль...
И ей мучительно, гораздо мучительнее, пережитого, было переступить порог - и остановиться в таком вот виде перед выбежавшей матушкой с заплаканными, покрасневшими глазами.
- Ничего страшного, мама. Это так - кажется, что страшно, на самом деле все пройдет. Пожалуйста, мамочка, не волнуйся - у меня все хорошо. - тут Катя потеряла сознание...
Ее ждали два месяца в больнице. Ее ждали бесконечные повторения того, что лиц она не видела. Она лежала на койке - и не могла даже подняться выяснилось, что у нее переломаны были чуть ли не все ребра и коленная чашечка. Доктора удивлялись, как она вообще могла дойти до дома...
Она общалась с родными, с друзьями и подругами, читала книги и часто смотрела в окно.
Там, за окном, цвел, густел в июне, а потом в июле больничный сад; заливались, средь густых ветвей птицы, а над ними синело, или же двигалась, видимыми частями облаков, небо.
"Как хотела бы я хоть ненадолго стать облаком" - мечтала Катя. "Ведь облако, если захочет, может видеть все-все, что на земле происходит. Вот тогда бы увидела я и Машеньку, и Петю. Увидела бы и Томаса, увидела бы и того юношу... кто он? Почему до сих пор помню его?.. Если мы были предназначены друг другу небом, почему же тем же небом, роком, мы сразу, не успевши ни словом обменяться, были разлучены? А после этого - цепь странных совпадений - к чему же нас ведет эта дорога?.."
* * *
Оказалось, что лесные псы - вовсе не плохие лекари. Для Джоя они собрали всяких редких целебных трав, да и принесли пожевать.
Ох и не любил же Джой есть траву. Однако, иного не оставалось - не привыкший к сырому мясу желудок болел нестерпимо, да так, что о продолжении путешествия нечего было и думать...
Тот старый пес, что спал в дупле, средь дубовых корней, благодушно уступил место маленькой собачке, а сам перебрался на солнышко.
Томас ни на шаг не отступал от захворавшего своего друга, лечил его по своему. Клал свою серенькую мордашку Джою на спину да и начинал мурлыкать, греть его. Джой, в благодарность, помахивал огнистым своим хвостом.
Надо сказать, что целебные травы, для больного носила маленькая, даже и поменьше Джоя собачка, породу пудель. Несмотря на то, что жила она в лесу за собой она следила и шерсть ее отливала облачной белизной. У нее были веселые быстрые глазки, и, всегда, когда вбегала она в Джоево жилище, озорно, словно бы приглашая его поскорее исцелиться и побегать - виляла маленьким своим хвостиком. Во рту же она несла целебные травы, опускала их перед Джоем, и мягко тыкала своим черным носиком в его мордочку.
Много раз навещала Джоя и Томаса королевская чета: эти две большие собаки с почти человечьими глазами, одна за другой входили в пещерку, становились возле Джоя, ласково глядели на него...
Томас, при входе этих мудрых особ, начинал мурлыкать, а вот, когда прибегала белая собачка со своими травами - котенок демонстративно отворачивался к стенке, как мог широко зевал маленьким своим ротиком и, даже, раздраженно бил хвостом.
Потом, когда собачка уходила, Томас с укоризной заглядывал зелеными своими глазищами в темноту глаз своего друга.
"Мяу! Мало ли что она тебя носит? Можно подумать! Ничего в ней нет! Что ты на нее заглядываешься?..."
"Б-ррр... И что ты придумал! Просто хорошая, привлекательная, прилежная, пуделина!..."
"М-мур! Ты поменьше на нее посматривай. Помни..."
"Р-ррр! Приглупо! Просто позорно! Не сомневайся, прошу, во мне! Про хозяина, я всегда помню! И ради какой-то пуделины не брошу его, никогда! Пройдет, проклятая болезнь - быстрее побежим..."
"Сомневаюсь!" - мурлыкал котенок и отворачивался.
В действительности же, Джой испытывал к этой белой собачке, чувства самые нежные. Чувства эти, как не старался - он никак не мог прогнать, напротив с каждым ее посещением - чувства эти все возрастали.
Дела очень скоро (как то показалось Джою), пошли на поправку. И он уже мог бежать дальше.
"Мяу. Завтра, промчимся до моего дома!" - сверкал изумрудными глазищами в темноте ночного дупла котенок, а Джой, прикрывши свои печальные темные зрачки, размышлял:
"Придется. Впрочем, я несколько не ропщу. Конечно, с огромным нетерпением жажду вернуться к хозяину. Просто жаль, что расстанусь с нею! Прекрасная, добрая веселушка! Примилый быстрый хвостик! Радостные, как приключения, глаза! И не надо никаких разговоров! Просто убегу рядом с другом на завтрашнем рассвете!"
Следующий день выдался ветреным: по небу летели стремительные темно-серебристые, готовые в дождь потемнеть облака. На лесном озере поднялась сильная рябь, и казалось, что златистые блики яростными, стремительными молотами пробивались из темных глубин. Лес и одинокий дуб шумели встревожено, предупреждая об какой-то, надвигающейся напасти.
Джой и Томас вышли из дупла, для пробы обежали несколько кругов вокруг ствола...
Нет - все же чувствовалось приближение чего то дурного. Не к спеху было убегать, оставлять с этим дурным предчувствием тех, кто оказался такими хорошими друзьями.
Вот издалека, со стороны старой лесной просеки, раздался гул двигателя... Выбежали собаки...
"Едут сюда! Сюда!" - несколько раз пролаял сторожевой пес.
Вот уже выбежал, столпился лесной собачий народ. Вперед вышел король и королева. Король повел головой, понюхал воздух - несколько раз негромко, но твердо пролаял.
Тут в собачьем городе начались сборы - отнесли, спрятали в чаще щенков; туда же отвели и старых псов...
Наконец, король подбежал к Джою и Томасу, вильнул хвостом:
"Друзья. Теперь вы можете уходить."
Двигатель надрывался где-то совсем уж близко.
Томас согласен был бежать - он и не видел причин задерживаться. Однако, Джой, взглядом, отвечал:
"Посмотрим, кто это, а потом - побежим."
И вот собаки залегли за теми деревьями, которые окружали поляну...
Мотор пронзительно взвыл - машина - это был иностранный грузовичок с закрытом кузовом - вырвался на поляну, да и остановился возле ствола дуба.
Распахнулись двери - тут же и полянка и озеро были пронзены человечьей музыкой, а из машины стали выходить люди.
Кажется, то была одна семья с несколькими своими приятелями.
Среди всех выделялся высокий мужчина, с широченной грудью, и несмотря на то, что он был коротко стрижен, напоминал он медведя - передвигался неуклюже, несколько раз спотыкался о корни и тогда начинал браниться сипловатым, ко всякой ругани привыкшем голосом:
- Я говорил - надо ближе к берегу! Нет - под деревом, под деревом! Что тут - спотыкаться ходить, что ли?! А?!
Тут из грузовичка вышел мальчик лет семи, огляделся и направился к лесенке, которая вела на навес, где незадолго до того резвились щенки.
Мальчик стал забираться по мшистым ступенькам и тут его нагнал измученный женский окрик:
- Сашка! Да куда ж ты?! Слезь, обвалиться! Ты смотри - развалюха какая!
"Медведь" же захрипел ругательства, бросился к своему сыну - при этом он споткнулся - весь побагровел...
Мальчик уже спрыгнул на землю и, привыкший уж, видно, к таким сценам, выставил свои тоненькие ручки, вздрогнул, простонал:
- Папа... Не надо! Я больше не буду! Пожалуйста!
Затрещина - от которой многие, притаившиеся в кустах собаки вздрогнули, а тот двухметровый дог, который пытался когда-то напасть на Томаса, обнажил клыки, зарычал негромко, но с настоящей яростью.
Щека мальчика заплыла красным; он стоял, потупивши голову, тихонько плакал. "Медведь" схватил его за руку и, судя по тому, как исказилось лицо мальчика, сильно ее сжал.
- Ты у меня смотри! Еще раз такое устроишь - отделаю тебя так, что мамаша не узнает! Ты понял меня!
- Слышь, Кирюха, да иди ты сюда! Давай костер разводить! - окрикнул "медведя" один из его дружков.
Что же касается матери мальчика, то она, привыкшая к таким сценам - едва заметно вздрогнула, когда "медведь" ударил мальчика, но вот подавила в себе что-то, отвернулась - затараторила о чем-то со своей подружкой...
В лесу, почувствовав боль мальчика, и клубящееся вокруг "медведя" напряжение, заскулили щенки - однако, тут же и замолчали - повинуясь своей няньке старушки-колли.
На поляне, тем временем, "медведь" распыляясь все больше, грызся со своей женой:
- Говорил - надо было к берегу! Здесь же тень! Ты слепая совсем, что ли?!
- А чего нам на солнце печься?! - в тон ему, визжащим голосом, надрывалась жена. - Хочешь загорать?! Ну и иди!
- Да иди ты сама загорай!... - ну и так далее.
"Медведь" не воспринимал, да и не хотел воспринимать леса, неба - всего этого, открывающегося к нежному златистому сиянию. Так же мог ругаться он и дома, и на какой-нибудь далекой планете - окружающее его нисколько не трогало. Он был погружен в своей мир болезненной раздражительности. Он постоянно накапливал в себе боль, потом выплескивал ее в приступах безудержного гнева (уж сын его знал, что это). И все то ему казалось, либо враждебным, либо каким-то однобоким - так или относящимся к нему...
Однако теперь, рядом были приятели - они поторапливали его:
- Давай, выгребаем запасы! Слышь, Кирюх, помоги, а?..
Из грузовичка вынесли скатерти; затем - большие пакеты с едою.
А двое удальцов, взявши пилы, забрались по стволу дуба, и усевшись на древесных развилках принялись пилить две самые большие ветви.
Листья старого дерева зашумели печально, и все лежавшие на земле собаки услышали горестный стон, который, передаваясь от корней дуба, дошел и до них.
"Вжжих - ввжжих!" - пронзительно врезались в живую плоть пилы, и дерево шумело, стонало, перекатывалось лиственными волнами уж непрестанно - но никто, кроме мальчика, не замечал этого - ведь, дул довольно сильный ветер.
Мальчик же, чувства которого, от несчастного его существования, были обострены чрезвычайно, все почувствовал - и без страха, но с жалостью посмотрел на живое, страдающее древо.
"Медведь" заметил его, одиноко стоящего, сжавшегося - так похожего на побитого щенка. В постоянной своей болезненной злобе "медведь" подошел к нему и раздраженно, сам от того лишь боль чувствуя, прохрипел:
- Ты чего тут встал?! Ты чего бездельничаешь?! А ну-ка быстро собирать дрова! Чтобы набрал сухих и тонких веток! И быстро! Ты понял?!
Мальчик кивнул и поспешил к кустам. Он был рад, что хоть ненадолго убежал от всей этой компании. Он, вообще, хотел остаться в лесу навсегда... И вот он шел среди стволов, придумывая, чтобы сказать в оправдание, если он задержится.
Вот средь стволов стремительно промелькнуло серенькое пятнышко - мальчик тут же присел на корточки, вглядываясь. Котенок!
Такой забавный пепельно-серый котенок! Ах, как тут обрадовался мальчик! Он то, ведь, так давно хотел такого друга! Такого маленького, доброго, забавного - такого, который согревал бы его, утешал в трудную минуту. Такого игривого, в котором нет этой постылой злобы, такого мягкого мурлыку... Отец его ненавидел животных, - особенно кошек и собак и, конечно, о таком друге нечего было и мечтать. А подумав как-то мальчик решил, что и не надо - что за житье ему будет?! Свое раздражение "медведь" примется вымещать и на нем...
Но как же ему хотелось такого маленького друга, которому можно бы доверить все свои тайны; который все выслушает, все поймет, утешит своей ласкою.
И вот теперь он, желая хоть бы немного подержать котенка на руках, позвал его:
- Кис-кис-кис!
А Томас, которому претило лежать в укрытии с собаками, и который вышел поохотиться на птиц, услышав этот печальный зов, повернул мордочку к мальчику, замер, разглядывая его.
Он сразу почувствовал Одиночество мальчика. И он, хоть и успел уже несколько одичать за эти проведенные в лесу дни, тут же и подбежал к нему подпрыгнул - вцепился коготками в поясок, и вот уже перебрался на ладошки.
- Мурка! Мурка, маленький! - восторженно воскликнул мальчик, и осторожно прижавши котенка к груди принялся его гладить.
А Томас замурлыкал.
Но, хоть приятна было Томасу теплота этих рук, мурлыкал он вовсе не от удовольствия, а желая, передавая добрый свои чувства, хоть на время остановить то, что почувствовал он в груди мальчика. А там - от напряжения, от постоянных обид, разросся некий ком, что-то потресканное, изломленное. И совсем не так, как надо бы стучало его сердце - и Томас знал, что растущий этот, охватывающий незримый паутиной ком, года через два приведет к смерти.
И он все мурлыкал, пытаясь хоть ненадолго скрутить этот, взращенный окружением недуг.
А мальчик, против обычного своего, опустошенного состояния, почувствовал тепло...
- Котеночек, котеночек... - шептал он, не зная, как оставит его, и вернется назад к ним, в тот Болью пронзенный мир.
И тут он увидел лисицу! Точнее - он сначала подумал, что - это рыжая лисица, загораясь пышно-облачным пламенем в солнечных колоннах бежит прямо к нему. В его голове даже успела зародиться сказка о житье, дружбе котенка и лисица.
Однако, когда "лисица" подбежала поближе, мальчик понял, что вовсе это и не лисица, но маленькая рыжая собачка, с черной мордочкой и пушистым, приветливо ему помахивающим хвостом.
Джой остановился в двух шагах от мальчика и поднял ушки топориком, ожидая, что тот скажет.
А он и впрямь хотел сказать что-то о том, какие они замечательные, хотел погладить этого забавного песика, хотел поиграть с ними, однако, тут с поляны раздался крик "медведя".
- Ты! Сын! Ты что?! Я же сказал - не задерживаться! Мне долго тебя звать?! - в голосе уже слышались хмельные нотки...
Мальчик вздрогнул, выпустил Томаса, который еще потерся о его ноги. Чуть ли не плача, весь побледнев, он едва смог сказать:
- Отец сегодня особенно злой... Я же еще ничего не собрал... Эх, как не хочу возвращаться! Жили бы мы вместе с вами, но это мечты, а мечты... они никогда не сбываются. Мечты - на то и мечты, чтобы оставаться мечтами.
Он сгорбился, сжался; медленно и тяжело переступая, побрел туда, откуда беспрерывной канонадой прорывалась дробь музыкальная, голосовая, и визг все глубже врезающихся в древесную плоть пил. В общем - адская какофония, к которой участники ее привыкли настолько, что и не замечали.
Томас и Джой прошли за мальчиком до края поляны, замерли там, наблюдая за дальнейшим.
Мальчик по дороге подобрал еще несколько веток, и хоть видел своих маленький друзей, уже не обращался к ним, а в глазах его виделась отрешенность и отчаянье...
А на поляне, тем временем, началась пьянка - "медведь", его жена, еще несколько человек, расселись подле скатерти, на которой расставлены уж были бутылки, уж пили - уж несли поток пустых слов...
А те двое, которые пилили самые большие ветви дуба - уже уставшие, взмокшие, кричали:
- Эй вы! Без нас?! Да мы сейчас пилить не станем!
- Пилите быстрее и спускайтесь! Нам нужен костер! - завопил, смеясь, кто-то.
- Нам нужен костер! - заревел "медведь" и, что было сил запустил пустую бутылку от водки в древесную кожу-кору.
Бутылка, зазвенела, с пронзительным треском раскололась на веер осколков, а днище ее, сверкнув на солнце слепящим яростным взглядом метнулось на край поляны. Как раз туда, откуда шел, сжавшийся, бледный мальчик.
- А, вернулся! Ну... сейчас я с ним! Гулена! И без дров! - медведь поднялся и, заметно покачиваясь, бормоча что-то, побрел навстречу своему сыну.
Кто-то из дружков окрикнул его:
- Эй, да ладно тебе! Слушай да отдыхать, ведь, приехали! Воспитаешь своего пасынка потом! Вернись к столу!
Также и мать, бесчувственным, безучастным голосом, окликнула его:
- Оставь ты.
Захмелевший "медведь" повернулся, показал им кулачище и прохрипел:
- Мой сын...! Я за него и возьмусь! Не лезьте в дела воспитания, если в них не смыслите! Поняли?!
И вот он навис над мальчиком, схватил его за ухо, стал выкручивать, другой же рукой, вырвал те ветви, которые мальчик успел подобрать на обратной дороге. Затем, не выпуская уха, выкручивая его все больше - до треска выкручивая, стал со всей силы, и все больше разъяряясь, бить его огромной своей ладонью по щекам, по лбу - по всему лицу. Он бил с яростью, да все сильнее и сильнее, - казалось, что в конце концов он убьет своего сына.
Из носа мальчика пошла кровь, и он всхлипнул было: "Не надо..." - но вот замолчал - и с ненавистью взглянул на своего мучителя.
- Ах ты! - шипел пьяный "медведь". - Тебе же сказано было - не задерживаться! Почему я должен ждать тебя?! Ты что - совсем отупел?! Где дрова?! Нам костер нужен - ты это понимаешь?! Почему ты растешь таким недоноском, идиотом?! Да тебя...
Заплетающийся этот поток фраз - был прерван, на него налетел двухметровый дог и вцепился в ладонь, которой "медведь" выкручивал ухо. Он тут же, клыками прогрыз ее до кости - сжал сильнее, и кости с сухим треском раздробились - все ладонь была перемолота...
Дог с самого начала с яростью смотрел на "медведя" - когда тот орал на сына, поднимался из груди дога, пронзительный, студеный, волчий рокот, наливались его глаза кровью и он, оставляя глубокие борозды, начинал скрести землю.
К нему подошел король и дотронулся носом до лба дога: "Успокойся, лежи тихо. Мы должны прятаться. Дождемся, когда они уедут, тогда и выйдем, уберем там все..."
Дог успокоился на некоторое время, но вот, когда "медведь" стал выкручивать мальчику ухо, а другой - по щекам бить, - тут взметнулись в этом двухметровом псе какие-то старые, тяжелые воспоминания. Ярость злила глаза его, и он не мог уже сдерживаться; не мог спокойно смотреть на то, что делалось над беззащитным мальчиком.
Вот он рванулся на "медведя" - черным, копьем пронесся до него. И так стремительно было это нападение, что до тех пор, пока "медведь", не завизжал пронзительно - никто из людей и не понял, что же произошло.
Мальчик, на по красным, припухшим щекам которого стекала кровь от раздавленной отцовской кисти, упал на траву и не издавая ни звука, пополз к деревьям.
А "медведь" от вспышки боли протрезвел - вот он уже понял, что к чему целой ручищей перехватил дога за горло - сжал - псу удалось вырваться.
Но пес тут же вновь налетел на этого человека. С хрипом, страшными проклятьями, кубарем покатились они по земле - удары кулаком - кляцканье челюстей - все это переплелось, и ничего уж нельзя было разобрать в этом клубке боли.
Жена "медведя" истошно завопила, и в это же время разом рухнули спиленные ветви дуба. Как уже говорилось - это были две самые большие ветви - сами размером с деревья. Казалось, что у дерева отрубили руки - оно все передернулось, все застонало от корней и до самой вершины кроны.
С гулом, с отчаянным треском падали эти две руки - падая, они переломали и еще несколько ветвей, и те то, задетые ветви - рухнули прямо на бутылочную скатерть, разливая и разбивая все, что там было.
Сидевшие вскочили. Жена вопила.
- На Кирюху волк напал! - сообразил кто-то.
- Ружье в машине!
- Скорее к Кирюхе!
И вот один полез в машину за ружьем, которое взято было просто для развлечения - для стрельбы по мишеням.
Трое бросились на выручку "медведю" - остальные предпочли остаться возле разгромленного стола.
Дог, рвался к горлу, но "медведю" пока удавалось удерживать его здоровой рукой. И "медведь" и дог все залеплены были кровью, у дога выбит был глаз у "медведя" - клоками разодрано лицо.
Вот подбежал кто-то с ружьем, замер, выбирая удобный момент, вот размахнулся - нанес удар прикладом в череп дога.
Пес дернулся, рванулся к горлу "медведя" из всех сил - тот не выдержал этого натиска - зашелся пронзительным визгом - вот клыки разодрали рубашку возле его горла - вот заскрежетали ближе...
Новый, страшной силы удар прикладом, откинул голову дога, что-то хрустнуло, и огромный этот пес, заливаясь кровью, закрутился по траве.
Человек у которого было ружье, прицелился выстрелил в пса - тот еще скрежетал челюстями, еще пытался ползти на "медведя" - еще один выстрел - на этот раз пуля вошла в череп...
Переполошились, и не слушались своей "няньки" щенки - их тявканье, призывы вернуться родителей довольно слышно было на поляне.
Дружки "медведя" тараторили возбужденными голосами:
- Это не волк! Это дикий пес! Может - бешенный! Да у них тут целая свора!
В это время из зарослей раздалось горестное завыванье, а следом появилась большая беспородная собака - подруга дога. Дорогу ей перегородил король эта собака с почти человеческими глазами, спокойно пролаяла:
"Его уже не спасешь" - и оттеснила тоскующую подругу обратно, за древесные стволы.
В это же время и мальчик достиг первых деревьев - до этого он просто шел, но теперь вскочил и бросился бежать.
- Саша! - завопила его мать, но мальчик мчался не останавливаясь и вскоре его уже не стало видно за ветвями.
Подняли "медведя" и он видел, как убегает его сын, видел он и короля, слышал он и щенячье лаянье. Вот поднес к глазам кровоточащий ошметок, бывший когда-то кистью... глаза его заблестели безумно, он зашипел:
- Теперь я понял - мой сын-недоносок в заговоре с этой сворой! Но им меня не пронять! Мы хотели охоту... будет вам охота... за мной... - голос его все больше срывался на истеричные, визжащие нотки.
Вот он рванулся к тому приятелю у которого было ружье, и который только успел это ружье перезарядить, ожидая, что появятся иные собаки. Медведь налетел на него, стал выдирать ружье.
- Кирюха, ты чего?! Ты - это брось! Уезжаем! Тебе скорее в больницу кровоток остановят! Уколы...
- Вот тебе уколы! - "медведь" со всей яростью ударил этого человека, разбил ему в кровь все лицо, вырвал винтовку, и с воплем бросился к зарослям...
- Быстрее, за ним!... Оружие в машине - еще одна винтовка - два пистолета! - полились голоса - забегали и вот следом за "медведем" рванулись еще трое вооруженных мужчин.
Как только залегшие в кустах собаки увидели, что прямо на них несется гора плоти, с безумными яростными глазами и с карабином - они тут же бесшумно и стремительно отступили в заросли...
Будь они одни, так тут же разбежались в разные стороны, но у них были дети и старики. Щенята заливались лаем, и не смотря на старания "няньки" продвигались в их сторону. Навстречу своим щенкам и бросилось все это собачье сообщество.
Позади всех, смотря, чтобы никто не отстал, бежали король с королевой. Перед ними - неразлучные Джой и Томас, ну а рядом с Томасом, еще та безымянная белая собачка, со сосредоточенными теперь глазками.
Имена, всему вообще свойственно давать только человеку. Что он бы не увидел, - он назовет коротким сочетанием звуков.Животным такое не свойственно - каждый предмет они воспринимают в целом, в связи его с бесконечностью, и не придают ему каких-то коротких, по сути ничего не значащих, звукосочетаний. Казалось бы собаки - эти быстроногие животные, так хорошо знавшие лес, так часто среди этих стволов бегавшие - должны были быстро оставить "медведя" далеко позади, однако человек этот пришедший в нечеловеческую ярость, несся с огромной скоростью.
Вот он врезался в молодое деревцо и оно с треском переломилось от массы его тела. С губ его, вместе с пеной, срывались страшные проклятья:
- Эх, ты маленькая скотина! Я давно уже догадывался, что ты задумал погубить меня! Но теперь я все понял! Ты в сговоре с этими псами! Ну, сынок, это пуля для тебя! Не уйдешь! Ты слышишь меня?!
Король, видя, что "медведь" их нагоняет, отстал, залег в зарослях и, когда эта гора мускул, проносилась возле него, метнулся ему под ноги. Медведь споткнулся и, падая, попытался ухватить короля - однако тот оказался проворнее - тенью в заросли метнулся.
"Медведь" вновь был на ногах - он зарычал, и еще быстрее метнулся вперед. Он уже и не кричал ничего, только слюной брызгал, да шипел...
Тем временем, на полянке, обнятой родниковым ручейком встретились псы со своими щенками...
Позади нарастал грохот прорывающегося через заросли медведя, а за ним крики еще троих:
- Кирюха! Стой ты! Их же здесь целая стая!
И в это время, так давно собиравшийся, зарычал и неожиданно надвинулся гром. Черные тучи наползли из-за крон деревьев, весь застонал в сильном и долгом, ветряном порыве. Вот он уже зашумел по новому - от дождевых потоков. Капли певучими стенами сыпали со всех сторон - все нарастала их плотность это был уже настоящий ливень.
Это была завеса! "Медведь" выбежал на поляну и увидел только метнувшихся в разные стороны собак - теперь они могли разбежаться - щенки были в их клыках. А одного старого немощного пса, относил на своей спине, громадная и беспородная псина.
- Сын ко мне! - взревел "медведь" и тут увидел белое пятнышко - столь белое, что его отчетливо было видно и за пеленой дождя. Он положил ружье на локоть раздробленной руки, прицелился...
Джой бежавший рядом с "белой" почувствовал, какая ей грозит опасность. Не было времени оборачиваться - он, повинуясь чувству своему, взметнулся в воздух оттолкнул ее в сторону...
Пение дождя, словно ножом, рассек ружейный выстрел. Пуля предназначенная белой собаке, попала в заднюю лапу Джоя, раздробила, разорвала ее.
Рыжая собачка, жалобно завывая, покатилась по земле. Попыталась подняться - "медведь" был уже над нею.
- Сдохни! - ревел он, занося приклад.
Тут что-то стремительное метнулось по ноге его, вот по рубахе - вот уже на лбу. Неожиданно он ослеп - какие-то иглы вцепились в его плоть пониже глаз, повели вверх...
Он завизжал, выронил ружье, схватил это-то, неведомое ему - оторвал от головы, и ничего за кровавой пеленой не видя, отбросил в сторону покачиваясь, пробрел несколько шагов. Да тут нежданно, как когда-нибудь потом смерть, набросилось на него забытье, схватило его черными тисками - и он уже ничего не видел и не чувствовал...
Приближались крики, Джой, с разорванной лапой скулил, пытался подняться, но все безуспешно. Томас и "белая" не отходили от него, готовы были защищать его до последнего...
Кусты нежданно распахнулись и выбежали сразу король и мальчик.
Король подхватил Джоя клыками, потащил под защиту зарослей. Мальчик побежал следом за ними, плача и шепча:
- Я останусь с вами, я буду жить с вами, как Маугли! Вы такие хорошее! Я буду счастлив с вами! Я не за что не вернусь в город! Теперь этот... отец он же убьет меня!.. Я не хочу туда возвращаться - там зло, там тяжко мне...
И в это время дождь также неожиданно, как и начался закончился. Освобожденные от стремительных туч, лучи солнечные прорвались, разлились средь ветвей, заблистали, зазолотились яростными слезами, в летящем с ветвей каплях. А ветер дул по прежнему - шумел мокрой листвою - и весь лес заходился тревожным, беду предвещающим напевом...
* * *
Дима остался жив в тот октябрьский день. Видно, местом его смерти суждено было стать не полуобвалившейся плите в мертвом, южном доме - но какому-то иному, быть может и более живописному уголку.
Житель страны не мог видеть забившего в темный угол Диму, он стрельнул наугад и промазал. Пуля раздробила стену в сантиметре от его уха и, возможно, именно от силы удара того, вместе с кровью из ушей, потерял он и сознание.
Черные облака вдруг рассеялись и тогда... тогда он понял, что попал в блаженный мир. Он вновь шел по парку - и там везде были Жизнь и Любовь слитые воедино - все сияло ими, а на скамейке, словно фонтан, озаряющий весь этот, улыбающийся ему мир - сидела Она - прекрасная Дева с белыми волосами. Он подошел к ней, протянул навстречу пальцы - вот их руки должны были встретиться - какой же это миг! Как вспыхнуло сердце! Из него рванулась светлая песнь, стихи...
Загудел, раздробился раскат и милый сердцу его мир, был разрушен. Парк затянулся пеленою, а потом и пелена была поглощена уродливыми углами разрушений.
Впрочем, почти ничего не было видно - наступила ночь - и лишь пробивающиеся с улиц отсветы пожарищ, давали минимальное освещение, мучаясь на перекошенном бетоне...
Многие дни в Димином дневнике не появлялось ни одной записи, но вот однажды появилось там сразу множество исписанных страниц:
"Так - сейчас главное собраться, описать все, что стоит описания за эти дни, а так же и еще кое-что... ведь, этот дневник может быть найден. Быть может, - так на это надеюсь! (хотя в душе и понимаю, как это несбыточно) Она прочитает его... Так бы хотелось в это верить... Вдруг, все же...
Ежели ты читаешь, о Дева, которую видел я лишь мгновенье, то я счастлив безмерно, тогда я улыбаюсь, глядя на этот лист! Знай же, что вся жизнь до того мгновенья, и все это кошмарное существование после него - ничто! Вся вечность ничто перед тем мгновеньем! Оно, то мгновенье, когда я увидел тебя, оно каждый день в памяти, в сердце, в душе моей произрастает непрерывно. Я вижу его цветком среди развалин поднявшимся... Впрочем, все то слова, и, мне кажется они слишком блеклые против моих чувств. Потому оставим...
Пока я опишу, что со мной было за эти дни. Эх, голова так гудит - пальцы не гнуться - все тело, словно разваливается... Лишь бы суметь дописать. Ну а пока, на всякий случай, я просто скажу, что вас Люблю. Я могу так говорить, я выстрадал это... Как же я вас Люблю! Господи, как же жаль, что не могу вам этого сказать прямо! Господи, как же я вас люблю... слезы...
Сейчас так не хочется возвращаться из моих чувств к тебе туда, назад, в город - но все же описать надо, потому что иначе никто про это и не узнает. Постараюсь быть краток, так как времени осталось совсем немного...
Итак, начнем с того, что было семь дней назад.
Я очнулся в темноте, выбрался из своего укрытия - огляделся. Оброненный мною автомат, конечно же забрали. А если бы даже и оставили - я бы не взял его. С некоторых пор меня стало воротить от одного вида оружия. Любого оружия, черт подери!
Во дворе у костров грелись жителей этой страны. Где-то дальше гремело, разрывалось, прорывался треск пулеметов - все то, к чему я так и не смог привыкнуть. Все то, что истерзало... Ладно...
Мне удалось пробраться никем незамеченным, выползти на улицу.
Вот там ждало меня тяжкое испытанье, описание которого, о Дева, вы все же дочитайте до конца.
Вы, должно быть, не знаете, как пахнет горелая плоть. Этот запах захлестывает пронзительной волною, он прорезается к вам в легкие, и вас выкручивает наизнанку. Вас выкручивает, но не рвет, вы Дева, вся выкручена на изнанку, все болит все рвется - все сильнее и сильнее и от этого нельзя убежать - к этому, если у тебя честная сердце и душа, нельзя привыкнуть.
Зачем пишу вам это? Вам прекрасной и святой, которая никогда и не ведала о подобных ужасах?... Потому что все это время я вспоминал вас, и вас образ был безмерно сильнее этого, людьми созданного ада. Вы должны это знать, потому что - верю! - прошлись бы вы по этим черным улицам и улеглась бы боль; а там, где бы вы ступали, дева, произрастали цветы! Вы бы предвечным родником... Нет, я мог бы писать это вечно, и лучше - в стихах. Но у меня впереди не вечность, а считанные часы, а то и минуты.
Итак, я продвигался по улице, стараясь держаться теней, хотя их было не так уж и много; часто догорала подбитая наша техника, просто какой-то хлам. И среди всего этого трупы: просто трупы, трупы обгоревшие, ошметки плоти...
Часто я слышал речь людей, которых, по какой-то причине, должен был бояться, когда они проходили рядом, я притворялся мертвым. В этом городе лежащий на асфальте мертвый привлекает куда меньше внимания, чем живой.
Я очень изнемог на этих улицах - они высасывали силы - не думайте, что мне хотелось есть... От еды меня воротило, с тех пор, как появился Запах. Это было очень долгое, напряженное, выматывающее болезненным окружением, продвижение вперед - я также желал вырваться из города, как орел привыкший к белоснежным вершинам гор, и полетам среди гор-облаков и посаженный в узкую клетку...
Чтобы продолжить продвижение в необходимом мне направлении, требовалось пересечь улицу. Сначала я пополз, но улица была перегорожена обломками дома и тогда пришлось приподняться.
Дальше я уже не полз и вскоре поплатился за это.
Окрик на местом наречии - слов было не понять, но смысл ясен - спрашивали или имя, или пароль.
Тут же из-за укрытия вышел местный воин, в руках он держал направленный на меня автомат - лицо темная, в глазах, я навсегда запомнил - страшная Жажда, что Ничего не было.
Я слышал, что они берут в плен, и к пленным относятся довольно сносно, никого, во всяком случае, не убивают. Но я бы не смог сдаться.
Как только представил Я, что ждут меня недели, а то и Месяцы в каком-нибудь подвале, вдали от Вас, тогда я понял, что лучше уж смерть. Нет - я не хотел умирать, просто быстрая смерть казалась лучшего такого медленного загнивания, ежедневной, безысходной муки.
И я рванулся прочь, не назад - за завал, а около него, в ту сторону, где разумел - находитесь вы.
Я ждал очереди - ждал, что, как только застрекочет она - упаду - и так, получив, быть может, только одно ранение, притворюсь убитым.
Не знаю - может быть, он почувствовал, что-то - но он мог бы меня убить ведь - это был боец, ну а я - вовсе не герой, мимо которого изворачиваются все пули.
Сначала я и не понял, что он стреляет; потом вижу - пули скребутся, искры высекают из брони нашего танка, который догорал там на улице. Но я не падал - я просто забыл, что должен падать, я Жаждал вырваться из этого Ада.
Но вот, под ногу подвернулось что-то, падение...
Видно то - куда я упал, не было просто совпадением - то, что я тогда пережил чудовищно, и не знаю кому то было угодно - Богу или сатане. Но, если это совпадение, то совпадение слишком уж неслыханное.
Не знал я, что наш отряд прорывался по этой улицы. Какая-та мясорубка там произошла... Я споткнулся о нашего командира, того самого который недавно орал на меня.
Я упал на его грудь, прямо предо мной было его окровавленное лицо и он был еще жив... Позади подошел местный, поставил мне ногу на спину, стал вдавливать в командира.
Во мне сейчас ад и рай. Я описываю ад. Простите. Мне это не приятно. Я должен описать это, чтобы знали вы, что все - и самое высшее проявление небесная и самая глубокая мерзость адская - все есть на этой земле. И от мерзости нельзя отворачиваться - ее надо помнить и стремиться вверх.
Это останется навсегда с моих духом: он вдавливал меня, а у командира была разодрана грудь - это теплое, вязкое пропитывало меня. Уткнулся в его лицо и глаза его - огромные, страдающие глаза прямо предо мной.
А под ним - еще одно тело. Целый завал получился - наверху этот, давит меня сапожищем, подомной - командир умирает, ну а внизу - сожженный, я уж и не знаю кто - лицо сморщенное, черное, прогоревшее. Когда стали меня вдавливать раздался треск - ну Вы понимаете, сидите в саду у фонтана и понимаете - мясо то почти все прогорело - кости то и ломаются - проседать мы стали.
Тогда получилось так, что уши мои как раз к губам командира попали и он хрипит и шепчет мне, и с каждым словом кровь из его продавливаемой груди мне в ухо врывается:
- А это ты... Улететь захотел из темницы?.. Как же ты давишь на грудь мою... Я то умираю. Слышь-ка - ты все-таки последний, с кем я здесь говорю. Ты вырвешься - найди в городе *(тут читатель позволит пропустить мне адрес и фамилию) - жену мою... Передай, что любил; подробностей не рассказывай - а скажи, что убили - и все. Тело, все равно, не найдут. Передай, что очень хотел вернуться - просто передай эти слова - она все поймет...
Хотелось шепнуть ему что-нибудь в утешение, но он умер - я понял это потому, что второе сердце которое билось в груди моей - перестало биться.
Меня все вжимали - хрустели кости сожженного...
И тогда я вспоминал Мгновенье. Тогда я сочинил стихи, которые запомнил, и часто повторял в дальнейших муках.
Свет небесный, адский рокот
Предназначили мгновенье,
Не услышав твой и шепот,
Помню я души свеченье.
Вечность - то пустое слово,
Все ведь смерть, во тьму затянет,
Все, что было юно, ново
В тлении, потом, увянет.
Но свет звезд, которым время,
Присудило умереть,
Бога творческое семя
Будут во душе гореть.
И одно мгновенье стоит
Ад и холод, страх и стужу,
Вспоминаньем душу поит,
Здесь о гибели не тужу.
И от лика, и от лика,
И от светлых ваших глаз,
Новый мир, Любовь велика,
Возрастают в Вечный сказ.
Такие, может и не слишком изысканные стихи, но я сочинил их в аду, вспоминая Вас. Это еще раз доказывает, что одно мгновенье; и небольшое, по физическому объему место, могут поглотить ад со всеми его ужасами.
Эти строки тогда сами и безудержно рождались в моей голове; может, я их шептал, может - кричал - не помню. Но сапог все давил мне на спину, и мы оседали, проминая сгоревшего. Затем пришло забытье, и это было сладостное забытье, ибо там я вновь был в Саду, и вы сидели на скамейке возле фонтана...
Когда я очнулся, из под темно-серого купола преисподней только начинало пробиваться тусклое дневное освещение. Открыл глаза, а прямо пред ними глаза мертвые - такое чувство, будто смотришь в озера, промороженные в одно мгновенье и до самого дня - навсегда промороженные ядовитым холодом.
Быть может эти устремленные в неба глаза надо было закрыть? Я их не стал закрывать... Не знаю почему... Кажется, мне их страшно было закрывать... А зачем люди закрывают мертвым глаза?... Наверно от страха случайно взглянуть туда - в эту мертвую бездну...
В тот день мне предстояло выйти из города. При свете этого тусклого, с таким презрением, неохотой высвечивающего людскую грязь дня - мне приходилось пробираться еще медленнее, осторожнее, нежели прошедшей ночью.
А хотелось вскочить, и бежать к Вам, бежать со всех сил! Знайте, что каждый миг пребывания в этой темнице - это миг боли, это страстная жажда вырваться! Во мне был ад: вывертывало от запахов к которым нельзя привыкнуть, напряжение - постоянное, ежесекундное - эта жажда вырваться - не ползти, не дрожать, но солнечной стрелой, но орлом вырваться - вырваться, господи, из этого, душу давящего!
Но мне надо быть осторожным. Вы понимаете, что я избегал встреч не только с жителями этой страны, но и солдатами пригнанными сюда с моей родины. Думаю не стоит описывать, как пробирался возле наших постов - времени нет. Отмечу только, что на это ушло несколько часов и, когда последние дымящиеся развалины Города остались позади, время уже клонилось к вечеру. Небо становилось все темнее - это была болезненная, густая серость. Казалось, что это гной долго копившийся в ране, прорвался, залил все, что было чистое.
Я пытался бороться с отчаяньем, пытался приободриться мыслью, что, все-таки, вырвался из города, но чтобы понять, отчего отчаянье, все-таки, сжимало меня, опишу, окружающее меня...
Итак, позади дымились окраинные развалины. Я мог даже слышать отчаянную, мучительную ругань загнанных сюда наших ребят. А вокруг меня - вокруг простирались мрачные, с отвращением на меня глядящие, сами болью и грязью пронзенные просторы. Находясь в Городе, бегая среди разрушенных стен, я и забыл, что теперь конец октября, а здесь это уже почти зима. В Городе нет времен года - там Ад, там все опутано жаром пожарищ и вонью гниющих.
А за городом уже выпал снег. Его было недостаточно, чтобы прикрыть размытую дождями, похожую на одну гноящуюся рану, землю. Во многих местах грязь проступала из снега, а ледяные лужи, со злой бесприютностью леденели и без того холодный воздух... Впереди, насколько мог я различить в сумерках, тянулось и тянулось это унынье. Местность не была ровной - она вздыбливалась холмами - словно, что-то с болью набухало из земли, да все никак не могло вырваться, пронзить небо. Также местность опадала, какими-то уродливыми низменностями с темными, отекающими грязью склонами - они были подобны ранам выскобленными чудовищными ножами в земле.
Я не мог выйти на дорогу, но я не решался и отойти от нее - ведь дорога вела к Вам, а что если бы я заблудился на этих неприкаянных, обделенных любовью, озлобленных просторах? Тут и там, дорогу окружали наши стоянки какие-то несчастные продвигаемые на бойню отряды; техника грохочущая, для боли, для смерти созданная, обреченная сгореть, взорваться, испечь в себе этих - еще живых, еще боящихся, еще пьющих, старающихся забыться...
И из этих стоянок, возле которых я полз, по грязи по снегу - канонадой боли вырывалась их слитая воедино, многоголосая речь - она подобна была адскому хору. В ней и смех был болью - в ней все было напряженной, недоумевающей о смысле происходящего болью.
И несколько раз, по близости от этих лагерей, я натыкался на следы преступлений над Жизнью и Совестью. То были убиенные жители этой страны, те - кто защищался, те - кто стрелял в ответ. На них оставалось только нижнее белье - нет, сначала я подумал, что это - просто распухшие куски кровоточащего мяса - потом уж понял - это были, когда-то люди.
Может, стоило отвернуться от них сразу? Ползти дальше? Нет - надо смотреть. Надо запомнить, надо рассказать. Перед тем как расстрелять - их били. Не знаю чем - прикладами, ногами, палками - не знаю сколько били, но думаю - долго, не один день - сменяясь - пытаясь вырвать из себя злобу. Я знаю - это делали сыны неприкаянных, безымянных городков, всей этой великой, растоптанной подлецами страны. К черту политику! - Я просто пишу про подлость, про боль... А у них все кости размолоты были - лица распухли потому что там кости от ударов раздробились и кости эти, острые обрубки их из кожи вырывались, глаза вытекли а черепа мягкие, как футбольные шары.
Я, поэт, должен был все это знать, я все это ощупал. И вы там, сидя у фонтана, слушая, как птицы поют - вы читайте... Читайте! Читайте, чтобы понять, как же прекрасна Жизнь! Смотрите на окружающий вас Сад, и поймите, как же прекрасен он - эту мерзость людьми совершенную, постигнуть невозможно - но только прикоснувшись к ней - вы же и поймете, как прекрасен окружающий вас Сад.
А я, с окровавленными руками, весь грязный, подобный червю полз дальше невозможно было остаться наедине с этой ночью-мученицей. Я не мог оставаться на месте, хоть и усталость вжимала меня в землю - не от того, что боялся замерзнуть; а от того, что после увиденного, просто не мог оставаться на месте. Дух жаждал изжечь сердце.
И так мне от всего этого тошно стало, что я рвался образами-стихами:
В нежном журчанье весенней воды,
Солнце споет мне о первой любви,
И, среди крон светло-синей чреды,
Птицы мне скажут: "Ее позови!
Выйди на поле, там - среди трав,
Выситься ствол одинокой березы,
К ней подойди, слово сердца сказав,
Чьюи! Исполнятся сердца тут грезы.
Та, о ком долго, так долго мечтал,
Та, кому столько стихов исписал,
И во лесах, в городах - так искал
Та, о кой, в слезах счастливых мечтал:
В светлом уборе выйдет она,
Нежно обнимет, наш милый, тебя,
Та, кто взросла из землицы одна,
Пеньем коснется, тебя, брат, любя!"
Так вот, прорываясь через круги ада, создавал я в себе светлые образы. И впрямь - видел пред собой весенние ручьи, деревья все окутанные нежным небесным светом, слышал и голоса птиц, которые напевали мне эти строки...
Все же, уже ближе к утру, я пробиваемый дрожью, шепчущий свои стихи и стихи иных поэтов, скатился по грязевому склону в земельную рану, да там сразу и забылся.
Знаете - блуждая во тьме, я мог еще ужасаться, представляя, что замерзну, что так и останусь там лежать... Вырваться из забытья я не мог - оно само было разрушено гулом пролетевшего низко самолета.
И вновь я полз по снегу. Вновь небо было завешено темно-серым покрывалом, из которого к тому же, вместе с жестким ветром сыпался мокрый снег. Нет это не снежинки были - это были холодные, со слизью плевки самого неба.
К тому времени, двое суток я совсем ничего не ел. Виделся мне хлеб мягкие дымящиеся караваи, да теплое, парное молоко...
Тогда я полз, делая частые рывки; делал я их, как машина - автоматически. Вперед... вперед... вперед... Ничего вокруг, кроме мокрого снега да грязи не видя, рвался и рвался вперед - а в сердце вспыхивали то обрывки стихотворений, то мгновенье - истерзанное, поблекшее от усталости моей.
Потом уж - не знаю через сколько часов, понял, что сбился от дороги. Что за холодными плевками неба проступают какие-то скрюченные, дрожащие деревца и уж неведомо, где дорога к Вам...
От страха остаться, погибнуть так вот - не увидев вас вновь - от этого стал я судорожно рваться куда-то вперед.
Помню - деревца, сыплющая, леденящая слюна, помню овраги в которые скатывался, а потом выбирался - впиваясь в замерзшую жесткую землю кровоточащими, посиневшими пальцами.
И я бы умер там, а не здесь, записывая эти строки - ибо уже не было сил.
Дух еще рвался вперед, но рвался в мертвом теле. Дух мой был и остается жаждущим свободы орлом заключенным в тесную, все сжимающую клеть, где он уже и крылом не может пошевелить...
Страшно - голова повалилась в снег, и уже не поднимешь - как облако оно замерзшее ледяной горой, да на землю рухнувшее. А в голове то еще беспрерывные порывы: "Вперед! Вперед!" - в голове то еще жажда Вас увидеть. Не приведи бог никому пережить то, что я там пережил, промерзая.
Мой слух, вместе с духом рвущийся из умирающего тела, обострился; и вот, за равномерным гулом небесных плевков, услышал я, вроде, как женщина рыдает...
Вот эти то звуки - эти отчаянные звуки, живым существом издаваемые, эти страдающие завывания придали мне новых сил. Значит кто-то страдал так же, как и я - рыдая. Нам надо было быть вместе, мы должны были друг друга утешить, согреть...
И я пополз - мучительно медленно, как через трясину прорываясь. Я хватался задеревеневшими пальцами за стволы - до хруста сжавши зубы, подтягивался; вновь хватался, вновь и вновь вспоминая Вас - медленно, ох... слишком, слишком медленно приближался к рыдающей...
Но, все же, я дополз. Не знаю, как я выглядел, да и как теперь выгляжу, но наверное, действительно, больше походил на червя, нежели на человека. Лес закончился и предо мной, на возвышенности, стоял простой крестьянский домик, виден был двор... туда вела деревянная лестница, по которой уж и не смог бы я подняться.
Тогда я собрался и крикнул:
- Матушка! Помогите мне! - так хотел я крикнуть, но знаю, что с губ моих сорвался лишь стон - громкий, хриплый, похожий на вопль демона.
А плач оборвался с этим моим зовом. Я вновь упал головой в снег, но тут услышал приближающиеся быстрые шаги, тоскливый окрик на незнакомом мне языке.
Я смог перевернуться. Предо мной стояла та самая, рыдавшая женщина. Это была дочерь гор. Когда-то, должно быть, она была молодая и красива, легкая, быстрая словно горная козочка, да с черною косой - теперь она стояла предо мной старухой-колдуньей. Высокая, худая настолько, что черная морщинистая кожа, обтягивала лицо и, казалось, что морщины уходят в самые ее кости. Волосы - белые, мокрые - ветер их трепал, как обессилевшие крылья. А нос ее! Одинокий утес - выступающий из бездны боли! И на этом вытянутом, страшном лице - глаза - два огромных черных зрачка, в которых столько боли, что и нельзя в них смотреть без слез, да без чувства, как сердце огненными тисками зажимается. Несмотря на холод - вся одежда ее была - старое, заштопанное, черное платье. Ну а в руках, похожих на истерзанные угловатые ветви - ружье - дуло мне прямо в лицо направлено.
- Рус... - прошипела она с ненавистью.
И я взмолился!
- Почему же и вы меня ненавидите? - хрипел я. - Почему, почему... Да сколько же эта ненависть продолжаться то может...
- Рус. - повторила она, разглядывая мое лицо - и в ее голосе не было прежней ненависти.
Потом она молвила еще несколько печальных слов на своем языке, перебросила ружье через плечо, схватила меня за руки...
Дальнейшего я не помню, но, когда очнулся, меня поджидала меня новая боль.
Вот описание того места: низкий, из составленный из темных бревен потолок. На бревнах повисли мутные капли, видна была плесень. Тусклый, мерцающий огонек высвечивал сцепления балок, а когда повернул голову то увидел земляные, теряющиеся во мраке стены - так я понял, что нахожусь в подвале. Подвал загроможден был какой-то рухлядь: старые, источающие пыль шкафы, сломанные стулья, и даже рояль. Пахло травами, какими-то горскими настойками, мазями, а еще - кровью.
Когда я попробовал пошевелиться, то понял, что привязан к какому-то лежаку; поднес руки к лицу и вот тут ужас на меня нашел.
Представьте - я лишился правой кисти! Ее просто не было - там, где должны были бы шевелиться пальцы - воздух! Сейчас то, кой-как приспособившись, вывожу каракули левой рукой, тогда же мне не по себе стало. В воспаленном, так долго в боли прибывавшем, так много зверств вобравшим мозгу, тут же стали набухать болезненные образы.
Вспомнился так похожий на лик ведьмы - лик старухи. Это она, мстя, за убитого сына, мужа, еще кого-нибудь - она притащила меня в свой дом, в подвал, привязала и начала свою месть: отрезать по очереди мои органы, подвергать меня пыткам - так я действительно решил, прибывая там в одиночестве.
- Лучше бы уж я замер в лесу. - так шептал, разглядывая укороченную руку.
От локтя и до среза она плотно замотана была бинтами, а на месте среза, чувствовалась еще и некая прослойка. Боли не было - разве, что легкое покалывание. Зато тело было расслабленным и, несмотря на ужас, все заваливалось в сон.
- По частям задумала распилить... Но за что?.. Вот, попал в избушку к Бабе-Яге...
Прерывистый сток болезненных мыслей, был прерван одним словом - одним словом, которое объяснило все:
- Гангрена.
Старуха, подошла незаметно и теперь, страшная, с темным, вытянутым лицом стояла возле меня, казалось, что это сама смерть.
И она заговорила на ломанном русском - вот, что я мог понять, из тех пронзительных, тоскливых созвучий:
- Ты весь обмерз, а руки твои особенно. Я старалась излечить их - левую спасла, но на правой начала гнить кисть - если бы я не отсекла - сгнила бы и вся рука, а потом и все тело. Твое тело смазано целебной мазью, во всей округе только я одна еще помню, как готовить ее - она все время греет твое тело, изгоняет из плоти болезнь. Хоть и без кисти, но ты останешься в живых. Ты очень метался, а раз, в бреду, ничего не видя, вскочил на ноги - насилу тебя удержала. Пришлось тебя привязать. Но, теперь твое здоровье в не опасности, можно тебя освободить.
Она достала нож и в несколько мгновений перерезала мои путы.
- Спасибо вам.
- Я хотела тебя убить.
- Но не убили.
- Когда ты заплакал, я вспомнила, что ты тоже чей-то сын. Что смертью твоей я причиню боль твоей матери. Эта боль, которую знает только мать потерявшая сына. Ее не опишешь - с ней нет сравнений!
- А знаете - у меня нет ни матери, ни отца - они погибли.
- Так есть бабушка и дедушка.
- Нет - бабушки уже нет - я это давно почувствовал. Дед тоже умер - давно уже умер.
- Ты говоришь только правду.
- Ложь - боль. Боль и ложь - они кругом - от этого тошнит. Я не могу лгать - меня всего выкручивает от всего того, что не Любовь.
Старуха вздохнула, провела мне жаркой морщинистой ладонью по лбу и спросила:
- Ну а любимая то есть?
- Да... - тут я вспомнил Вас и на сердце мне сразу полегчало.
- Ну вот, видишь. Если ты кого то любишь, значит - жизнь для тебя прекрасна.
Тут она отошла на несколько минут, но потом вернулась, неся в руках семейный альбом. Она пододвинула к моей кровати старое, кресло и, взглянув на меня, с болью выдавила:
- Да, в этом доме отныне все такое старое, все скрипучее, тоскливое; все, как этот мокрый снег, который все валит и валит там, за окном, без конца.
И она раскрыла предо мной альбом. Да - я не ошибся - в юности она была прекрасной и легкой, гибкой, словно горная козочка, черноволосой девушкой.
- Вот это - ныне мертвый муж мой. А вот это - сын... - и тут безжалостным, похожим на лезвие голосом добавила. - Мы жили с ним и были счастливы. Потом пришли вы - захватчики и убили его. - она перелистнула еще несколько страниц, указала на молодого, стройного юношу, с мужественными и ясными чертами лица - в лице том увидел я некий до времени сокрытый талант, он стоял, в волнении улыбаясь фотографу, улыбаясь какому-то неясному внутреннему предчувствию. - А это мой внук. Пока не погиб его отец, я еще удерживала дома, но, когда наши принесли тело - он ушел вместе с партизанами. Жену покойного я, хоть сердце того и не хотело, - уговорила уйти в наши горные укрытия - она, ведь, еще молода, красива... Внука тоже убили - позавчера - как раз, когда ты пришел. А я взглянула в твое лицо поняла, вы бы друзьями могли быть.
И тут эта старая женщина зарыдала, и так горьки, и такой безысходной и беспрерывной тоской наполнены были эти слезы, что, казалось, внутри ее только черная, разжигающая плоть горечь - только эта горечь и ничего боле... Было жаль ее и так хотелось сделать что-нибудь, сделать так, чтобы не было этой боли. Этой беспричинной, гнетущей меня тяжести...
Но тут, на дворе залаял пес, а вскоре там - наверху в дверь застучали это были три размеренных удара.
Старушка закрыла альбом, поднялась и, вытирая свои пронзительные слезы, сказала:
- Это наши. Из того отряда, где сын, а потом внук воевали. Приходят, приносят мне всякой снеди... Ты лежи тут тихо - не звука - понял? Тебя найдут - меня слушать не станут. У них то... у нас то всех - особый на вас зуб. Им то не понять, что мать чувствует.
И она оставила меня, поднялась по лесенке - заскрипела дверь и вот уже над моей головой шумно заходили, затопали. В наполненный темной скорбью дом, ворвался вихрь, боевых, напряженных, басистых голосов. Слова сыпались, как снежинки, что-то спрашивали - старуха глухо отвечала - потом долго говорил кто-то, видно командир - торжественным и сочувственным голосом - старуха прервала его на полуслове - сказав, видно, что-нибудь вроде: "К чему эти пустые слова? Они только принижают глубину чувств!"
Тогда командир прокашлялся и произнес что-то так, будто отдавал приказание. Старуха возразила. Командир повторил, а старуха вздохнула, сказала, наверное: "Что ж спрашиваете, коли все равно, ко мне не прислушиваясь, исполните то, что задумали."
И пол задрожал от тяжести которую по нему тащили. Я видел, как по лестнице в подвал спускались - видел ноги. Старуха отозвала их в другою часть подвала...
Через полчаса все уже было кончено. Дом вновь погрузился в черную, отчаянную боль, вновь стал молчаливым, неприютным, холодном. И вновь предо мною сидела старуха, да шипела своим страдающим голосом:
- Пришли. Говорили про мужество сыночка моего, да внучка. - она всхлипнула и, знаете дева - в самом воздухе до того напряжены были нервы, что такой вот всхлип всего передергивал - от него в жар бросало. - ...Они. по ее въевшимся в самые кости морщинам катились слезы. -...Да что мне до их хваленого мужества и памяти! Хоть на мгновенье бы заглянули они в мою память - вот тогда и не осталось ничего от их мужества! Вот тогда бы и завыли, и закатались бы они от боли то!...
Тут ей, с немалым трудом удалось сдержать слезы, она проницательно взглянула на меня, сказала:
- А тебе, юноша, так хочется вырваться отсюда. Не слушать, не видеть всего это.
- Да нет - что вы.
- Не к чему эти неискренние, вежливые возраженья. Я же вижу - ты, как орел попавший в темницу. Помните, как у Пушкина: "Сижу за решеткой..."? Вот вы и есть такой орел. Вам бы, знаете, летать по синему небу - свободным. Летать среди облаков освещенных солнцем, да вдыхать ветры - вольные свежие. А вы, волей рока, в это душной конуре... Вы же рвались еще в бреду - и сейчас, в душе к ней же устремляетесь. О, как я вас понимаю! И вы счастливы - не смотрите, что у вас нет теперь кисти - у такого юноши все еще впереди. А вот я черна - сгорели мои крылья... Нет - не хочу вам больше говорить этого. Вытерпите еще дней пять. Я буду приносить вам целебное варево. Потом, если буду в силах, покажу вам дорогу - есть тут одна безопасная тропинка по оврагам.
- Спасибо вам. - от всего сердца говорил я.
Когда старуха уже поднималась по лестнице, я окрикнул ее:
- А что они в мешках притащили?
- От ваших убитых оружие. Я то не хотела оставлять, но командир настаивал - говорил - не пропадать же таким трофеям. Они и так все автоматами да ружьями обвешанные, а тут еще эти мешки. Говорил, что их выслеживают, где-то на хвосте висят. Здорово они вашим то, в отместку насолили.
- А наши то злые. - молвил я, и вспомнил, разбухшее от побоев, кровоточащее лицо, и череп мягко-упругий, словно футбольный мяч.
- Потому и не хотела оставлять. Лучше бы бросили - мало его - оружия то, что ли? Нагрянут, обыск учинят... Не за себя боюсь - за тебя. Ты, ведь, бежишь от них. Ты, ведь, вырваться жаждешь.
Она поднялась наверх, потом - принесла мне похлебку, и, наконец, оставила на ночь одного.
Где-то наверху, за стенами гудел ветер, слышался гул падающих снежинок; и все казалось что там, во тьме, подкрадывается безликое и бесформенное, жаждущее поглотить нас зло.
И посреди ночи завыла волчица. Вой был дрожащим, тоскливым поднимающимся до недоступных человеческому сознанию, страдальческих нот. Но вот я понял, что вой - это растянутые имена - это все-таки человек приютившая меня старуха выла в ночи.
Ну а на следующий день нагрянули "наши".
Старуха, как раз была в подвале, кормила с ложки своей горьковатой, горячей, но исцеляющей тело похлебкой.
- Ничего - скоро ты научишься левой рукой управлять также, как раньше правой. - сказала она, да тут повела рассказ, про дни юности своей, когда жила она еще в горном ауле.
Как похитил ее юноша, как прятались они в пещере от гнева родных ее, как потом юноша погиб, как Мцыри, сражаясь с горным барсом, а она думала, что вовек не сможет полюбить другого, что жизнь кончена...
Рассказать до конца она не успела - во дворе зло залаял пес - автоматная очередь, и сразу в след за тем, в дверь забарабанили так, что по дому прокатилась дрожь.
Старуха встрепенулась, отставила похлебку, голосом в котором прорезал прежняя ненависть, прошипела:
- Это ваши.
А со двора уже кричали:
- Открыть! Открыть, или дверь выламываем!
Старуха, закричала:
- Ох, стара я стара! Дайте только с кровати подняться, да до двери доплестись!
- Нам что - мерзнуть тут что ли?! А ну... - на дверь посыпались яростные удары.
- Будут обыскивать... - говорила она. - Слезай-ка с кровати.
Я поднялся - ноги были довольно слабыми, голова кружилась, но, для человека, лишившегося два дня назад кисти руки - я чувствовал себя довольно хорошо.
- Подсоби-ка! - она ухватилась за старый рояль, я подбежал к ней ухватил левой рукой и, вместе, нам удалось перевернуть его - он встал, облокотившей верхней своей частью о земляную стену, и в образовавшийся проем я, по указанию старухи и пролез. На рояль она еще накидала стульев, ящиков, разного старого барахла и, таким образом, эта часть подвала оказалась большой свалкой.
Я замер, выжидая. Она поспешила подняться под лестнице.
И вот, где-то над моей головою скрипят половицы и раздается резкий, усталый голос:
- Ну что старуха? Мы тебя уже предупреждали. Мало того, что двоих бандитов воспитала... У твоего дома вчера видели отряд вооруженных преступников. Они вошли сюда с мешками, и вышли уже без. Так это?
Тут старуха, не смотря на то, что внутри ее все полыхало, заговорила спокойно:
- Да, ко мне приходили. Принесли поесть-попить и ушли. Это для вас я воспитала бандитов, а для родины своей - героев. И люди не забудут меня.
Так говорила она не потому, что боялась, что найдут оружие - с некоторых пор она ненавидела любое оружие; не боялась она и того, что ее могут убить эти, озлобившиеся от войны люди - жизнь для нее была мученьем, и ей она больше не дорожила.
Она за меня волновалась, о Дева! Во мне она видела своего погибшего внука. За меня одного, за то, что могут найти меня, она волновалась.
- Начинайте обыск! - рявкнул тот же голос. - В подвале все переверните!
Множество ног тут же заполнили мрачный дом; забегали, закричали; по полу загрохотало - все там переворачивали вверх дном, с усердием и отвращением искали оружие.
Вот и в подвал спустились - кто-то закричал:
- Да у Карги здесь целая темница! Ишь разрыла, старая ведьма!
А сверху слышался нервный голос:
- Сознавайся лучше сама! Где спрятала?! Потом легче будет! Не хочешь?! Ну, пеняй на себя...
Оружие вскоре нашли, поволокли по ступеням эти тяжелые мешки, и вот уже надрывается с отвращением ко всему "наш" командир:
- Это же наших! Ребята, вы посмотрите - на прикладе еще кровь осталась!
- Вздернуть ведьму! - закричал какой-то простой парнишка.
- Вздернем. Вздернем. - успокоил его командир. - Но сначала она расскажет нам, где искать бандитский отряд. Расскажет про связных, расскажет все-все, что знает. Расскажет и про другие секреты этого дома! Ты ведь здесь прячешь еще что-то или кого-то?! Отвечай!
Старушка твердым голосом так ему ответила:
- Давай же - казни, вешай меня. Раз совести совсем нет - да я и не страшусь смерти. Вы у меня взяли уже все, что могли взять - больше ничего не возьмете и слова больше не услышите.
- А смотрите, как залепетала! - со злостью прокричал командир - тут звук удара и что-то упало на пол.
- Поднять ее! - в голосе ужас перед чем-то неотвратимым, довлеющим над говорящим.
Тут я понял, что ударили старуху, и на пол упала она.
- Что ее жалеть?! - взвился несчастный, опустошенный, но старающийся показаться отчаянным, мужественным голос. - Она сообщница гадов! Старая ха! Да эта старая каждому из нас в спину нож готова всадить!... Что жалеть то эту падлу?! Они наших-то поди не жалеют! - последние слова он выдохнул захлебываясь, залпом.
И вновь командир:
- Последний раз спрашиваю, ведьма! Видишь - ребята на взводе! За гадами в этой вашей грязи бегаем! А они нас косят одного за другим! Поняла, стерва?! Рассказывай и отделаешься быстрой смертью.
Она молчала, а потом посыпались удары, и болезненные выкрики:
- Так ее!.. Ногой!.. Прикладом!.. Вот тебе!.. Что дергаешься?!
Удары сильные, удары глуховатые, удары каждый из которых издавался, будто били по кости.
- Ну, что мало тебе? - голос командира дрожал от ужаса, и почти с мольбой вымолвил. - Ну, скажи и все будет хорошо? Что ты молчишь то?! Что ж ты молчишь то?!
Думаю, что если он выживет в этой войне, то молчаливый образ старухи будет преследовать его до конца дней, и по ночам просыпаться в холодном поту, крича: "Что ж ты молчишь то?!"
Но она молчала, и ее вновь стали бить - теперь уже молча и страшны были эти, заканчивающиеся костным звуком частые, сильные удары.
Ужасала тишина. Ветер, до того так надрывавшийся за стенами - замолк. Молчали солдаты, молчала старуха. Только эти удары - каждый удар все сильнее раздражал пронзавшие воздух, незримые нервы. Воздух нагревался, жег меня... А когда с потолка медленно и вязко закапало, я не сдержал стона - то кровь старухи, просочившись между досок, падала в подвал.
Не в силах слушать, я сжался комком под растерзанным роялем; зажал уши, но все же и с зажатыми ушами слышал удары - долго-долго...
Всегда, в мгновенья боли иль радости, приходят ко мне стихи.
Тогда я увидел пред собою облака. В нежно-синем вечернем небе - подобные горам, столь величавым и неохватным, что нет и подобным и сравненным на земле. Только вид этих небесных гор, столь отчетливо живой, столь чарующе прекрасный, только он и спас тогда меня от безумия.
Не сравнится с тобой на земле,
Ни одна, о гора на синеющем небе,
В этом плавном, большом корабле,
Позабуду о плоти, о хлебе.
И по плавным, глубо-златым изгибам,
За мечтою мой дух полетит,
Песнь неся бесконечным приливам,
Коим облако сердце поит.
Созерцая небесную гору,
Сам я облаком вверх возношусь,
И нет места во мне боли сору,
Пред тобой во Любви я клянусь!
Сам я полнюсь спокойным виденьем,
Весь в стихах, весь с тобою в ветрах,
Льется голос мой ласковым пеньем,
Вместе с облаком, весь я в мечтах!
Хорошо, что ко мне пришли такие строки, такое виденье. А ведь, если бы появились бы образы про этот, наполненный болью дом - через стихи эта боль еще бы усилилась, - а куда ее больше то? Вот тогда бы и не выдержал, сошел бы с ума...
Потом уж понял, что командир говорит:
- Обыскать здесь все!
- А старуху вынести?
- А - это... Нет, пускай лежит. Мы, все равно, потом все здесь подожжем.
Вновь заходили, затопали. Спустились и в подвал, стали разгребать завал, в окончании которого сидел, вжавшись в стену я.
- Черт, здесь еще рояль! Его что - тоже отодвигать?
- А то нет?! У нее там все и спрятано!
Голоса были совсем близко. Нас отделял только рояль, - но вот его стали отодвигать.
Надо сказать, что крышка этого старого инструмента откинулась и я, благодаря тому, что похож на скелет смог через эту крышку протиснуться во внутренности инструмента.
Солдаты отодвинули рояль от стены, и тогда он, издав музыкальный разрыв умирающего сердца, повалился на пол. Крышка захлопнулась об пол, и я, таким образом, оказался замурованным в его недрах...
- Ничего нет! - крикнул солдат.
- Рояль взламывай! - усталый голос шептал мне, казалось, прямо на ухо.
Тогда я решил, что лучше умереть, задохнуться в этой клети - видеть перед смертью только мрак, но не эти - все новую боль да злобу источающие лица.
По днищу рояля чем-то, должно быть прикладом ударили, на меня посыпалась пыль, щепки...
Но тут сверху врезался вопль:
- Враги! Окружают! Всем собраться на прорыв!..
Тут же затрещал пулемет - затем, сразу навалилась целая глыба выстрелов воздух дрожал, незримые воздушные нервы раскалялись - вот разрыв - зазвенели битые стекла - пронзительный, визжащий вопль раненого.
Рояль оставили. Шаги пронеслись вверх по лестнице. Новый разрыв. Вновь дом сотрясся. Вопль командира:
- На прорыв!
Над головой в последний раз протопали - и теперь трескотня на улице усилилась вдвое - слышались крики - новые и новые разрывы сотрясали землю.
Так лежал я, придавленный роялем, слышал, как надрывается бой. Но так я измучен был этой болью, так неприемлемо все это - болезненное до одурения, душу сжимающее, сердце рвущее - что душа моя, дабы не сойти с ума, стала отдалятся от этого.
И лежа, в темноте, не в силах даже пошевелиться, задыхаясь, вновь я видел Мгновенье. Парк: зеленые деревья, аллеи уходящие куда-то далеко-далеко. Аллеи в которых прохаживаются люди, да все со светлыми, любящими лицами, ну а в центре, у фонтана - единственная, Вы.
Вопли боя постепенно стали поглощаться ревом пламени. Все сильнее, все сильнее - какие-то огромные объемы на всей своей протяжности трещали...
Сейчас, извините. Знайте, что сейчас, записывая это - я умираю. Сейчас очень дурно сделалось... Мысли путаются, голова клонится... Но я должен собраться, должен дописать до конца. Вы все должны знать...
Итак, дом горел. Представьте: я лежу, придавленный, в духоте, с каждым мгновеньем все сильнее становиться жар, я чувствую, что приближается пламя оно уже близко, вот сейчас захватит!
Сгореть?! Нет - я хочу жить! Я хочу видеть Вас!
И я стал рваться из рояля; стал, что было сил, бить локтями, кулаком, даже головой по днищу его.
От отчаяния мне удалось пробить доску, выбраться.
Знаете: потолок весь покрыт был пламенем, оно шипело, оно тянулось ко мне. Подвал был залит ослепительным светом; некоторая утварь уже дымилась. Пот заливал мне лицо, однако я не чувствовал жара.
Тогда я засмеялся пламени и, поднявши к нему единственный кулак, прокричал:
- Что ж ты думаешь: победишь меня?! Опять заставишь бежать, бояться?! Нет! - я плюнул в эти рычащие языки. - Я останусь и буду делать то, что хочу делать.
Должно быть, я обезумел тогда - не знаю... Но это было сладостное, поэтическое безумие - я вознесся над болью.
Схватил рояль целой рукой, поддел его и ногой. Стал поднимать - давил со всех сил, не чувствуя его тяжести, смеялся.
Вот рояль перевернулся, я подхватил стул, уселся, положил свои пять пальцев на клавиши. Я никогда не играл на рояле, но знаю, что вы играете - я хорошо запомнил ваши тонкие, музыкальные пальцы.
Пот заполнял глаза мои, и все окружающее размывалось, пламень, вдруг стал огромной, во весь потолок люстрой. Подвал стал классической залой, наполненной хрустальными зеркалами.
Предо мной, за роялем сидели Вы! Представьте, какое счастье было, после всего пережитого, увидеть Вас! Вы играли, прекрасно играли "К Элизе", а это любимое мое классическое произведение.
Я позвал Вас, и хоть Вы не повернулись, я знал, что Вы любите меня!
Я волшебством поэта, сердца,
Пожар в хрустальный свет пленил.
О, сердце - сердце дверца,
И я из ада в рай ступил...
Нет... нет... Кажется, я придумал тогда целую поэму, но теперь совсем не осталось сил вспоминать, записывать ее - лишь бы остались силы дописать до конца.
Итак, я сидел, любуясь Вами и Вашей игрой, не чувствуя жара; позабывши про то, что я в Аду. Я вас Любил, я вас Люблю!
Но тут - удар по плечу - да такой сильный удар, что я упал на пол, с трудом поднялся - виденья как не было. На рояль уже обвалилось несколько горячих балок, и он занялся пламенем. Начинала гореть составленная в подвале старая мебель, а потолок обваливался по частям - одна из балок и ударила меня по плечу...
Жар - нет не к чему это описывать. Скажу только, что и сейчас рука моя покрыта темными волдырями; лица своего я не видел.
Из пламени, как ясно, мне удалось вырваться. Помню - почти ослеп от жара, но увидел под пылающими ящиками какой-то люк, дымящимися руками откинул его - прыгнул вниз.
А там был ручей - ледяной ручей. Тогда то этот, лежавший в кармане дневник распух, я же был сожжен холодом - после пламени, да в ледяную воду...
Ручей вытекавший из глубин холма вынес меня, совсем окоченевшего к сцеплению голых, темных кустов. По прежнему валили холодные небесные плевки. Ветер надрывно выл, с трудом прорываясь чрез эту завесу...
А дальше - дальше все бред. Я видел пылающий дом, и грязный снег, весь в кровавых пятнах, свежие воронки дымились, я видел ноги и руки, просто кровоточащие куски плоти. Кто-то, с разодранным животом полз, волоча кишки по снегу и тонко, по бабьи визжал. Что-то беззвучно дергалось в большом кровавом пятне. И еще кто-то - с кровавым месивом вместо лица, медленно брел и смеялся.
Вы читайте, читайте, Дева! Вот он ад на земле! Все это сотворили с собой сами люди!... Читайте, и постарайтесь постичь, как все это время - все эти месяцы жаждал вырваться я из Ада! Постарайтесь постичь, до какой степени дошло это чувство мое!
Постигните, тот безмолвный вопль, когда я одновременно видел пред собою Вас, в Мгновенье - и то, что меня окружало.
Я твердил стихи, чтобы не сойти с ума, я снова и снова видел Ваш лик но, все же - сумасшествие надвигалось.
Пошатываясь, шел через снег. Потом, когда силы оставили полз. Наступила воющая ночь, и я заснул в грязи, под навесом оврага. Почему-то до следующего утра я не замерз...
Вновь полз, и не помню, сколько раз наступала ночь - я был в бреду. Я не знал, ползу ли, лежу ли на месте - сознание то затухало совсем, то начинало мерцать, пробиваясь чредой унылых, черно-белых видений.
Ох - поэт-романтик! Поэт-романтик!.. То не было еще окончанием моих мучений, и, наверное, я все-таки крепок, если после того, что пережил в этой дороге, сохранил еще хоть какой рассудок и могу вспоминать свои стихи.
Итак, где-то в чреде смерти сознания, когда пред глазами моими проплывали темные облака, выполз я на дорогу.
- Хоть бы кто-нибудь... - умирая, шептал я. - Хоть один добрый человек, подобрал бы меня да повез бы прочь, прочь - в весну! К фонтану, к скамейке...
По дороге этой какое-то время до того проезжала войсковая колонна. Холодная грязь была переполота, вздыблена буграми, темнела коричневыми лужами в которые сыпали и сыпали без конца плевки неба.
Поэт-романтик! У поэта-романтика тоже есть желудок. Просто на сколько то дней он притаился, заперся в моем теле да так, что я про него и позабыл. А тут на дороге этой он неожиданно вырвался и сразу овладел мною!
Там на дороге была еда. Несколько дней я не видел еды, и даже не вспоминал про нее - жил в Мгновенье.
Но там была еда!
Среди грязи, среди коричневых луж - лежала... Тогда я увидел большой кусок мяса. Да - желудок, отбрасывая все окружающее, видел именно большой кусок свежего, поджаристого мяса.
Подполз я ближе и понял, что когда-то это была большая собака - настоящий волкодав. Уж не знаю, как она попала под колеса, но получилось так, что осталась задняя половина туловища, передняя же, размятая танковыми гусеницами в кусочки, была размазана в грязи на многие метры.
Описываю все это, и вы должны содрогаться от отвращения. Но представьте мое состояние - я стал эти кусочки, вместе с грязью собирать и есть. На некоторых из них еще оставалась шерсть, я давился, но проглатывал и шерсть.
Какая-то мерзостная сила в голове, ох - в голове поэта-романтика, говорила, что все это просто мясо - просто мясо, которое готовила и бабушка моя.
А знаете, я помню, как размалывались на зубах жилы, как обломил я себе зуб о кости. У меня кружилась голова, желудок урчал - я жаждал есть!
Читайте дальше, о дева сидящая у фонтана в зеленом парке!
Когда я проглотил все кусочки, меня стало рвать. Желудок выкручивало на дорогу и вскоре, все, что я проглотил, вместе с шерстью, вывалилось обратно.
Тогда я почувствовал, что умираю - в теле не осталось сил.
Следующий зверский свой поступок не могу оправдывать какими-то речами, вроде того, что мне страстно хотелось выжить, чтобы увидеть вновь вас. Нет то, что я делал потом - я делал совершенно безотчетно.
Поэт-романтик! Ха... Да я уже не был тогда человеком.
Весь испачканный в крови и в блевотине, я подполз ко второй половине собаки: я не могу забыть этого слабо кровоточащего, широкого среза - темная, мясная кости, обрубленные кости, грудой вываленные на дорогу внутренности...
Попробовал рвать это руками, но руки совершенно одеревенели. Тогда я, не испытывая отвращения - вообще ничего не испытывая, стал грызть эту широкую мясную плоть зубами...
Сейчас вот плачу в недоумении - почему я после этого могу еще здраво мыслить, вспоминать стихи, писать что-то...
Мясо было жесткое, все сплошь в прожилках, но еще теплое... Наевшись, я уткнулся лицом во внутренности и заснул.
Во сне мне вновь снился парк, фонтан, вы на скамейки, счастливые любящие друг друга люди. Разница лишь в том была, о спокойная дева, что из фонтана била кровь, а у вас и у всех людей была содрана кожа, также за вами по земле волочились внутренности. Все деревья измяты были гусеницами и кровоточили.
Извините, за несколько сухое изложение, просто теперь я уже почти ничего не вижу, пишу почти вслепую... Только бы дописать - дальше буду предельно краток.
Очнулся и поел еще. Почувствовал прилив сил, поднялся, побрел вдоль дороги. Холодные плевки прекратились - переросли в жгучие стрелы-снежинки. Ветер выл не переставая. Казалось, что меня окружают стаи волков - миллионы голодных волков. Метель, господи, метель такая, что в десяти шагах ничего и не видно...
Я потерял дорогу. Я шел по ровному полю, среди метели часы и дни, падал, вставал; вновь падал и вновь вставал.
А теперь, Мгновенье, дай мне силы описать последнее. Я умираю - если не успею дописать, если рукопись моя оборвется на полуслове, то скажу сразу - Я Вас Люблю! Одно Мгновенье в любви пронес через месяцы Ада. В мгновенье-вечность.
Падающая с небес масса начинала темнеть. И я думал: "Ну вот и ночь подступила - последняя ночь в моей жизни". Я умирал, снег все сыпал, сыпал. Я не мог двинуться, не мог вымолвить слова.
А как страшно! Как же страшно и тогда и теперь! Смерть все ближе, и ты чувствуешь, как умирает твое тело. Руки не двигаются, ноги не двигаются ладно. Но вот то, что глаза закрываются и, как не стараешься - не можешь ты их открыть - вот это страшно...
Я готовился увидеть лик смерти. Представлял, как вытянется из мрака изъеденное морщинами старушечье лицо, протянет костлявую руку заберет во мрак навеки.
И вдруг из мглы выступила девочка с худющим лицом, да с пронзительной темнотой под глазами. На ней было темное ветхое платьице, которое все шевелилось в ветровых порывах. Волосы у нее были седые. Она глядела на меня, страшного должно быть, без всякого участия... Должно быть, своим видом, я привел бы в ужас любого ребенка. Но она не была ребенком!
Чем дольше я вглядывался в ее недвижимые черты, тем больше мой собственный ужас становился. Я не знал, что это - но это уже не был ребенок, это не был уже человек...
Я смотрел в эти огромные, на весь космос распахнутые, черные глаза, жаждал вырваться от них - но сил то не было! Я мог только смотреть и умирать
В этих глазах были бездны страданий, бездны какой-то не представимой боли. Господи, да что же видела она в этом Аду?! Может ей, этой девочки, довелось увидеть самое ядро боли, что-то такое, чего я и представить себе боюсь.
Но на меня она смотрела так, словно бы меня и не было.
Она отошла было, но тут же и вернулась, и встала голыми коленями в снег возле меня.
Из кармана она достала бутылку, приставила к моим губам - сделал глоток. Теплое, вязкое раскатилось по горлу, разлилось в животе. Кровь. Не знаю чья это была кровь... Прочь мысли! Не знаю... не знаю... не знаю...
Я выпил, наверное, половину бутылки, когда девочка отстранила ее, встала и канула в черноте теперь уже насовсем.
Кровь прибавила мне сил. Я смог приподняться, вновь побрел.
Сотрясаясь от порывов ветра, я часто обо что-то спотыкался, падал...
Тьма наступила кромешная, потому я и заметил избушку, когда только налетел на нее. Ведя рукой по стене, дошел до двери, которая оказалась распахнутая настежь.
В избушке, где и сижу сейчас, пишу эти строки - спертый, болезненный воздух. Здесь нет ни одного живого человека.
В одной комнате стояла на столе, догорала масляная лампа. С ее то светом обнаружил я, лежащую на кровати мертвую женщину, со страшно впалым, пожелтевшим лицом. И после смерти на лице ее осталась мука: судорожно сжатые синие губы, лоб, щеки - все лицо исцарапанное, а ногти на руках обломанные видно в боли, в горячке пыталась она вырвать себе глаза...
Господи, почему же я пишу об этом с равнодушием? Почему же не содрогаюсь?.. Не потому что огрубел настолько - просто эта боль выше вздохов; да и времени, на эти чувствоизлияния нет.
На полу валялась разбитая рамка, а рядом - скомканная, надвое разорванная фотография. Распрямил, разложил на столе: на фотографии молодая семья - муж (не знаю, где он), жена (это ее изуродованное болезнью тело лежит в двух шагах на кровати), мальчик (теперь я вспомнил - рядом с дверью споткнулся я об лопату и об какой-то кулек - земля то твердая, не смогла ее разбить...) не смогла ее разбить девочка. Милая девочка обещавшаяся стать настоящей красавицей - это она, мило улыбаясь, обнимает свою маму на фотографии - это ее призрак встретил я в снегу...
Да - я обыскал здесь все - совершенно никакой еды. Зато отметил, что у мертвой женщины перерезана вена на руке, будто вампир высосал из нее кровь.
Такие вот романтические стихи..."
* * *
Катю выписали из больницы в один из последних августовских дней.
О - как же давно ждала она этого дня! Как много раз, прохаживаясь по дорожкам, пышного больничного парка, смотрела она на стену. А в глазах было спокойствие - спокойное, похожее на речной поток стремление, выйти на свободу.
Она бы давно бежала, если бы не родные, любимые ей люди - одно понимание того, что таким побегом доставит им новые волнения, останавливало ее...
И вот этот день наступил! Дома устроили праздник, где во главе стола сидела Катя, и все заботились о ней, дарили подарки, старались рассмешить.
И Катя благодарила, Катя улыбалась, но улыбалась из вежливости. Потом, по просьбе гостей, села она за рояль, наполнила гостиную музыкальными волнами, среди которых с особым чувством прозвучало "К Элизе"...
Взгляд ее очей часто затуманивался, и многие отметили, что прибывает она в задумчивости, а самые проницательные сказали бы, что она - влюблена.
Да, Катя была влюблена. Влюблена в того, безымянного для нее юношу, которого лишь мгновенье видела.
Девушка от природы спокойная - и любовь ее была спокойна. Без пламени, без жара день ото дня, несла она в себе это чувство...
В дневнике ее были такие строки:
"...Пыталась отвести его из своего сердца. Нет - поняла, что, если отведу, то буду не искренна со своей совестью. Если одно мгновенье вдохнуло в меня любовь на столькие месяцы, то не это ли любовь, не это ли небесное предначертанье? Ведь бывает так, что общаешься с хорошим человеком и день, и месяц, и год, и ничего, кроме чувств дружеских к нему не испытываешь значит, с таким человеком и суждено остаться друзьями. А тут - от одного только мгновенья - на целые месяцы, а в дальнейшем, может, и на годы так ясно я Его помню. И он останется в моем сердце. Верю, что судьбе будет угодно свести нас еще раз..."
И вот в последний день лета, Катя подошла к памятной скамейке, уселась так же, как и тогда, смотрела на фонтан, и не заметила, как теплые слезы покатились по щекам ее...
Лицо ее - по прежнему светлое, по прежнему теплое, нежное... Вот только печаль разлилась в сферах очей ее, и, выплескиваясь оттуда покойными осенними волнами, придавало и всему лику ее, вид возвышенный - подобный, наполненный внутренними грезами, созерцанием небесного лик можно было встретить разве что на иконах...
Да - еще остались несколько маленьких, искусно зашитых шрамов под правым глазом. И ходила она заметно прихрамывая - ведь раздробленная некогда коленная чашечка, хоть и срослась, никогда уже не станет прежней - и врачи ей категорически запретили бегать.
Вот он - столь памятный тополиный дворик. За лето листва на этих древах отяжелела, погустела и, кой-где, пробивалась уже солнце-златистыми или же бардово-рассветными вкрапленьями. Собираясь в дорогу, кружили в синеватом, спокойном небе дворовые птицы, а старушки, так же, как и за несколько до того, сидели на своей лавочке под тополями, да кумекали, повторяя без конца о последних происшествиях, показавшихся бы постороннему человеку ничтожными, для них же - преисполненными особой значимости - ведь происшествия эти, так или иначе, были связаны с их двором.
Катя поспешила пройти в подъезд, поднялась по лестнице - чердачный люк оказался запертым цепью, но девушка была настроена самым решительным образом. На одной из лестничных площадок нашла она железную скобу, вернулась к люку - поддела скобу под цепь - дернула - цепь, выдрав часть прогнившего люка, вылетела, змеей закачалась в воздухе.
Катя прошлась по чердаку: сухая трава на полу - ее, видно, ворошила милиция, но она вновь улеглась спокойно и благоуханно. По прежнему ниспадали колонны солнечного света, так же кружили в них пылинки. Также сидели, грелись в траве голуби. При приближении Кати, они поворачивали к ней свои головки, разглядывали эту девушку со спокойным лицом, негромко ворковали да возвращались к своим голубиным думам.
- Петя. Машенька. - позвала Катя и, хоть голос ее был негромок, его можно было бы услышать в любой части чердака.
Она звала их, хоть даже и не надеялась, что они выйдут. Звала, хоть и готова уже была провести сколь понадобиться долгое время в их поисках обойти все чердаки, все подвалы в районе - часы и часы потратить на поиски в трущобах, лишь бы только найти их.
Но они были на чердаке! Раздался звонкий смешок и вот уже бежит, распахнувши свои объятия, смеется Машенька. Девочка больше прежнего исхудала, платьице на ней совсем износилось - однако искусно было заштопано, недаром Петя говорил про свою сестричку, что она, несмотря на возраст, мастерски владеет иглою.
Девочка зазвенела смехом - Катя наклонилась к ней, и вот они обнялись.
Машенька счастливо заплакала:
- Катя. Катенька. Вернулась. А мы тебя так ждали!
Подошел Петя, он, видно, старался скрыть свои эмоции, однако, ему это плохо удавалось. Он смущенно улыбался и, наконец, тоже подошел, встал на колени, взял Катину руку и поцеловал ее. На глаза его выступили слезы, и он негромко, но с чувством, молвил:
- Катя, нам известно все, что вы ради нас пережили. Как бы мы хотели отблагодарить вас, да, ведь, нет такой благодарности! И слов таких нету! Позвольте только еще раз руку вашу поцеловать. - и он взял Катину руку, осторожно, как святыню поцеловал ее.
Девушка вздрогнула, когда несколько теплых слезинок прокатились по ее пальцам. Она смутилась и почувствовала, что тоже плачет.
- Как же я рада, что вас нашла. Но, Петя, Машенька - ладно, не стоит благодарностей, расскажите лучше, как вы все это время жили. Я то и не ждала вас на этом чердаке найти...
Петя, с обожанием вглядываясь в лицо ее, вот, что поведал:
- В тот день, мы убежали далеко-далеко, на самые городские окраины. Там провели мы несколько дней, ну а потом вернулись сюда. Знаете ли: на этих городских окраинах, все так холодно, неприютно - везде там сталь и бетон. А в этом старом доме, особенно на чердаке, живая душа, тепло есть. Вот мы и вернулись. И с тех пор вот как живем: днем тут сидим, ну а ночью, в поздний час, когда все уже спят мы потихонечку выходим... Тут после милиции, все люки закрыты были, но мы один вскрыли...
- Теперь я еще один сорвала.
- Придется пристраивать цепь так, будто ее никто не трогал. Здесь жильцы такие - увидят, что цепь сорвана - сразу донесут... Так вот, Катя - только ночью мы выходим. Идем по подворотням, сторонясь больших улиц и даже случайных прохожих. Доходим мы до свалок и ищем там еду. Большая часть еды непригодная, сгнившая, но, порой, находим и почти свежую, ей и питаемся... Вы так испугались, Катя, побледнели, но знайте, что для нас такая еда вполне пригодна... Другого нам не хватает. Вы ведь отдали тогда рюкзачок - а в нем книги. Там и сказки были, и стихи, и даже два романа. Так знайте, что все эти книги я прочитал - читал вслух, Маше. А сказки даже по несколько раз были прочитаны. Катя, нам не хватает книжек. Я знаю, что есть очень-очень много хороших книжек, к сожалению на свалке ничего, кроме старых журналов, да газет не найдешь. Так вот - можно ли у вас попросить, чтобы вы принесли еще книг.
Катя обняла одной рукой Петю, другой - плачущую, целующую ее в щеку Машеньку и, сама плача, не сдерживая уж своих слез, говорила:
- Я не только книги вам принесу. Я и еду вам буду носить - забудьте теперь об помойке! Слышите: даже и не вспоминайте больше про эту мерзость. Теперь и отныне каждый день, я возьмусь за ваше воспитание...
Да - Катя сдержала свое обещание. Впрочем - разве ж кто сомневался?
На следующий день начались институтские занятия, однако, Катя почти забросила учебу. И с утра не на лекции она спешила, но легкая и быстрая, никем не замеченная, проходила в подъезд, поднималась на чердак, где ее уже ждали Петя да Машенька.
Отныне не рванье, но вполне приличная, принесенная Катей из дома одежда была на них. На Машеньке: темно-голубое, длинное платье, да еще белые туфельки, которыми она очень гордилась. Для Пети же была темная рубашка, темный свитер, темные брюки и темные ботинки (он как-то сказал Кате, что любит одежду темных тонов).
Один за другим, день за днем, на чердак были принесены стулья, несколько полочек для книг - сами книги, числом не менее ста; маленький раскладной столик, а также каждый день прибывала в достаточном количестве еда.
Как то Петя спросил:
- А что, у тебя дома не замечают, как пропадают книги, стулья, еды в холодильники становиться меньше?
На это Катя совершенно честно ответила (впрочем, неправду она никогда не стала бы говорить - а просто бы промолчала):
- Стулья, раскладной столик - то из нашего сарайчика. Эта мебель все равно стояла без дела. Книги же - то мои любимые детские сказки - они лежат у меня в ящиках - туда никто и не заглядывает. Что же касается еды - то, в последнее время мама заметила, что я много еды беру с собой в институт. Хорошо еще, что она не спросит - ей бы я, даже ради вас, не смогла бы сказать - ей бы я всю правду рассказала...
Катя учила этих детишек грамоте, ведь выяснилось, что ни Петя, ни Машенька совсем не умеют писать. Учениками они оказались способными - да и аудитория, что не говори - была хороша... Клекот голубей, спокойные, медленно поглощающие друг друга минуты, уставший от жизни шелест лиственных облаков - даже отдаленный, кажущийся ровным гул машин - все навевало мысли на спокойный лад, на вдохновение, на учение.
Катя оказалась учительницей доброй и талантливой.
Преданные ей Петя и Машенька самозабвенно проделывали те задания, которые она им оставляли; и, зная, что это ей принесет радость - просили еще, дополнительных заданий.
Меньше чем через две недели, они уже писали под диктовку - хоть и с большим количеством ошибок, но, все же, прогресс был налицо.
Еще через несколько дней научилась читать Машенька. По слогам, прочла она "Русалку" Андерсена и, под конец расплакалась, уткнулась личиком в плечо Кати, и все повторяла:
- Бедная, маленькая русалочка! Как же она любила принца, как же печальна была ее безответная любовь... - но вот Машенька успокоилась, и с нежностью заглядывая в Катины очи, молвила. - Но, ведь, русалочка только стало облачком. Она, ведь, осталась жива, просто вознеслась к самым горам облакам. Ах, как бы я сама хотел полетать среди тех гор! Катенька, сестричка вот я вас люблю и я вас люблю, как сестру, и как маму. Но я еще совсем маленькая, а когда я выросту то, ведь, ждет меня любовь такая, какая была у Русалочки к принцу. Я даже и не знаю, и не чувствую еще, что это за любовь такая, но вы мне расскажите. Вот скажите - есть ли такой человек, которого вы любите также, как русалочка любила?
- Да - есть. - с печальным вздохом отвечала Катя.
- Как интересно! - глаза Машеньки аж засияли от любопытства. - А кто он, расскажите.
- Я знаю только то, что нам предначертано встретиться... Но сегодня я зову вас за город!
- За город. - удивился сидевший поблизости Петя. - Да что ж нам там делать, за городом то?
- Сегодня - первый день октября, погода ясная, теплая. Поедемте за город, там вас ждет новый урок.
И вот они идут по октябрьскому лесу. Небо над ясное, светло-голубое. Все ветви иль золотистые, иль света зари - и кажется, что каждая ветвь - это душа, в которой, вместе с каждым, пусть даже самым малым ветровым порывом, пульсирует сердце.
А листопад! Кругом, куда ни кинь взгляд - везде, падают, переплетаясь целуются, печально шуршат листья. И вся земля уже усеяна этим ярким ковром, который так мягко и пышно сияет в солнечных водопадах. Вокруг все в этих светло-печальных пушистых формах. Все в неспешном, древнем движении. И даже голоса птиц, летящих где-то над лесом, кажутся частью листопада...
Вот журчит, плавно изгибаясь на обточенных камнях, лесной ручеек. Вода в нем темная, холодная - но в воде этой сама жизнь - она сильна, упруга, и тоже, по своему печально. Яркими корабликами, целой флотилией маленьких человечков, плывут и плывут по темной воде листья.
Катя, Машенька и Петя уселись под древним, раскидистым кленом, спокойно роняющим свои большие, красивые листья.
Машенька долго любовалась, потом молвила:
- Я никогда не бывала в музее, только фотографии в твоей книжке видела. Но я знаю, что это: собрание чудес людьми созданных. И мне кажется теперь, что я в музей попала. Только еще лучший, нежели тот, который на фотографиях! Люди не создали бы такой красоты.
- Правильно. - кивнул Петя. - В каждом музее, какие-то свои чудеса собраны - где картины, где всякие древности; есть еще залы, где играют музыку - то тоже, как музеи - только для ушей. Но здесь же все вместе, воедино собранно. Здесь и музыка сладостная - как же листья шелестят! Не думал, что от одних звуков, так вся душа пеньем наполняться может. Здесь же, и картины - ну может ли даже самый искусный художник вдохнуть в картину такую жизнь! И здесь все древнее, древнее, как сама земля, и доброе к нам! Просто чудо... каким кажется оторванным людской город от всей этой спокойной красоты. Как здесь все непривычно сказочно и мило... А, может... Катя, как ты думаешь - может ли здесь жить Баба-яга или леший, или Кот-Баюн, или русалка... Сам то я раньше считал, что сказки - это просто выдумка, а вот сейчас задумался. В этом лесу то, наш город - этот... этот гудящий конструктор - он мне кажется совсем нереальным, просто дурным призраком, среди этих лесов возросшим. Даже и возвращаться туда не хочется - здесь то все так добро... Мне бы нарисовать все это. Я, ведь, всегда стремился к рисованию. И в том детском доме - и там я, когда мог, рисовал - жалко что тех рисунков не осталось... Хотя - нет. Все они были мрачными. А я теперь хочу рисовать все в жизни, все такое, какое оно есть - хорошее. Катя, нет ли у тебя карандаша и тетради?
Катя улыбнулась и достала из своей сумочки не только лист, но и подставку для него, но и целый набор цветных карандашей.
- Вот - это тебе. Мне Машенька как-то говорила, что ты рисуешь. Вот и подготовила на сегодняшний день.
- Ух ты! - Петины глаза засмеялись. - Целый набор карандашей! Да еще большой лист бумаги! Да подставка для него! А лес то...
Он не договорил, поцеловал вторую сестру свою Катю, и, весь сияющий, отошел в сторону; выбрал себе место, попросил, чтобы пока он не закончил, не подсматривали, да принялся рисовать.
Машенька с любовью смотрела на Катю и звонким своим голосочком говорила:
- Такая вы хорошая, Катя! Такая вы добрая, нежная... Вы так светитесь, вы такая печальная, как этот лес...
- Да - лес печален. Он чувствует долгий сон под теплым и мягким белым покрывалом...
- А что сниться зимой лесу?
- Не знаю, но, может, красавица весна? В печали вспоминает он себя молодым, влюбленным; засыпает все глубже и глубже, а потом, весною, солнышко возрождает его для новой встречи с ее возлюбленной.
- Катенька! Какая же вы хорошая сестричка! - рассмеялась Машенька и поцеловала Катю в щеку. - У вас так складно получается рассказывать! Пожалуйста, расскажите мне какую-нибудь сказку. Такую, какую я еще нигде не читала. У вас такой светлый голос - пожалуйста, расскажите.
Катя приподняла голову и, созерцая, как падают, спокойно переворачиваясь, кленовые листья - неспешно, но и неудержимо, как движение листопада, как движение темного ручья, начала рассказывать:
"То приключилось во времена стародавние, когда мир был совсем еще юн, а волшебство окружало людей со всех сторон и они ему вовсе не удивлялись.
У горных хребтов, среди первых, могучих отрогов, колыхались молодые, ясные леса, а среди них, точно око устремленное в небо, чернело озеро. Дно в том озере было черным - такой же цвет был и у воды. Несмотря на черноту свою, озеро смотрелось настоящим красавцем. Ведь в его спокойной, темной глубине отражались и склоненные к нему, словно поцелуе, березы, и облака которые казались наделялись в его глубине новой, подводной жизнью.
Особенно же прекрасным было озеро в осеннюю пору. Тогда склоненные над ним березы одевали яркие, печальные наряды; и роняли на гладь златистые, да рассветные слезы, которые потом лодочками кружили по его поверхности, а соприкасаясь - издавали печальное пение.
И вот в один такой прекрасный осенний день, к берегу озера вышел юноша. И уселся на извилистую корягу.
У юноши было печальное лицо, а в глазах его даже слезы блистали. В руках он принес клетку, которую тут же спрятал под извилистыми конями.
Надо сказать, что пришел он со стороны черного замка, который виднелся на одном из горных отрогов. Вот повернулся он к тому замку, кулаком ему погрозил и так молвил:
- Эх ты лорд, Вроун! Черный твоей замок, еще чернее твое каменное сердце! Старик, страшный и трухлявый, почто ты обираешь так своих крестьян?... Я помню ту ночь: в твоей башне вспыхивал синий цвет, и, вдруг, молния ударила в наш хлев. Ты, старый чернокнижник, неужто тебе надо было все это колдовать затем лишь, чтобы родных моих, когда не уплатили они дань посадить под замок, ну а меня вызвать к себе и заявить: "Я слышал, что ты самый смышленый юноша в округе - так вот и докажи это. Знай, что к черному озеру в каждое полнолунье слетает белая лебедица, и плавает, купается в лунном свете. Если ты сможешь поймать ее и принести ко мне - я освобожу твоих родных, навсегда освобожу их от дани, да еще награжу несколькими золотыми. Ну а не принесешь, или же сбежишь - знай - голодом уморю в темнице!" Полнолуние то как раз сегодня, что же мне делать? Как же мне поймать эту лебедицу, если даже старому колдуну то не под силам...
Тут задумался юноша, оглядываясь по сторонам, думает: "ни сетью, ни колдовством ее мне не удержать. А раз уж ее старый колдун изловить не может - значит, она и сама колдовством владеет. Какую же тут хитрость испробовать... Она, ведь как - садиться на озерную гладь, когда никого поблизости нет, да плавает, да купается в Лунных объятьях. А что если сделать мне из камыша свиристель, да начать играть, в том время, как она плавать будет?..."
Так он и решил - нашел поблизости статный камыш и, с помощью ножика, сделал из него свиристель.
А надо сказать, что юноша тот лучше всех в округе умел играть на свиристели - искусство его в этой игре таких высот достигало, что птицы лесные принимали его за новую созданную Творцом после человека птицу, да и слетались к нему со всей округи, пока он играл, сидели на ближайших ветвях, слушали; ну а потом и сами подхватывали, и весь воздух клокотал от их пения...
Укрылся юноша за стволами берез, стал дожидаться ночи.
Вот потемнело небо, звезды сначала медленно, одна за другой стали на нем проясняться. Потом стали проясняться они мириадами, бессчетными пылинками, нескончаемыми крапинками; вот и Млечный путь... Ах, да разве же опишешь несколькими словами нескончаемое?!
Наступила полночь, и взошла над вершинами тех деревьев, которые окружали озеро, полная Луна.
И вот юноша увидел - в ярком ее серебре забили, все приближаясь, белые, облаченные трепетным саваном крылья. Все ближе, все ближе они. И вот из Лунного сияния, да на дорожку этого света, которая на черной воде пролегла, слетела белая лебедица.
Как она была прекрасна! Юноша то собирался, как только появиться она сразу и заиграть на своей свиристели, однако, как увидел красу эту; таковое слияние света звездного, да стана - словно бы из самого райского сада та птица была, словно слетела от очей самого Творца, который красой ее наслаждался.
В плавном движении, среди отраженных в воде звезд, закружила прекрасная птица, а юноша, не смея не то что пошевелиться, но даже и вздохнуть громко, неотрывно и даже не моргая, созерцал этот звездный вальс. Она легко взмахивала крыльями, с них взметались капельки; словно серебряные светлячки, поднимались они кружились они в воздухе, потом обратно опадали в озеро.
Лебедица, распуская водный стан, все кружила свой танец, а зачарованный юноша, тихо шептал в душе: "Есть ли что краше этого на свете? Дай мне только прикоснуться к твоим крыльям, да улететь вместе с тобою, да к самой Луне!"
Так, в неустанном танце прошло несколько часов - да, эта белая птица совсем не уставала и даже, напротив, - чем больше она кружила, тем большая в ней виделась сила, словно бы она вбирала из озерных глубин отраженный там звездный пламень.
Но вот, когда Луна прошла над озером, а на востоке первыми лучиками зари были поглощены самые слабые звезды, она, собираясь улетать, взмахнула крыльями, вот вся вытянулась к печальному Лунному лику.
Тут только вспомнил юноша, зачем он пришел к озеру: "Да, что же я? Ведь, мои родные сейчас в темнице томятся!"
Достал он поскорее свиристель, да и заиграл.
Встрепенулась тут птица-лебедь, к нему голову повернула и молвит тут девичьим голосом:
- Я то думала, что голоса всех птиц, которые живут на белом свете знаю. Но, значит ошибалась - самого-то лучшего певца я еще и не видела. Кто ж ты? Кто может петь так чарующе, что сердце трепещет в груди? Что за птица, в переливах которой слышится мне душа человеческая?... Может ли быть то колдун? Нет - я бы сразу почувствовала, будь тут зло. Кто ж ты, певец?
Юноша укрытый стволом продолжал играть, а лебедица поплыла в его сторону.
- Какой дивный голос! Не только на Земле, но, даже, и в звездных чертогах не услышать такого!
Вот подплыла она к самому берегу, вот вспорхнула на него, подошла к тому дереву, за которым крылся юноша - того-то ему и надо было.
С самого начала, достал он из укрытия клетку, открыл ее дно, и вот теперь, когда подошла лебедица, быстро схватил клетку да и накрыл ею прекрасную птицу.
- Ну, прости ты меня Лунная танцовщица. - говорит. - Придется мне отнести тебя к нашему правителю-колдуну, иначе он моих родных во темнице погубит.
И тут лебедица, оставаясь такой же прекрасной, какой и была, обратилась в деву в белом платье. Да всю бело-серебристую, словно свет Луны.
Смотрит на нее юноша, чувствует - вновь былая его уверенность пропала: разве же можно нести в неволю к старому колдуну это прекрасное созданье?
Она смотрит на него печальными своими очами, да так говорит:
- Что ж, поймал ты меня. Было бы в сердце твоем зло - так почуяла бы, не подошла. Но теперь я схвачена! Ах, кабы мне было только дозволено еще раз пройтись по аллеям, того парка, что у берега Лунного моря, да под сенью дворца нашего батюшки. Коли бы посидеть у фонтанов, откуда поднимаются, струи света, проститься бы с сестрами... Но, ты меня не отпустишь, а, если даже и отпустишь - я никогда уже не вернусь... Как жжет меня первое сияние зори! Не вынести мне Солнечного света!
- Я люблю тебя. - молвил тут юноша, ибо, действительно он полюбил - в первый раз полюбил - а иной любви и не бывает - только первая. - Выполнишь ли ты мою просьбу?
- Ты любишь меня, о дитя Земных полей?.. Но к чему эта любовь, если остаток жизни я проведу в темнице?.. И что это за песня, о который ты так просишь?
- Спой мне о том, как летаешь ты в поднебесье. Спой о том, что говорят лунные ветры, и как шумят приливы лунных морей. Спой мне, как журчит свет бьющий из дивных фонтанов. Спой мне, прошу тебя - спой.
- Что ж... Я и сама вспомню, вздохну печально...
У брега моря, я вздохну печально,
Шепну: "Прощай навек, о матерь изначальна..."
Шепну слова и их подхватит легкий ветерок,
И унесет в словах печальный рок.
И долго буду там стоять, в спокойной тишине,
Внимать одной пылинок света, лунной глубине.
И нежном переливом, древнего ветрила,
За мною, запоет наш сад в котором древня сила.
Я тихо преклоню колени пред тобой,
О, - отчий дом, о море, о прибой!
Пришла пора разлуки, пришла пора тоски,
Прощайте Луны руки - дороги далеки!
Вот закончилась песня, а юноша и не заметил, что все время ее подыгрывал деве на своей свиристели...
Теперь в глазах обоих блистали слезы. Вот юноша поднялся, и откинул клетку.
- Что же ты? - в изумлении взглянула на него освобожденная.
- Ты свободна: возвращайся к своему морю!
Тут он отвернулся и пошел было к замку, колдуна Вроуна, как дева остановила его, окликнула, вздрагивающим от волнения, от пробуждающегося чувства, голосом:
- Подожди, куда же ты, о благородный юноша?! Ты освободил меня, а теперь возвращаешься, чтобы попасть в темницу?! Я зову тебя с собой - дай мне руку, и мы вместе взлетим к Лунному дворцу, я представлю тебя своему батюшке, расскажу, какой ты добрый, он хорошо тебя примет. Мы устроим такой пир, какой не знают даже ваши земные короли. Ты увидишь лунные моря! Мы будем жить вместе! Да, знай - что увидев сердце твоя, я полюбила тебя. Значит мы любим друг друга. Что же мешает, что же ты не протянешь мне свою руку? Что же ты стоишь такой мрачный, роняешь из очей такие горькие слезы?
Вздохнул юноша глубоко и, с любовью в ее лик вглядываясь, так говорил:
- Протянуть к тебе руку, а в следующее мгновенье уже лететь сквозь космос. Как это легко, какая это чарующая мечта! Увидеть лунные моря, пройтись по дорожкам, по которым не ступала нога человека, присесть у фонтанов из которых бьет свет. И все это - рядом с той единственной, единственной которую любил! Которую любить буду вечно! О - это мечта! Она так влечет к себе, что в первое мгновенье, я и позабыл, про Рок, который над этим чувством. Я бы мог подать тебе руку, но... Тогда бы я обрек на мучительную смерть своих родителей, младшую сестренку и братика. Ведь чародей, когда узнает, что бежал с тобою - исполнит свою угрозу - уморит их голодом. И что же - думаешь смогу я быть счастлив хоть мгновенье, зная, что загубил их! Нет, прощай же навеки! И я не стану смотреть на тебя, ибо иначе сердце мое разорвется, а мне еще надо дойти до замка.
Так сказал юноша, и не в силах сдержать рыданий, бросился к замку. И шептал он сквозь слезы:
- Прощай же юность, прощай вся жизнь! Прощай, прощай на веки, моя первая и единственная любовь!
А дева вновь лебедью стала, взмыла в небо, да оттуда услышал несчастный юноша ее плачущий глас:
- Знай же, что никогда, никогда не забыть мне тебя. И вдруг, запела:
И лишь на мгновенье встреча - с тобой,
Нам небо, судьба подарила,
Ах, лишь на мгновенье - прощай дорогой,
И знай, как тебя полюбила!
Мы в жгучей печали - и ты, друг, и я,
И ждет нас разлука веками,
И знаем, что чувство, внутри нас горя,
В боли изольется стихами.
Ах, лишь на мгновенье... теперь - пустота,
Да года печали, тоска, друг, да мгла,
Но память останется ясна, чиста,
Любви в ней горенье - память светла.
В мгновении - вечность,
Любовь в нем одна,
Пройдет жизни течность,
И новая встреча нам будет дана.
Так пела прекрасная лебедица, взмывая все выше и выше, улетая следом за матушкой-Луною.
Она летела и плакала - слезы вырывающиеся из очей ее, падали к земле крупными жемчужинами. А те, кто просыпаясь на той печальной заре, слышали ее пенье - сами плакали, ибо так глубока была небесная печаль лебедицы. Никто на этой земле не смог бы спеть так, как то пела она.
А юноша... Юноша бежал по тропинке, навстречу своей судьбе и тоже плакал.
Но, не смотря на предстоящие мученья - светло было у него на сердце, ибо он Любил и ничто не могло сокрушить этого чувства".
- Вот такая вот сказка. - говорила голосом печальным и спокойным Катя, наблюдала, как, кружась, нежно касаясь друг друга, шепча слова прощанья, падали два кленовых листа: один - тепло-златистый, как солнце пред закатом; второй - словно небо, в тот час, когда заря обретает полную силу.
- Ты плачешь... - нежно молвила Катя, когда взглянула на Машеньку и увидела, как по личику ее одна за другой, плавно катятся большие, как слезы лебедицы, переливающиеся солнечным светом, слезы печали.
Машенька улыбнулась сквозь эти слезы, и такая - была подобна, родившийся где-то за бездной веков и миров - девочке, самой Руси-святой, какому-то небывалому сну, чему-то столь прекрасному и чистому, к чему жаждется всей верой души стремиться.
И эта девочка с дочерней любовью, любуясь Катей, шептала:
- Что же это было?... Что же это за чувство... Оно такое, как облако... как вон-то облако. - Машенька кивнула на часть величавой сине-белесой горы, которая росла в небе над полянкой. - Неохватное, все наполненное образами. Сколько образов в этой горе? Не счесть. И не опишешь это облако. Так же и чувство - кажется, только часть его увидела, но и ее только представит могу, а словами не выразить... Катя, Катенька, сестричка - как же хорошо, что мы нашли друг друга! Какой же прекрасный, хоть и печальный сегодня день!... Я... Катенька, знаете, сегодня, пока ваш рассказ слушала, да на лес любовалась, так ясно, как никогда раньше почувствовала - как же прекрасна жизнь! Бесконечно много в ней неизведанного и прекрасного... А, слезы... Да, я плачу, но мне, если можно так сказать - нравятся эти слезы. Они, я чувствую, делают чище... Прекрасные, такие прекрасные, как этот листопад чувства!
Незаметно подошел, и вот счастливо рассмеялся Петя:
- Что это вы тут расплакались? Смотрите-ка, что я нарисовал!
Мальчик протянул лист, на котором весьма умело отображен был осенний пейзаж. Все так - только вот под кленом сидели, сложивши крылья два лебедя с печальными глазами, один - черный, другой - белый.
- Я всю сказку услышал. - улыбался мальчик, и по мокрым бороздкам на щеках его видно было, что недавно он тоже плакал:
- Катя, а чем все это закончилось? - спрашивал Петя, после того, как выслушал похвалы, и наставления в том, что ему обязательно надо учиться развивать свой художественный талант.
- Чем закончилось... - Катя вздохнула. - А закончилось тем, что они встретились. Ведь, если двое любят друг друга, если это настоящая Любовь, то в окончании, какие бы не ждали их испытания, они все равно встретятся. Нет ничего, что может сломить истинную Любовь. Как вознесла она этого Юношу, а слезы девы-лебедицы были столь прекрасны, что обращались в жемчуга.
- А, ведь, все это правда было? - спросила Машенька.
Катя вновь вздохнула, протянула свою ладошку, и на нее тут же лег кленовый лист.
- Сказка - не ложь, но этого, может, и не было в нашем мире. Ведь существует великое множество миров и то, что кажется невозможным в одном мире, то известно всем в одном из этих, бессчетных миров. А сказки - то прекрасный листопад, летящий из космических бездн. Стоит только протянуть душу к небу и вот уже лист-сказка пала туда.
- Но чем же отличает ложь от сказки?
- А ложь - это то, что мы ручищами из грязи подхватываем, да себе по языкам, ради мелочной выгоды, размазываем...
Но договорить, чем же сказка отличается от лжи Катя не успела: на полянку с громким урчанием, точно он в рай попал, вбежал Томас, а следом за ним прихрамывая, маленький рыжий песик, которого издали приняли за лисичку, и еще одна - маленькая, беленькая собачонка, с быстрым веселым хвостиком.
Все эти звери замерли, а потом Томас, выросший за эти месяцы почти вдвое, бросился к своей хозяйке, стал тереться ей о ноги. Собачки же - Джой и "Белая", смущенно потоптались в отдалении, но тут их подозвала Машенька и они, виляя пушистыми хвостиками бросились к ней. Джой лизнул ее в нос, а "беленькая" ткнулась в руку.
Катя же гладила Томаса, а он все терся об нее да урчал.
- Где же ты был все это время, миленький мой? - прошептала девушка, и с надеждой взглянула в ту сторону, откуда выбежали эти зверьки.
Она ждала, что выйдет Он - юноша имени которого она не знала.
Падали, падали печальные листья. Лес тихо вздыхал, шелестел по всей свой глубине, а в небе, прощаясь с родимой землею, с теми лугами и лесами, где провели они счастливые весну и лето, улетали темными стаями птицы.
Она ждала...
* * *
Вернемся на несколько месяцев назад, в тот день, когда в одном из подмосковных лесов раздались выстрелы, и, вопли, проклятья, а один человек, которого правильней было бы назвать "медведем" лишился кисти.
Итак: Томас, мальчик Саша, король и королева лесных псов, а также сами псы, несущие в клыках своих детенышей, бежали через лес. Позади слышались вопли, но вот они стали отдаляться - видно, те люди нашли раненного "медведя".
Раненого Джоя нес в своих клыках собачий король (напомним, что у этой маленькой собачки раздроблена была задняя лапа).
Они остановились на опушке, пред распахивающимся на многие километры полем; стали решать, что же делать дальше.
"Белая" лизнула слабо поскуливающего Джоя, и бросилась в заросли на поиски лечебных трав.
Начался собачий совет. Если бы чувство короля можно было заменить словами, то они звучали бы примерно так:
"Нам нельзя оставаться в этом лесу. Нам надо уходить как можно дальше. Ведь люди устроят на нас облаву! Сейчас передохнем немного и побежим через это поле".
Старые псы заворчали, кто-то тоскливо поник головою, однако, возражать королю никто не стал, так как все они знали его мудрость.
А Саша, поглаживая ноющее ухо, говорил:
- Что ж, домой я теперь не вернусь. Куда бы вы не пошли останусь с вами. Я как раз вчера про Маугли читал - вот и стану таким же. Мне с вами много лучше, чем среди людей...
Вернулась "Белая", принесла целебные травы. Тут за лечения Джоя взялся сам король. Он прижал лист к кровоточащей лапе и, придерживая Джоя, обмотал эту зеленую повязку.
Передохнули несколько минут, после чего - подхватили своих щенков да побежали чрез поле.
Легче всего было бежать Томасу, он то ко всему относился легко, и даже радовался этому бегу. Тяжелей всего приходилось Саше: он тяжело дышал, часто хватался за бок, постепенно отставал, но, все же, терпел - бежал со сжатыми губами, да с бледным, покрытым крапинками пота лицом.
Тут король вспомнил, что в теле мальчика болезнь, что он слаб и велел остановиться - еще некоторое время провели они в овраги, замерли, когда услышали отдаленный рев машины.
И вновь бег - нельзя было терять времени...
Король не зря так торопил своих подчиненных, он чувствовал, что в тот же день, будет устроена облава - "медведь" явно обладал какой-то властью в людском мире, и уже хрипел где-то про "стаю псов-убийц, которые разгрызли его руку, и похитили сына".
Вот за сыном то и была организована облава: когда поле осталось позади, и новый лес, взметнул пред ними свои многодверные стены, над оставленным лесом уже кружил вертолет. Так же, самые чуткие могли услышать и рев приученной псовой оравы, пущенной по их следу.
Саша не мог больше бежать - ноги подкашивались, по бледному лицу струились капли пота. Он пытался что-то сказать, да не мог уже...
"Взять ли его с собой, или оставить здесь?" - размышлял король. "Если они его найдут - погоня, возможно, прекратиться. Так будет лучше для нас, а для него? По возвращении он будет по прежнему страшно несчастен. Он умрет через некоторое время. Так или иначе он не выживет и с нами. Человеческому детенышу лес может показаться прекрасным на несколько часов, а потом, когда ему захочется есть... Ягодами его не накормишь, сырое мясо он есть не станет. Ладно, даже если он проживет лето - зимой он замерзнет..."
Мальчик взглянул в глаза короля и слабым, задыхающимся голосом, смог вымолвить только:
- Пожалуйста, не оставляйте меня. Я прокормлю себя, у меня в кармане коробок спичек - вот и огонь. До зимы я найду себе теплую нору, там и сберегусь от холодов.
Король, размышляя, качнул головою, взглядом скомандовал самому большому псу: двухметровой, беспородной громиле: "Возьми-ка ты его на спину, да постарайся - неси сколько можешь... Все одно - среди этих людей не будет ему счастья"
Пес опустился рядом с мальчиком, а тот только и смог - перебраться на мохнатую спину, уткнуться в эту теплую перину лицом, обхватить ее, да и заснуть.
И вновь бежала чрез лес собачья стая и котенок Томас. На пути им попалась речушка, и псы побежали вверх по течению, по воде - Томас не хотел заходить в воду, однако, королева подхватила его за загривок, да и понесла испуганно вытаращившую глазищи котяру над водой...
Они бежали до ночи, а там, передохнув немного, бежали и до рассвета. Над же рассвете, над их головами, наполняя поднебесье гудящим басом своим, пролетел вертолет. На этот раз их закрыли от людских взоров древесные ветви...
Еще один, проведенный в беге день. И, наконец, приютившее их, живописное место - живописность которого отмечена была только Сашей, так как псам такие понятия не ведомы - как уже говорилось - они воспринимают мир в целом, как единое.
Там, под склоняющимся над водой овражным брегом нашли они довольно обширную пещеру, увешанную корнями, да наполненную журчаньем родникового гласа.
Когда очнулся Джой, то с тоскою посмотрел на Томаса:
"Вот беда! Придется пролечиться здесь, потерять еще время!"
Котенок же отвечал:
"Мяу! Мы подождем. Но, как только твоя лапа зажит, мы помчимся к моей хозяюшке!"...
Джоя лечила "белая", его лечил и Томас, принося выловленную им в реке рыбку, да положив свою голову ему на спину, согревая живительным теплом, да ласково мурлыча.
Наконец, за Джоем ухаживал Саша.
Поначалу мальчик проводил много времени в лесу, где собирал себе ягоды да грибы, и уж к вечеру, усталый, но с сияющим от чувства свободы лицом, возвращался в пещеру, где ждал его "вечный огонь" - ветки в жертву которому подбрасывала "белая".
Дело в том, что мальчик с вечера заготавливал кипу хвороста, и, затем, чтобы не тратить спички, которых не так уж и много осталось, попросил "белую" об этой услуге.
Возвращаясь же из дневных похождений; весь покрытый паутиной, засохшими слоями ягодного сока, мальчик садился возле Джоя, смотрел в его тоскливые глаза, гладил за ухом да говорил:
- Пусть ты и собака, а с тобой мне лучше, чем с людьми. Ну, скажи, чем же ты хуже моего папаши? Чем? Да - мой папаша, умеет говорить слова, хотя и в твоем лае чувств может быть и не меньше, нежели в его голосе. А! - еще мой папаша считает себя властелином всего мира! По его мнению - все низшие, а он - Бог. И у него есть еще какие-то мыслишки? Ну и что? Что ж из того? Вот ты лежишь, смотришь на меня печальными глазами, а он сейчас в ярости мечется, мать избивает - и какие ж у него мысли?! Нечего то в нем и нет, кроме мерзкого, низкого! Он хуже тебя! Да - и все люди такие, никогда не стану к вам возвращаться! Вы, существа для них низшие, живете гораздо гармоничнее их!.. Миленький ты мой, рыжий песик! - и мальчик плакал, гладил Джоя и плакал...
И чем дальше, тем больше времени проводил мальчик, возле этой маленькой собачки. Он и ласкал его, он и сказки ему рассказывал, и про свою, безрадостную жизнь тоже рассказывал, и верил, что Джой понимает его.
И Джой действительно понимал - пусть не слова, но нежные, обращенные к нему чувства.
И вот песик этот день за днем, да и полюбил этого доброго и несчастного мальчика, также, как и прежнего своего хозяина Диму. Нет - не то, чтобы любовь его к Диме угасла - просто он не мог не полюбить - ведь этот мальчик так нежно относился к нему, он был добрым, он был несчастным, и он по прежнему болел.
Лесной, чистый воздух; ежедневно - голоса птиц, купания в реке, вода в которой, благодаря значительному отдалению ее от "цивилизации" была чистой, и даже прохладной...
Поначалу - все это радовало мальчика, но вот потом, примерно через месяц, когда Джой уже мог, хоть и заметно прихрамывая, передвигаться - мальчик, стал мрачнеть.
Все больше и больше времени проводил он в пещере, все больше и больше говорил. Голос его становился тоскливым, часто он начинал плакать, а то из груди его поднимался глубинный, давно затаенный кашель. Вот, в вечернюю пору, сидит он, рядом с маленьким костерком - гладит Джоя, из опухших глаз его, одна за другой появляются, медленно ниспадают по щекам слезы.
- Миленький, миленький песик... - с недетской, а уж какой-то смертной тоскою шепчет он, и каждое слово его слезою окутано, он шепчет, но время от времени шепот его разрывается изнутри, как воздушный шар проткнутый иголкой - кашлем. - Прекрасен лес, и вы прекрасны! Но вот ты лежишь, вот ты смотришь на меня своими печальными глазами - с пониманием смотришь, но, мне так чего то не хватает... Знали бы, ты! Голоса птиц, журчание воды, шелест листьев, пение дождя, гром, ваше доброе общество... Но мне так не хватает иных чувств, которых нет здесь! Иных, иных! Я их не находил у людей, но и здесь их тоже нету! А я даже и не знаю, что это за чувства, понимаешь, миленький мой, песик. Знал бы так сказал... Но от отсутствия этих чувств - у меня, что-то в груди давиться... Чего нет здесь, чего и у людей я не находил и, даже, не знаю, что это...
Тут входит Король, вильнет мальчику хвостом, да кивком головы позовет за собою. Они выйдут, пройдут несколько минут по лесу - тут совсем старая, давно нехоженая просека. Остановится тут Король, голову опустит - будто бы прощается.
Саша все понимает:
- Ты говоришь: мы тебя любим, и лес, и река, и небо - все они тебя любят! Но ни от кого из нас ты не получишь то, что есть в твоих братьях - людях. Ты говоришь, что среди людей мое спасенье?... Нет, милый мой брат. Нет! Если не в отчий дом мне вернуться, то куда же? Ответь, добрый ты мой, кто же примет меня лучше чем вы, кто же теплом излечит ту боль, что в груди засела?! Я с вами останусь!
И он поворачивался, и бежал обратно, в пещерку, возле изгиба реки. И там вновь плакал, обнимал Джоя, кашлял.
В средине августа Джоя совсем излечили, и хоть от задней лапы остался один обрубок - он довольно резво бегал, и давно бы мог оставить пещерку, отправиться на дальнейшие поиски... Но он оставался в пещере - оставался потому, что Саша, которого он полюбил не меньше Димы, лежал там, совсем захворавший и не помогали ему никакие из принесенных "белой" кореньев.
Те коренья могли вернуть силы телу, но душа... Душа страдала - это душа, в перерывах между кашлем, выплескивала из груди мальчика стоны, и это из нее, звучал слабый, одними только чуткими ушами, прижавшегося к нему Джоя, слышный голос:
- Не оставляй... я знаю... ты хочешь уйти... тебя кто-то ждет... какой прекрасный лес... сколько в нем жизни... о как мне не хватает... ты не спасешь меня - ты облегчишь боль... Не уходи! Или я закричу...
А Джой, глядя на него, и не собирался уходить. Теперь он все время был рядом с мальчиком, и, время от времени, когда того мучили особенно сильные приступы кашля, начинал подвывать. Рядом был и Томас, он грел его своим тельцем, пел самую нежную свою мурлыкающую песенку, и "белая" неустанно приносила ему коренья - ему этой дружеской, братской заботы было легче. Боль на время уходила, но болезнь оставалась...
Однажды, уже в последние дни лета, когда в воздухе повеяло прохладой, и поплыли по реке первые из умерших листьев, мальчик проснулся в первый час рассвета, да и разбудил всех спавших в пещерке псов плачем - он плакал навзрыд, не мог остановиться минут десять...
Джой уткнулся ему мокрым носом в лицо, Томас тепло пел на животе, и, наконец, измученный мальчик смог вымолвить сквозь слезы:
- Знаете, что мне сегодня приснилось? Я расскажу, а вы слушайте внимательно - ведь, это скоро будет. Итак, представьте - ноябрьский темно-серый день, весь лес темен - не осталось ни одного листика, сгнила трава на земле, но снега еще нет - медленно проплывает густое мрачное небо. Река вся черная, ледяная незримо движется, жжет своим холодом озябшие берега. Все вы собрались на вершине этого оврага. Пред вами, на землице лежу я - весь промерзший, лицо синее - в нем ни кровинки. Лапами вы разрываете землю - вот уже достаточно большая ямы. Своими носами вы поддеваете меня, сталкиваете в яму, засыпаете землею. Потом вы воете тоскливо, задираете головы к этому ледяному небу, и воете - все громче, громче... Тогда я и проснулся, но, ведь это был вещий сон! Эй ты, Король, с человечьими глазами - скажи, мой братец - разве же это был не вещий сон? Разве же выживу я, без того, что мне не хватает?! Нет, нет - не зови меня к людям! Мне средь вас много лучше, чем среди людей!
В тот день Король долго обсуждал что-то со своей королевой, потом же исчез и вернулся только на следующее утро, но не один - с Человеком.
То был огромный, бородатый лесник, а вместе с ним - добродушный волкодав.
Сашка в то время впал в забытье; тяжело дышал, и, весь мокрый переворачивался с бока на бок, шептал, кричал, хрипел:
- Маменька... маменька, где же ты, маменька? Почему у меня нет маменьки?... К людям - нет, никогда! Не хочу видеть эти злые, тупые рожи!... Нет, нет... хочу, хочу... согрейте меня... душу...
Лесник оглядел пещеру, присвистнул:
- Вот это да! Я то думал такое только в сказки бывает! Что у вас, зимовье зверей? А мальчик чей?
И этот могучий великан, подошел к Саше склонился над ним...
Надо сказать, что если при его появлении многие псы, несмотря на то, что он явился с Королем, переполошились - раздался угрожающий рык, да скрежет клыков - то, как только он заговорил - рычанье прекратилось.
Голос у этого человека был очень басистым, но каждое слово, при всем его объеме обволакивалось, и наполнялось, как карамель спокойным и простым, добрым чувством. Слова лились и псы чувствовали, что он не желает никому зла, что он человек простой, и любящий просто и сильно.
Успокоился и Саша, ибо в этой раскатившимся, медово наполнившим пещеру голосом, почувствовал он то, что так ему не хватало - понимающую его, добрую, мудрую, Человеческую Душу.
И вот мальчик замер, приоткрыл слезящийся глаза, да тут же вздрогнул, вскрикнул, попятился к стене: ему показалось, что этот человек - его отец.
Да - и этого лесника, так же, как и Сашиного отца можно было назвать "медведем" - но какие же это были разные "медведи"!
Джой, хоть и сам, от одного только голоса проникся к этому человеку доверием, теперь, видя ужас своего хозяина, пронзительно залаял и встал между вжавшимся в стену Сашей и лесником.
В отваге маленькому, рыжему, конечно, было не отказать - человечище этот возвышался над ним горою, да мог бы раздавить одной ножищею, чего, конечно, делать не стал, так как действительно был добрым и спокойным человеком.
- Ну, я вижу - ты хороший, верный пес. Посмотри, разве же я хочу причинить ему вред? Я только добра твоему хозяину желаю. Ведь вам его не излечить - ему человеческий уход, человеческое теплота нужна...
Тем временем, Саша разглядел лесника, и не плача больше, внимательно вслушивался в каждое его объемистое слово...
Потом мальчик протянул к "великану" слабенькие свои, худые руки и прошептал тихо:
- Если вы меня не выдадите другим людям - я пойду с вами. Пожалуйста, только оставьте меня у себя, только не выдавайте... Вы не знаете... Я сейчас не могу говорить... Но только если вы выдадите - я точно умру...
- Я не выдам. - мягко прошептал "великан", и легко, как пушинку подхватил мальчика, потом, уже направляясь к выходу, молвил. - Вот уже двадцать лет живу я, вместе со своей женою, в избушке, что у синего озера, в двух часах ходьбы отсюда. Мы живем счастливо, мы любим друг друга, но лишь одного нам не хватало - у нас не было детей. Неужто небо смилостивилось над нами?... Ладно, подождем, когда он окрепнет, да и выслушаем его рассказ...
У выхода он еще остановился, ко псам повернулся и им, замолкшим так говорил:
- Спасибо вам. Я вижу - вы умные и добрые звери. Если зимой вам станет холодно и голодно - приходите ко мне, я для вас найду теплый уголок, и накормлю вас... Удивительно - будто в сказке побывал!
С этими словами он повернулся, и унес Сашу.
Никогда больше Джой не видел ни этого доброго "медведя", ни мальчика зато чувствовал, что мальчик излечился и все у него хорошо.
На следующий день было прощание с "собачьим королевством" - Джой, Томас и "Белая" отправились на поиски Томасовой хозяюшки, исход которых уже известен...
* * *
Ох, холодная зима! Ох, ты вьюжная, снежная зима - мучительница!
В том году выдалась она выдалась студеной и снежной: то валил из густых туч снег, то небо прояснялось и ударял, да жег, да щеки щипал - мороз.
Рассказывать о мучениях той зимы... Попытаюсь быть краток, ибо, если описывать все те страдания, займет то много страниц, да и сердце содрогается, лишь только хоть немного приоткроешь завесу той тех темных месяцев...
Город, город - ты огромный! Ты - весь испещренный улицами, машинами, лицами, словами, вывесками, подъездами, окнами, входами и выходами, фонарями, светофорами, ревом двигателей! О ты, холодное и уродливое, злобливое чудище! Что ж ты, так нарядно пестреющий вывесками - что ж ты столь суетлив и безучастен к людскому то горю!
Холодные стены, стекло да гранит! Бетон, да закрытые лица - куда же, куда же это все это летит?!
Еще в окончании октября, по ночам на чердаке стало морозно, улетели оттуда голуби; ну, а у Пети и Машеньки крыльев не было и, потому, пришлось им перебраться в подвал, где, по прежнему каждый день навещала их Катя.
В начале декабря захворала Машенька и некие лекарства ей не помогали.
В спертом душном воздухе наполненном испарениями, да жаром раскаленных труб, прорывался ее слабый голосок:
- Катенька, Катенька... мне бы Солнышко увидеть...
В тот же день Катю отсчитывал отец:
- В институте дела твои - черт знает что! Заглянул в твою зачетную книжку... Тебя же из института отчислить могут. Ведь не сдашь зимнюю сессию!
- А если на одни пятерки сдам, папа?
- Если на одни пятерки сдашь... Да если ты нас с матерью так порадуешь все что в наших силах, любое желание!
- А крылья...
- Что?
- Я хотела сказать... - она запнулась - ей мучительно, жгуче больно стало от того, что ей предстояло теперь сказать неправду, но ради Машеньки, она справилась и с этим. - Например, купить билет в теплые страны?
- Отдохнуть тебе? На солнышке погреться? Что ж - не помешало бы, а то вон - бледная, как смерть ходишь. Почему у тебя такой болезненный цвет лица? Ты вообще в институте бываешь или где?..
- Я сдам сессию на все пятерки. - поклялась Катя и выполнила свою клятву.
Целый месяц она почти не спала. Ведь дни она проводила возле Машеньки, обещала ей, что, вскоре, заключение в подвале закончиться и вырвется она к "солнышку".
Ну а ночи она проводила, зазубривая конспекты своих подружек (ведь на лекциях она не появлялась)...
От постоянного напряжения - она совсем исхудала, лицо ее побледнела, под глазами появились мешки. Но сами глаза! Ах, что это были за глаза! взглянешь в них, а из них, как с горного склона, бросается к вам чистый, ласковый, свежий поток; обовьет вас, приласкает, а сама душа поцелуями покроет.
Очи!... Она, ведь, оставалась внешне прекрасной, несмотря на свою усталость; однако каждого кто смотрел на нее, сразу притягивали эти, льющие могучий душевный свет очи! - Душа, которая в этих очах сияла, главенствовала над телом...
Она выполнила свою клятву - все сдала на пятерки, и пред самым Новым годом пришла в подвал, где кашляла Машенька, и читал ей сказки Петя.
Катя устало улыбнулась им, села на табуретку.
- Ну, Машенька, помнишь я обещала тебе, что скоро улетишь ты вслед за птицами в теплые страны?
- Да, да... - прошептала Машенька и закашляла.
Тогда Катя достала из кармашка билет, протянула его своей младшей сестричке.
- Это в дом отдыха на берегу теплого моря.
- Но как? - лик Машеньки просиял, и она, впервые после долгого времени, улыбнулась.
- Это - волшебство. Подарок от Деда-Мороза. - Катя вздохнула...
Чего же стоило ей говорить своему отцу столько неправды, придумывать что-то лживое... лживое - пусть даже и для блага Машеньки!
Но она, мучительно переборов себя, после того, как изумленные отец и мать просмотрели ее пятерки, попросила, чтобы позволено ей было выбрать и купить билет самой. И она выбрала детский санаторий, где-то на Карибских островах. Родителям же сказала, что - Францию. Потом всю ночь плакала - хоть и была измождена, не могла заснуть - от того, что соврала...
А потом еще какая-то неправдоподобная история, почему она должна быть в аэропорту одна - когда она рассказывала эту историю, то из носа ее пошла кровь... Впрочем - теперь все это было позади. Теперь Машеньку ждал отдых, а Катю - две недели в подвале.
И, если семилетняя Машенька поверила, рассказу про деда-мороза, то Петя уже был достаточно взрослым и потом, в сторонней части подвала, шепотом спрашивал у Кати:
- Это ведь ты купила?
- Если бы я! - с горечью вздохнула Катя, и из глаз ее выступили слезы. Ведь, кто я?... Студентка... - она посмотрела на свои музыкальные, легкие пальцы. - Если бы я умела зарабатывать деньги... Нет - я не умею... Это родители мои купили... Да - знаю: я бессовестная, лживая, ничего то я не умею... Ну так вот... - она тяжело вздохнула - так часто в последнее время вздыхала. - Как бы то не было, но нам придется как-то пережить в этом подвале две недели. Ты, ведь, понимаешь - дома я не могу появиться.
- Так поживи у какой-нибудь подруги.
- Лучшая моя подруга живет в нашем поселке - от ее матери сразу все раскроется. Московских же девушек я плохо знаю - не было времени хорошенько с ними познакомиться - не стану же я к ним на две недели напрашиваться. Чем они меня кормить станут?
- А Томас и Лис? (так назвали они, по неведенью Джоя, но мы, чтобы не возникло путаницы, будем звать его, все-таки по прежнему)
- И с ними я расстанусь на эти две недели - ведь, не смогу же я их взять с собой...
И на следующий день они прощались с Машенькой - проводили ее в аэропорт, где присоединилась она к группе своих сверстников. Смотрительница этой группы - полноватая женщина с задумчивым выраженьем лица, посмотрела на Машеньку и вздохнув, сказала:
- Какая худенькая, какая усталая девочка. Ну, ничего, скоро ты увидишь "стройные пальмы", вдохнешь "запах немыслимых трав". Девочка, ты, просто, очень долго вдыхала "тяжелый туман". Но теперь все будет хорошо, уж поверь мне.
Машенька, плача, целовала Петю и Катю, и столько чувства, была в этом прощании, что многие оглядывались, а кое-кто даже и останавливался казалось, что в аэропорте пробились три лучистых фонтана.
Но вот Машенька улетела, вслед за перелетными птицами, а Петя и Катя вернулись в подвал...
В один из следующих дней в Катином доме случилась пропажа: убежали Томас и Джой. Их долго искали, звали по снежным лесным тропинкам, однако, на электричке они уже доехали до Москвы.
Дело в том, что и тот и другой почуяли, что Кате плохо, почуяли и где она и вот уже, к Петиной радости, ворвались в подвал...
Катя не могла радоваться: она очень тяжело заболела. Она привыкла к свежему воздуху, к свету Солнца, к жизни вольной - подвал пагубно на нее влиял, к тому же, сказалось нервное перенапряжение - да все это безысходное, по сути, неделя за неделей существование.
Она еще мучилась тем, чем никому не открывала: она любила - о, так безысходно, о так сильно, и свято любила!
"Где ж там встретиться теперь с тобой, в этом царствии зимнем?" - то билось в болящем сердце ее: "Суждено ли нам теперь когда-нибудь встретиться? Быть может, только после смерти... Но, как же я люблю тебя, о юноша, которого видела лишь мгновенье, которого даже и имени не знаю... Но знаю его лучше кого бы то ни было на свете. Ведь наши души едины... Как два облака разъединенные ветрами, но два облака которых так тянет друг к другу... Сколько лиц в толпе - сколько лиц в каждом мгновеньем - но, если мы лишь на мгновенье увидели друг друга и до сих пор, несем чрез невзгоды не это ли есть истинная Любовь?... Я чувствую, я верю, я знаю, что и ты, сужденный вечностью мне, где-то ищешь, стремишься ко мне... И мы свободны с тобой! Да, милый, не смотря на то, что разъединены - мы вольны! Мы вольны лететь над всеми горестями, пролетать над тем, что иных затянуло бы... Мы вольны, вопреки всему, стремиться друг к другу. Мы летим, свободные, над полями, мы летим окрыленными горами - любовь - это свобода..."
В этом огромном городе Петя лишь с трудом находил для нее пропитание. Для милой Катеньки, не стал бы он, как прежде лазить по помойкам, искать чьи-то подгнившие объедки. Он пытался было ходить по метро собирать милостыню, но тут так скрутила его гордость, что он вернулся в подвал и, проведя всю ночь за рисованием, на следующий день отнес серию мрачных, отчаянных, но талантливых картин на листах, какому-то уличному продавцу, которых их принял за какие-то гроши...
Все же этого было достаточно, чтобы купить еды - но Катя почти ничего не ела... Она не могла есть: и видела она идущего по парку юношу, слышала его голос - вновь и вновь - из этого мгновенья можно было почерпнуть целую вечность. В этом мгновенье она поднимала взгляд вверх, и, завороженная, созерцала необъятность злато-серебристых горных бастионов, улыбалась им, роняла слезы печали - знала, что встреча, несмотря ни на что, все ж, суждена.
И вот в подвал прибежали Томас с Джоем, не отходили от нее. И от тепла этих троих: Томаса, Джоя и Петя - Катя выжила.
В средине декабря среди труб появилось некое загорелое созданье, с сияющими очами, и подбежавши к Кате, расцеловавши ее, смертно-бледную, но улыбающуюся; прикоснувшись теплыми, счастливыми слезами, внесла сказку, столь необычную для этой зимы, что трубы заглохли и сам подвальный воздух расширился, наполнился образами яркими, красочными - сама зима, вздрогнула от этого звонкого голосочка, попятилась, и всем показалось, что в подвале запел яркоперый соловей:
Вода в море светло-лазурная и прозрачная - свет льется из его прохладной глубины, которая живая-живая. Вся живая - каждая плавная, легкая, такая свежая с трепещущим внутри сердечком - волна, каждый брызг!
А как поют эти волны, когда выплескиваются на покатый, желтый песочек! Это же волна музыки - прокатится по сознанию твоему, обласкает, исцелует, и не успеет отойти, как новая ласка нахлынет!
Вот взобьется волна о белый, словно мраморный камень что на песчаном берегу красуется, с хрустальным звоном разобьется он в мириад капелек, а меж ними живой паутиной разольются солнечные лучи - все гуще, гуще - вот прояснится образ, еще неясный, и голос воды - сильный девичий голос запоет:
- Здравствуй, милый берег мой,
И прощай мой дом родной,
Нынче, друг мой дорогой,
Мы пройдемся под Луной.
Подождите вы меня, сестры мои, волны,
Нынче думы все во мне, чувством древним полны,
И проходят предо мной видов древних сонмы,
Подожди те ж вы меня, о подруги сонны...
Только отзвучит та песнь, как из брызг полностью сложится образ прекрасной девы. Волосы ее - то самая нежная, белая пена морского прибоя - в волосах тех украшеньями светятся ракушки, да жемчуга - лик ее излучает легонькую перламутровую дымку, а очи - что две живых океанских бездны; тонки черты ее лица, и кажется, что - она живая статуя, выточенная из тысячелетий кропотливой работы умельцем-океаном. На ней: длинное легкое платье, тоже живое - по его поверхности движется в непрестанном движенье, теченье вод морских. А пальцы на руках ее так музыкальны, что из их кончиков исходит музыка души ее, да расходятся округ лаской да поцелуями. Дева встанет на песок, возле мраморного камня, стоит легкая, смотрит, как заходит за край моря Солнце, и красит сначала простор в живое злато, а потом - в страстный багрянец.
Но вот высыпают на небо одна за другой звезды, и как взглянет круглолицая Луна, на поверхность мраморного камня - так быстро взметнется он, да встанет юношей, столь же белолицым, как и камень его, а в очах его - твердый и страстный Лунный пламень.
И тогда, протянувши друг к другу объятия, вспомнит она, как было...
Когда-то темен был тот камень, век от век, тысячелетье за тысячелетьем, темнела его безмолвная и глухая тоска одиночества.
Стоял он темный, на берегу, и, взирая на надвигающиеся без конца гряды волн шептал так в темных тоскою своих глубинах: "О, волны, кто же вы? Зачем вы? В каждой из вас, волны, вижу я прекрасный девичий лик - каждое мгновенье новый лик! Но что из того - скоротечен ваш век - взметнетесь вы, коснетесь меня легкой рукой, да тут же и разобьетесь - вот и вся ваша жизнь! О, знайте, что мне дано влюбляться в каждую из вас. Одно мгновенье виду я ваши лики, и за это мгновенье уж влюбляюсь в каждую из вас. И каждой из вас готов я посвятить океаны песнопения, но каждое мгновенье мое чувство разбивается вместе с гибелью каждой из вас, о дочери океана! Влюбляться каждое мгновенье, и каждое мгновенье видеть смерть своей возлюбленной. Куда же бежите вы и зачем? Что гонит вас? О остановись хоть одна? В чем тайна поведай, как могу я сделать так, чтобы ты остановились?!"
Но волны пели привычную свою песнь, и гибли одна за другой об этот камень... Темно..."
Тут Машенька осеклась, и со страхом оглядела этот перекрученный гудящими трубами, освященный ровным, мертвым светом редких, грязных ламп подвал. Она посмотрела на бледное, с темными мешками под очами лицо Кати, всхлипнув, прислушалась к ее прерывистому дыханью - вот слезы вырвалась, вот покатилась, вот уже в воздухе, падучей звездой блеснула, да плюхнулась безжизненно на бетонный пол.
- Простите. - Машенька поцеловала Катю в щеку, и в это время взвыла, заголосила с темной, бесприютной тоской на улице зима. - Ах, извините, извините! Простите меня! - заплакала Машенька. - Я ворвалась к вам такая радостная. Я пока на самолете летела, пока бежала к вам через этот город, я ничего то, кроме моря, да света солнечного моря не видела. Как начала вам рассказывать эту сказку - а она вся такая легкая, светом проникнутая - как начала рассказывать, так все больше в меня этот подвал да заклятье зимы прокрадывалось. Вот рассказываю, рассказываю, а в конце уж чувствую - подвал этот, этот воздух замкнутый, эти стены, свет ровный, не живой - все они сказку темными словами преображают. Сначала ясные слова лились; потом - все мрачнее, мрачнее. И в сказке то этой дальше говорится, как камень узнал от орла, секрет морских волн, как поймать одну из них; и как полюбили они друга, о счастье их... В сказке то этой совсем и нет мрачных слов - она, как море! Но ушло, ушло - не могу... Что же за мрачные слова лезут, ах Катенька - как жажду вырваться, но не одна, но с тобою, с Петей!.. Но подвал, узкие стены, гуденье, мертвый свет - они захлестывают сказку, но у них, все-таки, все было прекрасно! И, Катенька - все будет очень хорошо, потому что - мы любим друг друга! А там была еще одна песня, которую пел восставший из камня юноша, когда впервые увидел возлюбленную волну. Я смогу - я вспомню! Я в этом подвале, спою так же, как спела бы на берегу:
- Из веков темных,
Из океанов идущих лет,
И из глубин тоски бездонной
Миг в коем вечный свет.
Моя любовь в прибое света,
Вдруг вышла, мир весь озарив,
И понять - сколько чувств не счесть,
И нежен, как твой перелив!
Мгновенье - вечность озаряет,
Отхлынули века тоски,
А впереди - зарей пылает,
В тепле твоей, любовь, руки!
Катя взяла за руку Машеньку. Измученные болезнью, но сияющие очи ее, пылали слезами. Голосом, за спокойствием которого, словно в клетке билась нежная страсть, спросила:
- И эта песнь была сложена где-то на самом краю земли? Где-то далече, далече, где солнце восходит?.. Значит, и там люди чувствуют тоже... Да, конечно же... Мир - этот прекрасный мир - не город созданный людьми, но мир Творца. Он, ведь, создавался из любви... И, быть может, где-то в бездне космоса, за миллиардом миров, существа совсем на нас не похожие, чувствуют тоже, что и мы! И у них есть разлука и печаль. И они надеются на новую встречу...
* * *
Ночь - огромная черная клеть наполненная воем ветра, вся пронзенная стремительными снежинками, вся содрогающаяся от собственной неприкаянности, омертвелая, но все же стремительно движущаяся в снежинках, в ветре, в самой черноте рычащей. И где-то в этой огромной клети - маленькая, темная избушка, в которой мертвое, бескровное тело, да еще одно тело наделенное пока духом, но уже умирающее... Дима (хотя кто бы узнал в этом жутком скелете, покрытом обгорелым рваньем, грязью да запекшейся кровью, прежнего Диму?) - он сидел, поддерживая руками клонящийся в смерть, обтянутый кожей череп, и смотрел на последнюю из только что написанных страниц. Буквы сливались в одну болотную массу, в глазах все больше темнело, а он, едва ворочая темными от кровяной корки губами, шептал: "Умирать... нет - я не хочу умирать... вот написал прощание, но теперь жажду вырваться от смерти... ах, кабы были силы.. Прочь же тьма... Что же ты окутываешь, пеленаешь меня, как маленького? Откуда ж сил то мне взять?"
Тьма надвигалась, захлестывала сознание, и Дима понял, что сейчас умрет.
Ледяными щипцами пробежало понимание того, что впереди уж ничего не будет, только холод, только мгла...
- Жить, жить, жить... - шептал он молитву, и тут увидел лежащий на краю стола старый, желтый альбом.
Открыл его - фотографии. Сначала - старые, черно-белые; потом - цветные все мертвая семейная идиллия, светлые лица. Дима переворачивал листы, издавал беспрерывный и жалобный стон: "Умираю, умираю - это, должно быть, последнее, что я вижу".
И вот последняя страница: на ней - синее небо, под ним - весеннее поле, на котором лежал еще снег, но кой-где земля уже обнажилась; виднеется в отдалении избушка, ну а на переднем плане стоит на коленях в профиль к фотографу девочка, которую видел он в снах, а теперь мертвая, ибо в той, встреченной в снегах, остался только облик - да и тот с седыми волосами.
А на фотографии запечатлелось на века мгновенье: она склонилась над подснежником, должно быть над первым в ту весну - хорошо видны маленькие лепестки, тоненький стебелек, а девочка даже и не смеет дотронуться до этого, первого пробившегося из смерти, да в жизнь. Боится хоть как, хоть ненароком повредить этому чуду...
- Жить... жить... - заскрежетал зубами Дима.
Тут представились ему мертвые, заснеженные пространства в которых нет любви, но только отчуждение, да холод, да боль...
- Как же темно перед глазами... все двоится, троится, распадается в ничто... - тут он страстно захрипел. - Вырваться!..
На мгновенье фотография прояснилась, и он смог различить, что земля за домом обрывается.
- Ага, значит - пропасть. Пропасть. Да уж лучше лететь вниз, звездою падать в ад, чем сгнить здесь! Уж лучше разбиться о камни, чем врасти в этот стол.
И он рывком поднялся, шатаясь, хватаясь за стены, выбрался из избушки. Прошел сквозь визжащую снегом тьму несколько шагов, но вот споткнулся, повалился в сугроб. Дальше он пробирался уже ползком и с закрытыми глазами: в его воображении раскинулось летнее поле, а над ним: клубящиеся грозовые тучи; вот совсем рядом - молния, раскат, столь же страстный и обреченный на затухание, как и Димина жажда жить: "Увидеть! Господи, увидеть!!!.."
Еще рывок, еще один рывок вперед...
"Где-то рядом черная бездна. И я полечу, полечу в нее, не в силах взмыть к свету, чрез эти холодные, снежные тучи! Крылья мои сгорели с забитой до смерти старушкой, с теми, распухшими от многодневных побоев телами, с мясом дохлой собаки... С кровью - да - признай это хоть перед смертью - с кровью, которую обезумевшая девочка выкачала из вен своей мертвой матушки..."
Еще один рывок, и вот выпущенная вперед рука наткнулась на колющую холодом, уходящую вниз каменную поверхность.
"А - ну вот и все - еще два-три рывка, и все то, чем я жил, все помыслы мои, все мечты - все исчезнет без следа. Даже и тетрадь моя пропитается кровью... Да там и так ничего, кроме крови нет..."
И вдруг, словно молния, изжигающей колонной ворвалась в Диму, и он захрипел голосом демона в ночь:
- Смерть! Ты над всем, что тленно властвуешь. Но дух мой нетленен - нет и нет! Я не умру вовек, слышишь ты - холодная мерзавка?! Сковать меня задумала - нет, нет... - и он скрежетал зубами с такой силой, что два передних зуба сломались, но он даже и не почувствовал этого.
- Я должен умереть?! А вот я кричу - нет! Кричу нет судьбе! Пока я жив я буду бороться! Я сейчас стихотворение придумаю! Да - вопреки всему - тьме, холоду, снеговерти, тебе, смерть! Я сейчас тебя стихотворением скручу...
И он пронзительным, вьюжным, стальными иглами взрывающимся голосом закричал:
- Я бог окутавший свое созданье,
Я сфера, за которой - пустота,
Но в центре сферы - дивное мечтанье,
Взращенная из сердца красота.
И обтекают мою душу смерти токи,
И холод лезвием по мне скребет,
Там, в смерти, движется без прока,
Там хаос, без мечты течет.
Но я храню, что в центре сферы,
То, что породилось из меня,
Люблю без счета и без меры
В себе весь космос и мгновенье вечности храня.
Смотрю на мир в себе взращенный,
И презираю боль извне,
Молюсь, как юноша влюбленный,
Тому, что создано во мне!
Дима засмеялся, и с приступом кашля из разодранного горла плеснулась кровь.
- Так вот. - скрежетал он, оставляя за собой кровавую, тут же заносимую снегом дорожку. - В одном мгновенье - вечность - да, я чувствую, что в одном мгновенье - вечность. Так же и в теле - где-то в этом хрупком теле заключен мир бесконечный, и тебе то его, смерть, не оплести....
Ветер взвыл пронзительно, и, как показалось Диме - с насмешкой. Тогда поэт усмехнулся зло, с вызовом:
- Ну, мы еще посмотрим - кто кого!
Ухватившись двумя руками за край пропасти, он из последних сил подтянулся. Теперь тело его лежало на снегу, а голова повисла над непроглядной чернотою; там ветер выл, там двигалось что-то.
- Ну, вот сейчас, без лишних слов мы с тобой и схватимся.
Последний рывок. Он пролетел всего лишь метров пять, а потом повалился на занесенный снегом уступ. По пологому склону покатился вниз - голова кружилась, его вертело, кидало, переворачивало, несколько раз ударяло камнями и, казалось, что это горы побивают его своей дланью.
Потом еще одно паденье - он все ждал окончанья, все надеялся на то, что будет жить, что вновь его бросит на снег, покатит, а потом вынесет к добрым людям, которые излечат его, помогут добраться до Сада, до Фонтана...
А он все падал. Он не чувствовал больше ни ветра, ни холода, он не видел пространства вокруг, но, поводя руками, понял, что с какой-то ужасающей замедленностью падает.
Так же неожиданно он понял, что это падение - действительно последнее; что его уже не спасет ни снег, ни воды, ни травы - неожиданно он понял, что не станет его тела...
Как же неподвижна и беззвучна эта чернота вокруг! Он еще раз поводил руками и обнаружил под ними снег. Этот снежный пласт медленно приближался, однако, ни коем образом этого приближенья нельзя было остановить, нельзя было отдернуться в сторону...
Все ближе, ближе - вот он уже уткнулся в него лицом, а вытянутые вперед руки уходили в глубину. Он весь уже в снегу, и все движется, все погружается в его толщу. Сколько же можно? Остановись же...
Снег завораживающе медленно продавливался, от давления хрустело в голове, но он был жив, хоть и слепой, хоть и сминаемый - он был еще жив.
Но вот рассекающая снег рука коснулась камня.
"Стой... хватит... жить... жить..." - жарким пульсом забилось в его голове. Рука давила на камень - он двигался - хруст - он чувствовал, как дробится кость, как потом, выплескивая кровяной поток, разрывает кожу.
Но он был в ясном сознании, он даже убрал вторую руку, но неукротимое падение продолжалось.... Медленно камень коснулся его лица и тела - Дима понял, что и лицо, и все тело его будут размолоты так же как и рука, что он попросту лопнет кровяным шариком под снежной толщей...
"Ах, тетрадь... ее то жаль, все эти чувства, признания ей..."
Что-то отдернуло его в сторону, разрывая им снежную толщу, понесло куда-то... Куда?
Дима уже не понимал ни где он, ни куда его тащит; он не ощущал времени, не видел мира. Зато он знал, что вся вселенная - промерзшая насквозь каменная толща, ну а он - в центре ее. Он - сфера жизни, и нет ничего за ее пределами.
"Я бесконечными стихами буду взрастать из толщи камня. Я разорву его, ну же - это начало моей вечности...
- Кто мы, о, наделенные сознаньем ?
Оно, ведь, ненадолго нам дано,
Мы, скрученные смехом и рыданьем,
Все ж ждет предначертание одно.
И так надолго краткое мгновенье,
Дано ходить нам, спорить и мечтать,
Неужто же не ждет в конце нас тленье,
Неужто можно нам об этом забывать?
И смерть, вдруг, заберет все то, что было,
Покажется все тленным и напрасным, и пустым,
Все то, о чем душа грустила,
Быть может, станет близким и родным...
Стихотворенье возникло одним пылающим объемом, одним образом, одним виденьем, как полотно живописца, на котором, вместо красок, были чувства.
А что то было за мгновенье? Ведь с того момента, как Дима погрузился в снежный завал, и до того момента, когда он, под действием некой силы вырвался - прошла едва ли десятая секунды...
Но он вылетел, он покатился в каком-то безудержном вихре, его перекрученного, измятого, окровавленного, вынесло на заснеженную дорогу...
И тут, волей ли случая, или какой иной волей, стали приближаться два круглых, излучающих две световые колонны глаза. Вот раздался рев двигателя вот приумолк, затарахтел над Димой.
Его перевернули, стали поднимать куда-то вверх. Дима зашептал:
- Люди добрые... кто бы вы ни были (он ничего не видел) - отвезите меня подальше от войны... Я все равно там умру - и, если вы хотите моей смерти оставьте уж лучше здесь...
Когда он очнулся, то увидел склоненное над ним усталое лицо молодой жительницы гор - у нее были густые черные грязные волосы, покрасневшие белки глаз... еще что-то - Дима уж не мог разглядеть...
- Где мы... - спросил он, хоть и знал уже ответ по характерной встряске и моторному урчанью.
- В машине.
- Куда едем?
- От войны...
- От войны! Господи, хорошо то как! - он сказал это слишком громко, и потерял сознание...
* * *
Весна! Вот, наконец, и пришла ты!
Ты разлилась по полям, по лесам, в ручейках побежала, в птицах запела. В один из чудно-ярких, звонкопевных ранне-майских дней, ев деревенской улочке остановилась грузовая машина. Вылезшее из нее горское семейство, осыпало воздух радостными словами:
- Ну, вот и приехали!.. Здесь они живут... Да уж - десять лет, как обжились.
Тут из кузова выпрыгнул Дима. У него было бледное лицо, но глаза сияли, он крикнул:
- Ну что, друзья, пришла пора прощаться?
- Да, да. Прости, но дальше не повезем.
- Отсюда до Москвы несколько недель пути, но то прекрасно! Я побегу, я пролечу эти километры, я буду вдыхать запахи просыпающихся полей; слушать, как раскатывается над полями первый гром! О, я буду жить с этой милой, родной землею! Я буду стремиться...
Дима сбивался он избытка чувств; он, вдруг, стал целовать каждого из этих спасших его людей. Он обнимал, он со слезами шептал слова благодарности...
Уж из многих деревенских домов вышли старушки, чтобы посмотреть, чтобы посудачить потом о столь небывалом действе.
А Дима, плача, отбежал на несколько шагов, повернулся; глубоко и часто дыша, заговорил громко, свободно:
- Как же весна грудь мне располняет! Я из смерти вырвался в жизнь! Представьте - месяцы провел в душной темнице, но вот пробил дверь! Вышел на цветущий луг!.. О, небо...
Он задыхался, грудь разрывалась от частого дыхания, а глаза, окутанные аурой мечтанья, притягивали, они любовью пламенной горели на этой, переполненной птичьем пением деревенской улочке:
- Вы прекрасные, такие прекрасные люди! И все люди прекрасные! Как прекрасна жизнь! Я сейчас побегу из всех сил; добегу до Сада, до Фонтана, но на прощанье - вот вам мое стихотворенье:
- Смерти нет! Дух пылает нетленный,
Говорит дух небес окрыленный,
Из зимы возрождается жизнь...
Он не договорил - засмеялся - что было сил, побежал по дороге. Позади осталась деревня, вокруг - поля; и он, на бегу раскрывая объятия, кричал:
- Я люблю тебя, поле!
Потом его объял лес, водрузил в сферу птичьих голосов, и Дима, лаская взглядом ветви, кричал:
- Я люблю вас, деревья! Люблю вас, листья молоды! Люблю вас, птицы певчие! Эй вы, эй, птицы милые! Эй, слетайтесь ко сне! Пейте еще громче, пейте еще веселей! Я живу! Я живу!
Но вот позади лес; и вновь поле , и вновь он, восторженный его просторным величием, кричит слова любви...
Вот, на бегу, поднимает голову вверх; над ним - облачная гора. Дима подпрыгнул, и показалось ему, что уж летит - нет не ногами он переставляет так быстро - это он летит.
Вот он споткнулся, повалился на дорожную пылищу, с искренним смехом, со счастьем поцеловал эту осушенную страстным ранне-майским Солнцем, разлился в ней, целуя величаво проплывающее, беспрерывно меняющее свои контуры облако.
- Раньше я восхищался всем этим, но, все же - не так! Теперь я так люблю все это: поля, леса, облака, пыль эту мягкую, теплую, что готов ЖИЗНЬ за них отдать! Да, да ЖИЗНЬ отдать! Что бы мне сделать, чтобы сотворить? Стихи сейчас разорвут меня. Да - вот сейчас взорвусь до самого неба фейверком из цветов-стихов. Вот, например:
- Бело облако сквозь годы,
В небе ласковом плыло,
И лились под ясны своды,
Пенье птиц, что так светло.
Созерцая, создавая,
Бело облако плыло,
В глубине своей пылая,
Чувство нежное несло.
Налетел тут вольный ветер,
Облако на два порвал,
В сердце хладом жгучим метил,
В страны разные послал,
То, что было раньше целым,
Разнесло далече так,
То, что было раньше белым,
Стало черным - грозный мрак!
Ведь в скитаньях, в разлуке,
Так в тоске душа горит!
И, пройдя чрез эти мука,
К единению летит!
Скоро, скоро вновь сойдутся,
Разлученные судьбой,
Молнией к земле метнуться,
В небе поплывут горой!
Дима перевернулся на живот, смеясь вывел эти строки в пыли, а потом вскочил и даже не заметил, что, случайно задев ногой, стер эти строки.
И вновь, с не умолкающей, да еще, пожалуй, с большей страстью, мчался он по дороге: леса, поля, реки - все в радостном, любящем его движении откатывалось назад - заполнялось единым поэтическим образом.
От многочасового бега он устал, но только улыбнулся своей усталости, только вспомнил лик Девы, как усталость выметнулась из него. Пот катился по лицу, в боку кололо - ему было все равно! Желудок требовал еды, урчал - он и позабыл про желудок. Что ему было теперь до всего этого телесного, плотского, земного? Он облаком себя чувствовал, от летел к Ней.
Поэтические строки вырывались из него беспрерывно - он уже не мог задержаться на какой-нибудь из них, они проносились в его сознании так же стремительно, как деревья, как младые травинки:
- Сияющей зарей, безбрежный мир!
Творенья дивного пыланье!
Как льется пенье соловьиных лир,
И страсти майской громыханье!..
Стихотворение только зарождалось - там чудились новые образы, строфы. Но более ярко вспыхивало новое чувство, поглощая предыдущее - каждое стихотворение было ступенькой, и он бежал по этим ступеням, едва их касаясь:
- Лес, узор твоих ветвей,
Весь в движенье, во взрастанье,
Не слыхал среди людей,
Столь мудрого сказнья....
И тут, пораженный, остановился. Поднял голову к дереву, стоявшего у грани поля: у дерева этого двигался каждый листик, издавалось пенье многогласное, и Дима, с блещущими глазами, зашептал:
- Дивное, певучее, дерево стоит,
Хором многласым воздух тут пьянит,
Каждый младый листик мудро говорит,
Ах, как это пенье в душу мне летит!
Голос то особый, не понять его,
Мудрость стара леса слышится всего,
Не понят отдельных слов,
Но...
Тут он, оборвался на полуслове, взглянул на поле и, восторженный его видом, зашептал новые строки, побежал дальше - туда, где за многими лесами и полями стоял древний стольный град Москва.
И уже ночью, проведя весь день в беге, он со смехом повалился, на какое-то, неведомо уже какое по счету поле. Просто ноги подкосились - вот он и рухнул, и не мог уже подняться, только лежал на спине, смотрел влюбленными глазами в звездное небо, да и шептал страстным голосом:
- Уж скоро встреча! Чувствую... быстрее, быстрее! Встретимся - ах, какая молния забрезжит!
И с этими словами погрузился в сон, полный стихами - он был окрыленным духом, и во сне, как в снегу, когда он смирился со смертью - он поспевал за рифмами. Он, Солнцу подобный, выплескивал сотню рифм в мгновенье, он был богом, внутри которого рос ЕГО мир.
Он пылал, он взрывался, он ласкал, тек, летел, падал, взмывал, страдал, любил, чувствовал, целовал, обнимал...
* * *
- Здравствуй.
- Здравствуй.
Два голоса слились в один, в тот чудесный майский день, рядом с журчаньем фонтана, в зеленом, молодом парке.
Катя, как и в прошлом году, сидела на скамеечке, но рядом с ней загорали на солнышке, кушали мороженое, читали книгу Машенька и Петя.
- Ну, вот и встретились... - тут Дима смутился, и вдруг понял, что все напрасно, и что сейчас он бросится с моста в реку.
Он даже не смел смотреть на нее, он бледный, тощий, грязный, во рванье; он стоял, сгорая от стыда, пред нею - такой возвышенной, недостижимой, святой Девой. От напряжения, от отчаянья, кровь потекла из носа, он пошатнулся; прошипел сдавленно, словно его душили:
- Извините. Я пойду...
Эта, неожиданно возникшая мучительная мысль давила его, в самый асфальт вжимала, все-все давила в болотную трясину: "Да нужен я ей такой! Где-то год носился, а теперь пробежал - вообразил себе невесть что! Да она, ведь, и позабыла давно про меня! Пробежал какой-то тощий оборванец, и надеется теперь на любовь! Дурак... Ну, теперь все кончено..."
В глазах его стало темнеть, и он, вдруг, увидел пред собой фотографию на которой маленькая девочка склонилась над первым подснежником...
Темно... как же темно вокруг... Он с трудом поднял голову, огляделся и обнаружил, что сидит в избушке сотрясаемой ветром, а неподалеку едва угадывается во мраке контур старухи с перерезанными венами.
И тогда Дима понял, что все бывшее от того мгновенья, как он увидел эту фотография, и до встречи у фонтана: все мираж - ослепительная, по количеству образов и чувств вспышка мозга.
В космосе умирающая звезда взрывается так ярко, что свет от того взрыва виден во всей галактике, а потом, взорвавшись, сбросив в этом взрыве все силы - звезда затухает уже навсегда.
- Лишь мираж, лишь виденье... - шептал Дима, горько усмехаясь, а из темных глаз его выжигались жгучие слезы. - Но, если это виденье, то и вся остальная жизнь моя - тоже всего лишь виденье. Да - вся жизнь, с хожденьями, со словами не значит теперь вовсе ничего. Все уходит, уходит безвозвратно... Весь мир - все формы его - все мираж, все тленно... Все кажется пред смертью мгновеньем. Быть может, я и правда облако, а все, что было - лишь бредовое виденье? Может, я просто, пролетело над заводскими трубами и на меня накоптила их ядовитая гарь?... А теперь я вырвусь... Куда, куда я вырвусь кругом мрак.
Покачиваясь, прошел он к мертвой старухе, повалился на колени пред ее лицом, роняя слезы, зашептал:
- Скоро и я буду там же, где нынче ты...
Он вглядывался в ее испещренные морщинами, искаженные долгими страданьями, обезображенные болезнью черты и, вдруг, понял, что они приближаются к нему:
- Я понял - ты смерть,
И мне от тебя не укрыться,
И чувств и стихов круговерть,
Не даст от тебя, ведьма старая, смыться!
Лик все приближался, вот губы его раскрылись, вот сейчас прикоснуться к его губам, заберут остаток жизни...
- Нет, нет - я жить хочу... - зашептал Дима.
Страшный лик заполнил все пространство, Дима попытался отдернуться, да было поздно - его коснулись губы...
А у смерти оказались мягкие, теплые, ЖИВЫЕ губы. От них тепло окутало Димино лицо, тело; сердце его часто и трепетно забилось.
Долог был тот поцелуй, и Дима жаждал, чтобы он длился целую вечность. Но он, все же, оборвался.
Лик Смерти отпрянул и тут Дима увидел, что глаза у Смерти теперь открыты.
Ах, что за очи он увидел!
Так, будто и не видел раньше ничего...
Тут увидел он весь лик ее сразу: это была она - дева у фонтана. Дева с белыми власами, да с лицом озаренным.
- Я умер? - прошептал он.
- Нет, что ты - тебе просто стало плохо. - звонким голосом молвила.
- Я так долго бежал к тебе. Год прошел со дня первой нашей встречи. С того мгновенья - я так ждал...
- Какой солнечный сегодня день. - молвила дева, помогла ему усесться на скамеечку.
Рядом звенел фонтан, уходили вдаль солнечные аллеи дивной красоты парка, а на скамейке, рядом с Девой сидели двое детишек, с сияющими лицами. По небу двигались облачные горы; не было ни машин, ни города; только в отдалении, на горе, высился мраморный замок, с той же стороны доносились и голоса моря.
- Мы не виделись с тобою год? - удивилась Дева. - Но вы шли по дорожке, взглянули на меня. И так ваши очи засияли, что я подумала, что ослепну; вы вспыхнули так ярко, что на мгновенье потеряли сознание.
- Значит, все, что было... Да - это было лишь мгновенное кошмарное виденье. - он взглянул на Деву и добавил. - ...Оно вовсе не значит ничего, рядом с вами. Да, какая-то беготня; тленные, проходящие чувства... Нет я уже не помню ничего - все разминулось... все распалось... А кто эти дети?
- Это - мой маленький братик и сестра. А вот и "лис" с Томасом.
Двое: рыженький пес-лисенок, и пепельный котенок выбежали из соцветья трав.
- Так что вам привиделось? - спросила Дева, дотронувшись прохладной ладошкой до его лба.
Дима попытался вспомнить, но уже не мог - просто какая-то вспышка.
- Да нет - ничего не было. А вы прекрасны.
- Спасибо.
- Как вас зовут?
- Я - Дева. А вы?
Тут Дима понял, что никакой он ни "Дима", а ПОЭТ. Так он и назвался:
- ПОЭТ. - потом продолжил. - Давайте пройдемся?
Дева подала ему руку и, улыбаясь нежным солнечным поцелуем, пошли они по аллее, в сторону мраморного замка...
Дима лежал на траве, смотрел на медленно проплывавшую над его головой, ловящую последние лучи уходящего светила, облачную гору.
Где-то неподалеку, радостно залаял Джой, а на фоне облака облака-горы пролетела бабочка с большими, украшенными красивым узором крыльями.
По Диминой щеке катилась слеза, но, что было причиной той слезы, он не знал. Просто пришло чувство - пришло на мгновенье - какое-то печальное, безвозвратно ушедшее чувство. Что-то было, но, что он уже не мог вспомнить со стоном, рывком сел, схватил ручку, стремительно записал, разрывая бумагу:
- Тому, что никогда я не увижу
Тому, о чем не вспомню никогда,
Тем песням, коих никогда я не услышу,
Вот этих строчек маленьких чреда.
Тому, что никогда не испытаю,
И даже в вечность не помыслю, - никогда!
Тем милым душам, коих не узнаю,
Тому, что смоет вечности безбрежная вода.
Всему тому, что промелькнет,
Уйдет как миг, как призрак,
И той ЛЮБВИ, что не найдет,
Меня... Нахлынет МРАК.
Не перечитывая написанного, он скомкал и отбросил в сторону тетрадь - все написанное казалось ничтожным против чувств его. А потом поднялся и, печально улыбаясь бордовому, похожему на раскинувшийся в полнеба стихотворный костер закату - пошел к своему дому.
В это же самое время, за пятьдесят километров, за десять часов ходьбы от него, сидела в своем садике, любовалась на этот же самый закат Катя. Она поглаживала мурлычущего Томаса, а по щеке ее, по светлой ее, озаренной душевной силой щеке, катилась одинокая, теплая, как подступающая майская ночь, слеза. Но она уже и не помнила, что ту слезу породило: нежный ли изгиб облака, или же далекий, едва слышный и печальный клич птиц, к тому облаку летящих:
- Лети с нами... лети с нами...
Катя хотела бы взмыть, да у нее не было крыльев.
Из дома позвал ласковый голос матери:
- Катенька, ты что-то в саду засиделась. Иди-ка пить чай.
КОНЕЦ


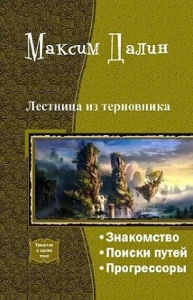
Комментарии к книге «Облака», Дмитрий Владимирович Щербинин
Всего 0 комментариев