Василий Щепетнев
В ОЖИДАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ
Картофелина, розовый мятый шарик, подкатилась к моим ногам, потерлась о туфли - левую, правую, снова левую, - и совсем было решилась успокоиться, как автобус попал в новую выбоину. Толчок, и она заскакала, прячась, под сидение.
А я уже начал к ней привыкать. Думал, подружимся.
Из-за выгороженной кабинки водителя тянуло дымком. Нашим, отечественным. Моршанская фабрика табачных изделий. Сердцевинная Русь, посконь да лыко.
Я глянул в окно. Залапанное до верха коричневой дорожной грязью, оно все-таки позволяло убедиться - Русь, точно. Лужи, распластанные вдоль обочины, не отражали ни неба, ни кустов, ни обочины. Или автобус, округа и небо слились в одно серое
ничто, и тогда - отражаемся. Значит, не призраки, существуем. Бываем. И едем в райцентр Каменку. Для меня это промежуточный путь, мне дальше, в деревню Жаркую Огаревского сельсовета.
Мотор ныл, канюча передышку, ныл жалостно, непрестанно. С плаката-календаря загадочно улыбался молодой шимпанзе. Старый восточный календарь, без выходных и праздничных дней.
Красные числа исчезли, выгорели - восьмое марта, первое мая и прочая, и прочая, и прочая. Давненько отшумел год обезьяны, выгорели не только красные числа, но автобус того не знает, потому и катит.
Городок объявился внезапно. Граната водокачки, двухэтажные дома, белого кирпича, а больше - панельные, скромные витрины магазинчиков, пять разноплеменных, кто во что горазд, киосков.
Автобус успокоился у стеклянного аквариума. Автостанция.
Других транспортных средств не видать. В разъезде, в разъезде, не приведи случай, генерала нанесет - нет ничего, придется просить обождать-с.
Я последним покинул салон. Навстречу мне ломились желающие ехать в обратную сторону, но водитель заорал, что поедет-де лишь через час, а пока пошли бы вы.
Лыко и посконь.
Спросив дорогу, я побрел по асфальтовой ленте. Грязь, жидкая, разведенная, была и на ней, а сойди в сторону? Я пожалел, что не носят больше калош. Немодно. А сапоги? Нет их у меня. Как и многого другого. Почти ничего нет. Чемодан вот разве, четырнадцать килограммов брутто, дорогой кожаный кошелек с дешевыми деньгами и за подкладкой - десять ликов Франклина, остаток последнего приза.
Дорожка проходила сквозь скверик; облетевшие деревья верно и стойко несли караул у памятника. Часовые, о которых забыли. На выходе из скверика скамейка. Большая, да еще на постаменте. На краю скамьи просто, задушевно расположился вождь. Успел соскочить с пьедестала, добежать и сесть. По количеству вождей на гектар мы по-прежнему впереди планеты всей.
Искушение оказалось непомерным, и я сел рядышком. Зря. Скамейка оказалась жесткой, колкой, шипастой. А ему-то сидеть и сидеть. За что?
Так, сочувствуя и негодуя, я дошел до скопления бараков центральной районной больницы.
Административный корпус был не краше и не гаже других.
Секретарша пила непременный чай, и я прошел прямо к главврачу. Кабинет копия всех кабинетов: со стыдливым прямоугольником не выцветших обоев над столом, синими корешками в шкафу и тремя телефонами. Один, положим, внутренний, другой - городской, но третий? Не "кремлевка" же! Загадка третьего телефона.
- Конечно, Сонечка, конечно... - главврач мельком глянул на меня и стал слушать Сонечку. Ширококостный, мордастенький.
Их что, по экстерьеру подбирают, руководителей? Экие дуболепные.
Наконец, он наговорился. Я представился.
- Ага... Ну, да... Собственно, вы будете работать при совхозе, вот... Он оплачивает вашу зарплату и все такое.. Но по медицинской части вы в нашем подчинении. В недельный срок представьте план оздоровительных мероприятий... - голос даже не тепел. Вокзальный кофе, право. Основательно подзапустил дела ваш предшественник, чем меньше работы, тем хуже документация... Держите связь с Пискаревой Клавдией Ивановной, она начмед, жаль, нет ее, сына в Туле женит, да...На стацлечения направляйте только по согласованию....- мыслями он был с неведомой Сонечкой, рука бессознательно гладила телефон, показная деловитость не скрывала безразличия ко мне и даже к плану оздоровительных мероприятий.
Посчитав, что ввел меня в курс всех полагающихся дел, он громко позвал:
- Семеновна.
Безответно.
- Минуточку, - главврач вышел из кабинета. Я по очереди поднял телефонные трубки. Гудела одна, приласканная.
Вернулся главврач с тощей папочкой, тесемки завязаны рыхлым бантиком.
- Здесь приказы и материалы по району за последние три года, - и вручил мне, словно ключ от города. Приказы вручил. Папочку оставил себе.
Десять минут спустя я обедал на больничной кухне, а двадцать - спешил к почте, торопясь застать почтальона, что направлялся в деревню Жаркую. Я не больничный, а совхозный, и отвезти меня больница не может: во-первых, все машины в разъезде, во-вторых, ремонтируются, а в-третьих, бензина нет, кончился.
Почта расположилась за автостанцией, где продолжали толкаться у закрытого автобуса отъезжающие. Неказистое строение с крохотными зарешеченными окнами - почта, телеграф, телефон и банк, все под одной крышей, распылять силы революционерам не придется.
Я обчистил подошвы о скребок. С сомнительным результатом. Зайти не успел со двора выкатился мотоцикл. Не сам выкатился. Тяжелый "Урал" с коляской казался детским велосипедиком под почтальоншей, женщиной в стеганке и ватных штанах.
Не заглушая мотора, она окликнула:
- О тебе, что ли, из больницы просили?
- Так точно.
- Тогда шибче двигайся, без того запозднились.
Я покружил вокруг мотоцикла.
- В люльку залазь, чего уж. Мешок сдвинь и залазь. Во, а чемодан позади пристрой. Шлем на голову-то надень и застегни. Фартуком прикройся...
Я прикрылся - и фартуком, и забралом шлема. Младенец на прогулке.
Мотоцикл цыкал по дороге, давно износившей асфальт, на расстоянии руки от меня мелькала дорожная гиль - кочки, скучная октябрьская травка, коровьи лепешки, щебенка, а всего больше грязи. Я глядел с высоты куриного полета, мотоцикл все цыкал и цыкал, уцыкивая долины ровныя, но ежеминутно я убеждался, что земля-таки круглая, ох, круглая, не спасало сиденьице с колкой пружиной внутри.
Тряско мы пересекли мост; и он, и речка видели лучшие времена, сейчас же мост был помехой большей, чем речушка с милым названием "Воробышек". Название и соблазнило, когда я гадал - ехать в Жаркое или не ехать. А представил речку, воспетую самим Сабанеевым - "...нигде не лавливал я таких окуней, как на Воробышке: кристальность ее вод сообщает рыбе вкус настолько тонкий, что ни волжские, ни окские окуни не идут ни в какое сравнение..." и решился. А сейчас понял - много воды утекло со времен Сабанеева, мало осталось.
Миновав околицу, крытый колодец, дома, редко блестящие цинком, все больше потемневший шифер.
- Приехали! - мотоцикл, лихо обдав забор, развернулся у конторы. Ни надписи особой, архитектурных изысков тоже нет, но сразу чувствуется - казенная изба.
Почтальонша поднялась к двери, забарабанила.
- Вылазь, что расселся, - это мне, - не то засосет. Лужа, что трясина. Шучу. Мешок захвати.
Мешок оказался невесомым. Облезшая надпись "Союзпечать".
Давно нет Союза, зато печатей в достатке. Даже у меня есть, старая, но вполне годная. "Врач Денисов Петр Иванович". Могу пришлепнуть любую бумагу - рецепт, справку о нетрудоспособности, рождении, смерти, нужное подчеркнуть. Свобода печати на практике.
Тоже шучу.
- Как же в распутицу сюда добираетесь? - завел я беседу.
- А никак. Станет путь - опять ездить начну. И то, зачем попусту резину трепать, - она махнула мешком, - две газеты, да письмишко когда.
- Раньше больше было?
- Раньше? Да, "Правду", "Коммунар", что по разнарядке велели. Убрали разнарядку - как ослепли.
По одному, по двое к мотоциклу подтягивались праздношатающиеся. Сельская молодежь младшего возраста. Пихаясь и хихикая, они держались настороженно, недоверчивые мышата у нового капканчика, пока один из них не решился, подскочил к мотоциклу и нажал кнопку на руле. Частый стрекот сигнала был ему наградой.
- Кыш, кыш, голожопые, - замахала руками почтальонша, и мышата поспешно разбежались.
- Глаз да глаз, не то свинтят пропеллер.
- Какой пропеллер?
- Шучу, - она начала пинать дверь.
Просто вокруг смеха.
- Я, конечно, подлец, но зачем же двери ломать? - весело спросил подошедший, большим ключом отмыкая дверь. - Проходите.
- Делов мне дожидаться, - почтальонша вытрясла из мешка скудную корреспонденцию. - Расписывайтесь, да я поеду.
Подлец расписался в замусоленном блокнотике, подсунутом почтальоншей.
- И у меня для вас кое-что есть, - из ящика канцелярского стола он вытащил бандерольку и пару писем. - Будьте любезны.
Почтальонша чиркнула в ответ в большой амбарной книге, показалось - крест поставила.
- Обменялись, значит, верительными грамотами, - подлец, наконец, откинул капюшон брезентового дождевика. На вид относительно молодой, относительно интеллигентный, относительно русский (пятая графа э! Кабы не она, был бы я здесь, как же. Сидел бы под абрикосом во дворе дома двадцать восемь улицы Фрунзе стольного града Кишинева и гонял бы в шахматишки с Кушниренко на первенство двора. Мы думали, что мы ее - раз! пережиток эдакий, а она нас всех ням! пятая графа!).
Мне потемками возвращаться радости нет, - на почтальоншу пали сумерки, долгие, осенние, глаза тлели вполнакала.
-Побежала я, - а шла, будто по вару.
- Давайте знакомиться, - подлец протянул руку. - Вадим Валентинович Гончаров, в быту просто В.В., ныне почтмейстер, сельский учитель, а также председатель местного отделения союза переселенцев, сиречь беженцев.
- Денисов Петр Иванович. За доктора.
- В смысле - лекаря?
- Уж не наук.
- Вам повезло. Значит, нашего полку прибыло, хвала социальной защите.
- Какой?
- Социальной.Ею и кормимся. Бюджетных денег подкинули по этой статье. Помощь переселенцам.
- И много таких переселенцев?
- С вами опять стало двое, - он глянул озабоченно в окошко.
- Солнце скоро сядет, а вы не устроены. Торопиться нужно.
- Я не спешу. Куда?
- Электричества-то нет. Три процента, - и, не дожидаясь вопроса, разъяснил: - три процента деревень не было электрифицированы при советской власти. Не успела. Теперь жди-дожидайся. У вас какой размер ноги?
- Сорок второй.
- Очень удачно, - он раскрыл стенной шкаф, наклонился.
От союза переселенцев новоприбывшему товарищу.
Сапоги, черные, высокие, пахнули свежей резиной.
- Местные Золушки носят и одобряют. Переобувайтесь, и я провожу вас.
Я послушно переобулся, заправил брюки в голенища.
Я в сапогах! Шляпу и шпагу, живо!
С чемоданом в одной руке, с туфлями в другой я шел за проводником по пустой деревенской улице. Звук мотоцикла не стихал, словно почтальонша колесила вокруг по пахоте.
- Наши истоки, - развлекал меня учитель. - Покой, знаете ли. Благорастворение воздухов. Колокольный звон из Емного слушаем, а это семнадцать верст по прямой.
Избы лепились одна к другой, узкие проходы меж ними вели на огороды, сейчас пустые, лишь засохшие подсолнухи пытались подманить воробьев полуобсыпанными головками, крохотными, в ладонь.
Я смело хлюпал вослед В.В., минуя очередной дом, деревня казалась нескончаемой. Унылый лабиринт нищеты и убогости.
- Угля на зиму хватит, вам повезло. Здесь мы берем керосин, - он показал на врытую по горло в землю цистерну. - Поначалу, конечно, скучно, никто никого вечерами в телевизоре не чавкает, но зато лучше чувствуешь настоящее. Вот мы и пришли, - он распахнул низкую калитку, косо висевшую на гнилом столбе.
- Сие владение ваше. Нравится?
Я не решался ступить во двор.
- Привыкните, Петр Иванович, - легонько потянул меня за рукав учитель. Привыкните.
* * *
Этого я и боялся - привыкнуть. Принять, как обязательное, непременное, то, что есть - мешанину лиц, городов, газет. Неуправляемость жизни, хаос. Я и бежал - сюда, в глушь.
Возможно, не лучший выбор. Можно было побарахтаться на миру - звали в Гастингс, Ван-Зее, Тилбург, турниров много, хватило бы на пару лет. Как-никак, чемпион мира по версии федерации прогрессивных шахмат. Полно, наигрался, с ярмарки не идти надо - лететь, иначе понесут. Ногами вперед. Шопен, глазет и с кистями. Безвременно, безвременно.
А здесь - простор. Истоки, как говорит учитель. Где и силы вернуть, где и сгинуть, как не на родимой сторонке. Она, родимая, велика, плюс-минус тысяча верст для брата-славянина ништо.
Жилье мое - низенький маленький домик, пропахший эфиром, карболкой и куриным дерьмом, домик со скрипучей дверью серого некрашенного дерева и щелястыми полами, по которым ночами взапуски гоняли мыши, с рукомойником в комнате и сортиром на задах, с окошками в школьный альбомчик, деленными рамой на четвертушки, приучавшими к потемкам и смирению. Да и лампа, подвешенная на крюк к потолку, светила неярко, полуприкрученный фитиль скупо тратил ценный покупной керосин, растягивая время от заправки до заправки.
Первые дни город не отпускал меня, я суетился много и, большей частью, зря - побелил потолки, отмыл, отскоблил полы, поправил крохотную баньку, вычистил погреб, надеясь ссыпать мешок-другой картошки, а, главное, сработался с плитой.
Плита была - перестроенная, правый бок ее, крепкий, капитальный, местами хранил на себе изразцы, простенькие, товарищества Беренгеймъ из далекого Харькова. Все же остальное, подстроенное к этому боку, давно обогнало его в дряхлении, потихоньку крошилось, отпадала глиняная обмазка, обнажая дрянной кирпич, и даже чугунная дверца болталась на одной петле, другая треснула и раскололась. С трудом несла плита в себе котел отопления, духовку и четыре жерла, прикрытые чугунными кольцами.
Брякали они - до души пробирало, взбулгачивало заиленные воспоминания, которым бы лучше и совсем окаменеть, сцементироваться. Тогда на меня падала хандра. Я ложился на скрипучую кровать, железную, с шишечками, и смотрел в потолок. Порой солнце заглядывало в окошко, отражалось в позабытом на подоконнике щербатом зеркале, и тогда зайчик составлял мне компанию. Зеркало постепенно пылилось, и зайчик серел: отсутствие электричества отучило меня от каждодневного бритья, и зачем? земской доктор просто обязан иметь бороду. Зайчик прятался на потолке, выдавая себя медленно осыпавшейся побелкой, хлопья которой кружили редкими рождественскими снежинками.
А до рождества - далеконько.
Избыть тоску помогала лопата. Метр за метром я вскапывал землю вокруг медицинского пункта, вытирая третьегодные засохшие цветы, чувствуя себя покорителем целины. В уголке рисково посадил чеснок, все-таки срок прошел. Ужо весной по-настоящему обустрою садик, полью потом и слезами, расцветет тысяча цветов и вырастет большая-пребольшая репка.
Дурашливость моя была дешевой, второсортной, как и жизнь, да с нас и этого довольно.
С меня и зайчика.
* * *
Кипяток, злой, крутой, терзал заварку в третий раз.
Опивки. Писи сиротки Марыси. Ему крепче и нельзя, какой стакан за день, шестой? седьмой? Да и годы не те чифирем баловаться. Годы и сердце. Сейчас об этом думалось даже со злорадством. На-кось, выкуси - мобилизовать. Хотя Гитлер не слаще хрена, тоже сволочь, - перед сторожем лежала вчерашняя газета, невольно направляя мысли.
Война, дождались, накаркали.
Все песни о ней, все разговоры. А и ему поговорить не с кем. Оно неплохо, болтун ошибается единожды.
Нервно, дергано задребезжал звонок. Нанесла нелегкая.Война ведь. Воскресенье, в конце концов. Инспекция пожарная?
Он поспешил ко входу.
- Ворота отворяй, - скомандовал кто-то, просовывая в окошечко удостоверение.
- Слушаюсь, - сторож не посмел коснуться документа, досадуя на дрожь рук, отпер замок, бегом распахнул ворота.
Во двор музея вкатил "воронок", из нутра его вышли трое. Двое - в форме, а между ними... сторож заморгал, не зная, как отзываться, увидя старого директора, директора, под которым работал с тех пор, как устроился в музей, с двадцать пятого, значит, и по тридцать седьмой. Вернулся директор, или как?
Признать? Не заметить?
- Не узнаешь, Семеныч? - директор робко улыбнулся, и робость эта подсказала ответ.
Сторож неопределенно хмыкнул.
- Прикрой ворота, - скомандовал, выходя из кабины "воронка", бритый наголо крепыш в штатском. Старший, догадался сторож.
- Семеныч, в порядке музей? - спросил бывший директор.
Сторож посмотрел на бритого, тот едва заметно кивнул.
- Вроде без происшествий.
- И кладовая... шестая кладовая... в порядке?
- Что ей сделается.
- Тогда веди.
Сторож опять посмотрел на крепыша, спрашивая.
Они шли по полутемным коридорам, спускаясь в цокольный этаж, а оттуда, отомкнув кованную дверь, совсем уже в подземелье, глубоко, тридцать две ступени. Воздух не затхлый, сухой, умели раньше строить, место выбирали.
Ход привел к новой двери.
- Опечатано, - сторож показал на сургучные бирки. Бритоголовый молча сорвал их. Сторож лихорадочно искал ключ, страшась, что не окажется такого. Или замок заест.
Страхи оказались пустыми - дверь раскрылась. Они прошли на порог комнаты, нет, зала. Десятисвечевая лампа едва разгоняла мрак.
- Здесь, здесь, - засуетился директор. - Семьсот четвертый, тунгусский, он наклонился к ящикам, сколоченным из занозистых досок. - Вот, вот он.
Парни, сопровождавшие директора, вытащили ящик на свет, топором с пожарной стены сорвали крышку. Число семьсот четыре, выведенное на боку коричневой краской странно выгорело. В темноте-то?
- Сейчас, минуточку, - директор вытащил серый тюк, - свинцовая резина, - он разворачивал ткань слой за слоем. - Видите?
- Заверни, - прикрикнул, отступая, старший. Сторож и не разглядел толком, что это было. Темное, шершавое...
- Он, феникс, безопасен, пока... Чтобы это проснулось, нужна подкормка. Радий, или еще что-нибудь... Питательное...- сбивчиво объяснял директор, пытаясь заглянуть бритоголовому в лицо.
- Питание готово. Ждет. Несите в машину, - распорядился старший.
- Нужно бы акт составить, об изъятии, - в спину уходящим проговорил сторож.
- Завтра составим, завтра, - отмахнулся крепыш.
- Но...
- И смотрите - никому не слова!
- Я понимаю... Слушаюсь...
Его не дожидались, и когда сторож запер последнюю дверь,
"воронок" съезжал со двора.
- Никому! - пригрозили из кабинки.
Что мы, совсем без ума. Сторож вернулся на пост. Чай основательно остыл, но в горле пересохло, и греть наново не было сил. Старый чай, что змея, утешая, жалит. Восточная мудрость.
Он отхлебнул. Действительно, чай оказался горьким, он успел еще подумать удивительно горьким....
* * *
Стук в окошко негромкий, но пробирает, что набат. Кровать еще звенела панцирной сеткой, а я наощупь продевал руки в рукава халата, хрустящего, жесткого. Сам крахмалил. За таким стуком бывает всякое. Что хочешь бывает, и, особенно, чего не хочешь. От занывшего не ко времени зуба до синего, остывающего трупа: "тятенька вчерась городской водки откушали..." . Хотя, ели не для проверяющих, деревенские меня не особенно теребили, я для них был чем-то вроде ОСВОДа, заплатил понуждаемо взнос, получил марку, наклеил куда-то и забыл.
Вместо марки был доктор Денисов П.И., невелика разница, разве без клея.
С поспешностью я откинул крюк, выглянул.
Разлетелся.
На пороге стоял учитель.
- Хлебушко приехал, - поприветствовал он меня. Душа-человек. Пестун. Другой бы сам отоварился и будет, а он за мнойзашел. Заботится.
Пока я снимал халат, вешал его на плечики в шкаф и облачался в мирское, он вещал из сеней, пересказывая новости мира. У него "Панасоник", на батарейках.
Выстланный марлей саквояж, казенное имущество, голодно зевал на табурете. Сейчас, сейчас! Сейчас. Сейчас...
Лабиринт, что пугал меня в день приезда, исчез. Осталось несколько домиков, чаща из трех сосен. Неделя выдалась скупой на дождь, и сапоги напрасно топтали землю. Ничего, я грязь найду. Или она меня.
- Подморозит, снегу насыпет, истинная краса станет, - расписывал мне будущее учитель. - По полям километров двадцать на лыжах, а потом - банька! Да водочка! Помидоры у меня чудные выйти должны, две бочки засолил, помидоров и огурцов. Сорт - нигде больше не растут. Но это второе, а главное -снег! Бескрайняя белизна, и вы! Космос, вселенная! Дух захватывает, как представишь.
Я попробовал. Таракашка на беленой стене. Хлоп его! и опять нету доктора в Жарком.
Очередь тянулась к возку, товар шел с колес. Лошадь фыркала, продавец доставал из возка буханки, пахучие, теплые.
Бабы молча складывали их в плетеные корзинки и разбредались, не стайками, не парочками даже, а поодиночке, словно не в деревне.
- Хорош хлебушек? - поинтересовался учитель у нестарой, но давно уставшей женщины. Та остановилась, узнавая нас, и ответила:
- Ниче.
Другая баба в очереди протянула книжицу грубой оберточной бумаги. Продавец вписал в нее что-то и вернул.
- Серая карта, - пояснил В.В. - На вас тоже заведена.
- Зачем?
- Это ваша зарплата. Безналичный рассчет. Совхоз заключил договор с банком, а банк - с торговлей. Весьма удобно. Банку, торговле, даже совхозу.
- А людям?
- Больше всех. Деревенские к новым деньгам привыкают плохо, особенно местные. Какой стон стоял, когда советскиекупюры отменяли - трехи, пятерки, особенно червонцы. А что делать было? Некоторые до истощения доходили, а не могли пересилить себя, пачку денег за буханку отдать. А так - денег не видно, душа не болит.
Гул мотора, привычный в городе, но громоздкий и громкий здесь, прервал торговлю. Все повернулись на него, стали ждать - опасливо, строжко.
Вдоль улицы катил грузовик, большой трехосный фургон. Зеленый, он походил на дорогую игрушку, невидимой рукой ведомую по деревне. Саня, Саня, дай и Вовику поиграть! Ладно, мам, доеду до конца, и дам.
Грузовик притормозил, из кабины вылезли двое.
- Привет тружениками полей, - бодро поздоровался водитель с миром.
Его спутник, напротив, искал одного человека. В.В.
- День добрый. Мы тут съемку трассы ведем, какое-то время поблизости жить будем. Хочется еды подкупить, яичек, мясца, сметаны. Не подскажите, кто продаст?
Учитель осмотрел прибывших - оба молодые, лет по тридцати, рослые. Видно, прикидывал аппетиты. Потом ответил:
- Да каждый продаст. Вы сами спросите, а то назову одного - другие обидятся. Деревня....
- Понятно, - спросивший прошел вдоль очереди. - Курицу продадите? Побольше, пожирнее?
Баба ухватила его за рукав, забормотала.
- Продашь, значит? А сметана у тебя найдется?
Та кивнула, довольная.
Они отошли в сторонку, но баба внезапно отшатнулась от протянутых денег, фыркнула сердито и вернулась в очередь.
- Чего она? - удивленно спросил съемщик трассы. - Пять баксов - хорошая цена.
- Вы ей доллары предложили? - в свою очередь удивился учитель.
- Ну да. Мы всегда в поле доллары берем. Знаете, пару раз ожглись - обмен затеют, или что, а доллар и в поле доллар. Специально мелочью брали, по доллару, по пять.
- В поле может быть, но не здесь. Местные рубли любят, особенно тысячные. А валюты боятся.
- Чудно, - мужик повернулся к водителю:
- Максим, у тебя рубли есть?
Я тоже, выходит, не при деньгах. Одна надежда на серую карту.
Наконец, и мне досталось положенное - шесть буханок, на десять дней хватит.
- Когда промтоварная лавка приедет? - поинтересовался В.В.
- Одиннадцатого, как обычно, - продавец явно обрадовался случаю поговорить. - Мало у вас денег, в убыток почти ездить. Мы с Машкой, - он кивнул на лошадь, - привычные, а машина одного бензина нажгет... - он и дальше бы развивал тему, но учитель, попрощавшись, отошел. и торговля продолжилась, тихая, смиренная.
Я расстался с В.В., пообещав позже зайти в библиотеку.
Он и библиотекарем был, на полминимума. Никто ничего не читает, но кушать хочется.
Хлебный дух в моем жилье делал его слишком уж обжитым, уютным. Ни к чему это. Прихватив кусок черствого, одолженного хлеба, я пошел под небо. Англичане, например, уважают пешие прогулки, даже любят. И я полюблю.
Возок, расторговавшись, возвращался в Огаревку.
Куча конских яблок парила. К похолоданию. На Ульяну говно парит, знать, мороз повскоре вдарит. Областная примета.
Поле широкое, дорог много, почто мне во след потребкооперации плестись? Я свернул в сторону. А посуда вперед и вперед. Часа полтора шел я. Скоро и назад.
Редкие, когда-то просмоленные столбики в рост, ржавые крюки на них. Съелось железо, дерево прочнее вышло. Ограда когда-то стояла. Шипы без розы.
Я обошел невысокий пригорок. Вот тебе и поле. Застарелым чирьяком возвышался на земле колпак-полусфера. Бетон старый, местами проглядывает арматура. Зияющий вход подманивал. Я заглянул. Памятник третьей пятилетки, линия Ворошилова? Внутри было пусто и мерзко, я поспешил наружу. Всей высоты - метра полтора. Впереди - траншея. Похоже на полигон, старый, давно заброшенный. Поваленные на бок железные фермы, плешины в траве, спекшаяся земля. Небольшой, в общем, полигончик.
Крохотное озерцо могло быть в прошлом и воронкой, но оно - единственное. Еще пара разрушенных капониров, и, самое интересное, узкоколейка. От полигона она шла к югу, там - разъезд Боровой, километрах в двадцати. Пустить поезд нельзя - шпалы вспороты, растерзаны. В войну такое делали при отступлении, на страх врагу. Выжженная земля запаршивела, а восстанавливать, видно, не стали. Я постоял, вспоминая историю с географией. Были здесь немцы, конечно.
Но полигон явно отслужил свое, стал гаженной заброшенной пустошью. Кого, что могли здесь гонять? Огнеметы, свинтопрульные аппараты? Многое напридумывали шарашкины дети.
Где-то у самого края правого глаза болталось пятнышко, серое, нечеткое. Точно крался, примеряясь к горлу, кто-то быстрый, чуткий - стоило повернуть голову, и пятнышко стремительно отлетало назад, за спину. Старое, нерассосавшееся кровоизлияние в глазу, память о маленьком инсульте, плате за чемпионство. Инсультике. Мальчонке.
Я мальчонка маленький, маленькой, гоп!
Мой папаня седенький, седенькой, гоп!
Он лежит в избеночке, во курной, гоп!
Быть мне сиротинушкой, сиротой, гоп!
Попевка невесело ныла в голове, постепенно угасая. Но, словно в отместку, закудахтала курица. Квохтание умиляло до слез - бугры капониров, мертвая земля, ветер тянет едва слышной, но тяжелой химией, а тут курочка яичко снесла. Всюдужизнь.
Курица шумела за бетонным колпаком. Простое яичко, или золотое? Полигон Курочки Рябы, и все эти сооружения - для отражения набегов мышки с длинным хвостиком.
- Вы поосторожнее. Манок раздавите.
- Манок? - я сначала посмотрел под ноги, а потом уж на говорящего. Охотничек, вабильщик. А я губу раскатал на яичко.
- Разве плох? - он поднял с земли коробочку, нажал кнопку, и кудахтанье прекратилось. Охотничек хорош, в старом камуфляже, яловых сапогах, но вместо ружья, тульского, ижевского или даже зауэра - длинноствольный карабин.
- Петушка подманиваете, или лису?
- Любого подманить могу, - он еще раз нажал кнопку, и кряканье, отрывистое, тревожное, разлетелось в стороны. - Серая шейка.
- Магнитофон?
- Синтезатор, - он опять убрал звук. Благословенна тишина, сошедшая на поля Господни.
- Где же трофеи? Бекасы, тетерева, вальдшнепы?
- Не сезон. Иных уж нет, а те далече. Разве что... - он показал рукой в сторону. - поглядеть полезно, хоть и не трофей. Во всяком случае, не мой.
Мы шли по нечистой земле, ветер нес в лицо дряхлость и тлен. Сквозняк в спальне старого сластолюбца. Осень без позолоты.
Очередное низкое, вросшее в землю укрытие, а у входа валялась шкура, грязная, раздерганная. Бросил когда-то баринпод ноги дорогой гостье, бросил и забыл в упоении жизни.
Мы подошли ближе, запах густел шаг от шага. Шкура прикрывала полуобнаженный скелет.
- Собака? - спросил я.
- Горячо.
- Волк?
- Опять горячо.
- Наверное, крокодил, - мне не хотелось трогать падаль даже носком сапога. Прилипнет. Запах прилипнет.
- Это помесь. Собаковолк.
- Вроде Белого Клыка?
- Хуже. У Джека Лондона это верное и благородное существо. А на самом деле ненавидит всех - волка, собаку, а больше всего человека. Нет зверя хуже. Одна радость - далеко не размножается. В первом, реже во втором колене бесплоден.
- Откуда же берется?
- В Епифановке мичуринец был. Новую породу вывести захотел, русскую богатырскую. Сколько их у него было, теперь не спросишь. С кормежкой заминка вышла, или как, но... А потом вырвались на свободу. Двоих подстрелили в конце концов. Это третий. Месяцев восемь, а какие челюсти...
Челюсти, действительно, впечатляли.
- Значит, есть еще?
- Проверяем, - охотник первым двинулся назад. - Где пропадать скот начнет, или люди, нас посылают.
- Кто посылает?
- Известно кто. Власть.
- Прямо в Жаркое и посылает?
- Нет. У хуторянина пропала корова, у Семченко. Хозяйство там, на востоке. Километров десять будет. Украли, думаю. Но проверить обязан. Он голове района родственник, приходится усердствовать.
Мы уходили, оставляя позади пятно на скатерти. Неприятное пятно. Под стать скатерти. А скатерть - хозяевам и гостям. Мы тут ели-пили, а вы нюхайте, коли незвано пришли.
- Покидаю вас, - не доходя до околицы начал прощаться охотник. - До заката как раз дойду до хутора, тут тропиночка есть.
Тропинки я не видел, но охотник уходил споро, гонимый недоступным мне ветром.
Одинокий парус камуфляжной расцветки.
Я тоже умею: надутый до звонкости спасательный круг, во рту вкус талька и резины, ногой отсторожненько в набегающую волну и - ах! я парю меж небом и бездной, соленая вода бьет в лицо, а откуда-то сзади цепляет жестяной голос:
- Гражданин в спасательном круге, вы заплыли за буйки! Немедленно вернитесь!
Затычка из круга выскочила, и вскипевшая вода защекотала правый бок. Но я вернусь.
Я сидел на кухоньке до сумерек, пока отсветы из поддувала плиты не проявились на полу. Тогда я подбросил монету: орел - иду в библиотеку, решка - готовлю "малый докторский" - сорок граммов спирта, пятьдесят граммов воды колодезной, капля уксуса и капля полынной тинктуры.
Монета покатилась по доске и пропала в щели.
Ничья. Я подсыпал в топку угля, (надо бы навес для уголька соорудить, а то кучей позади дома, нехорошо), и остался у печи на кухне, искать берег, к которому стоит вернуться.
* * *
Он повернул голову влево, слегка наклонил, всматриваясь в зеркало. Лицо, доброе, мясистое, в очках гляделось иначе.
Золотая оправа, большие квадратные стекла, а в результате, извините за выражение, интеллигент какой-то. Импозантный, даже одухотворенный. чужой.
Он снял очки, подарок Калерии, она смеялась, мой умненький наркомчик, ха-ха, легонько помассировал переносицу. Пустяк - очки, любая гнида позволить может, а он вот воздержится. Возможно, из суеверия, но: сегодня лицо изменил, а завтра стране. Ерунда? Лавина тоже из-за ерунды срывается. Пусть видят, каким привыкли. Калерии нет, а очки, что ж, полежат.
До самых лучших дней.
Открыв папку, он достал бумаги, отставляя их на длину руки, пытаясь разобрать текст. Буквы суетно прыгали, не давая замереть. Города, дивизии, танки и самолеты. Все в минусе.
Арифметика. Не его города, не его танки, его минусы только, и потому этот кабинет, что кабинет, даже голова не его, в любой момент сорвать могут. Пока.
Справятся орлы - награда будет щедрой. Нет - о, они знают, что их тогда ждет.
Он вытер руки, потные и в прохладе кабинета, нацепил пенсне, привычно опустил уголки рта, вай, генацвале, хорош, и нажал кнопку, вызывая порученца.
* * *
Кашель, сухой, надсадный, жил отдельно от хозяина. Он, хозяин, мужичок за сорок, ковылял себе домой, а кашель летал и летал по кабинету. Или мне так казалось.
Тридцать три, и одна десятая. Нижний предел шкалы градусника. На большее мужичка не хватило, хотя старался, грел градусник положенные минуты, выжимая тепло из худого, обтянутого землистой кожей, тела.
Девять человек прошли через мой кабинет - всего. Двое детей, четырех и шести лет, тридцать пять и восемь и тридцать пять и две соответственно. Подросток - тридцать четыре и пять. Взрослые же все не выше тридцати четырех.
Однако, тенденция.
С подобным я встречался в студенческие годы, на картошке. Все как один, на битву за урожай. Поможем селу. Все не все, а поехали. В холодный барак, под дождь, ветер и ночной полет звезд. Потянулись в медпункт, кашляя и чихая, врач свой, институтский, кандидат наук. У него инструкция была - дезертиров не плодить. И термометр всегда показывал тридцать шесть и шесть, хоть в кипяток окунай. Симулянты недостойны высокого звания советского студента.
А у меня целых четыре градусника - ртутных, медицинских. На себе проверял работают отлично. Получается, дефицит телесной теплоты у местных.
Я посмотрел на свои записи. Карточка амбулаторного больного. Фамилию свою он мне назвал, а возраст не сумел. С пятьдесят второго, мол, а сколько сейчас - не знает. Жалобы - хряшки болят. Что за хряшки? Может, по-иностранному? Получилось нечто угро-финское: hrjashkee.
Вообще, ни с кем из взрослых я разговаривать не мог. Не понимаю ничего, мычание, невнятицу, винегрет. Мать и мать одна. Внутренняя эмиграция, право.
Я подошел к шкафчику и в очередной раз подивился пустоте полок. Обычно хоть какие-нибудь карточки хранятся, участников войны со звездой, детей, допризывников, а мне в наследство не осталось ничего, кроме старых газет, которыми выстланы полки, газет трехкопеечной поры, с пусками прокатных станов, портретами доярок и комбайнеров, хорошими вестями из братских стран и плохими их небратских, а на сладкое - погода на курортах страны: Юрмала, Ялта, Гагры...
Я положил на полку новые, тощие карточки, положил трепетно, как денежки в сберкассу, растите, проценты, большие-пребольшие. Глядишь, тоже сгинут, и вспоминать неловко будет - какие карточки, какие вклады? В Москве, понимаешь, стройка стоит, а вы о пустяках.
Я притворил шкаф, рассохшая фанерная дверца нехотя встала на место. Разве отгородишься такой дверью? Давеча я собирался в библиотеку, да прособирался. Скоро начну буквы забывать. Сначала шипящие, потом настанет черед тяжелой буквы Ы,остальных хватит на год, полтора.
Иду срочно, сейчас. Бархоткой провел по туфлям, руки сполоснул в рукомойнике, очаг культуры, чай, и - вперед, в контору, в библиотеку.
Библиотека, о! Моя библиотека Зал, высокие стены, пятнадцать футов (в моей библиотеке счет идет на футы: во-первых, стиль, а во-вторых, в футах выше получается) обшиты дубом. Книги в кожаных переплетах, полки под потолок, стремянка на колесиках, галерея, камин и дворецкий. Сэр, леди Винтер просит принять ее. Зовите, Патрик, и подайте нам глинтвейна, сегодня ветер с Атлантики на редкость промозглый. Да, сэр, если позволите - невероятно промозглый.
На второй чаше глинтвейна, когда леди Винтер совсем было решилась поведать мне свои печали, я добрался до конторы.
Добрался во-время. Уроки кончились, классная комната пуста, за соседней дверью кто-то перекладывал бумаги.
Учитель стоял у стола, наклеивая на матерчатую подложку белые листы.
- По местам боевой славы? - я разглядел, что это топографическая карта, вернее, блеклая светокопия.
- Почти. Внеклассная работа по краеведению. Половина детей читать толком не может, но стараемся, стараемся...
- Не могут читать?
- Спецшкола. Для отстающих в развитии.
- Неужели все отстают?
- Конечно, нет. Кто побойчее - в интернат отослали, в область. Остаются бесперспективные. Это их определение, не мое.
- Кого - их?
- Тех, - он кисточкой указал на потолок.
- Да... Мне, собственно, книжечку какую-нибудь почитать.
- Прекрасно, - он завел меня за шкаф, где, отгорожено от остальной комнаты, стояли невысокие, по грудь, книжные стеллажи. - Тысяча триста одиннадцать книг и брошюр. Выбирайте, я сейчас.
Я провел пальцем по корешкам. До, ре, ми, и так восемь октав, затем повторил. Наощупь приятнее всех показался господин Боборыкин, его я и вытащил.
- Вадим Валентинович! - но никто не отозвался. Ушел учитель, бросил меня, оставил и карту, и клейстер. Я принюхался.
На картофельном крахмале.
Хозяин не шел. Жили-были мама и три дочки. Мама дочкам всегда наказывала: без нее в большую комнату не ходить ни за что. Ушла она как-то, а в большой комнате пианино заиграло, там пианино стояло. Старшая девочки и говорит, надо, мол, посмотреть, и в ту комнату зашла. Пианино минуту помолчало, а потом опять заиграло, весело, быстро. Средняя дочь тоже не утерпела, снова пианино чуть-чуть помолчало и заиграло пуще прежнего. Тогда младшенькая вышла на улицу, подошла к окну, они в полуподвале жили, заглянула и видит сестры ее лежат на полу задушенные, а на пианино играет черная-черная рука.
Детская страшилка меня не образумила. Я пошел искать учителя.
Никакой музыки, зато в классной комнате тихий, но яростный шум.
Я открыл дверь. В.В. сидел за столом, а рядом два удальца что-то доказывали друг другу.
- Об чем ссора? - я подошел ближе.
- Пустяки, Петр Иванович. Извините, заставил ждать, - учитель поднялся навстречу.
- Ничего, ничего. Будем знакомы, - я протянул руку ученикам. - Петр Иванович, ваш доктор. А вы кто?
- Филипп, с двумя пэ, - смело ответил одни, другой жеспрятался за В.В.
С двумя жить можно, с тремя тяжело. Впрочем, два грамма спектиномицина - и полный порядок.
На столе лежала зажигалка - так мне показалось. Конфузливый попытался ее убрать, но неловко, она покатилась по столешнице, В.В. пытался поймать ее, но я опередил. Та еще реакция.
- Осторожно! - крикнул В.В..
- А что?
- Вдруг взорвется? Ребята притащили, в земле отковыряли. Запал гранатный или что-нибудь такое...
- Запал? Я не ветеринар, зато два года отслужил в саперной части. Нагляделся. Чуть зазевается служивый - и нет пальцев. Или глаз, - я тщательно осмотрел вещицу. - Нет, это не детонатор. И даже не зажигалка.
- А что? - не выдержал Филипп.
- Солдатский медальон, - я попытался раскрыть, развинтить его.
- Он лежал около... - начал было сконфуженный, но, ойкнув, замолчал.
Латунь хрустнула, и медальон переломился.
- Видите, не взорвался.
Из медальона выпала бумажка, сырая крохотная трубочка.
- Осторожно! - еще раз воззвал учитель.
Я расправил листок. Лиловые буквы расплылись. Химический
карандаш.
- ..алко...гре...- прочитал я вслух.
- Вы так стремительны, - укорил меня учитель. - Мы бы постарались сохранить медальон. Аккуратнее надо!
- А если бы это действительно оказался детонатор? - хотя стало неловко. Что на меня нашло? Пришел, увидел, поломал.
В шахматах это называют "импульсивным ходом" и наказывают матом.
- Но... - начал сконфуженный, и, дернувшись, замолчал.
Второй раз лягнул его Филипп.
Учитель положил бумажку в ящик стола. - Отошлю в криминалистическую лабораторию, там у меня знакомый есть.
- В лабораторию?
- Имя - единственное, что было своего у солдата. Если сумеем прочитать большое дело сделаем. Мы с ребятами, - он взъерошил волосы Филиппа - ведем кое-какую работенку. Больше некому.
- Опасно. Мины в земле, гранаты...
- Вот я им и твержу: найдете что случайно - сами не трогайте. Ясно?
- Ясно, - ответил за всех Филипп. - Пошли, - он потянул сконфуженного за руку, и тот послушно пошел.
- Стараются ребята, - В.В. повел меня назад. - чай поспеть должен, не хотите?
- Хочу.
- Тогда еще минутку.
Я опять оказался у карты. Карта старая, с ятями, ЕИВ топографического общества. Деревни густы, а в промежутках почти сплошь хутора, все больше с невеселыми названиями: Грязный, Соломенный, Гнилуши, Жалкий (деревня наша раньше хутором была), Провальный...
- Интересуетесь? - в каждой руке В.В. держал по стакану.
Подстаканники МПС, с крылатым колесом. Парок курился над благородной гладью темного янтаря. Цейлонский.
- Вот, сообразил,- он подсел к свободному от бумаг краю стола, пристроил стаканы, из кармана пиджака достал сахар, тоже железнодорожный, по два кусочка в фасовке. Цукор.
- Я всегда без этого, - отказался я от сладкого. - Любопытно, да. Что за села...
- История. К примеру, Самохатка. Исчезла деревенька, а ведь первая линия метрополитена там пролегла, с нее российское метро началось.
- Метрополитена?
- Не в Москве же пробные тоннели рыть. Провалится квартал, что тогда? А здесь геология схожа, вот в девятьсот восьмом и начали прокладывать. Потом война, революция. Возобновили в двадцатых. Кольцевой тоннель, паровоз бегал, с вагончиками. А в войну якобы ставка главкома была. По слухам. Но это вряд ли, немцы сюда уже в июле пришли. Но что-то, наверное,было...
Я пил чай, отдуваясь и вытирая невидимый миру пот, а учитель развлекал меня беседой, рассказывал о каменных бабах в соленой степи (семьдесят километров к югу), стоянке времен неолита (сорок километров к северо-западу, летом непременно нужно будет съездит, у учителя мотоцикл есть, у местных перекупил, починил, лучше нового), и прочих примечательностях.
- Откуда вы столько знаете? - решил удивиться я.
- Положено знать. я по специальности историк.
- А что делаете здесь?
- Что и вы. Я в Душанбе работал. Даже по-таджикски немного выучился, но не помогло. Хорошо, живой.
- Я вчера тоже... краеведничал, - я перевел разговор с неприятного. Окрест скитался, на мертвое поле забрел.
- Куда-куда?
Я рассказал.
- А, вы о стрельбище. Раньше, до войны, дивизия неподалеку стояла, стрелять учились.
- Стрелять?
- Наверное не скажу. Хоть и старый, а секрет. Тайна. Еще чаю хотите?
- Спасибо, нет. Кстати, вчера я и стрелка видел, - я рассказал о встрече с охотником.
- Это правда, - подтвердил В.В. - Нас предупреждали, чтобы за детьми приглядывали. Надеюсь, теперь спокойнее станет.
- Надеюсь, - я взял книгу, прощаясь. - Карточку заведете?
- Давно завел, Петр Иванович. Вы у меня активный читатель. Иначе нельзя. Нет книговыдач - ставку сократят. Десять минут в день уделяю картотеке, любая проверка слюной от восторга изойдет. поросячество, конечно, но... Вы тоже ... Пишите побольше, они писанину любят.
- Стараюсь. Кстати, а кто здесь до меня работал?
- Я потому и советую - пишите. Был тут Степанюк, фельдшер. Если к вам народ не спешит - ему спасибо, отучил.
- Правда?
- Назначит на ночь слабительного с мочегонным, еще и наорет. А чаще запирал медпункт и уходил, сутками пропадал. Говорил, охотится. Какая у нас охота...
- Странно.
- Честно говоря, я думаю, он здесь пережидал что-то. Прятался. Времена темные. Купил диплом, и пережидал.
- И долго он проработал?
- С марта по июль, в конце июля пропал.
- Как это пропал?
- Ушел и не вернулся. Даже зарплату не получил.
- А вещи?
- Какие вещи, чемодан всего имущества. В конторе, под замком ждет. Я думаю, переждал, и в Москву вернулся. Московского издали видать.
Я распрощался окончательно и с книгой в руке вернулся к себе.
У меня тоже имущества - чемодан. Скушай меня нынче Белый Клык, никто бы и искать не стал. Вернулся, мол, откуда я там...
Прежде, чем раскрыть книгу, я заполнил амбулаторную карточку на Гончарова Вадима Валентиновича, год впишу позже, диагноз - "острое респираторное заболевание". Мог бы и покруче завернуть, да пожалел на первый раз, все-таки учитель, библиотекарь, председатель отделения союза переселенцев.
В наказание всю ночь я бегал по кольцевой линии московского метро Октябрьская, Добрынинская, Павелецкая, а за мной по пятам, погромыхивая на стыке рельс - откуда и взялись? - катил паровоз серии ИС, украшенный барельефом главкома. Главком извергал из трубки клубы дыма, вращал красными горящими глазами и, время от времени, громко гудел:
- Ту-ту-у-у-у-у!!!
* * *
- Груз в пути. Прибудет завтра, - инженер снял наушники, отключил питание.
- Связь хорошая, - военный свою пару наушников положил на предписанное место. Аккуратист.
- Ионосфера, - инженер неопределенно пошевелил в воздухе пальцами правой руки. Из-за этого стукача не удалось толком побыть в эфире. Пошарил наскоро, настраиваясь, обрывки фраз, немецкий, немецкий, немецкий. Где наши? Жмурки на свету.
- Проверю системы, - инженер пошел к двери.
- Я с вами. - надел фуражку военный. Строго пасет, не забалуешь.
* * *
- Опять же, где он вырос. В лесу - ничего, а в поле не каждый годится. Какое поле. На полугоне грибы дристучие, хоть опята, хоть какие, - местный эксперт разделил мою добычу на неравные кучки. - Теперь можете готовить. а те, - он брезгливо показал пальцем, - сразу выкиньте, плохие.
Эксперту - Филиппу с двумя п, было лет десять, и он прогуливал уроки на законном основании: карантин, ветрянка, братец из интерната гостили-с. Насчет грибов я ему поверил. Все равно осталось больше моих нужд, много больше. Впрок стану солить. С чесноком, черным перцем, лавровым листом и уверенностью в завтрашнем дне. Баночку на Новый Год, Первомай, а лучшую, заветную - на День Победы. Нашей Победы.
- Что за полугон такой? - почтительно осведомился я. Оленьи турниры, волчьи свадьбы, но серединка наполовинку, оттого и полу.
- Поле дурное есть. Если в сторону Огаревки идти, а после свернуть у развилки влево, как раз упретесь. Да вы там были. Мы летом на нем в войну играли. Другим не говорите, ругаются, - он удовлетворенно кивнул, когда я свалил забракованные грибы в помойное ведро, и небрежно спросил:
- Правда, что у вас бинокль есть?
- Правда.
- Сильный?
- Сильный.
- Спутники Юпитера можно увидеть?
- Наверное.
- А кратеры на Луне?
- Запросто.
- Можно будет... понаблюдать?
- Сейчас? - я с сомнением глянул в окно. Солнце, хоть и осеннее, грело и светило щедро, выдавая поскребыш, будто президент перед выборами.
- Нет. Зимой, в декабре, после двадцатого. Можно?
- Приходи. В шесть часов после двадцатого и приходи, как раз стемнеет. Договорились?
Эксперт ушел, обнадеженный, а я достал из чемодана бинокль. Цейссовский, объективы - что плошки. Мне его на память дала вдова одного астронома-любителя. Я ремешок поменял, и пользуюсь. Каждый день с крыльца смотрю, не видать ли чего хорошего. Красной армии, например. Могу и на небо глянуть, солнце моим сумеркам не помеха.
Пока опята доходили на плите, я с ведрами в руках сновал к колодцу, заполняя трехсотлитровый бак и чувствуя себя последним тимуровцем империи.
* * *
Прожектора окончательно портили ночь, и без того светлую, траченую луной. Лучи то натыкались на тучи, рисуя круги и овалы, то уходили ввысь, в никуда. Из звезд виднелись самые яркие, виднелись скучно и некрасиво, мешали шатающиеся клинья света.
Воздушная оборона.
Хозяин отошел от окна, вернулся к столу с погасшей лампой. Перегорела. И кстати - не шла работа.
Подождем.
Хватит колготы, ловли блох, упований на соломинку. Да и нет такой соломинки, чтобы не себя спасти - страну. Державу! Не все поняли. Какую глупость, какую дурь, подлость всколыхнули эти дни! Лихорадочно, до пены у рта валят вину друг на друга, предлагают проекты нелепей нелепицы: отдать Гитлеру Украину на сто лет! Распустить партию и Коминтерн! Ослиные дети! Ругательство показалось легковесным, и хозяин выматерился по-русски. Полегчало. Он даже улыбнулся, вспоминая совсем уж чудное - сделать бомбу в тысячу раз сильнее обыкновенной. Не в полтора, не в два - в тысячу! Попробуйте, попробуйте. Со старых времен у него тоже есть штучка, получится, хорошо, нет - все равно с германцем совладаем.
Старик не обманывал себя, не успокаивал, просто знал - совладаем. Проигрывают начинающие, таковы правила, а начать удалось не ему.
Тихо сегодня. И в небе, и на земле. Все ходят на цыпочках. Прислушиваются, ждут. Боятся, что он боится. Это и хорошо, и плохо. Что боятся - хорошо. Правильно. Плохо, что допускают, что он может испугаться.
Разве он боится? Нет. Предполагать, что он боится - все равно, что предполагать, будто он толстовец, непротивленец, пацифист. Тогда почему он здесь, а не командует - там?
Он здесь потому, что, во-первых, этим он ограждает себя от паники. Паника страшнее и заразнее чумы.
Во-вторых, у него появилась возможность спокойно и трезво оценить ситуацию.
В-третьих, ему нужно разработать стратегию. Конкретную стратегию для конкретной ситуации.
И, в-четвертых, он ждет.
Старик поморщился, поймав себя на том, что думает словно доклад читает. Катехизисные приемы хороши когда? Катехизисные приемы хороши тогда, когда нужно вдолбить идею в чужую голову, малограмотную, а то и просто дурную. Сейчас нужно иначе. По другому.
Лист бумаги на столе становился белее и белее.
Светает.
Старик снял колпачок с вечного пера и начал писать:
"Братья и сестры!"
* * *
Перекись пенилась вяло, нехотя, и, пропитав марлю, сбегала по руке вниз, обретая по пути грязный рудный цвет.
Я потянул за край повязки, разматывая набухший бинт. Последний, болезненный виток, и рана обнажилась.
- Повезло, - подбодрил я больного. Тот согласно кивнул,
- Зацепила легко, - и вдруг заплакал, неумело, пытаясь удержаться, и оттого еще громче, взрывнее.
- Ну, ну, не так уж больно, - соврал я. Больно быть должно: рана неглубокая, но обширная. Я набрал новокаин в шприц.
- Жалко Рекса, - пробилось сквозь рыдания. - Он меня спас. Я с ним был, когда на меня налетел... налетело... - он беспомощно покачал головой. Чувствую, руку задело, я ее к лицу вскинул, защищаясь, а тут Рекс подоспел. Темно, фонарь из руки выбило. слышу, по земле катаются, Рекс и... оно. Пока бегал за светом, пока вернулся, - он не замечал, как я очищал рану, от новокаина его развезло вернее, чем от водки, лицо раскраснелось.
- Чего я вру - вам, себе? Не возвращался я. Закрыл дверь и ждал до утра до самого. Вы шел, а от Рекса... - он отвернулся и замолчал. Я наложил последний шов, перебинтовал, повесил руку на повязку-косынку.
- Посидите, я заполню карточку. Фамилия?
- Волгин Максим, - он успокоился. На вид.
- Надолго здесь?
- Экспедиция. Трассу размечаем.
- Какую трассу?
- Старая узкоколейка рядом. То ли восстанавливать собираются, то ли новую строить, - словами он отгораживался от недавних слез. - Как начальство решит.
- Живете где?
- У нас автофургон. я с товарищем. Он вчера отлучился в район. На мопеде,прибавил после паузы.
- Вы не знаете, кто вас покусал?
- Говорю же, темно было. Может, волк?
Я не собирался снова слушать плач.
- В таких случаях обязательно прививаться против бешенства.
- Прививайте...
- У меня вакцины нет. Это всего лишь деревенский медпункт. Вам придется вернуться в Огаревку.
- Никак нельзя. Тогда я ничего не заработаю. И товарища подведу, в одиночку трассу не снимешь. Вы постарайтесь, пожалуйста...
- Я записку напишу, пусть ваш товарищ в районе вакцину возьмет и сыворотку. Раз мопед есть. А я привью.
Он уходил, неся раненую руку, как носят саперы неразорвавшийся снаряд. Я вывалил из таза в ведро бинты, в сукровице и перекиси, ополоснул голубую эмаль кипятком, протер дезинфектом. Антисептика - залог успеха! Нам доверяет весь мир, две тысячи процентов годовых!
Железный бочонок "для медицинских отходов" прятался за голыми кустами. Дух лизола сонно шевелился на дне. Я перевернул ведро. Дух всколыхнулся, потянулся вверх, пытаясь зацепиться за край, но не удержался, сорвался. Я сыпанул хлорки для компании, веселее вдвоем будет.
Крышка громыхнула, закрывая бочонок. Не скоро заполнится такими темпами. Зимой. Или весной. Возьму у совхоза поганую телегу, покидаю вилами "медицинские отходы", свезу на свалку, в Вороний овражек. С праздником первой бочки, дорогие товарищи! Ура!
Робкий кашель за порогом прогнал праздные думы. Я поспешил открыть дверь. Больной, второй за день! Пациент определенно шел косяком.
* * *
Черная тарелка репродуктора орала изо всех сил, хрипя и надсаживаясь. Юлиан вопрошающе посмотрел на дежурного. Тот отрицательно покачал головой.
Будем ждать.
Музыка - все больше медь и барабаны, а если пели, то бодро, празднично, парадно. Под такие песни маршировать на плацу сподручно, или канавы копать на субботнике.
Лейтенант обернулся скоро.
- Идем, Мартынов.
Полуторка тарахтела, распуская чад. Холостой ход . Холостой год. Бывает.
Лейтенант проверил пломбы на ящиках.
- В кузов.
Ящики тяжелые, запросто не взять.
- Три, четыре! - вдвоем с Ленчиком рывком вскинули груз, а в кузове его подхватили, принимая, Иваны, уральский и рязанский. Другой ящик полегче, но тоже не для слабосильных.
Следом за ящиками забрался в кузов и он. Иваны перенесли груз в будку, большую, в полкузова, поставили на мат, чтобы не растрясло. Ленчик снизу подавал винтовки - Иванам, ему, свою, потом и сам залез, качнув грузовик.
Иваны остались в будке, а он с Ленчиком устроились на скамейке у борта, сдвинул лопатки по ремню. Мешают сидеть.
- За воздухом следите, - напомнил лейтенант, и, не дожидаясь уставного ответа, пошел к кабине.
- Ну, как, не выступил еще товарищ Сталин? - Ленчик спрашивал, наверное, в десятый раз. Первогодок, резвости много.
- Нет, - ответил Юлиан коротко.
- А почему, как думаете? - не унимался Ленчик, а Иваны из будки следили внимательно, зорко. - Когда выступит?
- Когда время придет.
Машина тронула, но, проехав всего ничего, остановилась у ворот. Проверка.
- Повезло вам, - Ленчик счастливо улыбался.
- Повезло?
- Ага. Вам же дебилизация шла.
- Демобилизация.
- Я и говорю, дебилизация. Чуть-чуть, и не застали бы войну. Обидно, небось, было б. А так - повезло.
- Я везучий, - согласился Юлиан. - И с финской повезти успело, и с этой теперь.
- Товарищ сержант, вы как понимаете, возьмем Берлин к Октябрьской? - это из будки Иван уральский. И, как всегда, заспорил Иван рязанский:
- Что к октябрьской, раньше. к жатве управимся. Интересно, какое лето у них в Германии?
- Я не к тебе обращаюсь, деревня. Так как, товарищ сержант?
- Когда надо будет, тогда и возьмем. Прекратить разговорчики.
Ворота раскрылись, и полуторка поехала дальше. Будка прикрывала от ветра, но все равно дышалось трудно, легкие раздувало встречным потоком воздуха, приходилось отворачиваться, чтобы вдохнуть.
- Здорово! - костяшки кистей у Ленчика побелели, он крепче вцепился в борт, но каждый ухаб добавлял восторга.
- Пилотку сними, сдует, - посоветовал Иван. Ленчику езда - аттракцион, как и Иванам. Качели с каруселями вместе. Да и сам Юлиан любил такую езду летом, в жару нестись над землей быстрее любого коня, успевай смахивать слезы и смотреть, смотреть, как новое летит навстречу.
Из-за будки обзор был скверным, что впереди - не видать, а позади, за машиной, медленно падал пыльный след. Дождя давно не было. К вечеру соберется. Парит. В движении приятно, а на кухне в наряде?
Юлиан легко отогнал пустые думы. В небо смотреть надо. Воздух.
Но воздух был чистым, свободным. Ни соколов стальных, ни стервятников. Только ласточки, маленькие, живые, порой подлетали к машине, вровень с бортом, протяни руку, твоя, висели неподвижно, а потом, наскучась, уходили в сторону.
Низко стригут. К дождю.
* * *
Рассадят стекло недужные.
Я отложил книгу.
- Иду, - крикнул громко. Стук в окно прекратился. Я посмотрел. Цело окошко, и на том спасибо.
Теперь затряслась дверь.
- Иду, - повторил я.
На пороге эксперт по грибам, Филипп.
- Декабрь настал?
- Нет, я не за тем, - мальчишку колотило.
- Холодно?
- Изнутри. Ерунда. Вадим Валентинович не вернулся!
- Непорядок, согласен. А откуда он не вернулся?
- Не знаю. Но он велел, если к ночи не придет, к вам идти.
Лестно. Но непонятно.
- Ты пришел. Садись, пей чай.
- Не хочу, - отмахнулся Филипп. - я вам рассказать должен.
- Рассказывай, - я шуровал кочергой в топке, стараясь подольше побыть в неведении.
- Я не хочу жить в интернате. И другие тоже. А нам автобус не дают.
- Не понял, - признался я.
- Где вам. Вы в школу для дураков не ходите.
- Нет, - а про себя подумал: как знать.
- После четвертого класса - второй раз на комиссию. Или в интернат, или в дураках навсегда. Был бы автобус - можно учиться в обычной школе, в районе, а жить тут, дома. И в нашей школе можно много чего сделать. Сейчас еще ничего, а до Вадима Валентиновича учителя нас только дебилами и дураками звали. Чуть что, уши крутят или в угол, у вас, мол, мякина в голове, слов не понимаете. Ничему не учили, один крик. Когда Вадим Валентинович приехал, по другому стало. Интересно, и вообще.
- Поздравляю.
- Чего поздравлять? Я в четвертом классе, мне к лету на комиссию. У совхоза денег нет нас в школу возить. Если резерв не сыщем, так и будем дураками. Или в интернат. Вы знаете, из интерната никто назад не возвращается. Отвыкают, не хотят.
- Погоди, погоди. Какой резерв?
- Это и есть самое главное. Нам Вадим Валентинович рассказал. Не всем, а мне, Витальку и Нюрке. Для остальных мы партизанской тропой идем.
Я посмотрел на часы. Поздно, оттого и тупой я. Мне русским языком говорят, а о чем говорят - не пойму.
Филипп догадался о моих трудностях.
- Сейчас я все объясню. Вадим Валентинович разрешил вам рассказать, если с ним что случится.
- Случилось?
- Не знаю, - вздохнул мальчик. - Но он велел рассказать, если будет отсутствовать больше дня. Суток.
Я начинал закипать, но виду не подавал, держался. Поставил чайник на плиту, пусть тоже покипит.
- Резерв - это золото, драгоценности. И они спрятаны неподалеку.
- Клад, значит.
- Нет. Клады - сказочки. А резервы есть на самом деле. Вадим Валентинович историю хорошо знает. Сразу после революции красные много сокровищ попрятали, на случай, если белые победят. Они все время чего-то боялись и прятали, на черный день. Особенно Сталин. Когда с немцами война началась, он приказал делать новые резервы, тайные. Для партизан, чтобы фашистов подкупать. Один купленный фашист роты стоит, говорил он. Но о главных, о больших резервах знал он один.
- Что, сам закапывал?
- Закапывал, конечно, не он, - терпеливо объяснял Филипп, - прятали чекисты. По его личному указанию. А потом тех чекистов убивали другие чекисты, как врагов народа. А других чекистов - третьи, и следов не оставалось.
- Не оставалось, - тупо повторил я. Хороводы чекистов кружили в глазах.
- Во время войны почти все резервы сберегли. А какие он рассекретил, дал командирам партизанских отрядов, самых больших, так тех командиров он приказал убить. Вывозили их в Москву самолетами и казнили. Чтобы проговориться не могли. У него, Сталина, были и особые резервы, на случай поражения. Так и не рассекречены до сих пор.
- Откуда же ты знаешь про них?
- Вадим Валентинович рассказал. Его отец в партизанах был и уцелел случайно. Его немцы в плен взяли.
- Получается, вы решили эти резервы найти.
- Да. Вадим Валентинович в архивах работал, и натолкнулся на следы.
- Ты же сказал, заметали следы чекисты.
- Всего никогда не замести. Нужно знать, что искать. Накладные. Требовалось выдать кирки, лопаты, транспорт. Постановление о расстрелах врагов народа, их сразу по три-четыре стреляли. Когда все-все вместе складывалось - выдача инструмента, овса, лошадей, расстрел чекистов - значит, поблизости резерв.
- И...
- И в нашем районе такой есть, - Филипп сказал это так же просто, как "у нас в квартире газ". - Вадим Валентинович ищет, а мы помогаем. Нас-то много, все в округе перевернуть можем.
- Что же вы ищите?
- Необычное. Неизвестную могилу, тележное колесо, ржавую кирку. Для всех мы партизанское движение изучаем. И ребята тоже так думают, кроме нас троих. Чего зря болтать.
- Действительно.
- Вадим Валентинович нас предупредил, что у резервов могут ловушки быть, мины или еще что. Если он не придет в срок, значит, с ним что-нибудь случилось. Вчера он в метро пошел, подземелье такое.
- Слышал.
- Вернуться должен был к полудню. Но не вернулся.
- Поэтому ты пришел ко мне.
- Так Вадим Валентинович велел, - волнение и дрожь оставили Филиппа, он засыпал на глазах. Кончился завод. - Искать его сразу пойдете?
- Искать? Да где?
- Я ведь говорил - в метро, - он с упреком поднял сонные глаза.
- Людей созвать надо.
- Наши не пойдут, - безнадежно протянул Филипп. - Кто им Вадим Валентинович.
- А золото? Клад?
- Все государству отдадут, стоит власти прикрикнуть. Нет на них рассчета.
- Ладно, ты домой иди, я уж сам попробую сообразить. Да, а те, в интернате, домой пишут?
- Кому их читать?
- А твои родители? Грамотные?
- По-печатному читать могут. Немного. А что?
- Домой иди, вот что.
Он послушался. Я проводил его до калитки. Темно и холодно. Я слышал, как бредет Филипп к своему дому, плеск воды это он ступил в лужу, несколько минут было совсем тихо, пока не стукнула вдалеке дверь. Дошел, стало быть. Бедная кукла.
Я еще постоял. Живая деревенская тишина: то вздохнет глубоко в печальном сне корова, то звякнет цепь ворота колодца. Поддаваясь тишине, и я не пошел, а прокрался назад. Глупо и смешно - клады в подземельях. Искать сокровища - дело, безусловно, ребячье. Искать. Но не находить.
Меня встретил запах горелого металла. Задержись я еще на пару мыслей, и прощай, чайничек.
Окно запотело; я пальцем вывел красивую букву "М", и она заплакала, роняя слезы на раму. Метро, значит. Без турникетов, лестниц-чудесниц, без гурий голубой униформы, но зато с тяжелым дубовым сундуком, доверху набитым колымским златом. Или лужами царских десяток, в которых плавает старый селезень мирового капитала в синем сюртуке и с цилиндром на плешивой голове.
Спать пора!
Внутри, под крышей, тишина была тревожнее. В углу стоял топор, тихий и смирный. Его не тронь, и он не тронет. Очень холодное оружие.
Уголь трещал в печи, а казалось - дверь отжимают, или тать в окно лезет. Дай волю фантазии - всю ночь можно под кровать заглядывать.
Но фантазии или не фантазии, а, похоже, я опять становился кому-то нужным.
Жаль.
Так, жалея себя и весь остальной мир, я продремал ночь у угасающей печи под шуршание ветра, редкие выстрелы угля и кряхтение старого больного дома.
* * *
Птицы летели над рощей, громко и разобиженно крича всякая свое, а вместе выходило - разор! Юлиан знал эту рощу, заброшенную, беспризорную, где деревья, стоящие хоть чего-нибудь, вырублены были давно, а оставшиеся росли дико, тесно, годно лишь для птиц и мелкого зверья, но не людей. А сейчас там были люди. Он решил было пробраться к кабине, предупредить лейтенанта, кто знает, может, дети добирают землянику, а, может, и не дети, но шофер сам что-то заметил, тормознул резко, всех бросило вперед. Нельзя, нельзя останавливаться!
- Чего это? - высунулся из будки Иван рязанский.
И, отвечая, сорочьим стрекотом отозвались автоматы.
* * *
Стынь комнаты разбудила меня, стынь и боль - я уснул в низком, продавленном креслице, и спина мстила за небрежение.
Ничего, возьму бюллетень, перцовый пластырь на спину, аспирин внутрь. Когда-нибудь в другой раз.
Я вышел во двор. Светло и радостно: снегом запушило и крыльцо, и дорожку, и все вокруг. Как в операционной до первого разреза.
Дорожку к угольному навесу пересекли следы. Отпечатки четкие, учебные. Я ступил поодаль и сравнил со своими. Мог и не сравнивать - не совпадают ничуть. У меня рифленая подошва сорок второго размера, а эти не человеческие даже. Подушечки и когти выглядели очень большими и какими-то неправильными.
Уж и не знаю почему: все уроки по следопытству у меня ограничивались "Лесной газетой" Бианки. Я быстро обернулся за карандашом и бумагой и, подсев на корточки, срисовал пару следов. Получилось похоже. Затем прошел по следу. Кто-то перемахнул через штакетник, метр пятнадцать, пустяк, покружил у медпункта и ушел тем же путем. Я прыгать не стал, калитка есть. Следы вели за околицу и дальше, в поле. Вот что значит иметь хату с краю. И живности-то у меня никакой, кроме Денисова П.И., а вот сподобился, навестили. Я вспомнил ночные страхи. А приспичило бы, вышел до ветру? Хорошо, чайник выкипел.
Холод пробирал глубоко, и я дрожал - куда Филиппу. Но озноб прошел быстрее, чем загудел в печи подкормленный огонь.
А после завтрака я и сам уверил себя, что никакого холода нет.
Солнце оказалось в силе, и снежок таял быстрее, чем рубль. С первым снегом всегда так. Когда я вновь вышел наружу, белый пух оставался только в тени. Даже грязи толком не получилось, мало снега.
Начал я с визита к В.В. Филипп мог и ошибаться. Но увы, учителя на месте не оказалось. Убиравшая с утра баба Фрося на вопрос о здоровье проворчала "ташшит внизу" и нехотя пустила меня внутрь.
Топографическая карта по-прежнему была расстелена на столе. Я рассматривал ее без спешки, пристальнее, и нашел десяток синих вопросительных знаков, рассыпанных по ней. Все они были перечеркнуты, за исключением одного - у деревни Самохатки, колыбели отечественного метростроя. Этот вопросительный знак, напротив, был обведен красным кружочком. Из-под карты выглядывал другой листок - копия лабиринта. Схема местного метро, догадался я. К схеме шариковой ручкой был пририсован Г-образный ход, и написано "15 ноября". Вчерашнее число, между прочим.
Я сложил карту и план, пригодятся, и пошел по избам.
Точнее, это были "финские дома", одноликие, как детские песочные пасхи. Зато сараюшки и погреба всяк лепил по своему нраву. Впрочем, получалось тоже схоже: криво, шатко, горбато.
Филипп оказался прав, отсутствие учителя не волновало никого. Я не был уверен, что меня вообще понимали: приоткрыв дверь, с тревогой слушали через порог, а потом с облегчением дверь захлопывали. К сокровищам я и не успевал подобраться.
Да и что за сокровища? Слова, смешные при свете дня.
Когда последние пятнышки снега истаяли, я прекратил попытки основать партию спасателей. Пустой номер. Разве водки дармовой наобещать? Не поверят, докторский оклад известен.
Мотоцикл трещал громко, истерично. Я обрадовался - вернулся учитель, и с меня спросу нет. Рано радовался - это был другой мотоцикл. С коляской. Почта приехала.
Сегодня почтальонша не стучала - ломилась в дверь конторы.
Я окликнул ее. Она метнулась ко мне, как рязанская княгиня, но я был ближе и мягче земли.
-... Гонится! Гонится! - только и смогла выговорить она.
Пока я вел ее к медпункту, цепкие пальцы почтальонши промяли мое плечо до кости. Синяки жди.
Стены, занавески на окнах и валериановые капли успокоили ее. Она села на табурет.
- Кто гонится? - наконец, спросил я.
- Он...Волк... Я ехала, вижу, у развилки стоит над чем-то... терзает... я газу прибавила, а он за мной... стелется... Еле оторвалась.
- Спокойно, спокойно, - уговаривал я ее и себя. Глупый поросенок в соломенном домике. Почтальонша не волк, почтальоншу можно пустить. Выгнать потом трудно.
Я развел спирт водой и, как есть, теплым и противным, дал почтальонше. Та в три глотка выпила наркомовскую дозу, занюхала косточкой.
Несколько минут мы сидели молча.
- Я обратно не поеду, - твердо и трезво объявила после раздумья почтальонша. - Пусть за мной приезжают.
- Кто?
- Хоть кто. На машине. Охранник есть на почте, с ружьем, пусть и приезжает.
- Чудесно. Письмо ему напишем, или телеграмму отобъем?
- Чего? - лицо расслабилось, вышло из фокуса. Не какой-нибудь спирт, а медицинский. Ректификат.
- Того, уважаемая. Телефона-то в деревне нету. Как покрали провода во второй раз, так и нету, - я говорил от имени всех обиженных селян. Приезжают городские, режут провода и загоняют скупщикам краденого. А у совхоза денег на новые нет. Вас когда хватятся?
- Меня? Ах, да. У меня два отгула, не скоро.
- Давайте, я вас отвезу.
- Отвезете? Вы? - она подозрительно вглядывалась в мое лицо. Скоро начнет насчет глаз, ушей и зубов справляться.
- Сядем, и газанем. Я топор прихвачу.
- Ну, нет. Мне детей поднимать.
- Тогда одолжите мотоцикл, и я сам съезжу в район. На почту, в милицию.
- Мой мотоцикл?
- Да. Я ведь, в некотором роде, зам председателя. Почти
местная власть, - чистая правда. Зампред отделения союза переселенцев.
Она поколебалась, но доверие докторскому халату пересилило. Или ей было наплевать.
- Берите, - она протянула ключ. - Но как же... Он ведь на дороге?
- Обойдется.
Я надел куртку потеплее, захватил кошелек и топор. Несколько вечеров я точил его, и теперь брось на лезвие пушинку
- промахнешься. Тонкое. А пальцы дрожат.
У конторы я без надежды толкнулся в дверь. Не вернулся учитель.
"Урал", поджидая хозяйку, жался к забору. Чувствует, железяка. Вокруг никого, не дергают фартук, не жмут на сигнал.
Черное железо под солнцем было теплым, почти живым.
Давненько не брал я в руки мотоциклов. Медленно, на первой передаче, прокатил я по пустой улице, но за околицей осмелел и дважды не вписался в не самые крутые повороты. Подавил озимые. Чуть-чуть. Но скорости не унял, чувствуя себя Серой Шейкой с внезапно окрепшим крылом. У развилки притормозил. Где мой Юг?
Направо - райцентр, власть, человек с ружьем. Налево - путь на Самохатку, к лабиринтам метро, где, может быть, провалился в хитрую яму учитель и ждет помощи.
Я привстал, огляделся. Вдалеке, по пути в район, мелькало что-то в придорожной лесополосе. Необлетевший куст или еще что-нибудь. Разогнаться как следует, и ура.
Зато по другой дороге, совсем уж далеко, стоял зеленый фургончик.
Геодезисты.
Я неловко отжал сцепление, мотоцикл дернулся и заглох.
Не отводя глаз от мельтешения в посадке, я дергал ногой, запуская двигатель. Закрытый массаж пламенного сердца. Ожило, порадовало. Старательно, как перед комиссией, я поехал к фургону. Зеркало на руле дрожало, и вместе с ним дрожало все позади. Некогда оглядываться.
Перед самым фургоном путь перегородила та же распоротая железнодорожная колея. Насыпь, невысокая нигде, здесь оказалась вообще вровень с землей, но я заглушил двигатель. Ножками дойду. Пешочком.
Фургон оказался тихим, кабина водителя - пустой. я постучал в стену:
- Кто-нибудь!
И стук, и голос казались жалкими, слабыми.
Я обошел жилище на колесах, понюхал выхлопную трубу.
Сутки не грелась. Или нет. Откуда мне знать.
Я порыскал вокруг, пока не наткнулся на отхожее место.
Вот в этом я специалист, дерьматолог. Пудр-клозет. Самому свежему дерьму не меньше суток.
Конечно, это ни о чем не говорит. Работа у людей подвижная, вольны оправляться, где хотят. Но...
Я вернулся к фургону, такому прочному, солидному.
Наф-Нафа дома не оказалось.
Мотоцикл меня признал, завелся сразу, и я потрясся назад.
Разумеется, можно и в таинственное подземелье спуститься, и в район сгонять, но я боялся. Теперь у меня было оправдание перед самим собой: исчезну я - исчезнет еще несколько человек. Один уж точно. Филипп.
* * *
Юлиан бежал, прижимая груз к груди, будто ребенка. Чертово семя, какой тяжелый.
Пули начали спеваться, но он успел, добежал до лесной полосы, вломился в кустарник, упал - обрывисто, нырко, и откатился в сторону, ищи, не ищи одно.
Ползком он вернулся к краю полосы, выглянул. Темные фигурки копошились вокруг машины, ветер доносил яростные "хальт" и "хенде хох". Десант. Ищут. Груз? Короткая очередь.Добили кого-то. Лейтенанта, Ивана рязанского? Ленчика с Иваном уральским достал пулемет, когда они сбрасывали второй ящик. Очередью посекло и груз - когда лейтенант, сорвав никчемные пломбы, открыл ящик, то увидел расколотый сосуд белого металла, из которого сыпался порошок, пахнущий аптекой и грозой.
Уцелевший груз лейтенант дал ему, Юлиану. Любой ценой вернуть в часть. Любой. Где ж ее взять, любую?
Десантники перестроились в цепь и пошли в сторону лесной полосы, по-прежнему выкрикивая "хенде хох". Неужто он, Юлиан, им так нужен? Груз, только груз. Завез шоферюга, сволочь, и лейтенанта ранил.
Тщательно, как на зачетных стрельбах, он выстрелил. Три из трех. Цепь залегла, но ответного огня можно не страшиться, автомат не винтовка, близорук.
Юлиан за деревьями пробежал метров сорок, опять вынырнул и выстрелил уже наугад, лишь бы обозначить себя. Таясь, вернулся назад, подхватил груз и бегом двинул в другую сторону.
Авось, обманул.
Слабость заставила перейти на шаг. Быстро прокис. Тяжело.
Он крепче прижал к себе груз. Загнался до тошноты. Если из полосы выйти, идти легче, но нельзя. Заметят.
Он едва не проскочил горелый хутор. Бывал здесь раньше.
Пример обострения классовой борьбы. Давно, лет десять назад, пришли раскулачивать куркуля, а тот - отстреливаться, затем подпалил дом и сгорел вместе с семьей. С тех пор и пустует хутор.
Бурьян вокруг - в рост. Скроет. Из последних сил он побежал к хутору, надеясь, что его не видят. Во дворе нырнул в погреб. Пол в ямах, перекопали, ища золото куркуля. У них в части и присказка сложилась "золото поискать", о зряшной работе. Он бросил груз в одну из ям и начал забрасывать землей. Вот и пригодилась лопатка. Работал в полутьме, чуть не на ощупь, оно и хорошо, без света не разглядеть, что землю тревожили. По-хорошему надо бы ямы заровнять, дел на час хозяину, но не хозяин он, и нет у него часа. Нужно уводить тех и пробиваться в часть. Налегке может получиться.
* * *
Я проехал деревню насквозь, сто двадцать метров улицы. Никто не ликовал, никто не улюлюкал, не швырял тухлых яиц и дохлых кошек. Никому просто не было дела ни до моей трусости, ни до моего геройства. Разве что Филиппу. Он смотрел на меня жадно, но при родителях спросить не решался. Яркие пятнышки на лице обещали ветрянку.
Почтальонша искренне обрадовалась возвращению "Урала" и, после новых ста грамм позволила отвести себя на постой к бабе Фросе.
Вдругорядь, уже пешком, я вернулся на конец деревни, к медпункту. Хотя это откуда смотреть - конец или начало. Домик стоял наособицу, чуть-чуть неловко, словно бывший депутат в общей очереди. Он был старше остальных домов, близняшек финского происхождения, и старость его была старостью рабочей коняги.
Верно, и он был молодым - после войны, первый отстроенный дом, правление, с него начинался колхоз, а поодаль в землянках годили люди, надеясь на обязательное чудо, которое и явилось, дало жизнь поверх земли, тяжелую, надрывную, но поверх.
Я потрогал пальцем стену. Конечно, дом был началом. Осталось с войны кое-что - фундамент, стены, печь, и первый дом подняли миром, выгадывая каждый камень, каждый гвоздь.
А теперь живет в этом доме доктор Денисов, которому светят во тьме подземелья несчетные сокровища. А до него жил другой доктор, который просто исчез. Приходил ли к нему другой малец и тоже поведал секрет о кладах, а потом уехал в интернат, и не пишет, не едет назад?
Жил я тихо, скромно, свыкаясь с деревней, и вдруг перевели меня в душеприказчики. Зачем? Я вспоминал, перебирая дни, стараясь извлечь из пачки замусоленных трешек, давно упраздненных за ненадобностью, мятый, но годный доллар.
Ретроанализ. На семнадцатом ходу белые упустили возможность форсировать ничью, о чем к девяносто седьмому крепко пожалели.
Что свело вместе меня, учителя, Филиппа? Судьба? Скученность? Чушь все это. Находка медальона. "... алко... гре.."
У Паганеля был лорд Гленорван, "Дункан", земной шар и вся жизнь. У меня - я сам, домик, и несколько часов. В лучшем случае - до рассвета. Да нет, вряд ли.
Ах, как бы пригодился рояль в кустах. Впрочем, был он, рояль. план подземелья с крестиком. Мышеловка.
Обломив ветку, я стал прочесывать двор. Лозоходцы, инородцы и прочие мигранты обязаны еженедельно отмечаться у сотника, приводя доказательства своей непротивоправной деятельности, заверенные двумя представителями титульной нации.
Я ходил и слушал свое нутро, слушал и ходил, от дома до калитки, шаг в сторону, назад, по огороду, к летнему умывальнику. Раз дрогнуло что-то в душе, и я быстро-быстро сменил прутик на лопату. Почти угадал. Старая выгребная яма. Биолокация!
Я сел на скамеечку у порога. Солнце миновало низкий полдень и спешило на вечер. Самое время пустить слезу: прощай, милое, не свидеться нам более.
Приедет, глядишь, новый доктор, порадуется на домик, вскопанный огород, почти нетронутый запас угля, крупного кузбасского антрацита. Или не приедет, а через пару тысяч лет откроют геологи новое месторождение, организуют перспективный "нашугольинвест" и начнут разрабатывать карман тогдашнего простака.
Я взял лопату и поспешил к угольной куче. Через полчаса стало ясно - объем будущего месторождения я переоценил. Уголь был навален поверх земляного бугра. Оказалось - погреб. Второй во дворе. Мне и в одном-то хранить нечего. Видно, во время безврачебности завезли уголь и ссыпали на погреб вон, как много получилось, а сэкономленное приватизировали. Хозяина не было, а за чужое добро душа у кого болеть станет?
Дверь в погреб оказалась прочной. Я с трудом освободил створки. Вниз вели каменные ступени. Хороший погреб, отличный. я в погребах разбираюсь. Прямо специалист по погребам, ледникам, подвалам и прочим местам хранения съестных припасов.
Пришлось вернуться в дом за лампой. У входа я зажег ее, открутил фитиль до предела, гуляю, братцы. Угольная пыль осела, немало и на меня. Вылитый Алладин-баба.
Спуск вышел недолгим. Вторая дверь, тоже крепкая, вросла в землю. Хорошо, лопата близко.
Свежий ветер затекал вниз неохотно, лампа коптила. Наконец, дверь свободна. я распахнул ее и вернулся наверх. Пусть проветрится. А вдруг там тайная станция метро? Поди, сыщи пятак.
Пора.
Подняв лампу, я шагнул в дверной проем. Ни метро, ни сундуков со златом, ни даже останков моего предшественника.
Погреб был пуст. Просторный, добротный, но пустой совершенно.
Стены и свод - известняк, пол земляной, неровный. Пахло пенициллином.
Я поднес лампу к стене.
Плесень, скудная голодная плесень проросла в камень. Опять всюду жизнь. Всюду, за исключением дальнего угла. Не хватило у плесени сил. Или кто-то обдал камень кипятком, ошпарил раз и навсегда. И на полу - след бочки мертвой воды.
Я рьяно начал копать. Не найду, так согреюсь.
Нехотя, неуступчиво подавалась земля. Пот выступил на спине, но стало зябче, холоднее, и когда лопата, задев что-то, заскрежетала, я почувствовал не радость, а облегчение.
Но прошло полчаса, пока находка показалась целиком.
Прошло и облегчение. Черт знает что. Больше всего это походило на куколку, но размером с трехлитровый бидончик. А вес, вес - пуда три. Интересная бабочка из нее выползет.
Остаткибрезента, в которой это было завернуто, расползся под руками.
Я попробовал поднять находку. Если это золото - по триста долларов за унцию, выходит... выходит... огромадные деньги выходит. Да.
Я переложил куколку в угольное ведерко и понес, ежесекундно ожидая, что отвалятся ушки ведра или проломится донце.
Никто не захлопывал двери погреба, никто не стоял на пути.
Вечерело.
Я вернулся, прикрыл дверь погреба. Ну, все видели?
На пороге дома я орлом, не щурясь, посмотрел на солнце. На его краешек, который постепенно засасывало за горизонт.
Трясина.
Кухня в эти розовые минуты так и просилась на рекламный календарь. Я растопил плиту. Огонь загудел не сразу, тяга неважная, к ненастью; потом положил находку на стол, обтер тряпкой. Ни ржавчинки. Черное яичко черной пасхи. Несколько дырочек, одни забиты землей, другие нет. Ножом я поскреб немного поверхность, но быстро прекратил. Не золото, ясно. То мягкое. Я вернул находку в ведро, прикрыл крышкой, и отнес в крохотную, без окон, кладовочку. Пусть постоит. Затем задернул занавески на окнах, сел спиной к плите и начал ждать в своем выгороженном мирке. Так уж получилось выгороженном.
Год, другой - и я бы начал прорастать деревней, похоже, и сейчас ниточки завязались, едва заметные, эфемерные.
Вьюшка осталась открытой - мне требовалась свежесть. Иначе усну. Ту ночь не спал толком, и эта вряд ли обрадует.
Крепкий чай, всего чашечка, или волнение, но чувствовал я себя бодро. Бодрее, чем когда-либо ранее за время, проведенное в деревне. К утру сгорю, оставив кучку золу.
Из рукомойника в таз мерно капала вода. Капля в четыре минуты, приблизительно - я судил по пульсу, а он у меня частил. Маленький камертончик не давал расслабиться. Ре... ре... Очередь "Ми" - через неделю, когда откапает литр, и повысится уровень воды в тазу. Но ведь испарение. влажность воздуха... Задачка.
Я ждал.
* * *
- У меня приказ, и я его выполню, - "я" прорывало разговор, как перо бумагу, если трижды, четырежды обвести букву. - Крайний срок - пятнадцать ноль-ноль. Он настал. Я обязан приступить к ликвидации объекта, - военный отметал саму возможность возражений, спора, но так, словно хотел, жаждал услышать возражения.
- Приступайте, - инженер спорить не стал. Зачем.
- Ликвидация начинается с уничтожения реактивного снаряда, а это - ваше дело.
- Уничтожу, почему не уничтожить. Посредством запуска и уничтожу.
- Поспешите.
- У меня нет времени спешить.
- Сколько потребуется времени?
- Четверть часа.
- Пятнадцать минут? Хорошо, - военный расстегнул ремешок наручных часов, демонстративно положил их пред собой.
Инженер снял телефонную трубку.
- Установить цель ноль-минус.
- Есть установить цель ноль-минус, - отозвался техник. В стереотрубу было видно, как он начал карабкаться по ферме. Для вида лезет. Для этого соглядатая. Цель ноль-минус установлена загодя. Если бы привезли груз, что ж, пришлось бы ставить иные цели. Цель один или цель три. Лондон и Берлин. Вероятность попадания четыре и семнадцать процентов соответственно. Навигационный космическо-баллистический прицел,
НКБ-один. Остряки расшифровывали, как "на кого Бог пошлет". Откуда другой взять? Шесть последних лет - ползком на месте. На брюхе. На Марс, на Марс! На Марс? Выбрасывать в безвоздушное пространство народные деньги? Кто придумал? Ах, и оборонное значение? Сколько, полтонны, тонна? Да наш скоростной
бомбардировщик за неделю в сто раз больше перебросает. Идите и подумайте! Хорошенько подумайте!
- Десять минут, - военный надел часы. Правильно, сквозняк, дунет - и нет часиков.
Техник начал спускаться. Подумайте. Стакан водки на ночь, и все думы. Иначе - вздрагивать на каждый скрип коммуналки, а стук в дверь - приступ медвежей болезни. Нервы. Семен Иванович? Ах, вы об этом... Нет, с сегодняшнего дня его не будет. Отдел возглавит товарищ Гаар. И все, нет Семена Ивановича, исчез, словно и не было его никогда, не рождался, как не было и Шульца, Петренко, Скобликова - и это только из его группы. Повезло, получается, Первому, погиб, но в полете, в небе, успев увидеть Землю круглой.
- Пять минут.
Техник побежал от снаряда. Успеет. Интересно, как у Афони дела? Построил лунный снаряд, или тоже - на брюхе? Дружба фройндшафтом, а бумаги пришлось извести много. С кем иностранный специалист говорил, о чем, когда? Раз он "фон", пусть будет Афоней. Товарищи из органов веселые. Дознаются, что он двадцать лет чужую фамилию носит, смеху будет - полные штаны.
Двадцать лет, как он с буквы "Ш" на "К" перебрался. Отдал имя за похлебку. Плюс жизнь. Ведь это жизнь, верно? С ночами, когда сердце норовит выскочить из груди и убежать, и днями, набитыми тоской, беспросветностью и чечевицей. Пока можно работать - жизнь. На Марс...
- Все готово, - доложил техник.
Уйдет снаряд, последний из задела. Придется ли новыйстроить? Или кирка плюс тачка? Добровольцем. На фронт и дальше. Но сначала пусть снаряд поднимется, на высокую орбиту, на запад, против вращения Земли. Афоня инженер сметливый, сообразит....
* * *
Звук, тихий, почти неслышный, выдал себя неправильностью, фальшью. Не должно быть такого в деревенской ночи. Корове мыкнуть, собаке забрехать, даже треснуть выламываемой двери - естественно. Но этот звук, неуловимый, но лживый, отозвался во всех двадцати восьми, увы, зубах.
Кто его придумал?
Во тьме не видно было и окна. Тучи. Но ногами, пока теплыми, я почувствовал течение воздуха. Скользнула мимо Снегурочка.
Я не шевелился. Колун лежал на коленях тяжело, мертво.
Звук не повторялся. Или я не слышал его за стуком собственного сердца.
Крик показался белым, ослепительным - уши делились с глазами. Как не короток он был, я успел вскочить, взять наизготовку топор и вспотеть морозным потом.
На смену крику пришло негромкое рычание и влажный, скользкий хруст. Все за окном, снаружи. Я прижался к стене.
Приходите, гости дорогие.
Несколько щелчков, негромких, я потом сосчитал - шесть. Стена за моими лопатками отозвалась четырежды. Две пули попали не в стену.
Низкий нутряной вой, тяжелый бег, новые щелчки и новый крик, короткий, тонущий.
Слишком много для меня. Топор вдруг стал неудержным, я опустил его и положил на пол.
Возня за окном стихла.
Еще немного, и я стану ни на что не годным. Абсолютно.
Механически, не думая, я зажег лампу, покидал угольки в едва мерцавшую топку. Пусть будет тепло и светло.
Хотя бы мне.
В дверь постучали - деликатно, вежливо. я не успел и понадеяться, что соседи заслышали шум и пришли справиться, не нужна ли подмога. Глупая мысль. Деревенские так не стучат.
Я распахнул дверь.
- Спрашивать надо, кто там, - визитер сощурился на лампу, которую я держал перед собой.
- И так видно, - я посторонился, пропуская его. Охотник, гроза хищников.
Оконная занавеска обрюхатела, раздулась.
- Еще не ложились? - охотник откровенно разглядывал меня. А я его.
- Лег. Сплю. Вижу сны.
- Ага, ага... Что сниться?
- Не досмотрел, - я обмахнул табурет. - Присаживайтесь.
- Некогда, честное слово. Сон, он ведь штука непростая, в любой момент оборваться может, - но сел.
- Как охота?
Охотника передернуло.
- У меня не охота. Промысел. Поганый, - он отвел занавеску. В оконном стекле круглая, с блюдце, дыра. Давно пора вторую раму вставлять. И с углем экономить. - В газете сообщили бы - шаровая молния.
Я присмотрелся.
- Края неоплавленные.
- Загадка природы. Молнии, они такие, на них многое списать можно. Непознанная стихия. Или плавиковой кислотой обмазать, всего делов.
- Стихия, да. Непознанная.
- Совершенно верно. И опасная. Вы находку свою куда прибрали?
- В кладовочку.
- Тогда я ее реквизирую, с вашего позволения. В пользу государства Российского.
- Расписочку напишите?
- Уже написана. Не мной, другими. Хотите убедиться? - он прошел в сени. Лампу оставьте.
Оставил. И топор оставил. адреналин, бессонница или еще что, но чувствовал я себя хорошо темперированным клавиром.
Раскрой и играй.
Охотник включил фонарь. Луч широкий, но тусклый. Лунный луч.
Под окном лежал человек - скрючась, прикрыв руками голову. Я перевернул тело на спину, рука ударила землю.Съемщик трассы, геодезист из зеленого фургона. в глубине распоротого живота что-то дулось и блестело.
- Дальше, - позвал охотник.
Второе тело - у забора. Тоже землемер. Тоже располосован. Приехал барин. Рядом - автомат, с широким, в бутылку, стволом.
- Дальше, дальше, - звал охотник.
Дальше, немного в стороне, лежал Вадим Валентинович.
Учитель. Два пятна на спине, небольшие, аккуратные. Входные отверстия. Без выходных. Но руки и лицо в свежей крови. Совсем свежей. Парной.
- Это он...их?
- Да. И они его, - охотник не отводил луч фонаря.
Я прикоснулся к шее Вадима. Пульс торопливый, умаляющийся.
- Он еще жив.
- Жив? - без радости переспросил охотник. - Тогда отойдите. Не обижайтесь, но вы ему не поможете.
- А вы?
- Вряд ли он будет благодарен за это, - охотник достал из кармана коробочку. - Медпомощь, чистка, - коротко сказал в нее и, мне:
- Идемте в дом. Сейчас здесь приберут.
- Мне не нравится слово - приберут. Так говорят о мусоре.
- Да? - мы опять были на кухне. - Черствею. Ладно. Раненому окажут медицинскую помощь на самом высоком уровне. Удовлетворены? - охотник бодрился, но чувствовалось - он задет. - Позвольте находочку вашу.
Я принес из кладовки ведро.
- Вот он какой, - охотник поднял крышку.
- Кто - он?
- Феникс, - охотник прикрыл ведро, вынес в сени. - Излучение грошовое, но капля камень точит.
- Феникс?
- Так его называют. Не спрашивайте, не знаю, что это. Или кто. Просто, когда он вылупится - если он действительно вылупится - грохнет ого-го! На пару мегатонн. Где-то и грелка для него должно быть.
- Какая?
- Иод - сто тридцать один, железо пятьдесят пять, что-нибудь порадиоактивней.
Я до отказа отодвинул вьюшку, распахнул поддувало. Не помогло. голова оставалась угарной. Есть может, а думать - ни-ни.
- Не переживайте, Петр Иванович, никто не знает, что это такое. Честное слово. Просто есть предположение, будто именно феникс вылупился в тысяча девятьсот восьмом году в тайге Подкаменной Тунгусски. Один... Один ученый вельможа, решил построить там инкубатор. Предполагал, что птичка не из мирных.
Вскормил ждущего. У него было два э... яичка. Второе - перед вами. Его пытались активизировать летом сорок первого - бросить на Берлин. Во-всяком случае, грелка бы немцем показала - килограммы радиоактивного иода подарочек еще тот. Но - не отправили посылку. Груз до полигона не дошел. Исчез.
- И я его нашел.
- Нашли, нашли, Петр Иванович. Главное нашли. А изотопов у нас и так, сколько душа пожелает.
- Но откуда взялся этот феникс?
- Не знаю. А и знал бы - не сказал.
- Те, за окном - они-то кто?
- Конкуренты. Распад страны, распад спецслужб. Задача один - отыскать феникса самому, задача два - помешать соседу. Любой ценой.
- И Вадим Валентинович?
- Он умница. Подключил детей, а они много видят. А тут вы. Может, настоящий доктор, а может - конкурент, как прежний.
- И приглашение в метро - ?
- Метро? А, вы о Самохатке... Туда, действительно, ходить не стоило.
- А волкособаки?
- Их давно перебили, летом. Учитель и перебил. Он... В общем, он это мог.
- Как?
- Не комментирую. Волкособаки были опасны детям, могли помешать поискам.
- Но следы? Я видел следы утром, на снегу.
- Моя собака. Охраняла вас. Умная псина.
- А вы?
- Стараюсь соответствовать.
- Я не про ум. Вы что делали?
- Что и остальные. Тянул одеяло на себя.
- Вы лучше других?
- Клясться не стану. Просто я представляю государство.
- Государство... - я посмотрел на занавеску.
- Нет там никого, - успокоил охотник. - Увезли. И находку вашу тоже. В инкубатор, на Новую Землю.
- Да ну? Двадцать пять процентов хоть дадите? Положено по закону, между прочим.
- Даже грамоты не ждите. Сознание исполненного долга - лучшая награда, - он поднялся. - И не удерживайте, пора. Служба.
А я и не удерживал.
- Последнее напутствие вам, Петр Иванович. Будут спрашивать, а будут непременно, хотя и не настойчиво, отвечайте - ничего не видел, не знаю, живу чинно-благородно. Снов своих не рассказывайте.
- Премного благодарен за совет.
- Всегда рад услужить, - он тихо притворил дверь. Я сосчитал до десяти и вышел за ним, да поздно. Тьма стала пустой, покойной. Благостной, как благостна брешь ловко выдернутого зуба, язык долго и недоверчиво ищет его, зуб, ноющий, гнилой,
но свой, а нет его. Желаете-с, протез поставим, а нет-с - и так люди живут. Как прикажете-с.
Я без опаски обошел двор, без опаски вернулся, лег. Отчего бы не поспать, а, проснувшись, не уверить себя, что не было ничего и никого. Арзамас-шестнадцать, большой такой курятник. Цыпа-цыпа.
* * *
Рвотой, уже и не кислой, а горькой, желчь одна, выплеснуло всего ничего. Облегчения не было, напротив, стало хуже, муторнее. Юлиан распрямился, постоял, унимая головокружение.
Сил нет, а идти надо. Помаленьку, помаленьку, ничего.
Заныли пальцы, отзываясь на давнишние морозы, тогда тоже казалось - не перемочь. Двигаться. Вперед.
Он шел, не замечая, что сбился, потерял путь, и идет назад, навстречу преследователям. Он вообще забыл о них, помнил лишь - идти, но куда, почему - не хотелось и знать. В светлые минуты приходила надежда - уйдет налегке, он же дома, но опять накатывала тошнота, выше и выше, паводок, все мысли исчезали, кроме одной - идти.
На человека он наткнулся внезапно, едва не наступил. Тот лежал ничком, пальцы сжимали жухлую листву. судорожно, цепко. Юлиан ухватил лежавшего за рукав гимнастерки, перевернул. Форма чужая, новая, а лицо - ношеное. Веки дрогнули, поднялись:
- Помираю...
Юлиан побрел дальше; второе тело, недвижное, перешагнул,не останавливаясь. Отраву везли. Пробили емкость пулями, она и растеклась. вот все и умирают. И он вместе со всеми. А тот груз, что он запрятал?
Юлиан сел: ноги не несли. Запрятал - куда? А, вспомнил.
Из кармашка он достал карандашик, затем расстегнул ворот гимнастерки, снял медальон, смертную коробочку, и, поверх написанного, вывел: "Груз - на хуторе Жалком, в погребе".
Буквы выходили дрожащие, большие, едва уместились. Завинтил медальон, повесил на шею и завалился, обессиленный. Теперь можно и полежать. Наши поймут, что и как. Должны.
* * *
Дыру я прикрыл картонкой, и все равно, тянуло холодом.
Чай согреет.
У медпункта остановился мотоцикл.
- Примите почту, а то некому, - почтальонша за ночь подбодрилась. Здоровая жизнь.
- Едете?
- Всех страхов не переждать.
- Я пытаюсь. Погодите минутку, я пару телеграмм напишу.
Телеграммы оказались короткими: "Согласен, еду". Дата, подпись. На приглашениях я отыскал адреса. Амстердам и Хайфа.Хотите видеть чемпиона? Увидите. И белку, и свисток.
- Отправьте международным, пожалуйста. И еще в дирекцию совхоза передайте, - я быстренько накатал "по собственному...".
- Передать не трудно, - она спрятала бумагу. - Опять тут работать некому.
- Найдется доктор, - уверил я ее. - Еще как найдется. Не было бы счастья...
- Да, - вздохнула она. - К нам на почту многие простятся из беженцев, на любую должность. Учителя, инженеры....
Она уехала.
Я повесил бинокль на шею и пошел на свой край села поглядеть, не объявилась ли, наконец, пропавшая Красная Армия, черт бы ее побрал.



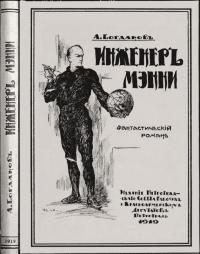
Комментарии к книге «В ожидании Красной Армии», Василий Павлович Щепетнёв
Всего 0 комментариев