Зарубежная фантастика Выпуск 1 (сборник)
Клиффорд Саймак На Землю за вдохновением
перевод И. Почиталина
Филберт заблудился. К тому же он был напуган. Это обстоятельство настораживало само по себе, потому что Филберт был роботом, а роботам эмоции неведомы.
Некоторое время Филберт обдумывал создавшееся положение, пытаясь разобраться в своих чувствах. Однако логики в них он так и не усмотрел.
Вокруг простиралась мертвая пустыня — все, что осталось от Старой Земли. Высоко над головой в иссиня-черном небе тускло светило кирпичное Солнце — атмосфера почти исчезла, и звезды сверкали нестерпимо ярким блеском. Хилая растительность, тщетно цепляющаяся за жизнь в мире, где жизни почти не было, казалось, сжималась от страха перед чувством врожденной бесплодности своих усилий.
Филберт вытянул правую ногу — и она скрипнула. Коленный сустав вышел из строя уже много часов назад. В него попал песок — очевидно, когда Филберт упал и повредил плоскость ориентировки. Потому-то он и заблудился. Тремя глазами, расположенными в верхней части головы, Филберт внимательно изучал звезды.
— Как жаль, что я ничего не знаю о созвездиях, — произнес он скрипучим от недостатка смазки голосом. — Босс утверждал, что люди пользовались ими для навигации. Впрочем, нет смысла принимать желаемое за действительное.
Ну, вот что: если он не найдет масла, ему конец. Только бы вернуться назад, к изуродованному космолету, внутри которого лежало такое же изуродованное человеческое тело. Там для него нашлось бы вдоволь масла. Но он не мог вернуться, потому что не имел представления о месте катастрофы.
Ему оставалось только брести вперед в надежде отыскать затерянный в пустыне космический порт. Раз в месяц пассажирские лайнеры доставляли на Землю паломников и туристов, стремящихся взглянуть на старые храмы и памятные места первой обители человечества. Кто знает, может быть, ему удастся набрести на одно из примитивных племен, все еще живущих на Старой Земле.
Филберт продолжал идти, скрипя правым коленом. Солнце медленно опускалось на западе, и на смену ему вставала Луна — чудовищный, изрытый оспинами мир. Тень Филберта скользила впереди, пересекая вместе с ним выветрившиеся, изъеденные временем горы, горбившиеся дюнами пустыни и белое от солончаков дно моря. Ни души вокруг.
Скрип в колене становился все сильнее. Наконец Филберт остановился, разобрал левый коленный сустав и наскреб из него немного смазки для больного колена. Через несколько дней скрипели уже оба колена. Тогда он разобрал руки, сначала одну, потом другую, и выбрал из них все оставшееся масло. Неважно, что руки выйдут из строя, лишь бы ноги продолжали двигаться!
Но затем заныло бедро, вслед за ним другое, и наконец свело лодыжки. Филберт заставлял себя идти вперед, еле действуя высохшими суставами и с трудом сохраняя равновесие.
Он наткнулся на стоянку, но люди покинули лагерь. Живительный источник иссяк, и в поисках воды племя перекочевало в другое место.
Теперь Филберт уже волочил правую ногу, и страх не покидал его.
— Я схожу с ума, — простонал он. — Меня преследуют видения, а это случается только с людьми. Только с людьми…
Его голосовой аппарат захрипел, задребезжал, связки заклинило. Нога подломилась, и он пополз. Но когда и руки отказались ему повиноваться, Филберт бессильно распростерся на песке. Струйки песка с шипением ударялись о его металлический корпус.
— Кто-нибудь меня найдет, — прохрипел он.
Но никто его не нашел. Филберт ржавел и с течением времени превратился в развалину. Сначала отказал слух, затем потухли глаза, от металлического корпуса отлетали тускло-рыжие чешуйки. Однако внутри мозговой коробки, герметически закрытой и автоматически смазываемой, мозг Филберта продолжал выполнять свою функцию.
Робот все еще жил, вернее, существовал. Он не мог двигаться, слышать, видеть, говорить — он был всего лишь вместилищем неустанно работающих мыслей. И если продолжительность человеческой жизни составляла примерно десять тысяч лет, то жизнь робота мог оборвать только несчастный случай.
Шли годы. Века постепенно складывались в тысячелетия. А Филберт послушно продолжал думать, решал гигантские проблемы, находил нужный выход из положения при самых разнообразных обстоятельствах. Наконец им овладела мысль о тщете существования.
В полнейшем отчаянии от бездействия, восстав против пыльной логики, Филберт пришел к логическому заключению, которое положило конец — хотя робота и не оставляли дурные предчувствия — самой необходимости в логике: пока он был частицей человечества, логическое мышление было его обязанностью. Теперь же, когда он больше не был связан с Человеком, его логика стала ненужной.
Педант по природе, Филберт никогда не довольствовался полумерами. Поэтому он начал выдумывать невероятные ситуации, сочинял всякого рода приключения и путешествия, принимал на веру сомнительные предпосылки и теории, играл с метафизическими представлениями. Он углублялся в невероятные измерения, разговаривал со странными существами, живущими в неведомых мирах, воевал с чудовищами, рожденными за пределами времени и пространства, спасал цивилизации, находившиеся на краю неминуемой гибели.
Мчались годы, но Филберт этого не замечал. Для него наступило счастливое время.
Джером Дункан с кислой миной взглянул на очередной отказ из редакции, осторожно взял лист со стола и принялся изучать редакторские каракули.
«Неубедительно. Слишком мало науки. Ситуации банальные. Действующие лица нежизненные. Весьма сожалею.»
— На сей раз ты превзошел самого себя! — прорычал Дункан, обращаясь к каракулям.
Мягко ступая, в комнату скользнул Дженкинс, робот-камердинер.
— Еще одна, сэр? — спросил он.
От неожиданности Дункан подпрыгнул:
— Дженкинс, что за манера подкрадываться! Ты меня нервируешь!
— Извините, сэр, — с достоинством промолвил Дженкинс. — Я вовсе не подкрадывался. Я просто заметил, что вам вернули рукопись.
— Ну и что из этого? За последнее время мне вернули массу рукописей.
— Вот именно, сэр, вот именно. Раньше их никогда не возвращали. Вы были автором лучших в Галактике книг. Настоящая классика, сэр, если мне будет позволено заметить. Ваш «Триумф роботов» был удостоен ежегодной премии, сэр, и…
Лицо Дункана просветлело.
— Да, вот это была история! Все роботы засыпали эту старую кислятину-редактора хвалебными отзывами. Конечно, можно было не сомневаться, что роботам понравится повесть. В конце концов, речь там шла о них.
Он печально взглянул на письмо и покачал головой.
— Теперь конец всему этому, Дженкинс. Дункан выходит из игры. А ведь читатели пишут письма, спрашивают обо мне. «Когда же Дункан напишет что-нибудь новое вроде „Триумфа роботов“?» И тем не менее редактор отсылает все мои материалы обратно. Неубедительно, говорит. Мало науки. Действующие лица его на устраивают.
— Могу я высказать свое мнение, сэр?
— Валяй, — вздохнул Дункан. — Высказывай свое мнение.
— Дело вот в чем, сэр, — сказал Дженкинс. — Вы уж меня извините, но вашим произведениям не хватает убедительности.
— Вот как? И что же, по-твоему, я должен с ними сделать?
— Почему бы вам не посетить места, о которых вы пишете? — предложил робот. — Почему бы вам не взять отпуск для поисков местного колорита и вдохновения?
Дункан почесал голову.
— Пожалуй, ты прав, Дженкинс, — признал он. Затем еще раз взглянул на отвергнутую рукопись, перелистал страницы.
— Вот уж на нее-то должен был бы найтись покупатель. Это рассказ о Старой Земле, а они всегда популярны.
Он отшвырнул рукопись и встал.
— Дженкинс, позвони в Галактическое агентство и узнай расписание полетов на Старую Землю.
— Но полеты на Старую Землю были прекращены еще тысячу лет назад, запротестовал Дженкинс.
— Там находятся храмы, которые люди посещали на протяжении миллионов лет.
— По-видимому, сэр, храмами никто больше не интересуется.
— Вот и хорошо! — рявкнул Дункан. — Марш отсюда и зафрахтуй корабль. Да не забудь собрать походное снаряжение.
— Походное снаряжение, сэр?
— Вот именно. Мы отправляемся на Старую Землю и будем жить в палатке: Там мы впитаем в себя столько местного колорита, что он потечет у нас из ушей!
Дункан злобно уставился на послание редактора.
— Я покажу этому старому…
Звякнул колокольчик службы новостей, и на стенной панели зажегся синий свет. Дункан нажал кнопку, из трубки в стене на письменный стол выпала газета. Он быстро развернул ее и прочитал заголовок, набранный броскими алыми буквами:
ПОХИТИТЕЛИ РОБОТОВ СНОВА ЗА РАБОТОЙ
Дункан с отвращением отбросил газету.
— Они совсем помешались на этих похитителях, — пробормотал он. — Кому нужны насколько роботов! Может, роботы сами разбегаются.
— Но они не могут убежать, сэр, — возразил Дженкинс. — По крайний мере эти роботы не могут. Я был знаком кое с кем из них. Они преданы своим хозяевам.
— В таком случае это очередная газетная кампания, — заявил Дункан. Пытаются увеличить тиражи.
— Но ведь кража роботов происходит по всей Галактике, сэр, настаивал Дженкинс. — Газеты пишут, что это похоже на действия организованной шайки. Красть роботов и снова их продавать может оказаться выгодным делом, сэр.
— Если так, — проворчал Дункан, — то скоро их поймают. Еще никому не удавалось долго водить за нос этих сыщиков.
Старый Хэнк Уоллес уставился в небо, бормоча что-то себе под нос.
— Клянусь громом, — вдруг взвизгнул он, — корабль! Наконец-то!
Он заковылял к контрольному посту порта, который размещался в сарае, потянул на себя рычаги, включающие освещение посадочного поля, и вышел наружу, чтобы еще раз взглянуть на корабль. Корабль снизился, мягко коснулся бетона и, прокатившись несколько ярдов, остановился.
Шаркая ногами, Хэнк направился к кораблю. Дыхание со свистом вырывалось из его кислородной маски. Из корабля вышел закутанный в мех человек с маской на лице.
За ним спустился робот, нагруженный пакетами.
— Эй там, привет! — крикнул Хэнк. — Добро пожаловать на Старую Землю!
Вновь прибывший посмотрел на него с любопытством.
— Мы не думали, что найдем здесь кого-нибудь.
Хэнк ощетинился.
— А почему бы нет? Это Станция галактического транспорта. Здесь всегда кто-то находится. Обслуживание круглые сутки.
— Но ведь станцию покинули, — недоумевая, сказал Дункан. — Этот маршрут отменили тысячу лет назад.
Старик замолчал, пытаясь усвоить полученную информацию.
— Вы в этом уверены? — немного погодя спросил он. — Вы уверены, что маршрут отменен?
Дункан кивнул.
— Черт побери! — взорвался Хэнк. — Я чувствовал, что что-то стряслось. Думал — вдруг война.
— Дженкинс, — приказал Дункан, — вытаскивай походное снаряжение из корабля, да побыстрее.
— Какая подлость! — не унимался Хэнк. — Какая мерзкая подлость! Заставить человека слоняться здесь тысячу лет в ожидании корабля!
Хэнк и Дункан сидели рядом, откинув стулья назад и упираясь спинами в стенку сарая. За окном на западе садилось Солнце.
— Если вы ищете атмосферу и местный колорит, — сказал Хэнк, — то правильно сделали, что приехали сюда. Некогда здесь была плодородная зеленая земля, колыбель великой цивилизации. При более близком знакомстве с этим местом ощущаешь почти священный трепет. Давным-давно, до того как люди оставили Землю ради Галактики, они называли ее Мать-Земля. Правда, потом в течение многих столетий они возвращались, чтобы полюбоваться храмами.
Он печально покачал головой.
— Но теперь все это забыто. В Истории Старой Земле уделяется всего один-два параграфа: просто упоминается, что там возникло человечество. Я даже слышал однажды, будто Человек произошел совсем не на Земле, а на какой-то другой планете.
— Очевидно, последнюю тысячу лет вам было здесь очень одиноко, сказал Дункан.
— Ну, не так-то уж и одиноко, — ответил старик. — Сначала у меня был Вильбур, мой робот. Отличный парень. Мы любили сидеть и болтать обо всем на свете. Но затем Вильбур рехнулся, шестеренка соскочила или еще что-то. Начал как-то странно себя вести, и я испугался. Дождался удобного момента и разъединил его. Потом на всякий случай вынул из головы Вильбура мозг. Вот он, лежит на полке. Время от времени я снимаю его и чищу. Вильбур был хорошим роботом.
Снаружи донесся глухой удар, затем что-то с дребезгом покатилось.
— В чем дело? — крикнул Дункан. — Что там происходит?
— Я только что нашел корпус робота, сэр, — донесся голос Дженкинса. Должно быть, я его опрокинул.
— Ты отлично знаешь, что опрокинул его! — рявкнул Дункан. — Это корпус Вильбура. Сейчас же поставь его на место.
— Слушаю, сэр, — сказал Дженкинс.
— Если вам нужны действующие лица, — продолжал Хэнк, — отправляйтесь к дну бывшего океана, это примерно в пятистах милях отсюда. Там живет племя, одно из последних на Старой Земле. Это те, для кого пожалели место на кораблях, когда человечество покидало Землю. Но то было миллионы лет назад. Сейчас мало кто из них уцелел. Единственное место, где еще остались вода и воздух, — это глубокие впадины на дне океана. В давние времена племена посильнее захватили их и вытеснили тех, кто был слаб.
— А что сталось со слабыми племенами? — спросил Дункан.
— Они вымерли, — ответил Хэнк. — Вы же знаете, без воды и воздуха жить нельзя. Впрочем, они и так живут недолго. Сто лет — их предел, а может, и того меньше. За последнюю тысячу лет, насколько мне известно, у них сменилось двенадцать вождей. Сейчас там верховодит старый гриб, называющий себя «Громовержцем». Ничего, кроме мешка с костями, собой не представляет, да и грома на Земле не слыхали по крайней мере пять миллионов лет. Но они обожают звучные имена. Между прочим, знают также массу историй, да таких, что волосы становятся дыбом.
Громовержец яростно пискнул и с трудом приподнялся. Толпа сорванцов с воплями перебрасывала какой-то круглый предмет, который попал ему по ноге. Мальчишки бросились врассыпную и исчезли за углом в облаке пыли. Громовержец со стоном медленно опустился на скамью. Он пошевелил пальцами ног, не сводя с них зачарованного взгляда, явно удивленный тем, что они двигаются.
— Эти проклятые мальчишки сведут меня в могилу, — проворчал он. Никакого воспитания. Когда бы я был на их месте, папаша всю душу бы из меня вытряс за подобные фокусы.
Дункан подобрал мяч.
— Где они нашли эту штуку, шеф? — спросил он.
— Да где-нибудь в пустыне, — сказал Громовержец. — Мы частенько находим всякий хлам, разбросанный повсюду, особенно там, где некогда были города. Мое племя неплохо зарабатывало на этом. Продавали простофилям-туристам старые вещи.
— Но, шеф, — запротестовал Дункан, — это не просто кусок металлолома. Это мозговая коробка робота.
— Да неужели? — пропищал Громовержец.
— Совершенно точно, — заверил его Дункан. — Посмотрите-ка на серийный номер, вот здесь, внизу. — Он пригляделся к номеру и свистнул от удивления. — Подумать только! Этой коробке около трех миллионов лет! Всего десять цифр. У модели нынешнего года номер состоит из шестнадцати знаков.
Дункан задумчиво подержал коробку в руках.
— А ведь он мог бы поведать нам любопытную историю, — сказал он. Наверно, провалялся в пустыне очень долго. Все старые модели были проданы на металлолом сотни лет назад. Устарели, за это время добились множества улучшений. Взять хотя бы эмоции. Три миллиона лет назад роботы не знали эмоций. Если бы мы могли подсоединить эту коробку…
— У вас ведь есть робот, — напомнил вождь.
Дункан оценивающе посмотрел на Дженкинса. Дженкинс попятился назад.
— Нет-нет, — заблеял он. — Только не это, сэр! Вы не можете со мной так поступить.
— Это же совсем ненадолго, — убеждал его Дункан.
— Мне это не нравится, — заявил Дженкинс. — Ни чуточки не нравится.
— Дженкинс! — рявкнул Дункан. — Сейчас же подойди ко мне!
Свет острием ножа пронзил мозг Филберта — всепроникающий, неумолимый свет, который смел тысячелетия пустоты. Филберт попытался закрыть глаза, но мозг слишком медленно реагировал на команды. Безжалостный свет резал глаза. Затем до него дошли звуки — пугающие звуки. Но он знал, что они что-то значат.
Наконец заслонки глаз закрылись, и Филберт замер, выжидая, пока его глаза привыкнут к свету. Вскоре он чуть-чуть их приоткрыл. И снова свет отозвался болью, но на сей раз она была не такой острой. Постепенно он приподнял заслонки. В глазах у него двоилось, все растекалось, словно в тумане. Снова послышались какие-то звуки, они разрывали барабанные перепонки. Наконец он отчетливо разобрал слово:
— Встать!
Команда дошла до его сознания. Двигательные центры, медленно и неуверенно, возобновили свою деятельность, и Филберт выпрямился. Он пошатнулся, стараясь сохранить равновесие. Внезапное перемещение его сознания из мира снов в реальный мир было пугающим. Робот сфокусировал глазные линзы. Он увидел деревню. Чуть дальше виднелся крохотный пруд, а еще дальше — ряды голых холмов. Словно уступы гигантской лестницы, поднимались они к черному небу, где висело большое красное Солнце. Перед роботом стояло несколько человек. Один из них был закутан в меха, и на его груди болталась кислородная маска.
— Кто ты? — спросил человек в мехах.
— Я… — начал Филберт и замолчал.
Кто он? Он попытался вспомнить, но его память все еще пребывала в призрачном мире, в котором он жил так долго. Ему вспомнилось одна только слово, один крошечный ключ и все.
— Я — Филберт, — сказал он наконец.
— Ты знаешь, где находишься? — спросил человек. — Как ты сюда попал? Сколько времени прошло с тех пор, как ты был жив?
— Не знаю, — ответил Филберт.
— Вот видите, — пропищал Громовержец, — он ничего не помнит. Чурбан он и все.
— Нет, — Дункан покачал головой, — просто он провел здесь слишком много времени. Время стерло его память.
Покончив с ужином, племя собралось вокруг костра, где Громовержец принялся рассказывать одну из древних легенд. Это была длинная история, отличавшаяся, как подозревал Дункан, минимальным уважением к истине. Вождь с вызовом посмотрел на Дункана, как бы подзадоривая его выразить свое недоверие.
— И тогда Ангус схватил пришельца из звездных миров голыми руками и засунул ему в рот его же хвост. Чудовище отчаянно сопротивлялось, пытаясь вырваться, но Ангус не сдавался и пропихивал хвост все дальше. В конце концов ужасная тварь проглотила самое себя!
Племя одобрительно зашепталось. Да, это была хорошая история. Неожиданно шепот был прерван хриплым голосом.
— Чепуха! — насмешливо выпалил Филберт. — Барахло, а не история!
Туземцы замерли от удивления, затем заворчали, охваченные внезапной яростью. Громовержец вскочил как ужаленный. Дункан выступил вперед и уже открыл рот для команды, но поднятая рука Громовержца остановила его.
— Может быть, ты, ничтожество, — пропищал вождь, глядя на Филберта в упор, — знаешь истории получше?
— Конечно, знаю, — ответил Филберт. — Более того, история, которую я собираюсь рассказать, — истинная правда. Все это случилось со мной.
Громовержец бросил на него разъяренный взгляд.
— Ну хорошо, — проворчал он, — рассказывай! Для твоей же шкуры будет лучше, если история окажется интересной. Помни об этом.
И Филберт заговорил. Сначала туземцы слушали его, храня враждебное выражение лиц, но по мере развития событий робот все больше завладевал их вниманием, ибо лучшей истории им никогда не приходилось слышать.
Некий безумный мир решил завоевать остальную Галактику. Человечество под руководством Филберта (в чем можно было не сомневаться) изобрело синтетического безумца, который и расстроил все планы завоевателей.
Захваченный рассказом, Дункан старался не пропустить ни слова. Вот где настоящая научная фантастика! Да, человека, написавшего такую повесть, по праву сочтут непревзойденным во всей Галактике мастером этого жанра! У него голова шла кругом, и лица сидящих перед ним людей сливались в одно. Внезапно его осенила мысль, от которой он даже побледнел.
Он, и никто другой, напишет эту повесть!
Между тем Филберт окончил своей рассказ и отступил назад, в глубину круга. Дункан схватил его за руку.
— Филберт! — воскликнул он. — Где ты услышал эту историю?
— Я ее не услышал, — ответил Филберт. — Это произошло со мной.
— Это не могло произойти с тобой, — запротестовал Дункан. — Если бы произошло что-либо подобное, История упоминала бы об этом.
— Но так было в самом деле, — настаивал Филберт. — Я говорю правду.
Дункан внимательно посмотрел на робота.
— Скажи, Филберт, — спросил он, — а ведь с тобой, наверно, случались и другие происшествия?
— Еще бы! — Филберт оживился. — Масса происшествий. Да, я побывал во многих местах и немало сделал. Хотите, расскажу?
— Только не сейчас, — поспешно сказал Дункан. — Пойдем лучше со мной.
Почти силой он вытолкнул робота из круга и направился к кораблю. Вслед им послышался яростный писк вождя:
— Эй, послушай, а ну-ка вернись обратно!
Дункан обернулся. Громовержец, вскочив на ноги, потрясал кулаками.
— Сейчас же верни робота! — кричал он. — Тебе не удастся улизнуть с ним!
— Но это мой робот, — возразил Дункан.
— Верни его немедленно! — завопил старик. — Он наш. Разве не мы нашли его? И мы не позволим тебе увести первого хорошего рассказчика, появившегося у племени за последние пятьсот лет!
— Но, шеф…
— Кому говорят, веди его обратно! Не то мы с тобой живо расправимся.
По выражению лиц туземцев было видно, что небольшая потасовка им явно по душе. Дункан повернулся к Филберту и увидел, что робот поспешно удаляется.
— Эй, ты! — крикнул Дункан, но Филберт только прибавил ходу.
— Эй! — хором завопили туземцы.
Услышав вопль, Филберт помчался быстрее ветра. Он миновал лагерь, пересек равнину и исчез из виду в тени холмов.
— А теперь полюбуйтесь, что вы натворили! — сердито крикнул Дункан. Вы спугнули его своими воплями.
Громовержец проковылял к Дункану и потряс массивным волосатым кулаком перед его носом.
— Будь ты проклят! — пропищал он. — Я готов разорвать тебя на куски! Пытался улизнуть с нашим рассказчиком! Убирайся да поживее, пока мы не поотрывали тебе руки и ноги.
— Но он такой же ваш, как и мой, — настаивал Дункан. — Не спорю, вы нашли его, но ведь это я дал ему тело своего робота…
— Пришелец, — свирепо произнес Громовержец, — залезай-ка лучше в свою консервную банку и убирайся отсюда!
— Но послушайте, — запротестовал Дункан, — вы не имеете права выгонять меня вот так, за здорово живешь.
— Кто сказал, что мы не имеем права? — проскрипел старик.
Дункан посмотрел на выжидающие, полные затаенной надежды лица туземцев.
— Ваша взяла, — сказал он. — Я и сам не намерен здесь оставаться. Можно было бы и без угроз.
Следы Филберта вели через пустыню. Старый Хэнк пробормотал что-то себе в бороду.
— Вы совсем спятили, Дункан, — немного погодя сказал он. — Вам не удастся поймать робота. Одному богу известно, где он сейчас. Он может и не остановиться, пока не пересечет полмира.
— Я должен его поймать, — упрямо заявил Дункан. — Неужели вы не понимаете, что он для меня значит? Да ведь этот робот — энциклопедия научно-фантастической литературы! История, которую он сегодня рассказал, превосходит все, что мне когда-либо приходилось слышать. А у него в запасе тьма таких рассказов. Он сам сказал об этом. Должно быть, он придумывал их, лежа в песке. За несколько миллионов лет можно немало придумать, когда у тебя только и дела, что лежать да шевелить мозгами. Если все это время он думал только о сумасшедших научных идеях, то теперь, верно, пропитан ими насквозь. Самое-то интересное: он думал о них так долго, что начисто позабыл все, что знал, и теперь убежден, будто все его необыкновенные приключения происходили на самом деле. Он не сомневается, что участвовал в них.
— Но, черт побери, — с трудом переводя дыхание, пробормотал Хэнк, можно было бы гоняться за ним в космическом корабле, а не тонуть в этом дьявольском песке.
— Вы же понимаете, что случится, если мы попытаемся выслеживать его на корабле, — сказал Дункан. — Мы полетим с такой скоростью, что не увидим его следов. А замедлить скорость нельзя, иначе корабль не сумеет преодолеть тяготение.
В этот миг Дженкинс споткнулся о валун и со страшным грохотом и дребезжанием кубарем полетел в песок.
Он с трудом поднялся, не переставая ворчать.
— Если Вильбуру приходилось таскать этот корпус, — заявил Дженкинс, то мне понятно, почему он свихнулся.
— Скажи спасибо, что хоть такой нашелся, — огрызнулся Дункан. — Если бы не он, ты бы так и оставался разъединенным. Такая перспектива тебя устраивает?
— Это ничуть не хуже, чем спотыкаться на каждом шагу в этом сооружении, сэр, — ответил Дженкинс.
— Сначала я опасался, — продолжал Дункан, обращаясь к Хэнку, — что старина Громовержец опередит меня и первым зацапает Филберта, но теперь это нам не грозит. Мы от них далеко. Туземцы не станут забираться вглубь.
— Вам бы тоже не захотелось, сэр, — пробурчал Дженкинс, — если бы вы не нагрузили на меня пару бочек воды. Мне это совсем ее нравится. Я камердинер, а не вьючная лошадь.
К вечеру Дженкинс, который шел впереди, неожиданно остановился и окликнул идущих за ним. Дункан и Хэнк поспешили к нему. Склонившись, они увидели, что к следам Филберта присоединились следы еще двух роботов.
Было видно, что произошла схватка, затем все три робота направились вперед, через дюны. Старый Хэнк пришел в неописуемое волнение.
— Но этого же не может быть! — От ужаса у него тряслись бакенбарды. На Земле нет роботов, кроме вашего Дженкинса и сумасшедшего Филберта. Правда, был еще Вильбур, но его больше нечего считать.
— Как видите, есть и еще, — сказал Дункан. — Перед нами следы трех роботов; ясно как день, что здесь произошло: два робота сидели в засаде за этими вот валунами, поджидая Филберта. Как только он подошел, они бросились на него. Филберт сначала сопротивлялся, но после короткой схватки они скрутили его и увели с собой.
Они молча глядели на следы.
— Как вы это объясняете? — наконец прошептал Хэнк.
— Я вовсе не собираюсь ничего объяснять, — огрызнулся Дункан. — Я просто пойду по их следам. Все равно Филберт от меня не уйдет, даже если это будет стоить мне жизни. Я заставлю этого старого слюнтяя-редактора выпучить от изумления глаза, когда он станет читать мои рассказы. А они все у Филберта. Так разве я могу позволить ему улизнуть?
— По-моему, вы мелете вздор, — заметил Хэнк с горечью в голосе.
— По-моему, тоже, — согласился Дженкинс и нехотя добавил: — …сэр.
Следы вели через лабиринт дюн. Но вот они нырнули в глубокую каменистую расщелину. Расщелина эта становилась все шире, и вскоре глазам путников предстала унылая долина. Некоторое время они шли прямо, затем начались извилистые повороты.
— Мне это место не нравится, — хрипло прошептал Хэнк. — Здесь прямо-таки пахнет опасностью.
Но Дункан, напряженно прислушиваясь, упрямо шел вперед: он сделал очередной резкий поворот и вдруг замер от неожиданности. Остальные двое тоже повернули и столкнулись с ним.
Со дна долины поднимались гигантские машины — могучие буровые установки, экскаваторы, шахтное оборудование. А вокруг них сновали сотни роботов!
— Бежим отсюда! — дрожащим голосом произнес Хэнк.
Осторожно, почти не дыша, они попятились назад. Дженкинс, который не отставал от них, ступил ногой в небольшую выемку и потерял равновесие. Пятисоткилограммовый металлический корпус робота грохнулся о камни с такой силой, что среди узких скал разнеслось громовое эхо.
И тотчас к ним со всех сторон бросились роботы.
— Ну вот, — обреченно сказал Хэнк, — теперь-то нам точно крышка!
Дженкинс, успевший встать на ноги, при виде приближающихся роботов воскликнул:
— Я знаю некоторых из них, сэр! Это те, которых похитили!
— Кто их похитил? — удивленно спросил Хэнк.
— Скоро узнаем, — сказал Дункан упавшим голосом. — Эти похитители самая удачливая шайка, когда-либо орудовавшая в Галактике. Они крадут роботов отовсюду.
— А я в таком виде! — простонал Дженкинс. — Друзья мне этого не простят. Я — и внутри металлолома!
— Заткни свою пасть, — гаркнул Дункан, — и они никогда тебя не узнают! А если ты еще будешь грохаться, я разъединю твой мозг и выброшу его в космос.
— Я же не нарочно, сэр, — сказал Дженкинс. — Этот корпус — самая неуклюжая штука, которую я когда-либо видел. Ничего не могу с ним поделать. А вот и они!
Перед ними стояла толпа роботов. Один из них вышел вперед и, обращаясь к Дункану, сказал:
— Рады видеть вас. Мы не теряли надежды, что кто-нибудь нас найдет.
— Найдет? — спросил Дункан. — Разве вы заблудились?
Робот опустил голову и смущенно затоптался на месте.
— Ну, не то чтобы заблудились. Мы, так сказать, совершили ошибку.
— Послушайте, — нетерпеливо начал Дункан. — Я никак не возьму в толк. Разве вы не те роботы, которых похитили бандиты?
— Нет, сэр, — признался робот. — Сказать по правде, никаких похитителей не существует.
— То есть как это не существует?! — взорвался Дункан. — А если похитителей не существует, то чем вы здесь занимаетесь?
— Мы убежали, но это не наша вина. То есть не совсем наша. Дело в том, что один писатель, который пишет научную фантастику…
— Какое отношение имеет писатель, занимающийся научной фантастикой, ко всему этому? — рявкнул Дункан.
— Он написал повесть, — сказал робот. — Имя этого писателя — Джером Дункан…
Дункан что есть силы пнул Дженкинса в голень, тот ойкнул и проглотил слова, готовые сорваться с языка.
— Он написал повесть под названием «Триумф роботов», — продолжал робот. — В ней говорилось о том, как роботы решили создать свою собственную цивилизацию.
Человеческая раса им опостылела, они считали, что люди только портят все, за что принимаются. Поэтому они решили, что убегут куда-нибудь, начнут все сначала и создадут свою великую цивилизацию, не повторяя людских ошибок.
Робот подозрительно взглянул на Дункана:
— Уж не думаете ли вы, что я вас дурачу? — спросил он.
— О, нет, — ответил Дункан. — Я и сам читал эту повесть. Мне она понравилась.
— И нам тоже, — признался робот. — Очень понравилась. Мы ей поверили. Мы все были словно в лихорадке, нам хотелось поскорее приняться за дело и осуществить то, о чем говорил этот писатель. — Он замолчал и свирепо взглянул на Дункана. — Ну, если бы он нам сейчас попался, этот Дункан! Нам бы только поймать его!
Дункан почувствовал, как сердце у него стремительно юркнуло вниз, но он ничем себя не выдал и голос его звучал по-прежнему ровно.
— Что же случилось? Разве из вашей затеи ничего не вышло?
— Не вышло! — проскрипел робот. — Всей Галактике ясно, что не вышло! Мы втихомолку бежали, несколько роботов за раз, и собирались в заранее условленном месте, Когда нас набралось порядочное количество, достаточное, чтобы загрузить корабль, мы отправились сюда. Прилетели, выгрузили оборудование и взорвали корабль. Именно так поступали роботы в книге, чтобы никто, как бы ему ни надоело, не мог улизнуть. Как бы пан или пропал, понимаете?
— Да, теперь я припоминаю книгу, — сказал Дункан. — Мне даже помнится, что роботы прилетели на Старую Землю — считали, что им следует начать с той же планеты, где родилось человечество. Вроде бы для вдохновения.
— Вот именно, — сказал робот. — На бумаги все было великолепно, а на деле оказалось на там гладко. — Этот идиот-писатель забыл об одном. Он забыл, что, перед тем как люди оставили Землю, они ободрали ее как липку, выкачали всю нефть, добыли всю руду и вырубили весь лес. Планета стала голой, как биллиардный шар. На ней ничего не осталось. Мы бурили скважины в поисках нефти — ни капли. То же с минералами. Здесь просто не с чем создавать цивилизацию.
Но это еще не все. Весь ужас в том, что еще одна партия роботов собирается на другой заброшенный мир. Мы должны остановить их, потому что им повезет не больше, чем нам. Вот почему мы так рады, что вы нас нашли.
— Но мы искали не вас, — возразил Дункан. — Мы искали робота по имени Филберт.
— Мы поймали вашего Филберта. Его заметили в дюнах и решили, что кто-то из наших пытается улизнуть. Поэтому его схватили, но вы можете поступать с ним, как хотите. Он нам не нужен. Чокнутый какой-то. Чуть было не свел нас с ума баснями о своих подвигах.
— Ладно, — сказал Дункан. — Выводите его.
— Но что будет с нами?
— А что будет с вами?
— Вы ведь возьмете нас обратно, да? Не оставите же вы нас здесь?
— Пожалуй, стоило бы бросить вас — варитесь как знаете в собственном соку, — сказал Дункан.
— Ну что ж, — ответил робот. — В таком случае вы не получите Филберта. Правда, он нам осточертел, но мы разберем его на части и выбросим в пустыню.
— Подождите-ка, — воскликнул Дункан, — вы не имеете права!
— Заберите нас с собой — и Филберт ваш.
— Но у меня нет места! На одном корабле вы все просто не поместитесь!
— Это пусть вас не волнует. Мы разъединим друг друга и оставим свои тела здесь. Тогда вам придется забрать только наш мозг.
— Но послушайте, я не могу на это пойти. Галактическое Бюро Расследований меня арестует. Они-то считают, что вас украла банда, которую они называют «Похитителями роботов». Чего доброго, меня примут за главаря.
— Если это случится, — сказал робот, — мы дадим показания в вашу пользу. Мы расскажем обо всем откровенно и спасем вас. А если вы доставите нас обратно и вас не арестуют, то вы можете заявить, что спасли нас. Мы не будем протестовать. Право же, мистер, мы готовы на что годно, лишь бы выбраться отсюда.
Дункан задумался. Предложение роботов было ему не по душе, но другого выхода не оставалось.
— Ну так как, — спросил робот, — приниматься за разборку Филберта или вы берете нас с собой?
— Так и быть, — вздохнул Дункан, — тащите сюда Филберта.
Дункан торжествующе помахал новым журналом перед лицом Филберта.
— Ты только посмотри! — ликуя, воскликнул он. — На обложку и так далее. А столбец отзывов читателей набит письмами, расхваливающими последний рассказ. Да, дружище, мы создаем настоящие шедевры!
Филберт зевнул и насмешливо поднял железные брови.
— Мы? — спросил он.
— Конечно, мы… — начал Дункан, замолчал и уничтожающе посмотрел на робота. — Послушай, ты, жестяное чудо, оставь-ка этот высокомерный тон. Ты мне и так изрядно надоел.
— До того как вы нашли меня, вам не удавалось продать ни одного рассказа, — обиженно возразил Филберт, и вы это знаете. Когда мне предоставят собственную страницу? Когда вы перестанете пожинать все лавры?
Дункан даже подскочил от негодования.
— Сколько можно говорить об этом?! Ведь я хорошо забочусь о тебе, правда? Ты получаешь все, что хочешь. Но писать рассказы буду только я! Я не собираюсь сотрудничать с каким-то роботом. Понял? И точка.
— Ну, что ж, — сказал Филберт. — В таком случае вы не получите от меня больше ни одной истории.
— Вот посажу тебя обратно в старый корпус Вильбура, — пригрозил Дункан. — Похромаешь в нем с недельку, не так запоешь.
— А если я расскажу вам новую историю, — начал торговаться Филберт, купите мне тот великолепный корпус, который мы на днях видели в магазине? Не хочу, чтобы девушки считали меня неряхой.
— Но тебе вовсе ни к чему новый корпус! — воскликнул Дункан. — Ведь у тебя их уже добрый десяток!
— Ну хорошо, — сказал Филберт, пуская в ход свой главный козырь. — Я попрошу кого-нибудь разобрать меня и спрятать. Пожалуй, так даже лучше. По крайней мере никто не будет меня отвлекать.
— Ладно, — проворчал Дункан, признавая свое поражение. — Иди, купи себе новый корпус. Купи два, если хочешь. Лишь бы ты был доволен.
— Вот это другой разговор, — сказал Филберт. — К тому же вы сэкономите деньги на смазке и чистке этого корпуса, так что нечего ворчать.
Уильям Тенн Шутник
перевод Ю. Эстрина
Есть поговорка, что из крохотных желудей вырастают огромные дубы, но почему-то не говорят о крохотных дубах, вырастающих из огромных желудей.
А ведь случается и такое. Можно не попасть в аварию, зато влипнуть, в историю. Еще не известно, что хуже.
В одно прекрасное утро, году так в 2208-м, некий неглупый, жизнерадостный, но слишком уж изворотливый молодой человек проснулся и обнаружил, что погорел на собственной гениальной идее.
Вот обидно!
Давным-давно, в самом начале девятисотых годов, люди вдруг обнаружили, что холодным осенним вечером куда приятнее завести дома граммофон, чем в дождь и слякоть тащиться в оперетку. Примерно тогда же домовладельцы, проявляя заботу о кулаках гостей, принялись покупать электрические звонки, а немного погодя появилась возможность открывать дверь и впускать в дом человека, стоящего на улице, простым нажатием кнопки.
В лабораториях ученые уже возились с первыми фотоэлементами.
Радио и кинематограф поделили между собой рынок развлечений. Тем временем боссы сообразили, что диктофон в отличие от стенографистки не делает ошибок, а механический сортировщик писем способен заменить целую армию клерков. Какая невеста в разгар телевизионного помешательства не мечтала об автоматической кухне, беспрекословно повинующейся небрежно брошенному приказу поджарить ростбиф к определенному часу, поливая его через столько-то минут такой-то подливкой? Более роскошные модели были даже снабжены регуляторами ароматов — и делали салат по рецепту знаменитого повара чуть-чуть лучше, чем сам повар.
Затем появилась Система Универсальной Передачи Энергии по Радио (СУПЭР), телевизор освоил третье измерение, переименовал себя в теледар и так подешевел, что стал по карману самому бедному эскимосу, а теледарение — это уж так, к слову, — оказалось единственной отраслью промышленности, где актеры еще умудрялись зарабатывать себе на пропитание.
Итак, теледар развлекал, роботы с СУПЭР-питанием хлопотали по хозяйству, автоматические пассажирские ракеты летали во все уголки Солнечной системы точно по расписанию… Словом, что еще оставалось желать человеку?
И вот в одно прекрасное утро… да, в году 2208-м…
В гостиной комика Лэсти (из программы «Смейтесь вместе с клоуном Лэсти») на мгновение замерцал дверной экран, висящий над бесценной антикварной батареей отопления. В следующую секунду на экране появилось изображение плечистого крепыша в каске с надписью «Услуги на дому». Большой желтый ящик у его ног заполнял собой почти весь экран.
— Комик Лэсти? Я из фирмы «Рольг — Ремонт и Переделка Роботов». Получите своего универсального дворецкого. По вашему требованию мы его начинили всякими приставочками. Только сначала дайте расписку, что отказываетесь от претензий и всю ответственность за возможные убытки берете на себя.
— Б-р-р-р, — рыжеволосый молодой человек помотал головой, стряхивая остатки сна, и его лицо приняло озабоченное выражение. — Да я хоть свой смертный приговор подпишу, лишь бы этот робот умел делать то, что надо. Эй, дверь, — крикнул он, — двадцать три, слышишь, двадцать три!
Дверь быстро скользнула вверх. Механик щелкнул тумблером гравитационного излучателя, ящик плавно вплыл в комнату и легонько стукнулся о противоположную стенку.
Лэсти нервно потер руки:
— Надеюсь…
— Вот уж не думал, не гадал, мистер Лэсти, что простому парню вроде меня доведется повидать вас. Оно, конечно, при нашей работе каких только знаменитостей не насмотришься! Вчера вот, к примеру, я отвез двух роботов самому комиссару полиции! Мы их оборудовали детекторами лжи и даже медные лбы им приделали, чтоб они совсем уж на фараонов стали похожи. Моя хозяйка лопнет от зависти, как прослышит, что я разговаривал с самым главным комиком теледара… Знаете, мистер Лэсти, она у меня всегда говорит…
— Никаких мистеров. Просто Лэсти… Клоун Лэсти — смеемся вместе!
Механик весь расплылся в улыбке:
— Ну, точь-в-точь как на экране…
Он направил излучатель на ящик и повернул тумблер в положение «распад».
— Знаете, у нас один парень стал трепать языком, будто вы хотите, чтобы робот сочинял за вас всякие шуточки. Ну, я его и спросил: «А по морде не хочешь?» Уж я-то знаю, что вы свои шуточки с ходу выдаете.
— Вот именно! — Изумление. Громкий смех. — Подумать только: «клоун Лэсти — смеемся вместе» заказывает шутки! Чего не наговорят злые языки?! Да знаете, как меня зовут поклонники? «Король шутки, принц прибаутки, острот полон рот, что ни слово — экспромт». И чтобы я после этого работал по подсказке? Какой вздор! Просто мне в голову пришла бесподобная идея: величайшему комедианту Западного полушария прислуживает робот-остряк. Ха! Ну-ка, поглядим на него.
Раздался легкий треск — это дезинтегрирующий луч обратил желтый ящик в пыль. Когда облачко пыли осело, их взгляду предстал робот пяти футов росту из темно-красного металла.
— Вы его изуродовали! — негодующе воскликнул Лэсти. — Я послал на переделку последнюю модель 2207, обтекаемой формы, с новехоньким цилиндрическим туловищем. А вы мне возвращаете какую-то металлическую грушу… Черт-те что… не робот, а сплошное брюхо! Да еще и кривоногий!
— Послушайте, сэр! Ваш список анекдотов не влезал в него даже после записи на микропроволоку! Пришлось нашим техникам малость расширить нижнюю половину его туловища. А вы еще просили, чтобы робот умел перелицовывать остроты. Пришлось ребятам повозиться, пока они не сварганили специальную приставочку — вариационный преобразователь, так они ее назвали. Отсюда — дополнительный вес, дополнительный объем. Позвольте мне его включить.
Механик вставил изогнутый иридиевый стержень — универсальный роботехнический ключ — в скважину на затылке робота. Два полных оборота, щелчок, и внутри робота послышалось слабое гудение работающих механизмов. Металлические руки символическим жестом покорности прижались к металлической груди. Изогнутые брови взметнулись кверху. Рот вопросительно приоткрылся.
— Ух ты! — изумился механик. — Вот это физиономия — до чего важный! А как высокомерно смотрит!
— Это все выдумки моей невесты, — гордо сказал Лэсти. — Джозефина Лисси, знаете, та самая, что поет в моих программах. Она утверждает, что именно так выглядел в старину дворецкий… совсем как в древней Англии. Она даже имя ему придумала подходящее. А ну, Руперт, выдай анекдотик.
— Какой, сэр? — проскрипел Руперт.
Голос его то поднимался, то опускался, наподобие синусоиды.
— Какой хочешь. Попроще да посмешнее, из дорожной серии.
— Гинсберг впервые летел на Марс, — начал Руперт. — Ему указали столик в отсеке-ресторане и сообщили, что его соседом будет француз. Тот…
Механик постучал по металлической груди.
— Вот еще одна приставочка — мезонный фильтр. Вы хотели, чтобы он различал заряд смеха в своих шутках и приспосабливал их к аудитории, в какую бы копеечку это ни влетело. А нашим инженерам только подавай задачку потруднее: в лепешку расшибутся, а уж сварганят что надо.
— Коли так, то моим дружкам-юмористам придется кусать локти, — злорадно пробормотал Лэсти. — Посмотрим, кто будет смеяться последним: клоун Лэсти или эти жадюги Грин с Андерсеном. И добро бы еще писать умели!
— …француз, увидев, что Гинсберг уже сидит за столом, остановился, щелкнул каблуками и низко поклонился. «Бон аппетит», — сказал француз. Гинсберг, не желая ударить лицом в грязь, привстал и…
— Мезонный фильтр, говорите? Что ж, хоть вы и содрали с меня галактическую сумму, но, если Руперт сделан так, как задуман, это окупится. Зря только вы испортили ему фигуру.
— …повторялся этот краткий диалог. Наконец, в последний день путешествия Гинсберг разыскал стюарда и попросил объяснить ему…
— Мы бы и получше все разместили, если бы не такая спешка. Но вы требовали вернуть его в среду, и ни днем позже.
— Да. Сегодня я выхожу в эфир. Мне необходимо… вдохновение, которое даст мне Руперт. — Лэсти нервно взъерошил волосы. — Похоже, он в форме.
— …подошел к французу, который уже сидел за столом. Гинсберг щелкнул каблуками, поклонился и произнес: «Бон аппетит». Француз в восторге вскочил с места…
— В таком случае будьте добры подписать эту бумажку. Обычная расписка по установленной форме. Вы принимаете на себя полную ответственность за все действия робота. Без этого я не имею права его вам оставить.
— О чем речь? — воскликнул Лэсти. — Подпишем все, что вам угодно.
— …«Гинсберг»! — воскликнул француз.
Руперт умолк.
— Недурно. Хотя и не совсем то, что надо. Я бы хотел… Разрази меня атом, это еще что такое? — Лэсти даже подпрыгнул от неожиданности.
Робот, застыв на месте, скрипел, взвизгивал и скрежетал шестеренками, словно разваливался на части.
— Ах, это? — махнул рукой механик. — Маленькая недоделка. Не успели устранить из-за спешки. Насколько удалось выяснить, это побочный эффект мезонного фильтра. Робот отличает шутки просто забавные от очень смешных. Как сказано в спецификации, «электронная дифференциация гротескного». У человека это называют чувством юмора. Ну а у робота, так сказать, выхлоп заедает.
— М-да, не приведи Господь услышать этот скрежет с похмелья. Робот, хохочущий над собственными шутками. Б-р-р, что за звуки! — Лэсти поежился. — Эй, Руперт, смешай-ка мне Лунный Трехступенчатый.
Металлическая громадина повернулась и, переваливаясь на кривых ногах, направилась в кухню. Глядя на качающуюся походку робота, оба зрителя не смогли удержаться от смеха.
— Вот вам за труды. Жаль, у меня нет больше мелочи. Хотите пачку «Звездочета»? Мой рекламодатель завалил меня сигаретами по самую макушку. Вам с каким ароматом — лакрицы или кленовых орешков?
— Я обычно беру с лесными яблоками. И хозяйка моя тоже… Премного вам благодарен. Надеюсь, вы останетесь довольны.
Механик сунул излучатель в карман и вышел.
— Три двадцать! — вслед ему крикнул Лэсти. Дверь бесшумно скользнула вниз.
Руперт приковылял в гостиную, держа в руках причудливо изогнутую спиральную трубку, заполненную белой, желтой и зеленой жидкостями. Комик залпом опорожнил ее, шумно выдохнул воздух и пригладил волосы.
— Вот это да! Отрава — что надо! Тот парень, что смастерил твой коктейльный блок, был не дурак по части электроники. А теперь слушай: я не слишком хорошо представляю, как тебя втравить в это дело… Впрочем, ты ведь умеешь читать. Вот сценарий сегодняшней передачи; моих импровизаций в нем, разумеется, еще нет. Перепечатай для меня сценарий и к каждой подчеркнутой реплике сочини какую-нибудь шутку. Я их выучу и по ходу передачи буду выдавать за свои экспромты. Впрочем, тебе это знать ни к чему. Иди работай.
Робот беспрекословно перелистал сценарий, мгновенно запечатлев каждое слово в своей электронной памяти. Затем бросил сценарий на пол и направился к электрической пишущей машинке. Подойдя, он отшвырнул стул. Его металлические ноги вдвинулись внутрь туловища как раз настолько, что руки оказались на уровне клавиатуры. Пальцы забарабанили по клавишам. Из машинки один за другим вылетали отпечатанные листы.
Лэсти восхищенно смотрел на робота.
— Если он пишет хоть вполовину так же смешно, как быстро, — дело в шляпе! — Комик нагнулся и подобрал с пола брошенную Рупертом пачку сценарных листов. — Никогда с ним прежде такого не бывало. Пока его не отдали в ремонт, более аккуратной и чистоплотной машины не существовало на всем белом свете — вечно подбирал за мной каждую соринку. Что ж, у гениев свои причуды!
Будто в ответ на эти слова зазвонил телефон. Лэсти улыбнулся и поймал трубку, спрыгнувшую с потолка прямо ему в руки.
— Радиоцентр, — произнесла трубка. — Вас вызывает мисс Джозефина Лисси. Чьим кодом будете пользоваться: вашим или ее?
— Моим. Ка — сто тридцать четыре — Эл. Прием.
— Переключаю код. Говорите.
Радиофон издал несколько щелчков, настраиваясь на личный код Лэсти; этой же волной могли пользоваться миллионы людей, но кодирующее устройство позволяло разговаривать, не боясь подслушивания. На крохотном экранчике, вделанном в радиофон, появилась девушка с копной таких же, как у Лэсти, волос морковного цвета.
— Привет, Рыжик, — улыбнулась она. — Угадай, что я скажу? Джози любит Лэсти.
— Умница ты моя! Погоди, я переключу изображение. От этого экрана у меня болят глаза. Он так мал, что ты в нем не помещаешься.
Лэсти повернул рычаг радиофона и включил дверной экран. Аппарат прыгнул в свое гнездо на потолке. Комик нажал кнопку на пульте у двери и со вздохом удовлетворения опустился на кушетку. На большом экране над поддельной батареей отопления появилась жизнерадостная Джозефина Лисси.
— Послушай, мой затейник, нам не до любовных нежностей. Сейчас я перейду прямо к делу. Грин и Андерсен проболтались Гаскеллу.
— Что?! — Лэсти вскочил на ноги. — Да как они смели! Я на них в суд подам! В нашем контракте специально оговорено: публика не должна знать, что они работают на меня.
— Что толку, — пожала плечами Лисси. — К тому же они проболтались не публике, а Гаскеллу. Но ты и этого не докажешь. Мне шепнули, что Гаскелл вне себя от ярости и повсюду ищет тебя. Грин и Андерсен убедили его, что без их шпаргалки к сценарию ты и двух слов связать не сможешь. Гаскеллу до лампочки — экспромты это или заученный текст, но он боится сесть в лужу со своей первой рекламной передачей.
— Не волнуйся, Джози, — улыбнулся Лэсти, — еще повезет…
— Что это? — вскрикнула Джози. — Клянусь любимой космической оперой покойной бабушки, в жизни не слышала ничего подобного!
То, чего в жизни не слышала Джози, было душераздирающей какофонией из скрежета, лязга, звона металла и пронзительных гудков. Лэсти быстро обернулся.
Руперт кончил печатать. Темно-красными пальцами он держал длинные листы законченного сценария и трясся мелкой дрожью.
— Г-р-р, бум, бам! — доносилось из его нутра. — Бинг! Банг! Бонг! К-р-р-рум!
Казалось, камнедробилка перемалывает бетономешалку.
— А-а, это Руперт! У него выхлоп заедает — вроде чувства юмора у людей. Конечно, он не человек, но, похоже, ему до смерти нравятся собственные шуточки. Эй, Руперт, поди-ка сюда!
Робот перестал громыхать и, поднявшись во весь рост, зашагал к дверному экрану.
— Когда его привезли? — спросила Джози. — Они начинили… Ой, как же его изуродовали! У него такой вид, словно он болен водянкой, да еще нацепил набрюшник. А куда делось высокомерное выражение лица? А вся его важность? Он теперь грустный-грустный. Бедняжечка Руперт!
— Пустая игра воображения, — ответил Лэсти. — Руперт не в состоянии изменить выражение лица, даже если захочет. Чтобы выполнять обязанности камердинера, ему нужно не больше фантазии, чем часам для показа времени. А сейчас он заодно еще и ходячий каталог острот, снабженный этим… как его… вариационным преобразователем… Пусть даже у него есть имя, а не просто серийный номер, как у других домашних машин, это еще не значит, будто он способен что-то чувствовать.
— И вовсе нет. Руперт все чувствует. Ведь правда, Руперт? — проворковала девушка. — Ты меня помнишь, Руперт? Меня зовут Джози. Как ты поживаешь?
Робот молча смотрел на экран.
— Из всех вздорных женских выдумок…
Что-то лязгнуло. Это Руперт цокнул каблуком о каблук. Туловище его согнулось в чопорном поклоне.
— Гинс… — начал он.
Голова его продолжала величественно опускаться и наконец с громким стуком ударилась об пол.
С Джози от хохота чуть не сделалась истерика. Лэсти хлопал руками себя по бедрам. Руперт замер, образовав прямоугольный треугольник, вершиной которого оказалась расширенная часть его туловища.
— …берг, — докончил Руперт, упираясь головой в пол.
Он не делал попыток подняться. Внутри у него что-то задумчиво жужжало.
— Ну ладно, — проворчал Лэсти, — не собираешься ли ты весь день валять дурака? Вставай!
— Он нне ммо-жжет, — взвизгивала Джози, — они сместили ему центр тяжести, и он не может встать. Если тебе когда-нибудь удастся выкинуть такой же потешный трюк по теледару, то двести миллионов ни в чем не повинных зрителей помрут со смеху.
Комик Лэсти скорчил гримасу и нагнулся над роботом. Он обхватил его за плечи и потянул вверх. Медленно и очень неохотно Руперт выпрямился. Он ткнул пальцем в экран.
— С девицей этой проживешь беспечно жизнь свою, — начал он металлическим речитативом, — в ад после смерти попадешь — решишь, что ты — в раю!
— Заткнись! — рявкнул Лэсти. — Слышишь, что я говорю? Заткнись!
Роботом овладел новый пароксизм шестереночного скрежета. Лэсти обиженно надулся.
— Мой прекрасный старинный кафельный пол! Такого кафеля середины ХХ века нет ни у кого в нашей башне! Посмотрите, во что он его превратил! Дыра размером с…
— Сто раз тебе объясняла, — затараторила Джози, — что в ХХ веке кафельные полы делали только в ванных комнатах. Иногда на кухне, но чаще всего в ванных. А твоя поддельная батарея и секретер с раздвижной крышкой — вообще из других эпох; у тебя нет никакого чувства старины. Вот погоди, дружочек, обменяемся колечками да кинем друг в друга по пригоршне риса, и ты узнаешь, как выглядел жилой дом эпохи президента Рузвельта. Кстати, как тебе нравятся шутки Руперта — те, что на бумаге?
— Еще не знаю. Он только что кончил печатать. Отключайся, Джози. Кто-то пришел. Зайди за мной перед выступлением, как обычно. Пока.
По сигналу хозяина робот проковылял к двери и сказал: «Двадцать три». И тут почти одновременно произошли два события: в комнату вошел механик фирмы «Рольг», и голова Руперта стукнулась о пол.
Лэсти вздохнул и еще раз выпрямил Руперта.
— Надеюсь, он не собирается бить поклоны всякий раз, когда кто-то войдет в комнату? Так он мне весь кафель перебьет.
— А он уже выкидывал эту шутку? Скверное дело. Ведь все основные контрольные блоки у него в голове, и они еще как следует не притерлись друг к другу. Соскочит какая-нибудь шестеренка, и привет! Хотите, я отвезу его в мастерскую на переналадку?
— Некогда. Через два часа я выхожу в эфир. Кстати, вы вмонтировали ему в лоб блок письменной развертки?
— А как же, — кивнул механик. — Видите узенькую зеленую пластинку над бровями? Когда захотите, чтобы он не говорил, а писал, сдвиньте ее в сторону или прикажите, чтобы он сам ее сдвинул. Слова будут проплывать по экрану, вроде как на щитах световой рекламы. Ах да, я же вернулся за ключом! Вот так история, забыл универсальный ключ у него в затылке — прямо хоть на фабрику не возвращайся.
— Забирайте свой ключ. Я жду посетителя.
Лэсти повернулся и увидел, как в открытую дверь влетел коренастый человечек в полосатой тунике.
— Здравствуйте, мистер Гаскелл. Присядьте, пожалуйста. Я освобожусь через секунду.
— Давай ключ, — обратился к роботу механик.
Руперт вытащил у себя из затылка универсальный роботехнический ключ и протянул руку. Механик тоже протянул руку. Руперт уронил ключ.
— Что за черт? — удивился механик. — Если бы я не знал, что это невозможно, я бы поклялся, что это он нарочно.
Механик нагнулся за ключом. Робот быстро протянул руку. Механик как ошпаренный выскочил за дверь.
— Не смей! — завопил он. — Вы видели, что он собирался сделать? Какого…
— Три двадцать, — сказал Руперт.
Дверь упала на место, и механик так и не закончил фразы. Робот вернулся в гостиную, чуть слышно жужжа и пощелкивая. Выражение его лица было еще печальнее прежнего. К грусти примешивалось легкое разочарование.
— Два Лунных Трехступенчатых, — приказал хозяин. Робот поплелся на кухню готовить коктейли.
— Послушайте-ка, Лэсти, — загудел Джон Гаскелл неожиданно громким голосом, — не люблю ходить вокруг да около. Я понятия не имел, что на вас работают наемные юмористы, пока Грин и Андерсен не пожаловались мне, как вы их прижали с деньгами, а когда они отказались батрачить за гроши, выставили их на улицу. Они утверждают, что сделали из вас самого высокооплачиваемого комика в Западном полушарии, и в этом я с ними совершенно согласен. Так вот, сегодняшняя передача — это всего лишь проба…
— Выслушайте меня, сэр. До того как я связался с этими грабителями, я сам готовил свой репертуар. Да и работали они исключительно на моем запасе шуток. Они пытались сорвать с меня больше, чем я сам зарабатываю, — вот почему я выставил их за дверь. Я по-прежнему умею импровизировать не хуже кого другого.
— А мне плевать, импровизируете вы или рассказываете свои сны. Мне нужно одно: когда публика смотрит мою программу, она должна смеяться. Побольше смеха — и она любую рекламу проглотит не поморщившись. Впрочем, я совсем не то хотел сказать…
Гаскелл выхватил у Руперта спиральный бокал и единым духом осушил его. Ни один мускул не дрогнул на его лице.
— Безвкусная водичка. Градусов не хватает! Мало огня!
Несколько секунд робот задумчиво разглядывал бокал, затем повернулся и заковылял на кривых ногах к кухне.
Лэсти мысленно позволил себе не согласиться с президентом корпорации «Звездочет». Каждая капля коктейля буквально убивала наповал. Впрочем, «Клуб хозяев планеты», где жил Гаскелл, славился крепостью своих напитков.
— Единственное, что меня интересует, — продолжал Гаскелл, — сумеете вы сделать сегодняшнюю программу смешной без помощи Грина и Андерсена или не сумеете? Может, вы и великий комик, но, как говорят у вас на теледаре, довольно одного провала — и славы как не бывало. Если после сегодняшней пробы «Звездочет» не подпишет с вами условленного тринадцатинедельного контракта, то вы опять скатитесь к утренним рекламам наркотиков.
— Разумеется, мистер Гаскелл, вы совершенно правы. Только прошу вас — сначала посмотрите мой сценарий, а уже потом делайте замечания. — Лэсти вытащил из электрической машинки длинные сценарные листы и вручил их коротышке.
Рискованный шаг. Кто знает, какую чушь мог сочинить Руперт? Но что поделаешь, читать текст не было времени. Авось Руперт вывезет.
О качестве сценария можно было судить по реакции Гаскелла. Президент «Звездочета» подпрыгивал на антикварном стуле, содрогаясь от хохота.
— Чудесно! Восхитительно! — По щекам Гаскелла текли слезы. — Просто колоссально! Должен перед вами извиниться, Лэсти. Вам и впрямь не нужны наемные юмористы. Вы прекрасно пишете сами. А вы успеете до передачи выучить текст?
— За это не беспокойтесь, сэр. Перед срочной работой я всегда принимаю таблетку инфраскополамина. А на случай, если и вправду понадобится экспромт, у меня есть робот.
— Робот? Вот эта образина? — Гаскелл ткнул пальцем в Руперта, который, стоя за его спиной, заглядывал в сценарий и тихонько жужжал. Взяв у Руперта бокал, Гаскелл сделал несколько глотков.
— Да, сэр. В нижней половине его туловища хранится огромный запас шуток. Во время передачи робот будет стоять в стороне, и, как только понадобится экспромт, — глядишь, он уже у него на лбу написан. Мистер Гаскелл! Что с вами?!
Но тут Гаскелл внезапно выронил бокал. Причудливо изогнутая спираль лежала на полу, и из нее вился черный дымок.
— Нап-ппи-тток, — хрипло пробормотал Гаскелл. Лицо его, поочередно принимавшее красный, зеленый и лиловый оттенки, остановилось на компромиссном решении и пошло цветными пятнами.
— Где… где у вас?..
— Сюда! Вторая дверь налево!
Маленький человечек, согнувшись в три погибели, выскочил из комнаты. Тело его обмякло, словно у потрепанной ватной куклы.
— Что с ним? — Лэсти понюхал поднятый с пола бокал. — Апчхи!
До него вдруг дошло, что Руперт тихонько жужжит и лязгает.
— Руперт, чего ты сюда намешал?
— Он сам просил покрепче и поострее…
— ЧЕГО ТЫ СЮДА НАМЕШАЛ?
Робот задумался.
— Пять частей касторки… з-з-з-здин-дон… три части уксусной эссенции… бинг-бонг… четыре части красного перца, к-р-р-ранг-гр-румм… одну часть рво…
Лэсти свистнул, и с потолка спрыгнула трубка радиофона.
— Радиоцентр? «Скорую помощь», да поскорее! Клоун Лэсти, «Башня Артистов», квартира тысяча шестая.
Лэсти выскочил в прихожую и бросился на помощь своему гостю.
При виде цветовой гаммы на лице Гаскелла врач покачал головой:
— Помогите уложить его на носилки, и срочно в госпиталь.
Гравитационным лучом врач поднял носилки и повел их к двери мимо Руперта, стоящего в углу.
— Надо думать, съел что-нибудь несвежее, — проскрипел тот.
— Шут гороховый! — Врач кинул на робота свирепый взгляд.
Лэсти торопливо выпил один за другим три Лунных Трехступенчатых. Смешивал их он сам. С помощью двойной дозы инфраскополамина к приходу Джози ему удалось вызубрить свои экспромты. Руперт открыл ей дверь. Динг! Бам!
— Весь день он только этим и занимается, — проговорил Лэсти, в очередной раз выпрямляя робота. — И дело не только в том, что он расколотил весь мой кафельный пол. Того и гляди, у него в голове развинтится какой-нибудь винтик. Разумеется, мне он повинуется беспрекословно, жертвами его розыгрышей до сих пор были…
Руперт что-то покатал во рту. Губы его вытянулись трубочкой, щеки сложились гармошкой морщинок. Он сплюнул.
По полу запрыгала медная шестигранная гаечка. Все трое молча смотрели ей вслед. Наконец Джози подняла голову:
— Каких еще розыгрышей?
Лэсти рассказал о случившемся.
— Ну и ну! Твое счастье, что по контракту ты за последствия своих шуток не отвечаешь. Не то Гаскелл затаскал бы тебя по судам. Будем надеяться, что он выживет. Иди одевайся.
Лэсти прошел в соседнюю комнату и принялся натягивать на себя красный с блестками клоунский костюм.
— Что у тебя сегодня в программе? — крикнул он.
— Мог бы сам прийти как-нибудь на репетицию и послушать.
— Приходится поддерживать свою репутацию импровизатора. Так что же ты поешь?
— Арию «Странствую в пространстве я» из последней новинки Гуги Гарсия «Любовь за поясом астероидов». Послушай, твой робот, может, и в самом деле отличный писатель-юморист, но как дворецкий он никуда не годится. Сколько мусора на полу! Бумажки, сигареты, спирали для коктейлей! Вот погоди, молодой человек, соединим мы с тобой наши судьбы…
Она умолкла и, нагнувшись, принялась подбирать мусор. Руперт, стоя сзади, сосредоточенно глядел ей в спину. Внутри робота что-то загудело. Г-р-р…
Стремительными шагами Руперт пересек комнату. Его правая рука поднялась и обрушилась на Джози.
— Ай! — завопила Джози, подпрыгнув до потолка. Опустившись на пол, она круто обернулась. Ее глаза метали молнии.
— Кто это сме… — угрожающе начала она и тут заметила Руперта, который, все еще протягивая вперед руку, звенел и жужжал своими металлическими внутренностями.
— Да ты, никак, издеваешься надо мной?! Тебе смешно?! Ах ты, ржавый нахал! — В ярости она бросилась к роботу, чтобы закатить ему пощечину.
Выскочивший Лэсти увидел ее руку, занесенную над головой робота.
— Джози! — испуганно закричал он. — Только не по голове!
Бам-м-м!!!
— Думаю, мисс Лисси, все обойдется благополучно, — сказал врач, — недельки две подержим вашу руку в гипсе, а потом — снова на рентген.
— Джози, мы опоздаем в студию, — нервничал Лэсти. — Очень жаль, что так вышло.
— Ах, тебе жаль? Так вот, заруби себе на носу: я с места не сдвинусь, пока ты не избавишься от Руперта.
— Джози, радость моя, золотко мое, да знаешь ли ты, как здорово он сочиняет!
— А мне плевать! Меня дрожь пробирает при мысли, что он будет жить в одном доме с моими детьми. По Закону о роботах ты же обязан держать его в своем доме. По-моему, он у тебя свихнулся на почве юмора. Мне это не нравится. Так что выбирай: или я, или этот недовинченный остряк-самоучка.
В ожидании ответа Джози поглаживала гипсовую повязку на руке.
Так вот, Руперт — несмотря на все странности и причуды — гарантировал Лэсти блестящую карьеру комического актера. Больше ему не придется беспокоиться о репертуаре. Будущность его обеспечена. С другой стороны, Лэсти не был уверен, что на свете есть хоть одна женщина, которая может сравниться с Джози. Она воплощала собой его мечту об идеальной женщине. Только с нею он найдет свое счастье.
Это был простой и недвусмысленный выбор между богатством и любимой женщиной.
— Ладно, — пробормотал он наконец, — надеюсь, мы останемся друзьями.
Когда Лэсти вошел в студию, Джози уже заканчивала свою песенку. Отойдя от микрофона, она не удостоила комика даже взглядом. Началась рекламная вставка.
Лэсти поставил Руперта у дальней стены, рядом с режиссерской будочкой, где темно-красная фигура робота не могла попасть в поле зрения телекамер. Затем он присоединился к группе актеров, ожидавших под выключенной камерой окончания рекламы, после чего им предстояло разыграть небольшой водевиль.
Наконец захлебывающийся от восхищения диктор отчеканил последнее слово рекламного текста. На сценическую площадку выскочил вокальный квинтет сестер Глоппус, и грянул финал:
Любовь, богатство и почет Вам обеспечит «Звездочет». Зачем курить траву и вату? На выбор сотня ароматов — От вишенки до шоколада… Ура! Ура! Ура! О ра-а-а-а-дость!Телекамера над головой Лэсти засветилась разноцветными лампочками, и представление началось. Сюжет не отличался замысловатостью — любовь на заправочной станции Фобоса. Лэсти не был занят в пьесе — по ходу действия он комментировал ее своими шутками.
А шутки сегодня были что надо — смеялся даже режиссер передачи. То есть, конечно, не смеялся — об этом не могло быть и речи, — но иногда на его лице появлялась улыбка. А уж если улыбается режиссер, то зрители во всем Западном полушарии животы со смеху надрывают. Эта истина столь же непреложна, как и тот факт, что третий вице-президент теледара вечно становится жертвой самых гнусных розыгрышей — явление, хорошо известное всем социологам как «эффект Сбросьпарсона».
Время от времени Лэсти поглядывал на робота. Его беспокоило, что это создание вертит своей железной башкой по сторонам. В какой-то момент робот даже повернулся спиной и сквозь прозрачную дверь принялся рассматривать пульт режиссерской будочки. На случай, если понадобится экспромт, Лэсти заранее сдвинул зеленую заслонку.
Экспромт понадобился совершенно неожиданно. Вторая инженю вдруг запуталась в монологе, начинавшемся словами: «И вот когда Гарольд рассказал мне, что он приехал на Марс, потому что ему опротивела милитаристская и бюрократическая государственная система…», перешла на скороговорку, несколько раз пробормотала: «И тут я ему сказала… да, я ему так и сказала… не могла ему не сказать…», запнулась и принялась судорожно кусать губы, вспоминая забытую реплику.
В контрольной будочке пальцы режиссера бесшумно пробежали по клавиатуре, и выпавшая строчка вспыхнула на экране под потолком. В студии воцарилась мертвая тишина. Все с надеждой ожидали, что Лэсти своим экспромтом заполнит убийственную паузу.
Лэсти обернулся к роботу. Какое счастье! Тот стоит к нему лицом. Прекрасно! Теперь вопрос, сработает ли мезонный фильтр.
На лбу Руперта появилась надпись. По мере того как слова проплывали по экрану, Лэсти произносил их вслух:
— Послушай, Барбара, а знаешь, что случится, если ты будешь плохо кормить своего Гарольда?
— Нет, не знаю, — ответила актриса, добросовестно подыгрывая Лэсти и пытаясь одновременно затвердить забытую строчку. — Что же тогда случится?
Из угла донесся громовой голос Руперта:
— Он решит, что у тебя котелок не варит!
Гоготала студия. Гоготал Руперт. Только у него это звучало так, словно он разваливался на части. По всему Западному полушарию зрители бросились к гудящим, скрежещущим и лязгающим теледарам, пытаясь обуздать закусившую удила электронику.
Даже Лэсти расхохотался. Превосходно! Куда тоньше, чем тот хлам, которым пичкали его Грин с Андерсеном, но и с тем грубоватым привкусом старого фермерского остроумия, на котором замешана настоящая клоунада. Этот робот просто клад…
Стоп! А ведь Руперт не подсказал ему реплику — он сам ее произнес. Зрителей рассмешил вовсе не клоун Лэсти — они смеются над Рупертом, хотя и не видят его на экране. Что же это творится?..
Наконец пьеска кончилась, и камеры переключились на Джозефину Лисси и ее оркестр.
Лэсти воспользовался коротким перерывом, чтобы свести счеты с Рупертом. Он повелительным жестом указал роботу на пультовую:
— Убирайся туда, чучело огородное, и не смей носа высовывать, пока не кончится передача! Приберегаешь свои шуточки для себя, мерзкая железяка? Кусаешь руку, которая тебя смазывает? Ну, погоди у меня!
Руперт отшатнулся, чуть не раздавив бутафора.
— Бинг-бинг? — вопросительно прозвенел он. — Бим-бам-бом?
— Я тебе пошучу, — зарычал Лэсти. — А ну марш в будку, и чтобы духу твоего здесь не было!
Волоча ноги и оставляя глубокие вмятины на пластиковом полу, Руперт поплелся на свой остров Святой Елены.
Передача продолжалась. В редкие свободные мгновения Лэсти видел, как робот, уныло втянув голову в плечи и утратив всякое сходство с элегантной обтекаемой моделью 2207, стоит возле техников за контрольными пультами. Судорожно дергаясь, он принялся расхаживать по тесному помещению пультовой. Время от времени он делал попытку к примирению, зажигая на своем экранчике надписи вроде: «Какая разница между гипертоником и гиперпространством?» или «Что такое облысение? Замена причесывания умыванием». Но Лэсти напрочь игнорировал эти жалкие потуги.
Пошла вторая рекламная вставка.
— Задумывались ли вы, — масляным голосом осведомился диктор, — почему во всем космосе только «Звездочет» — звезда первой величины? Беспристрастными исследованиями установлено, что наши славные герои, улетая к звездам, всегда берут с собой… Ой, что это?
Руперт выпихнул из будки одного за другим трех негодующих техников и захлопнул за ними дверь. Затем он принялся нажимать кнопки и крутить ручки.
— Робот взбесился! Он выкинул нас за дверь!
— Послушайте, он псих! Вдруг он переключит камеры на пультовую? Это же совсем просто. Не приведи бог, если это говорящий робот!
— Он выходит в эфир! Он умеет разговаривать?
— Умеет ли он разговаривать?! — простонал Лэсти. — Вышибите его оттуда поскорее!
— Вышибить его? Интересно, как? — желчно рассмеялся инженер. — Он ведь запер дверь. А вы знаете, из какого материала сделаны стены и двери пультовой? Он сможет сидеть там, пока СУПЭР не отключит подачу энергии. А для этого…
— Задумывались ли вы, почему эти сигареты называют «Звездочетами?» — прокатился по студии грохочущий голос Руперта, и почти одновременно его услышали миллионы зрителей. — Одна затяжка — и звезды сыплются из глаз! Динг-дунгл-дангл-донгл! Да, сэр! Звезды всех цветов и оттенков, и даже не пытайтесь их сосчитать Бим-бам! Вторая затяжка — это вспышка новой! Гр-рам-гр-румм! Сто ароматов, и от всех разит липой! Бинг! Банг!..
Стены пультовой дрожали от могучего скрежещущего хохота. Но дрожали не только стены.
Джози утешала комика как могла.
— Милый, не может же он выступать вечно! Скоро он иссякнет!
— Как бы не так — при его-то запасе шуток! Да еще этот… вариационный преобразователь, и еще мезонный фильтр. Нет, Джози, мне крышка! Пропала моя карьера — меня теперь и близко к камерам не подпустят. А я больше ничего не умею. На что я буду жить? Джози, Джози, конченый я человек.
В конце концов инженерам удалось отключить энергопитание во всем Теледар-Сити. Прекратились передачи всех программ теледара, пропала связь с космосом, умолкли радиофоны. Скоростные лифты застряли между этажами. В правительственных кабинетах погас свет. Только тогда при помощи дистанционной контрольной установки смогли открыть дверь пультовой и вытащить бессильно обмякшего робота.
Когда иссякла энергия, иссяк и он.
Итак, Лэсти женился на Джози. Но счастлив он не был. Ему запретили появляться на теледаре до конца его дней.
Впрочем, он не умер с голоду. Иногда он даже жалел об этом. Погубившая его передача прославила Руперта. В тысячах писем телезрители требовали еще раз показать гадкого робота, осмелившегося поднять на смех рекламодателей. «Звездочет» утроил продажу. А в конечном итоге только это имеет значение…
Развеселый робот Руперт («самая развинченная машина из всех, у которых в голове винтика не хватает») регулярно появляется на экране. Лэсти подписывает контракты. Быть менеджером у робота нелегко. Жить с ним бок о бок — еще труднее, но этого требует Закон о роботах. Расстаться с ним Лэсти не в силах — кому охота лишиться верного куска хлеба с маслом? Он даже не может никого нанять для присмотра за роботом — то есть никого в здравом рассудке. Лэсти приходится несладко. С Рупертом жить — не шутки шутить.
Раз в неделю он навещает Джози и ребятишек. У него осунувшийся и изможденный вид. С каждым днем розыгрыши Руперта становятся все изощреннее.
Последнее время Руперт так навострился, что Лэсти прозвали на теледаре по-новому: «Лэсти — дурные вести». Или «Лэсти — поплачем вместе». А то и просто: «Ой-ой!»
Брайан Олдисс А вы не андроид
перевод В. Голанта
Пожалуй, даже читатели научно-фантастических журналов не представляют себе, с какой быстротой наука догоняет фантастику. Взять, к примеру, синтез молекул. С миллионами молекул ученые, как говорится, накоротке, они зовут их если не по имени, то по фамилии. Количество таких молекул возрастает тысяч на тридцать в год. Уже поступают в продажу пластики, имитирующие человеческую кожу.
Меня это отнюдь не радует.
Кибернетика шагает вперед столь же стремительно. Сейчас научились моделировать многие функции человеческого мозга. Можно заставить искусственный глаз видеть, искусственные ноги шагать, искусственные руки работать… Нет, знаете ли, это уж чересчур! Сопоставьте эти достижения с новыми пластиками и вы без труда поймете, что меня тревожит.
Наступает век андроида.
Уже можно изготовить робота — отвратительное сооружение из стали и пластика, которое тем не менее внешне не отличишь от человека. Однако, заглянув внутрь, мы увидим нечто совершенно бесчеловечное, служащее каким-то чуждым целям. И, быть может, там, где у вас находится солнечное сплетение, заложена… бомба, которая разнесет все вокруг, едва будет произнесена роковая кодовая фраза.
Эта мысль пришла мне в голову как-то раз после ужина, несколько дней назад. Я высказал ее жене. Не отрываясь от книги, она рассмеялась и кивнула механически заученным движением.
В этом было что-то такое… Я сидел в кресле, пристально рассматривая ее, и в мозгу моем шевельнулось первое подозрение. А вдруг… Нет, невозможно… Ну, а если все-таки предположить?.. Я гнал от себя эти мысли, но они все сильней овладевали мною. Ведь с женщинами никогда ничего нельзя понять.
Я прекрасно сознавал, как недостойно строить такие предположения о собственной жене. Но угроза казалась мне весьма реальной и тем более зловещей, что сама подозреваемая может и не знать, кто она. В самом деле, представьте себе: вот вы — робот-андроид, как вы об этом узнаете?!
Долгие часы я ломал себе голову над этим. Проклятое наваждение просто преследовало меня. Всю ночь я не смыкал глаз и не мог заставить себя погрузиться даже в тот легкий, но изнурительный сон, ради которого принимают снотворное.
В конце концов я пришел к такому выводу: что бы там ни было, но любая правда о моей жене лучше, чем эта невыносимая неизвестность.
На следующий день я разработал целую серию проверочных испытаний, чтобы окончательно решить вопрос в ту или иную сторону.
Для пользы тех, кто сталкивается с той же дилеммой, я помещаю далее отчет об этом эксперименте.
Олдисс стоит, переминаясь с ноги на ногу, возле парадной двери, то и дело поправляет галстук и через матовое стекло неотступно смотрит во двор. Его жена, выбежавшая купить муки у бакалейщика, как раз отворяет калитку с улицы. За время ее отсутствия Олдисс уже успел спрятать под циновкой в прихожей автоматические весы. Если она войдет своей легкой походкой и, вытирая ноги, потянет тонн на пять, он тут же вызовет Интерпол.
Входит жена с приветливой улыбкой. Весит она не больше того, что должна весить обыкновенная женщина. Однако это пугает Олдисса еще больше: он ведь прекрасно знает, до каких чудес дошли ученые с этими легкими сплавами. Чем больше он думает об этом, тем более убедительной уликой представляется ему ее вполне нормальный вес: она несомненно что-то скрывает.
— Как ты себя чувствуешь, дорогой? — спрашивает жена.
Олдисс тупо кивает, но не делает ни одного движения, чтобы помочь ей снять пальто. Жена его очень привлекательна, кожа у нее без единого пятнышка, прическа — волосок к волоску. Конечно, это несколько противоестественно — все-таки на улице сильный ветер. И он решается на второе испытание.
— Ты сегодня неотразима, — говорит он, раздвигая губы в сатанинской улыбке. — Подойди-ка поближе к свету, мне хочется исследовать твою прекрасную кожу под микроскопом.
— Сейчас не могу, дорогой мой сыщик, — весело отвечает жена. — Мне еще нужно испечь лепешки к завтраку. Если хочешь, накрой на стол.
Этот диалог был записан на магнитофон, который Олдисс спрятал под подушкой, прикрытой номером «Рэйдио таймс». Олдисс слушает запись снова и снова, пользуясь каждым моментом, когда жена выходит из комнаты. Ему определенно кажется, что в ее речи проскальзывает чуждая психология: право же, ни одному человеческому существу не придет в голову, что мужчине может захотеться накрыть на стол.
Прокравшись к кухонной двери, он заглядывает в щель, чтобы проверить, не сыплется ли в сбивалку для теста вместо с изюмом еще и стальная стружка. И вдруг кидается к жене с воплем, таким страшным, что кровь должна заледенеть в жилах у всякого, у кого в жилах струится кровь.
— Ой! — вскрикивает жена, роняя на пол мешочек с мукой. — До чего же ты меня напугал!
— Еще бы! Разве я не слышал, как сработала парочка реле, когда ты вздрогнула?!
— Не валяй дурака! — с возмущением отвечает жена. — Просто терка свалилась на пол — вот и стук.
Олдисс ничего не отвечает, но на лице его изображается недоверие. Он продолжает болтаться на кухне, притворяясь, будто пытается обнаружить под обоями жучка-точильщика. Между тем жена его понесла к духовке противень с лепешками. Выбрав удобный наблюдательный пункт, он пристально следит за этой операцией.
Жена не обращает внимания на мужа, который горячечным взором наблюдает за ней из-за сушилки; она включает газ и обжигает палец. Олдисс подскакивает к ней, весь само внимание.
— Синхронизация разладилась, — сочувственно замечает он. — Покажи-ка палец. Не пахнет ли паленой резиной?
Он с сомнением осматривает ее палец и вдруг впивается в него зубами.
— Негодник! Бессердечный! — вскрикивает жена и отталкивает его. Сколько раз повторять, чтоб ты не разыгрывал передо мной героя-любовника, когда я занята! Ты, видно, никогда не думаешь ни о чем другом. А теперь убирайся-ка из кухни, пока чай не будет готов.
Олдисс отступает. Он потерпел временное поражение, но не собирается отказываться от своих намерений. Совершенно ясно, что женушка его загнана в ловушку и через какой-нибудь час все станет на место. К тому времени, когда она накрыла стол к завтраку, план боевой операции уже полностью созрел в голове Олдисса.
Взобравшись на стул за приоткрытой дверью в столовую, он улучает минуту и сыплет едкий порошок за ворот платья жены, которая как раз входит с подносом в руках.
— Ты сошел с ума! Что за дурацкие затеи?! — сердито кричит она и проливает кипяток на ногу Олдисса.
— Пустяки! Просто я решил смахнуть пыль с картины. — Невинное выражение, с которым он произносит эти слова, сделало бы честь любому актеру, но жена не смягчается.
— Я не позволю обращаться со мной, как с механической игрушкой! говорит она.
— Так, так! Ну-ка, повтори, — произносит он, но так тихо, что она не слышит.
Жена поспешно ставит на стол горячие лепешки и принимается чесать спину — это уже действует порошок. Олдисс разочарован: ведь спина из пластика должна быть нечувствительна. И все-таки жена чешется. Более того, она говорит, что пойдет в спальню переодеться.
— В чем дело? — с вызовом бросает Олдисс. — Предохранитель перегорел или еще что-нибудь?
— У тебя разыгралось воображение, — отвечает жена. — Ты начитался научной фантастики, дружок. Прошлой ночью я разбудила тебя, когда ты кричал что-то про Пола и Корнблата.
— Ты не расслышала, — нашелся он. — Я кричал про полкорнеплода. В Польше урожай корнеплодов. Кошмар на почве увлечения сельским хозяйством. Последнее время такое со мной часто случается.
Жена направляется наверх, чтобы переодеться. Олдисс рвется за ней, но она его не пускает.
— Я хочу посмотреть, на месте ли родинка на твоем левом плече, бормочет он.
— Слыхали мы эти байки, — говорит жена, захлопывая за собой дверь спальни.
Олдисс возвращается к столу и кладет на тарелку жены металлическую лепешку.[1]
Через пять минут входит жена; на ней розовый джемпер и сверху такой же жакет — его подарок к рождеству. Сев за стол, она сразу же обнаруживает подделку.
— Игрушечные лепешки. В твои-то годы! — восклицает она. — Да что это с тобой? Тебе, видно, требуется осмотр у… гм… врача.
Олдисс вскакивает со стула.
— Ага! Наконец ты себя выдала! Хотела сказать «у механика». Не так ли?
Жена встревожена.
— Дорогой мой, да ты, кажется, вообразил, будто я робот или что-то в этом духе?! Ну, знаешь, если так будет продолжаться, тебя придется положить в психиатрическую клинику.
— Ты способна на все, чтобы заткнуть мне рот! Я насквозь вижу все твои ходы. А ну-ка, съешь хоть одну из лепешек, что ты испекла!
Жена в сердцах хватает с тарелки лепешку и начинает жевать.
— Видишь, — говорит она с полным ртом. — Я ем эту…
Договорить ей не удается — она поперхнулась, ее душит кашель. Олдисс торжествует. Наконец-то он вывел ее на чистую воду.
— В твой динамик и усилители попала крошка, не так ли? — злорадно говорит он, хватает телефон и набирает номер Скотленд-Ярда. Не переставая кашлять, жена умоляет его положить трубку, но он тверд как алмаз.
— Почему ты не хочешь признаться? — вопрошает он. — Скажи честно: «Я робот».
В отчаянии она произносит: «Я роб…» — и вдруг рассыпается на части. По столовой покатилось тысяч пять различных деталей — лампы, транзисторы, зубчатые колеса, провода. И только лепешки нигде не было видно.
— Скотленд-Ярд? — кричит Олдисс в телефонную трубку, когда ему отвечает металлический голос. — Прошу немедленно приехать ко мне.
— Тебе это так не пройдет, Олдисс, — тихо произносит обладатель металлического голоса на другом конце провода. — Мы не зря занесли тебя в свою картотеку. Ты окружен. Мы знаем, кто ты.
— Уж не хотите ли вы сказать, — в изумлении кричит он, — что я — роб…
И тоже рассыпается на части.
Эрик Фрэнк Рассел Абракадабра
перевод Д. Горфинкеля
Уже давно на борту космического корабля «Бастлер» не было такой тишины. Корабль стоял в космопорту Сириуса с холодными дюзами, корпус его был испещрен многочисленными шрамами — ни дать ни взять измученный бегун после марафонского бега. Впрочем, для такого вида у «Бастлера» были все основания: он только что вернулся из продолжительного полета, где далеко не все шло гладко.
И вот теперь, в космопорту, гигантский корабль обрел заслуженный, хотя и временный покой. Тишина, наконец тишина. Нет больше ни тревог, ни беспокойств, ни огорчений, ни мучительных затруднений, возникающих в свободном полете по крайней мере два раза в сутки. Только тишина, тишина и покой.
Капитан Макнаут сидел в кресле, положив ноги на письменный стол и с наслаждением расслабившись. Атомные двигатели были выключены, и впервые за многие месяцы смолк адский грохот машин. Почти вся команда «Бастлера» — около четырехсот человек, получивших увольнение, — кутила напропалую в соседнем большом городе, залитом лучами яркого солнца. Вечером, как только первый помощник Грегори вернется на борт, капитан Макнаут сам отправится в благоухающие сумерки, чтобы приобщиться к сверкающей неоном цивилизации.
Как приятно наконец ступить на твердую землю! Команда получает возможность развлечься, так сказать, выпустить лишний пар, что каждый делает по-своему. Позади заботы, волнения, обязанности и тревоги. Комфорт и безопасность — награда усталым космическим скитальцам! Старший радиоофицер Бурман вошел в каюту. Он был одним 113 шести членов экипажа, вынужденных остаться на борту корабля, и по лицу его было видно, что ему известно по крайней мере двадцать более приятных способов времяпрепровождения.
— Только что прибыла радиограмма, сэр, — сказал он, протянув листок бумаги, и остановился в ожидании ответа.
Капитан Макнаут взял радиограмму, снял ноги со стола, выпрямился и, заняв приличествующее командиру положение, прочитал вслух:
Земля Главное управление Бастлеру тчк
Оставайтесь Сирипорту дальнейших указаний тчк
Контр-адмирал Вэйн У тчк Кэссиди прибывает семнадцатого тчк
Фелдман Отдел Космических Операций Сирисектор
Лицо капитана стало суровым. Он оторвал глаза от бумаги и громко застонал.
— Что-нибудь случилось? — спросил Бурман, чуя неладное.
Макнаут указал на три книжечки, лежавшие стопкой на столе.
— Средняя. Страница двадцатая.
Бурман перелистал несколько страниц и нашел нужный параграф: «Вэйн У. Кэссиди, контр-адмирал. Должность — главный инспектор кораблей и складов».
Бурман с трудом сглотнул слюну.
— Значит…
— Да, — недовольно подтвердил Макнаут. — Снова как в военном училище. Красить и драить, чистить и полировать. — Он придал лицу непроницаемое выражение и заговорил до тошноты официальным голосом: — Капитан, у вас в наличии всего семьсот девяносто девять аварийных пайков, а по списку числится восемьсот. Запись в вахтенном журнале о недостающем пайке отсутствует. Где он? Что с ним случилось? Почему у одного из членов экипажа отсутствует официально зарегистрированная пара казенных подтяжек? Вы сообщили об их исчезновении?
— Почему он взялся именно за нас? — спросил Бурман с выражением ужаса на лице. — Ведь никогда раньше он не обращал на нас внимания!
— Именно поэтому, — ответил Макнаут, глядя на стену с видом мученика. — Пришла наша очередь получить взбучку. — Отсутствующий взгляд капитана остановился наконец на календаре. — У нас еще три дня — за это время многое можно исправить. Ну-ка, вызови ко мне второго офицера Пайка.
Опечаленный Бурман ушел. Вскоре в дверях появился Пайк. Несчастное выражение его лица подтверждало старую истину, что плохие новости летят на крыльях.
— Выпиши требование на сто галлонов пластикраски, темно-серой, высшего качества. И второе — на тридцать галлонов белой эмали для внутренних помещений. Немедленно отправь их на склад космопорта и позаботься о том, чтобы краска вместе с необходимым количеством кистей и пульверизаторов была здесь к шести вечера. Прихвати весь протирочный материал, который у них плохо лежит.
— Команде это не понравится, — заметил Пайк, делая слабую попытку к сопротивлению.
— Ничего, стерпится — слюбится, — заверил его Макнаут. — Сверкающий, отдраенный до блеска корабль благотворно влияет на моральное состояние экипажа — именно так записано в Уставе космической службы. А теперь пошевеливайся и быстро отошли требования на краску. Потом принеси мне списки инвентарного имущества. Мы должны произвести инвентаризацию до прибытия Кэссиди. Когда он приедет, уже не удастся покрыть недостачу или сбагрить предметы, которые окажутся в избытке.
— Есть, сэр, — Пайк повернулся и вышел из каюты, волоча ноги, с таким же траурным выражением лица, как и у Бурмана.
Откинувшись на спинку кресла, Макнаут бормотал что-то себе под нос. Им владело смутное чувство, что в последнюю минуту все усилия пойдут прахом. Недостаток табельного имущества — дело достаточно серьезное, если только исчезновение не было отмечено в предыдущем отчете. Избыток — и того хуже. Если первое свидетельствует о небрежности или халатности при хранении, то второе может значить только преднамеренное хищение казенного имущества при попустительстве командира корабля.
Взять, например, случай с Уильямсом, командиром тяжелого космического крейсера «Свифт», — слухом космос полнится. Макнаут узнал об этом, когда «Бастлер» пролетал мимо Бутса. При инвентаризации табельного имущества у Уильямса на борту крейсера «Свифт» нашли одиннадцать катушек проводов для электрифицированных заграждений, тогда как по спискам полагалось только десять. В дело вмешался военный прокурор, и только тогда выяснилось, что этот лишний моток проволоки, которая, между прочим, пользовалась исключительным спросом на некоторых планетах, не был украден из складов космической службы и доставлен (на космическом жаргоне — телепортирован) на корабль. Тем не менее Уильямс получил нагоняй, что мало помогает продвижению по службе.
Макнаут все еще размышлял, ворча себе под нос, когда вернулся Пайк с толстенной папкой в руках.
— Собираетесь начать инвентаризацию немедленно, сэр?
— Ничего другого нам не остается, — вздохнул капитан, посылая последнее «прости» своему отдыху в городе и ярким праздничным огням. — Потребуется уйма времени, чтобы обшарить корабль от носа до кормы, поэтому осмотр личного имущества экипажа проведем напоследок.
Выйдя из каюты, капитан направился к носу «Бастлера»; за ним с видом мученика тащился Пайк.
Когда они проходили мимо главного входного люка, их заметил корабельный пес Пизлейк. В два прыжка Пизлейк взлетел по трапу и замкнул шествие. Этот огромный пес, родители которого обладали неисчерпаемым энтузиазмом, но мало заботились о чистоте породы, был полноправным членом экипажа и гордо носил ошейник с надписью «Пизлейк — имущество косм. кор. „Бастлер“». Основной обязанностью пса, с которой он превосходно справлялся, было не подпускать к трапу корабля местных грызунов и в редких случаях — обнаруживать опасность, незамеченную человеком.
Все трое шествовали по коридору — Макнаут и Пайк с мрачной решимостью людей, которые жертвуют собой во имя долга, а тяжело дышащий Пизлейк был преисполнен готовности начать любую игру, какую бы ему ни предложили.
Войдя в носовое помещение, Макнаут тяжело опустился в кресло пилота и взял папку из рук Пайка.
— Ты знаешь всю эту кухню лучше меня — мое место в штурманской рубке. Поэтому я буду читать, а ты — проверять наличие. — Капитан открыл папку и начал с первого листа:
— К-1. Компас направленного действия, тип Д, один.
— Есть, — сказал Пайк.
— К-2. Индикатор направления и расстояния, электронный, тип Джи-Джи, один.
— Есть.
— К-З. Гравиметрические измерители левого и правого бортов, модель Кэсини, одна пара.
— Есть.
Пизлейк положил голову на колени Макнаута, посмотрел ему в лицо понимающими глазами и негромко завыл. Он начал соображать, чем занимаются эти двое. Нудная перекличка была чертовски скучной игрой. Макнаут успокаивающим жестом положил руку на голову Пизлейка и стал играть песьими ушами, протяжно выкликивая предмет за предметом.
— К-187. Подушки из пенорезины, две, на креслах пилота и второго пилота.
— Есть.
К тому времени, когда первый офицер Грегори поднялся на борт корабля, они уже добрались до крохоткой рубки внутренней радиосвязи и копались там в полумраке. Пизлейк, полный невыразимого отвращения, давно покинул их.
— М-24. Запасные громкоговорители, трехдюймовые, тип Т-2, комплект из шести штук, один.
— Есть.
Выпучив от удивления глаза, Грегори заглянул в рубку и спросил:
— Что здесь происходит?
— Скоро нам предстоит генеральная инспекция, — ответил Макнаут, поглядывая на часы. — Пойди-ка проверь, привезли краску или нет и если нет, то почему. А потом приходи сюда и помоги мне с проверкой — Пайку надо заниматься другими делами.
— Значит, увольнение в город отменяется?
— Конечно, до тех пор пока не уберется этот начальник веников и заведующий кухнями. — Капитан повернулся к Пайку. — Когда будешь в городе, постарайся разыскать и отправить на корабль как можно больше ребят. Никакие причины или объяснения во внимание не принимаются. И чтобы без всяких там алиби или задержек. Это приказ!
Лицо Пайка приняло еще более несчастное выражение. Грегори сердито посмотрел на него, вышел, через минуту вернулся и доложил:
— Окрасочные материалы прибудут через двадцать минут. — С грустью на лице он посмотрел вслед уходящему Пайку.
— М-47. Телефонный кабель, витой, экранированный, три катушки.
— Есть, — сказал Грегори, проклиная себя. И угораздило же его вернуться на корабль именно сейчас!
Работа продолжалась до позднего вечера и возобновилась с восходом солнца. К этому времени уже три четверти команды трудилось в поте лица как внутри, так и снаружи корабля, с видом людей, приговоренных к каторге за преступления — задуманные, но еще не совершенные.
По узким коридорам и переходам пришлось передвигаться по-крабьи, на четвереньках — лишнее доказательство того, что представители высших форм земной жизни испытывают панический страх перед свежей краской. Капитан во всеуслышание объявил, что первый, кто посадит пятно на свежую краску, поплатится за это десятью годами жизни.
На исходе второго дня зловещие предчувствия капитана начали сбываться. Они уже заканчивали девятую страницу очередного инвентарного списка кухонного имущества, а шеф-повар Жан Бланшар подтверждал присутствие и действительное наличие перечисляемых предметов, когда они, пройдя две трети пути, образно говоря, натолкнулись на рифы и стремительно пошли ко дну.
Макнаут пробормотал скучным голосом:
— В-1097. Кувшин для питьевой воды, эмалированный, один.
— Здесь, — ответил Бланшар, постучав по кувшину пальцем.
— В-1098. Капес, один.
— Что? — спросил Бланшар, изумленно выпучив глаза,
— В-1098. Капес, один, — повторил Макнаут. — Ну, что смотришь, будто тебя громом ударило? Это корабельный камбуз, не правда ли? Ты шеф-повар, верно? Кому же еще знать, что находится в камбузе? Ну, где этот капес?
— Первый раз о нем слышу, — решительно заявил повар.
— Быть того не может. Он внесен вот в этот список табельного имущества камбуза, напечатано четко и ясно: капес, один. Список табельного имущества составлялся при приемке корабля четыре года назад. Мы сами проверили наличие капеса и расписались.
— Ни за какой капес я не расписывался, — Бланшар упрямо покачал головой. — В моем камбузе нет такой штуки.
— Посмотри сам! — с этими словами Макнаут сунул ему под нос инвентарный список.
Бланшар взглянул и презрительно фыркнул.
— У меня здесь есть электрическая печь, одна. Кипятильники, покрытые кожухами, с мерным устройством, один комплект. Есть сковороды, шесть штук. А вот капеса нет. Я никогда даже не слышал о нем. Представления не имею, что это такое. — Он выразительно развел руками. — Нет у меня капеса!
— Но ведь должен же он где-то быть, — втолковывал ему Макнаут. — Если Кэссиди обнаружит, что капес пропал, поднимется черт знает какой тарарам!
— А вы его сами поищите, — язвительно посоветовал Бланшар.
— Послушай, Жан, у тебя диплом Кулинарной школы Международной ассоциации отелей, у тебя свидетельство Колледжа поваров Кордон Бле; наконец, ты награжден почетным дипломом с тремя похвальными отзывами Центра питания космического флота, — напомнил ему Макнаут. — И как же ты не знаешь, где у тебя капес!
— Черт возьми! — завопил Бланшар, всплеснув руками. — Сотый раз повторяю, что у меня нет никакого капеса. И никогда не было. Сам Эскуафье не смог бы его найти, так как в моем камбузе никакого капеса нет. Что я, волшебник, что ли?
— Этот капес — часть кухонного имущества, — стоял на своем Макнаут. — И он должен быть где-то, потому что он упоминается на девятой странице инвентарного списка камбуза. А это означает, что ему надлежит находиться здесь и что лицом, ответственным за его хранение, является шеф-повар.
— Черта с два! Усилитель внутренней связи, он что, тоже мой? — огрызнулся Бланшар, указывая на металлический ящик в углу под потолком.
Макнаут немного подумал и ответил примирительно:
— Нет, это имущество Бурмана. Его хозяйство расползлось по всему кораблю.
— Вот и спросите его, куда он дел свой проклятый капес! — заявил Бланшар с нескрываемым триумфом.
— Я так и сделаю. Если капес не твой, он должен принадлежать Бурману. Давай только сначала разделаемся с кухней. Если Кэссиди не заметит в хранении системы и тщательности, он разжалует меня в рядовые. — Капитан опять уткнулся в список. — В-1099. Ошейник собачий с надписью, кожаный, с бронзовыми бляхами, один. Можешь не искать его, Жан. Я только что видел его на собаке. — Макнаут поставил аккуратную птичку около ошейника и продолжал: — В-1100. Корзина для собаки, плетеная, из прутьев, одна.
— Вот она, — сказал повар, пинком отшвыривая ее в угол.
— В-1101. Подушка из пенорезины, комплект с корзиной, одна.
— Половина подушки, — поправил его Бланшар. — За четыре года Пизлейк изжевал вторую половину.
— Может быть, Кэссиди позволит нам выписать со склада новую. Ну ладно, это не имеет значения. Пока налицо хотя бы половина, все в порядке. — Макнаут встал и закрыл палку. — Итак, с кухней покончено. Пойду поговорю с Бурманом насчет исчезнувшего табельного имущества.
Бурман выключил приемник УВЧ, снял наушники и вопросительно посмотрел на капитана.
— При осмотре камбуза выявилась недостача одного капеса, — объяснил Макнаут. — Как ты думаешь, где он может быть?
— Откуда мне знать? Камбуз — царство Бланшара.
— Не совсем так. Твои кабели проходят через камбуз, Там у тебя два конечных приемника, автоматический переключатель и усилитель внутренней связи. Так где же находится капес?
— В первый раз о нем слышу, — озадаченно проговорил Бурман.
— Перестань болтать глупости! — заорал Макнаут, теряя всяческое терпение. — Хватит с меня бредней Бланшара! Четыре года назад у нас был капес, это точно. Загляни в инвентарные списки! Это — корабельная копия списка, вое имущество проверено, и под этим стоит моя подпись. Значит, расписались и за капес. Поэтому он должен где-то быть, и его надо найти до приезда Кэссиди.
— Очень жаль, сэр, — выразил свое сочувствие Бурман, — но я ничем не могу вам помочь.
— Подумай еще, — посоветовал Макнаут. — В носу расположен указатель направления и расстояния. Как вы его называете?
— Напрас, — ответил Бурман, не понимая, куда клонит хитрый капитан.
— А как ты называешь вот эту штуку? — продолжал Макнаут, указывая на пульсовый передатчик.
— Пуль-пуль.
— Ребячьи словечки, а? Напрас и пуль-пуль. А теперь напряги свои извилины и вспомни, как назывался капес четыре года назад!
— Насколько мне известно, — ответил Бурман, подумав, — у нас никогда не было ничего похожего на капес.
— Тогда, — спросил Макнаут, — почему мы за него расписались?
— Я не расписывался. Это вы везде расписывались.
— Да, в то время как все вы проверяли наличие. Четыре года назад, очевидно в камбузе, я произнес: «Капес, один», и кто-то из вас, ты или Бланшар, ответил: «Есть». Я поверил вам на слово. Ведь мне приходится верить начальникам служб. Я специалист по штурманскому делу, знаком со всеми навигационными приборами, а других не знаю. Значит, мне пришлось положиться на слова кого-то, кто знал или должен был знать, что такое капес.
Внезапно Бурмана осенила превосходная мысль.
— Послушайте, когда производилось переоборудование корабля, множество самых разнообразных приборов и устройств было рассовано по коридорам, около главного входного люка и в кухне. Помните, сколько оборудования мы рассортировали, чтобы установить его в надлежащих местах? Этот самый капес может оказаться теперь где угодно, совсем не обязательно у меня или Бланшара.
— Я поговорю с другими офицерами, — согласился Макнаут. — Он может быть у Грегори, Уорта, Сандерсона или еще у кого-нибудь. Как бы то ни было, а капес должен быть найден. Или, если он отслужил положенный срок и пришел в негодность, об этом должен быть составлен соответствующий акт.
Капитан вышел. Бурман состроил вслед ему гримасу, надел на голову наушники и стал опять копаться в радиоприемнике. Примерно через час Макнаут вернулся с хмурым лицом.
— Несомненно, на борту корабля нет такого прибора, — заявил он с заметным раздражением. — Никто о нем не слышал, мало того, никто не может даже предположить, что это такое.
— А вы вычеркните его из инвентарных списков и доложите о его исчезновении, — предложил Бурман.
— Это когда мы находимся в космопорту? Ты знаешь не хуже меня, что обо всех случаях утраты или повреждения казенного имущества докладывают на базу тотчас после происшествия. Если я скажу Кэссиди, что капес был утрачен, когда корабль находился в полете, он сейчас же захочет узнать, где, когда и при каких обстоятельствах это произошло и почему о случившемся не информировали базу. Представь себе, какой будет скандал, если вдруг выяснится, что эта штука стоит полмиллиона. Нет, я не могу так просто избавиться от этого капеса.
— Что же тогда делать? — простодушно спросил Бурман, шагнув прямо в ловушку, поставленную изобретательным капитаном.
— Нам остается только одно! — объявил Макнаут. — Ты должен изготовить капес!
— Кто, я? — испуганно спросил Бурман.
— Ты — и никто другой! Тем более что я почти уверен, что капес — это твое имущество.
— Почему вы так думаете?
— Потому что это типично детское словечко из числа тех, о которых ты мне уже говорил. Готов поспорить на месячный оклад, что капес — это какая-нибудь высоконаучная аламагуса. Может быть, он имеет отношение к туману. Скажем, прибор слепой посадки.
— Прибор слепой посадки называется щупак, — проинформировал капитана радиоофицер.
— Вот видишь! — воскликнул Макнаут, как будто слова Бурмана подтвердили его теорию. — Так что принимайся за работу и состряпай хороший капес. Он должен быть готов завтра к шести часам вечера и доставлен ко мне в каюту для осмотра. И позаботься о том, чтобы капес выглядел убедительно, более того, приятно. То есть я хочу сказать, чтобы он выглядел убедительно в момент работы.
Бурман встал, уронил руки и сказал хриплым голосом:
— Как я могу изготовить капес, когда даже не знаю, как он выглядит?
— Кэссиди тоже не знает этого, — напомнил ему Макнаут с радостной улыбкой. — Он интересуется скорее количеством, чем другими вопросами. Поэтому он считает предметы, смотрит на них, удостоверяет их наличие, соглашается с экспертами относительно степени их изношенности. Нам нужно всего-навсего состряпать убедительную аламагусу и сказать адмиралу, что это и есть капес.
— Святой Моисей! — проникновенно воскликнул Бурман.
— Давай не будем полагаться на сомнительную помощь библейских персонажей, — упрекнул его Макнаут. — Лучше воспользуемся серыми клетками, которыми нас наделил господь бог. Берись сейчас же за свой паяльник и состряпай к завтрашнему дню первоклассный капес. Это приказ!
Капитан отбыл, страшно довольный собой. Бурман, оставшись один в своей каюте, тусклым взглядом вперился в стену и тяжело вздохнул.
Контр-адмирал Вэйн У. Кэссиди прибыл точно в указанное радиограммой время. Это был краснолицый человек с брюшком и глазами снулой рыбы. Он не ходил, а выступал.
— Здравствуйте, капитан, я уверен, что у вас все в полном порядке.
— Как всегда, — заверил его Макнаут, не моргнув глазом. — Это мой долг. — В его голосе звучала непоколебимая уверенность.
— Отлично! — с одобрением отозвался Кэссиди. — Мне нравятся офицеры, серьезно относящиеся к своим хозяйственным обязанностям. К сожалению, некоторые не принадлежат к их числу.
Адмирал торжественно взошел по трапу и прошествовал через главный люк внутрь корабля. Его рыбьи глаза сейчас же обратили внимание на свежеокрашенную поверхность.
— С чего вы предпочитаете начать осмотр, капитан, с носа или с кормы?
— Инвентарные списки начинаются с носа и идут к корме, сэр. Поэтому лучше начать с носа, это упростит дело.
— Отлично. — И адмирал, повернувшись, торжественно зашагал к носу. По дороге он остановился потрепать по шее Пизлейка и попутно глянул на ошейник. — Хорошо ухоженная собака, капитан. Она приносит пользу на корабле?
— Пизлейк спас жизнь пяти членам экипажа на Мардии: он лаем дал сигнал тревоги, сэр.
— Я надеюсь, детали этого происшествия занесены в бортовой журнал?
— Так точно, сэр! Бортовой журнал находится в штурманской рубке в ожидании вашего осмотра.
— Мы проверим его в надлежащее время.
Войдя в носовую рубку, Кэссиди расположился в кресле первого пилота, взял протянутую капитаном папку и начал проверку.
— К-1. Компас направленного действия, тип Д, один.
— Вот он, сэр, — сказал Макнаут, указывая на компас.
— Удовлетворены его работой?
— Так точно, сэр!
Инспекция продолжалась. Адмирал проверил оборудование в рубке внутренней связи, вычислительной рубке и других местах и добрался наконец до камбуза. У плиты в отутюженном ослепительно белом халате стоял Бланшар и смотрел на адмирала с нескрываемым подозрением.
— В-147. Электрическая печь, одна.
— Вот она, — сказал повар, презрительно ткнув пальцем в плиту.
— Довольны ее работой? — спросил Кэссиди, глядя на повара рыбьими глазами.
— Слишком мала, — объявил Бланшар. Он развел руками, как бы охватывая весь камбуз. — Все слишком маленькое. Мало места. Негде повернуться. Этот камбуз похож скорее на чердак в собачьей конуре.
— Это — военный корабль, а не пассажирский лайнер, — огрызнулся Кэссиди. Нахмурившись, он заглянул в инвентарный список. — В-148. Автоматические часы и электрическая печь в единой установке, один комплект.
— Вот они, — фыркнул Бланшар, готовый выбросить их через ближайший иллюминатор, если, конечно, Кэссиди берется оплатить их стоимость.
Адмирал продвигался все дальше и дальше, приближаясь к концу списка, и нервное напряжение в кухне постепенно нарастало. Наконец Кэссиди произнес роковую фразу:
— В-1098. Капес, один.
— Черт побери! — в сердцах крикнул Бланшар. — Я уже говорил тысячу раз и снова повторяю, что…
— Капес находится в радиорубке, сэр, — поспешно вставил Макнаут.
— Вот как? — Кэссиди еще раз взглянул в список. — Тогда почему он числится в кухонном оборудовании?
— Во время последнего ремонта капес помещался в камбузе, сэр. Это один из портативных приборов, которые можно установить там, где для них находится местечко.
— Хм! Тогда он должен быть занесен в инвентарный список радиорубки. Почему это не сделано?
— Я хотел получить ваше указание, сэр.
Рыбьи глазки немного оживились, в них промелькнуло одобрение.
— Да, пожалуй, вы правы, капитан. Я сам перенесу капес в другой список. — Адмирал собственноручно вычеркнул прибор из списка номер девять, расписался, внес его в список номер шестнадцать и снова расписался. — Продолжим, капитан. В-1099. Ошейник с надписью, кожаный, с бронзо… Ну ладно, я сам только что видел его. Он был на собаке.
Адмирал поставил галочку возле ошейника. Через час он прошествовал в радиорубку. В середине ее стоял, расправив плечи, Бурман. Несмотря на то, что поза у него была решительной, руки и ноги его мелко дрожали, а выпученные глаза неотступно следовали за Макнаутом. В них читалась немая мольба. Бурман был как на угольях.
— В-1098. Капес, один, — произнес Кэссиди голосом, не терпящим возражения.
Двигаясь с угловатостью плохо отрегулированного робота, Бурман дотронулся до небольшого ящичка с многочисленными шкалами, переключателями и цветными лампочками. По внешнему виду прибор напоминал соковыжималку, созданную радиолюбителем. Радиоофицер щелкнул двумя переключателями. Цветные лампочки ожили и заиграли разнообразными комбинациями огней.
— Вот он, сэр, — с трудом произнес Бурман.
— Ага! — прокаркал Кэссиди и нагнулся к прибору, чтобы рассмотреть его получше. — Что-то я не помню такого прибора. Впрочем, за последнее время наука идет вперед такими шагами, что всего не упомнишь. Он функционирует нормально?
— Так точно, сэр!
— Это один из наиболее нужных приборов на корабле, — прибавил Макнаут для пущей убедительности.
— Каково же его назначение? — спросил адмирал, давая возможность радиоофицеру метнуть перед ним бисер мудрости.
Бурман побледнел.
Макнаут поспешил к нему на помощь.
— Видите ли, адмирал, подробное объяснение потребует слишком много времени, так как прибор исключительно сложен, но вкратце — капес позволяет установить надлежащий баланс между противоположными гравитационными полями. Различные сочетания цветных огней указывают на степень и интенсивность разбалансировки гравитационных полей в любой заданный момент.
— Это очень тонкий прибор, основанный на константе Финагле, — добавил Бурман, внезапно исполнившись отчаянной смелости.
— Понимаю, — кивнул Кэссиди, не поняв ни единого слова. Он устроился поудобнее в кресле, поставил галочку около капеса и продолжил инвентаризацию. — Ц-44. Коммутатор, автоматический, на 40 номеров внутренней связи, один.
— Вот он, сэр.
Адмирал взглянул на коммутатор и опять углубился в список. Офицеры воспользовались этим мгновением, чтобы вытереть пот с лица.
Итак, победа одержана.
Все в порядке.
Контр-адмирал отбыл с к.к. «Бастлер» довольный, наговорив в адрес капитана кучу комплиментов. Не прошло и часа, как вся команда уже снова была в городе, наверстывая потерянное время. Макнаут наслаждался веселыми городскими огнями по очереди с Грегори. В течение следующих пяти дней мир и покой царили на корабле.
На шестой день Бурман принес радиограмму в каюту командира, положил ее на стол и остановился, ожидая реакции Макнаута. Лицо радиоофицера было довольным, как у человека, чью добродетель вознаградили по заслугам.
Штаб-квартира Космического Флота на Земле Бастлеру тчк
Возвращайтесь немедленно для капитального ремонта переоборудования тчк
Будет установлен новейший двигатель тчк
Фелдман Управление Космических Операций Сирисектор
— Назад на Землю, — прокомментировал Макнаут со счастливым лицом. — Капремонт — это по крайней мере месяц отпуска. — Он посмотрел на радиоофицера. — Передай дежурному офицеру мое приказание: немедленно вернуть весь личный состав на борт. Когда узнают причину вызова, они побегут сломя голову.
— Так точно, сэр, — ухмыльнулся Бурман.
Спустя две недели, когда Сирипорт остался далеко позади, а Солнце уже виднелось как крошечная звездочка в носовом секторе звездного неба, команда еще продолжала улыбаться. Предстояло одиннадцать недель полета, но на этот раз стоило подождать. Летим домой! Ура!
Улыбки исчезли, когда однажды вечером Бурман принес неприятное известие. Он вошел в рубку и остановился посреди комнаты, кусая нижнюю губу в ожидании, когда капитан кончит запись в бортовом журнале.
Наконец Макнаут отложил журнал в сторону, поднял глаза и, увидев Бурмана, нахмурился.
— Что случилось? Живот болит?
— Никак нет, сэр. Я просто думал.
— А что, это так болезненно?
— Я думал, — продолжал Бурман похоронным голосом. — Мы возвращаемся на Землю для капитального ремонта. Вы понимаете, что это значит? Мы уйдем с корабля, и орда экспертов оккупирует его. — Он бросил трагический взгляд на капитана. — Я сказал — экспертов.
— Конечно, экспертов, — согласился Макнаут. — Оборудование не может быть установлено и проверено группой кретинов.
— Потребуется нечто большее, чем знания и квалификация, чтобы установить и отрегулировать наш капес, — напомнил Бурман. — Для этого нужно быть гением.
Макнаут откинулся назад, как будто к его носу поднесли головешку.
— Боже мой! Я совсем забыл об этой штуке. Да, когда мы вернемся на Землю, вряд ли нам удастся потрясти этих парней своими научными достижениями.
— Нет, сэр, не удастся, — подтвердил Бурман. Он не прибавил слова «больше», но все его лицо красноречиво говорило: «Ты сам впутал меня в эту грязную историю. Теперь сам и выручай».
Он подождал несколько секунд, пока Макнаут что-то лихорадочно обдумывал, затем спросил:
— Так что вы предлагаете, сэр?
Внезапно лицо капитана расплылось в улыбке, и он ответил:
— Разбери этот дьявольский прибор и брось его в дезинтегратор.
— Это не решит проблемы, сэр. Все равно у нас не будет хватать одного капеса.
— Ничего подобного. Я собираюсь сообщить на Землю о его выходе из строя в трудных условиях космического полета. — Он выразительно подмигнул Бурману. — Ведь теперь мы в свободном полете, верно? — С этими словами он потянулся к блокноту радиограмм и начал писать, не замечая ликующего выражения на лице Бурмана:
К. к. Бастлер Штабу Космического Флота на Земле тчк
Прибор В-1098 Капес один распался на составные части под мощным гравитационным давлением во время прохождения через поле двойных солнц Гектор Мейджор Майнор тчк
Материал был использован как топливо для реактора тчк
Просим списать тчк
Макнаут командир Бастлера
Бурман выбежал из капитанской рубки и немедленно радировал послание на Землю. Два дня прошли в полном спокойствии. На третий день он снова вошел к капитану с озабоченным и встревоженным видом.
— Циркулярная радиограмма, сэр, — объявил он, протягивая листок.
Штаб Космического Флота на Земле
Для передачи во все сектора тчк
ВЕСЬМА СРОЧНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ тчк
Всем кораблям немедленно приземлиться ближайших космопортах тчк
Не взлетать до дальнейших указаний тчк
Уэллинг командир Спасательной Службы Земли
— Что-то случилось, — заметил Макнаут, впрочем, ничуть не обеспокоенный. Он поплелся в штурманскую рубку, Бурман за ним. Там он сверился с картами и набрал номер внутреннего телефона. Связавшись с Пайком, капитан сказал:
— Слушай, Пайк, принят сигнал тревоги. Всем кораблям немедленно вернуться в ближайшие космопорты. Нам придется сесть в Закстедпорте, примерно в трех летных днях отсюда. Немедленно измени курс, семнадцать градусов на правый борт, наклонение десять. — Он бросил трубку и проворчал. — Мне никогда не нравился Закстедпорт. Вонючая дыра. Пропал наш месячный отпуск. Представляю, какое настроение будет у команды. Впрочем, не могу винить их в этом.
— Как вы думаете, сэр, что случилось? — спросил Бурман. Он выглядел каким-то неспокойным и раздраженным.
— Одному богу известно. Последний раз циркулярная радиограмма была послана семь лет назад, когда «Старейдер» взорвался на полпути между Землей и Марсом. Штаб приказал всем кораблям оставаться в портах, пока не будет выяснена причина катастрофы. — Макнаут потер подбородок, подумал немного и продолжал: — А за год до этого была послана циркулярная радиограмма, когда вся команда к.к. «Блоуган» сошла с ума. В общем, что бы то ни было, это серьезно.
— Это не может быть началом космической войны?
— С кем? — Макнаут презрительно махнул рукой. — Ни у кого нет флота, равного нашему. Нет, это что-то техническое. Рано или поздно нам сообщат причину. Еще до того, как мы сядем в Закстеде.
Действительно, скоро им сообщили. Уже через шесть часов Бурман ворвался в капитанскую рубку с лицом, искаженным от ужаса.
— Ну, а теперь что случилось? — спросил Макнаут, сердито глядя на взволнованного радиоофицера.
— Это капес, — едва выговорил Бурман. Его руки конвульсивно дергались, как будто он сметал невидимых пауков.
— Ну и что?
— Это была опечатка. В инвентарном списке должно было быть написано «каз. пес».
Капитан продолжал смотреть на Бурмана непонимающим взглядом.
— Каз. пес? — переспросил он.
— Смотрите сами! — С этими словами Бурман бросил радиограмму на стол и стремительно выскочил из радиорубки, позабыв закрыть дверь. Макнаут недовольно хмыкнул и уставился на радиограмму:
Штаб Космического Флота на Земле Бастлеру тчк
Относительно вашего рапорта гибели В-1098 казенного пса Пизлейка тчк
Немедленно радируйте все подробности обстоятельства при которых животное распалось на составные части под мощным гравитационным давлением тчк
Опросите команду и радируйте симптомы появившиеся членов экипажа момент несчастья тчк
ВЕСЬМА СРОЧНО КРАЙНЕ ВАЖНО
Уэллинг Спасательная Служба Космического Флота на Земле
Закрывшись в своей каюте, Макнаут начал грызть ногти. Время от времени он, скосив глаза, проверял, сколько осталось, и продолжал грызть.
Уолтер Тевис-мл. Новые измерения
перевод Н. Евдокимовой
В тот вечер Фарнзуорт изобрел новый напиток — пунш-глинтвейн с джином, настоянным на ягодах терна. Способ приготовления был столь же нелеп, как и название: раскаленную докрасна кочергу надо сунуть в кружку с теплым красноватым джином, потом всыпать туда же корицу, гвоздику и сахар, а потом выпить эту идиотскую смесь. Тем не менее, как иной раз бывало с идеями Фарнзуорта, результат получился неплохой. После третьей порции напиток показался мне вполне терпимым.
Когда Фарнзуорт, наконец, положил дымящуюся кочергу в камин, чтобы опять раскалилась, я удобно откинулся на спинку большого кожаного кресла, которое хозяин собственноручно реконструировал (если нажать кнопку, оно укачивает сидящего, пока тот не заснет), и сказал:
— Оливер, твою фантазию можно уподобить разве что твоему гостеприимству.
Фарнзуорт покраснел и улыбнулся. Он низенький, круглолицый и легко краснеет.
— Спасибо, — отозвался он. — Есть еще одна новинка. Называется «шипучая водка-желе». Ее полагается есть ложкой Может, попробуешь? Нечто… потрясающее!
Я поборол дрожь, пронизавшую меня при мысли о том, что придется хлебать водку-желе, и сказал:
— Интересно, очень интересно.
И так как он ничего не ответил, мы оба молча уставились на пламя в камине, а джин тем временем теплой струей разливался у нас в крови. В холостяцком жилье Фанзуорта было уютно и привольно; по пятницам я всегда чудесно коротал здесь вечера. По-моему, в глубине души всякий мужчина любит тепло огня и спиртные напитки (даже самые причудливые), а также глубокие, удобные кожаные кресла.
Через несколько минут Фарнзуорт внезапно вскочил на ноги и объявил:
— Хочу показать тебе одну штуковину. На той неделе смастерил. Правда, не совсем удачно вышло.
— Вот как? — Я-то думал, что за истекшую неделю его мысль не пошла дальше обычных изысканий в области спиртного. С меня и их было более чем достаточно.
— Да, — продолжал он уже от порога. — Она у меня внизу, Сейчас принесу. Он выбежал из кабинета, и раздвижная дверь закрылась за ним автоматически, так же как секундой раньше автоматически распахнулась.
Я снова обернулся к огню, довольный тем, что мой друг направился не куда-нибудь, а в свой «цеx»: столярная мастерская находилась во дворе, в сарае, химическая и оптическая лаборатории — на чердаке, а он пошел в подвал. Дело в том, что искуснее всего Фарнзуорт управлялся с токарным и фрезерным станками. Изготовленный им самоввертывающийся винт-барашек с регулируемым шагом был настоящим шедевром, и патент на это изделие, вместе с несколькими другими, принес Фарнзуорту немалое состояние.
Через минуту он вернулся с каким-то странным на вид предметом, который водрузил на столике рядом с моим креслом. Еще минуту я молча рассматривал этот предмет, а Фарнзуорт, чуть приметно улыбаясь, стоял у меня за спиной. Я знал, что он с нетерпением ждет отзыва, но не представлял, какого именно.
При ближайшем рассмотрении вещица оказалась простой: выполненная в форме креста, она состояла из нескольких десятков полых кубиков с дюймовой гранью. Половина кубиков была сделана из какого-то прозрачного пластика, половина — из тонких листов алюминия. Каждый кубик весьма хитроумно соединялся шарнирами с двумя другими, но общего принципа расположения я не уловил.
Наконец я спросил:
— Сколько их тут? — я пытался пересчитать, но все время сбивался со счета.
— Шестьдесят четыре, — ответил Фарнзуорт. — Как будто.
— Откуда такая неуверенность?
— Да вот… — он смутился. — Во всяком случае, сделал-то я шестьдесят четыре кубика, по тридцать два каждого сорта; но почему-то с тех пор мне ни разу не удалось сосчитать их заново. То ли они те… теряются, то ли переходят с места на место, то ли еще что-нибудь.
— Вот как? — это становилось интересно. — A можно потрогать?
— Конечно, — ответил он. Я взял диковинный предмет в руки и, повертев кубики на шарнирах, увидел, что у многих отсутствует одна грань — в них вошли бы некоторые другие кубики, если бы не мешали шарниры.
Я начал рассеянно прилаживать кубики один к другому.
— Ты мог бы пересчитать, если бы пометил каждый, — noсоветовал я. Поочередно, карандашом, например.
— Между нами, — сказал он и снова вспыхнул, — я уже пробовал. Не тут-то было. В конце концов оказалось, что номером один помечены шесть кубиков, а номерами два и три — ни одного, зато были два четвертых номера — на одном из них четверка выведена зеркально и зеленым цветом. — Он помедлил. — А я все помечал красным карандашом. — При этих словах он едва приметно cодрогнулся, хотя говорил беспечным тоном. — Я стер все цифры мокрой тряпкой и больше… не пробовал.
— Угу, — сказал я. — А как ты это назвал?
— Пентаракт.
Он снова уселся в кресло.
— Разумеется, это условное название. По-моему, пентарактом можно назвать четырехмерный пятиугольник, а тут изображен пятимерный куб.
— Изображен? — Вещица показалась мне слишком осязаемой для изображения.
— Понимаешь, не может быть, чтобы у него были пять измерений — длина, ширина, глубина, еслина и деньгина… во всяком случае, так я считаю. — Тут он стал слегка заикаться. — Но мне хотелось создать иллюстрацию предмета, имеющего все эти пять измерений.
— И что же это за предмет? — я покосился на вещицу, лежащую у меня на коленях, и несколько удивился, заметив, что ycneл вложить довольно много кубиков один в другой.
— Представь себе, — сказал Фарнзуорт, — что ты выстроишь в ряд множество точек так, чтобы они соприкасались; получишь линию — фигуру, характеризующуюся одним измерением. Проведи на плоскости четыре линии под прямыми yглами друг к другу; это — квадрат — фигура в двух измерениях. Шесть квадратов, расположенные в реальном трехмерном пространстве под прямыми yглами друг к другу, образуют куб — фигуру трехмерную. А восемь кубов, вынесенные в четырехмерное физическое пространство, дают четырехмерный гиперкуб или так называемый тетракт…
— А десять тетрактов образуют пентаракт, — докончил я. — Пятимерное тело.
— Именно. Правда, тут у нас лишь изображение пентаракта. Может быть, таких измерений, как еслина и деньгина, вообще не существует.
— А все же непонятно, что ты подразумеваешь под изображением, — сказал я, с увлечением вертя в руках кубики.
— Непонятно? — переспросил он и поджал губы. — Это довольно трудно объяснить, но попробую. Вот, например, на листке бумаги можно очень похоже нарисовать куб — знаешь, пользуясь законами перспективы, затушевывая тень и все такое. Это ведь изображение трехмерного тела — куба — при помощи только двух измерений.
— И, конечно, — заметил я, — мы можем свернуть бумагу в кубик. Тогда получится настоящее трехмерное тело. Он кивнул:
— Но тогда мы прибегнем к третьему измерению: ведь чтобы свернуть бумагу, надо отогнуть ее вверх. Так что, если только я не научусь свертывать кубики в еслине и деньгине, мой пентаракт останется жалким изображением. Или, точнее, десятью изображениями. Здесь десять тетрактов — изображений четырехмерных тел соединены между собой и изображают пятимерный гиперкуб.
— Ага! — сказал я чуть растерянно. — И что же ты с ним собираешься делать?
— Да ничего особенного, — ответил он. — Это я просто из любопытства. — Тут он перевел взгляд на меня, вытаращил глаза и вскочил с кресла. — Что ты с ним сотворил?
Я посмотрел, что у меня в руках. Там были восемь кубиков, сложенных крестом.
— Да ничего, — ответил я, чувствуя себя не в своей тарелке. — Просто вложил их друг в друга.
— Не может быть! Начнем с того, что открытых кубиков было только двенадцать! У всех остальных по шести граней!
Фарнзуорт стремительно ринулся к своему творению — он явно вышел из себя, да так внезапно, что я отпрянул. Бросок Фарнзуорта оказался неудачным, я выронил вещицу из рук, она упала на пол и основательно ударилась углом. Послышался слабый стук, что-то звякнуло, и вещица очень странно смялась. И вот перед нами на полу остался один-единственный дюймовый кубик и больше ничего.
Мы тупо глазели на него с минуту, никак не меньше. Потом я встал, оглянулся на сиденье кресла, внимательно осмотрел весь пол, даже опустился на колени и пошарил под креслом. Фарнзуорт следил за мной и, когда я кончил и снова уселся, спросил:
— Больше нет?
— Ни единого кубика, — сказал я, — нигде.
— Этого я и боялся. — Он ткнул дрожащим пальцем в сторону оставшегося кубика. — По-видимому, все они здесь. — Его возбуждение постепенно улетучивалось, — я думаю, ко всему можно привыкнуть. — Чуть погодя он задумчиво спросил: — Что это ты такое говорил, как можно сделать куб, свернув бумагу?
Я поглядел на него и выдавил из себя извиняющуюся улыбку. Ведь и я подумал о том же.
— А ты что-то говорил о другом измерении, которое для этого необходимо?
Он не улыбнулся мне в ответ, а встал и буркнул:
— Ну, вряд ли эта штука кусается. — С этими словами он нагнулся, поднял с пола кубик и подбросил его на ладони, прикидывая вес.
— Похоже, весит ровно столько, сколько все шестьдесят четыре, — сказал он уже совершенно спокойно. Вгляделся в кубик и неожиданно разволновался снова. Силы небесные! Смотри! — Oн протянул мне кубик.
На одной грани, точно в центре, появилось аккуратное отверстие — кружок диаметром примерно в полдюйма.
Я склонился над кубиком и увидел, что на самом деле отверстие не было круглое. Оно походило на лепестковую диафрагму фотоаппарата — многоугольник, образованный множеством металлических пластинок правильной формы, которые находят одна на другую и как бы сплетаются, но оставляют дырочку, куда проникает свет. В отверстии ничего не было видно; только безграничная чернота.
— Не понимаю, каким образом… — начал было я, но тут же осекся.
— Я тоже, — сказал он. — Давай-ка разберемся.
Он поднес кубик поближе к глазам и стал боязливо всматриваться. Потом осторожно положил его на стол, подошел к креслу, сел и сложил руки на толстом брюшке.
— Джордж, — сказал он, — там внутри что-то есть. — Теперь голос его звучал ровно и в то же время как-то необычно.
— Что именно? — спросил я. А что спросили бы вы?
— Какой-то шарик, — ответил он. — Маленький круглый шарик. Он весь будто туманом застлан, но видно, что шарик.
— Да ну! — сказал я.
— Джордж, принесу-ка я джину.
С неимоверной быстротой он извлек из буфета высокие бокалы, наполнил их терновым джином, подлил воды, добавил льду. Отвратительный был вкус у напитка.
Осушив свой бокал, я сказал:
— Восторг! Давай повторим. — Так мы и сделали. После второго бокала ко мне вернулась способность разумно мыслить.
— Фарнзуорт, мне пришла в голову мысль. Разве, по Эйнштейну, четвертое измерение — это не время?
Он тоже долил свой бокал:
— Да, по теории Эйнштейна выходит так. Я назвал это измерение «еслина»… или «деньгина», как тебе больше нравится, — Он снова взял в руки кубик — на этот раз, я заметил, с гораздо большей уверенностью. — А как насчет пятого измерения?
— Ума не приложу, — ответил я и покосился на кубик, который стал казаться мне воплощением зловещих сил. — Не могу постичь, черт побери.
— И я не могу, Джордж, — сказал он почти игриво; у Фарнзуорта такое настроение бывает не часто, Он повертел кубик в пухленьких пальцах. — Все это каким-то непостижимым образом погружено во время. Не говоря уже о крайне своеобразном пространстве, с которым, по-видимому, связано. Поразительно. правда?
— Поразительно, — кивнул я.
— Джордж, я, пожалуй, взгляну еще разок. — И он опять поднес кубик к глазам.
— Ну-ну, — сказал он секундой позже, — все тот же шарик.
— Что же он делает? — полюбопытствовал я.
— Да ничего. А может быть, медленно вращается. Я не уверен. Понимаешь, он какой-то мохнатый и весь в тумане. К тому же темно тут.
— Покажи-ка, — попросил я, сообразив, что в конце концов, если видит Фарнзуорт, значит и я увижу.
— Сейчас. Интересно, в какое именно время я заглядываю: в прошлое, будущее или еще куда-нибудь?
— И в какое пространство… — подхватил я, но внезапно Фарнзуорт заорал не своим голосом, отшвырнул кубик, словно тот вдруг превратился в змею, и закрыл руками глаза.
Он упал в кресло и завопил:
— О ужас, ужас!
Я со страхом следил за тем, как падает кубик, но ничего не случилось. Он не свернулся в ничто и не рассыпался на шестьдесят четыре части.
— Что с тобой? — спросил я, подбежав к Фарнзуорту, который корчился в кресле и не отнимал рук от лица.
— Глаз! — простонал он, едва сдерживая слезы. — Он мне выколол глаз! Живо, Джордж, вызови скорую!
Я метнулся к телефону и стал перелистывать справочник в поисках нужного номера, а Фарнзуорт все твердил:
— Поскорее, Джордж! — Тогда в отчаянии я набрал номер телефонной станции и попросил телефонистку вызвать санитарную машину.
Я вернулся к Фарнзуорту. Он отнял руку от здорового глаза, и я заметил на другой его руке струйку крови. Фарнзуорт почти перестал корчиться, но, судя по его лицу, боль еще не утихла.
Он встал.
— Надо выпить, — сказал он и неуверенной походкой направился к буфету, но зацепил ногой кубик, который все еще валял у самого кресла, споткнулся и чуть не упал. Кубик откатился на несколько шагов и остановился, отверстием вверх возле камина.
Разъяренный Фарнзуорт процедил:
— Ну, погоди же, тварь такая, я тебе покажу! — нагнулся и выхватил из камина кочергу. Она все время лежала на горящих углях и накалилась докрасна. Фарнзуорт обеими руками сжал деревянную ручку и всадил раскаленный конец в отверстие, прижав кубик к полу.
— Я тебе покажу! — повторил он; я сочувственно смотрел, как oн налег всем телом на кочергу и с силой заталкивает ее в кубик. Послышалось слабое шипение, и кочергу окутали маленькие клубы темного дыма, повалившего из отверстия.
Потом раздался странный чмокающий звук, и кочерга стала погружаться в кубик. Она ушла туда дюймов на восемь, а то и на все десять — вещь совершенно немыслимая, если учесть, что кубик был объемом ровно в один дюйм — и даже Фарнзуорта это настолько перепугало, что он рывком вытащил кочергу из отверстия.
Дым повалил столбом, через секунду раздался такой звук, словно из бутылки вылетела пробка, и кубик распался на сотни квадратиков из пластика и алюминия.
Как ни странно, на алюминиевых квадратиках не оказалось следов копоти, ни один пластиковый квадратик не обгорел. Не обнаружили мы и никаких признаков затуманенного шарика.
Фарнзуорт снова поднес правую руку к глазу, уже распухшему и залитому кровью. Здоровым глазом он рассматривал нагромождение квадратиков. Свободная рука его тряслась.
Потом заревела сирена; рев становился все громче и громче. Фарнзуорт перевел обреченный взгляд на меня:
— Это, наверное, за мной. Захвачу зубную щетку. Одного глаза Фарнзуорт лишился. Однако через неделю он вышел из больницы, почти такой же, как прежде, со щегольской черной повязкой на лбу. Любопытная подробность: врач нашел у него на веке следы ожогов и считал, что глаз пострадал от слабого взрыва. Врач решил, что у Фарнзуорта неудачно выстрелил пистолет — патрон каким-то образом взорвался при открытом затворе. Фарнзуорт не разубеждал его — такое объяснение годилось не хуже всякого другого.
Я посоветовал Фарнзуорту носить зеленую повязку — под цвет сохранившегося глаза. Он усмехнулся и сказал, что по его мнению, получится чересчур эффектно. Он уже начал делать новый пентаракт; хотел выяснить, как же…
Однако ему так и не пришлось довести эту работу до конца. Спустя девять дней после злополучного происшествия газеты внезапно запестрели сообщениями из другого полушария — фантастическими россказнями, от которых приходили в восторг все редакторы воскресных приложений. И тут-то мы постепенно сообразили, что же произошло. Незачем было сооружать новым крест из шестидесяти четырех кубиков и выяснять, каким образом он складывается в один. Теперь мы все поняли.
Кубик, действительно, был пятимерный. И одним из измерений, в которых он существовал, было время — точнее, будущее: девять дней вперед. А другим измерением было в высшей степени своеобразное пространство, весьма необычно искажающее размеры.
Это стало совершенно ясно, когда еще три дня спустя все повторилось в нашем полушарии, и явление, которое по самой своей природе не нуждалось в газетной шумихе, сильно подорвало тираж воскресных приложений.
В западном полушарии на всем небосводе появился (до того огромный, что от Аляски до мыса Горн отмечалось солнечное затмение) исполинский блестящий зеленый человеческий глаз. Наблюдалась также часть века, и все это было окаймлено гигантским кругом. Вернее, не совсем кругом, а многоугольником, похожим на лепестковую диафрагму в затворе фотоаппарата.
Перед тем как стало смеркаться, глаз мигнул, и пятьсот миллионов людей вскрикнули одновременно. Он оставался небе всю ночь — зловеще мерцал в отраженном свете солнца, затмевая звезды.
В ту ночь появилась тысяча новых религиозных культов, а тысяча старых объявила, что настал День, Который Был Предвещен Издревле.
Быть может, большинство жителей Земли полагало, что видит бога. Лишь двое знали, что это Оливер Фарнзуорт, сощурясь, разглядывает затуманенный вращающийся шарик в пятимерной коробке — разглядывает девятью днями ранее, не подозревая, что шарик — это сама Земля, заключенная внутри маленького кубика с гранями в один квадратный дюйм, а кубик — тело в разросшемся времени и сжатом пространстве.
Когда пентаракт выпал из моих рук и каким-то образом вывернулся в два новых измерения, он попал в пятимерное пpocтpaнство и вобрал наш мир в себя, а потом стал ускорять в этом мир время, так что пока в кабинете Фарнзуорта прошла минута, в мире внугри кубика миновали целые сутки.
Мы догадались, потому что во второй раз Фарнзуорт держал кубик перед глазами около минуты (первый раз — это, конечно, появление глаза в восточном полушарии), а когда через девять дней) мы увидели то же событие в наших краях, должно было произойти еще двадцать шесть часов до того момента, когда глаз почувствует «укол» и отпрянет.
Это случилось ранним утром — Солнце только-только выглянуло из-за горизонта и устремилось к зениту позади гигантского круга, окаймляющего глаз. На одной из станций защитного пояса у какого-то высокопоставленного лица сдали нервы. В космос вылетели пятьдесят управляемых ракет — самых мощных в мире. Каждая несла на себе боевую головку с водородным зарядом. Прежде чем на Землю обрушилась чудовищная взрывная волна, глаз исчез.
Я знал, где-то корчится и вопит невообразимо огромный Оливер Фарнзуорт; он осуществляет точь-в-точь ту же цепь событий, свидетелем которой я уже был в прошлом и которая, тем не менее, развертывается сейчас в неизменном пространственно-временном континууме, позволившем кубику каким-то образом охватить его. Врач заметил ожоги. Интересно, что бы он подумал, если бы знал, что Фарнзуорту в глаз попали пятьдесят исчезающе малых водородных бомб.
Целую неделю весь мир больше ни о чем не говорил. Два миллиарда человек только об этом и спорили, только над этим и размышляли, только это и видели во сне. С сотворения Земли и Солнца не было более потрясающего зрелища, чем глаз Фарнзуорта.
Однако двое из всех задумывались и о другом. Думали о незыблемом пространственно-временном континууме, где за день, протекающий по нашу сторону пентаракта, проходит одна минута, тогда как в ином времени, ином пространстве мы с исполинским Оливером Фарнзуортом не сводим глаз с валяющегося на полу кубика, в котором замкнут наш мир.
В среду мы могли сказать: «Сейчас он подошел к телефону». В четверг: «Листает телефонный справочник», В субботу; «Сейчас, наверное, вызывает телефонистку»…
А утро вторника мы встретили вдвоем — вместе любовались восходом Солнца. Мы уже несколько суток не разлучались, потому что потеряли сон и страшились одиночества. Когда занялся день, мы ничего не сказали — боялись произнести вслух. Но подумали…
…Представили себе, как колоссальный макро-Фарнзуорт говорит: «Я тебе покажу!» и изо всех сил тычет в круглую дырочку светящейся, шипящей, дымящейся, раскаленной докрасна кочергой.
Роберт Хайнлайн Дом, который построил Тил
перевод Д. Горфинкеля
Американцев во всем мире считают сумасшедшими. Они обычно признают, что такое утверждение в основном справедливо, и как на источник заразы указывают на Калифорнию. Калифорнийцы упорно заявляют, что их плохая репутация ведет начало исключительно от поведения обитателей округа Лос-Анджелес. А те, если на них наседают, соглашаются с обвинением, но спешат пояснить: все дело в Голливуде. Мы тут ни при чем. Мы его не строили. Голливуд просто вырос на чистом месте.
Голливудцы не обижаются. Напротив, такая слава им по душе. Если вам интересно, они повезут вас в Лорелканьон, где расселились все их буйнопомешанные. Каньонисты — мужчины в трусах и коричневоногие женщины, все время занятые постройкой и перестройкой своих сногсшибательных, но неоконченных особняков, — не без презрения смотрят на туповатых граждан, сидящих в обыкновенных квартирах, и лелеют в душе тайную мысль, что они — и только они! — знают, как надо жить.
Улица Лукаут Маунтейн — название ущелья, которое ответвляется от Лорел-каньона.
На Лукаут Мауптейн жил дипломированный архитектор Квинтус Тил.
Архитектура южной Калифорнии разнообразна. Горячие сосиски продают в сооружении, изображающем фигуру щенка, и под таким же названием.[2] Для продажи мороженого в конических стаканчиках построен гигантский, оштукатуренный под цвет мороженого стакан, а неоновая реклама павильонов, похожих на консервные банки, взывает с крыш: «Покупайте консервированный перец». Бензин, масло и бесплатные карты дорог вы можете получить под крыльями трехмоторных пассажирских самолетов. В самих же крыльях находятся описанные в проспектах комнаты отдыха. Чтобы вас развлечь, туда каждый час врываются посторонние лица я проверяют, все ли там в порядке. Эти выдумки могут поразить или позабавить туриста, но местные жители, разгуливающие с непокрытой головой под знаменитым полуденным солнцем Калифорнии, принимают подобные странности как нечто вполне естественное.
Квинтус Тил находил усилия своих коллег в области архитектуры робкими, неумелыми и худосочными.
— Что такое дом? — спросил Тил своего друга Гомера Бейли.
— Гм!.. В широком смысле, — осторожно начал Бейли, — я всегда смотрел на дом как па устройство, защищающее от дождя.
— Вздор! Ты, я вижу, не умнее других.
— Я не говорил, что мое определение исчерпывающее.
— Исчерпывающее! Оно даже не дает правильного направления. Если принять эту точку зрения, мы с таким же успехом могли бы сидеть на корточках в пещере. Но я тебя не виню, — великодушно продолжал Тил. — Ты не хуже фанфаронов, подвизающихся у нас в архитектуре. Даже модернисты — что они сделали? Сменили стиль свадебного торта на стиль бензозаправочной станции, убрали позолоту и наляпали хрома, а в душе остались такими же консерваторами, как, скажем, наши судьи. Нейтра, Шиндлер? Чего эти болваны добились? Фрэнк Ллойд Райт? Достиг он чего-то такого, что было бы недоступно мне?
— Заказов, — лаконично ответил друг.
— А? Что ты сказал? — Тил на минуту потерял ныть своей мысли, но быстро оправился. — Заказов! Верно. А почему? Потому, что я не смотрю на дом как на усовершенствованную пещеру. Я вижу в нем машину для житья, нечто находящееся в постоянном движении, живое и динамичное, меняющееся в зависимости от настроения обитателей, а не застывший гигантский гроб. Почему мы должны быть скованы застывшими представлениями предков? Любой дурак, понюхавший начертательной геометрии, сможет спроектировать обыкновенный дом. Разве статичная геометрия Евклида — единственная геометрия? Разве можем мы полностью игнорировать теорию Пикаро — Вессио? А как насчет модульных систем? Я не говорю уж о плодотворных идеях стереохимии. Есть или нет в архитектуре места для трансформации, для гомоморфологии, для активных конструкций?
— Провалиться мне, если я знаю, — ответил Бейли. — Я в этом понимаю не больше, чем в четвертом измерении.
— Так что ж? Разве мы должны ограничивать свое творчество… Послушай! — Он осекся и уставился в пространство. — Гомер, мне кажется, ты высказал здравую мысль. В конце концов, почему не попробовать? Подумай о бесконечных возможностях сочленений и взаимосвязи в четырех измерениях. Какой дом, какой дом!..
Он стоял не шевелясь, и его бесцветные глаза навыкате задумчиво моргали.
Бейли протянул руку и потряс его за локоть.
— Проснись! Что ты там плетешь про четвертое измерение? Четвертое измерение — это время. И в него нельзя забивать гвозди.
Тил стряхнул с себя руку Бейли.
— Верно, верно! Четвертое измерение — время. Но я думаю о четвертом пространственном измерении, таком же, как длина, ширина и высота! Для экономии материалов и удобства расположения комнат нельзя придумать ничего лучше. Не говоря уже об экономии площади участка. Ты можешь поставить восьмикомнатный дом на участке, теперь занимаемом домом в одну комнату. Как тессеракт…
— Что это еще за тессеракт?
— Ты что, не учился в школе? Тессеракт — это гиперкуб, прямоугольное тело, имеющее четыре измерения, подобно тому как куб имеет три, а квадрат — два. Сейчас я тебе покажу. — Они сидели в квартире Тила. Он бросился на кухню, возвратился с коробкой зубочисток и высыпал их на стол, небрежно отодвинув в сторону рюмки и почти пустую бутылку джина. — Мне нужен пластилин. У меня было тут немного па прошлой неделе. — Он извлек комок жирной глины из ящика до предела заставленного письменного стола, который красовался в углу столовой. — Ну, вот!
— Что ты собираешься делать?
— Сейчас покажу. — Тил проворно отщипнул несколько кусочков пластилина и скатал их в шарики величиной с горошину. Затем он воткнул зубочистки в четыре шарика и слепил их в квадрат. — Вот видишь: это квадрат.
— Несомненно.
— Изготовим второй такой же квадрат, затем пустим в дело еще четыре зубочистки, и у нас будет куб. — Зубочистки образовали теперь скелет куба, углы которого были укреплены комочками пластилина. — Теперь мы сделаем еще один куб, точно такой же, как первый. Оба они составят две стороны тессеракта.
Бейли принялся помогать, скатывая шарики для второго куба. Но его отвлекло приятное ощущение податливой глины в руках, и он начал что-то лепить из нее.
— Посмотри, — сказал он и высоко поднял крошечную фигурку. — Цыганочка Роза Ли.
— Она больше похожа на Гаргантюа. Роза может привлечь тебя к ответственности. Ну, теперь смотри внимательнее. Ты разъединяешь три зубочистки там, где они образуют угол, и, вставив между ними угол другого куба, снова слепляешь их пластилином. Затем берешь еще восемь зубочисток, соединяешь дно первого куба с днем второго наискось, а верхушку первого куба с верхушкой второго точно таким же образом.
Он проделал это очень быстро, пока давал пояснения.
— Что же это собой представляет? — опасливо спросил Бейли.
— Это тессеракт. Его восемь кубов образуют стороны гиперкуба в четырех измерениях.
— А по-моему, это больше похоже на кошачью колыбельку — знаешь игру с веревочкой, надетой на пальцы? Кстати, у тебя только два куба. Где же еще шесть?
— Дополни остальные воображением. Рассмотри верх первого куба в его соотношении с верхом второго. Это будет куб номер три. Затем — два нижних квадрата, далее — передние грани каждого куба, их задние грани, правые и левые — восемь кубов.
Он указал пальцем на каждый из них.
— Ага, вижу! Но это вовсе не кубы. Это, как их, черт… призмы: они не прямоугольные, у них стенки скошены.
— Ты просто их так видишь — в перспективе. Если ты рисуешь на бумаге куб, разве его боковые стороны не выходят косыми? Это перспектива. Если ты смотришь на четырехмерную фигуру из трехмерного пространства, конечно, она кажется тебе перекошенной. Но, как бы то ни было, все равно это кубы.
— Может, для тебя, дружище, но для меня они все перекошены.
Тил пропустил его возражение мимо ушей.
— Теперь считай, что это каркас восьмикомнатного дома. Нижний этаж занят одним большим помещением. Оно будет отведено для хозяйственных нужд и гаража. Во втором этаже с ним соединены гостиная, столовая, ванная, спальни и так далее. А наверху, с окнами на все четыре стороны, твой кабинет. Ну, как тебе нравится?
— Мне кажется, что ванная у тебя подвешена к потолку гостиной. Вообще эти комнаты перепутаны, как щупальца осьминога.
— Только в перспективе, только в перспективе! Подожди, я сделаю это по-другому, чтобы тебе было понятнее.
На этот раз Тил соорудил иэ зубочисток один куб, затем второй — из половинок зубочисток и расположил его точно в центре первого, соединив углы малого куба с углами большого опять-таки посредством коротких кусочков зубочисток.
— Вот слушай! Большой куб — это нижний этаж, малый куб внутри — твой кабинет в верхнем этаже. Примыкающие к ним шесть кубов — жилые комнаты. Понятно?
Бейли долго присматривался к новой фигуре, потом покачал головой.
— Я по-прежнему вижу только два куба: большой и маленький внутри его. А остальные шесть штук в этот раз похожи уже не на призмы, а на пирамиды. Но это вовсе не кубы.
— Конечно, конечно, ты же видишь их в иной перспективе! Неужели тебе не ясно?
— Что ж, может быть. Но вот та комната, что внутри, вся окружена этими… как их… А ты как будто говорил, что у нее окна на все четыре стороны.
— Так оно и есть: это только кажется, будто она окружена. Тессерактовый дом тем и замечателен, что каждая комната ничем не заслонена, хотя каждая стена служит для двух комнат, а восьмикомнатный дом требует фундамента лишь для одной комнаты. Это революция в строительстве.
— Мягко сказано! Ты, милый мой, спятил. Такого дома тебе не построить. Комната, что внутри, там и останется.
Тил посмотрел на друга, едва сдерживаясь.
— Из-за таких субъектов, как ты, архитектура не может выйти из пеленок. Сколько квадратных сторон у куба?
— Шесть.
— Сколько из них внутри?
— Да ни одной. Все они снаружи.
— Отлично! Теперь слушай: у тессеракта восемь кубических сторон, и все они снаружи. Следя, пожалуйста, за мной. Я разверну этот тессеракт, как ты мог бы развернуть кубическую картонную коробку, он станет плоским, и ты сможешь увидеть сразу все восемь кубов.
Работая с чрезвычайной быстротой, он изготовил четыре куба и нагромоздил их один на другой в виде малоустойчивой башни. Затем слепил еще четыре куба и соединил их с внешними плоскостями второго снизу куба. Постройка немного закачалась, так как комочки глины слабо скрепляли ее, но устояла. Восемь кубов образовали перевернутый крест, поскольку четыре куба выступали в четырех направлениях.
— Теперь ты видишь? В основании — комната первого этажа, следующие шесть кубов — жилые комнаты, и на самом верху — твой кабинет.
Эту фигуру Бейли рассматривал более снисходительно.
— Теперь я, кажется, понимаю. Ты говоришь, это тоже тессеракт?
— Тессеракт, развернутый в три измерения. Чтобы снова свернуть его, воткни верхний куб в нижний, сложи боковые кубы так, чтобы они сошлись с верхним, и готово дело! Складывать их ты, конечно, должен через четвертое измерение. Не деформируй ни одного куба и не складывай их один в другой.
Бейли продолжал изучать шаткий каркас.
— Послушай, — сказал он наконец, — почему бы тебе не отказаться от складывания этого курятника через четвертое измерение — все равно это невозможно! — и не построить взамен дом такого вида?
— Что ты болтаешь? Почему невозможно? Это простая математическая задача…
— Легче, легче, братец! Пусть я невежда в математике, но я знаю, что строители твоих планов но одобрят. Никакого четвертого измерения нет. Забудь о нем! А так распланированный дом может иметь свои преимущества.
Остановленный на всем скаку Тил стал разглядывать модель.
— Гм… Может быть, ты в чем-то и прав! Мы могли бы получить столько же комнат и сэкономить столько же па площади участка. Кроме того, мы могли бы ориентировать средний крестообразный этаж на северо-восток, юго-восток и так далее. Тогда все комнаты получат свою долю солнечного света. Вертикальная ось очень удобна для прокладки системы центрального отопления. Пусть столовая у нас выходит на северо-восток, а кухня — на юго-восток. Во вcех комнатах будут панорамные окна. Прекрасно. Гомер, я берусь! Где ты хочешь строиться?
— Минутку, минутку! Я не говорил, что строить для меня будешь ты…
— Конечно, я! А кто же еще? Твоя жена хочет новый дом. Этим все сказано.
— Но миссис Бейли хочет дом в английском стиле восемнадцатого века.
— Взбредет же такое в голову! Женщины никогда не знают, чего хотят.
— Миссис Бейли знает.
— Какой-то допотопный архитектуришка внушил ей эту глупость. Она ездит в машине последнего выпуска, ведь так? Одевается по последней моде. Зачем же ей жить в доме восемнадцатого века? Мой дом будет даже не последнего, а завтрашнего выпуска — это дом будущего. О нем заговорит весь город.
— Ладно. Я потолкую с женой.
— Ничего подобного! Мы устроим ей сюрприз… Налей-ка еще стаканчик!
— Во всяком случае, сейчас еще рано приступать к делу. Мы с женой завтра уезжаем в Бейкерсфилд. Наша фирма должна вводить в действие новые скважины.
— Вздор! Все складывается как нельзя лучше. Когда твоя жена вернется, ее будет ждать сюрприз. Выпиши мне сейчас же чек и больше ни о чем не заботься.
— Не следовало бы мне принимать решение, не посоветовавшись с женой. Ей это не понравится.
— Послушай, кто в вашей семье мужчина?
Когда во второй бутылке осталось около половины, чек был подписан.
В южной Калифорнии дела делаются быстро. Обыкновенные дома чаще всего строят за месяц. Под нетерпеливые понукания Тила тессерактовый дом что ни день головокружительно рос к небу, и его крестообразный второй этаж выпирал во все четыре стороны света. У Тила вначале были неприятносги с инспекторами по поводу этих четырех выступающих комнат, но, пустив в дело прочные балки и гибкие банкноты, он убедил кого-следовало в добротности сооружения.
Наутро после возвращения супругов Бейли в город Тил, как было условлено, подъехал к их дому. Он сымпровизировал бравурную мелодию на своем двухголосом рожке. Голова Бейли высунулась из-за двери.
— Почему ты не звонишь?
— Слишком долгая канитель, — весело ответил Тил. — Я человек действия. Миссис Бейли готова?.. А, вот и миссис Бейли! С приездом, с приездом! Прошу в машину! У нас сюрприз для вас!
— Ты знаешь Тила, моя дорогая! — неуверенно вставил Бейли.
Миссис Бейли фыркнула.
— Слишком хорошо знаю! Поедем в нашей машине, Гомер.
— Пожалуйста, дорогая.
— Отличная мысль, — согласился Тил. — Ваша машина более мощная. Мы доедем скорее. За руль лучше сесть мне: я знаю дорогу. — Он взял у Бейли ключ, взобрался на сиденье водителя и запустил двигатель, прежде чем миссис Бейли успела прийти в себя. — Не беспокойтесь, править я умею! — заверил он женщину, поворачиваясь к ней и одновременно включая первую скорость. Свернув на бульвар Сансет, он продолжал: — Энергия и власть над нею, динамический процесс — это как раз моя стихия. У меня еще не было серьезной аварии.
— Первая будет и последней, — ядовито заметила миссис Бейли. — Прошу вас, смотрите вперед и следите за уличным движением.
Он попытался объяснить ей, что безопасность езды зависит не от зрения, а от интуитивной интеграции траекторий, скоростей и вероятностей, но Бейли остановил его:
— Где же дом, Квинтус?
— Дом? — подозрительно переспросила миссис Бейли. — О каком доме идет речь, Бейли? Ты что-то затеял, не сказав мне?
Тут Тил выступил в роли тонкого дипломата.
— Это действительно дом, миссис Бейли, и какой дом! Сюрприз вам от преданного мужа. Да. Сами увидите!
— Увижу! — мрачно подтвердила миссис Бейли. — В каком он стиле?
— Этот дом утверждает новый стиль. Он новее телевидения, новее завтрашнего дня. Его надо видеть, чтобы оценить. Кстати, — быстро продолжал Тил, предупреждая возражения, — вы почувствовали этой ночью толчки?
— Толчки? Какие толчки? Гомер, разве было землетрясение?
— Очень слабое, — тараторил Тил, — около двух часов ночи. Если бы я спал, то ничего бы не заметил.
Миссис Бейли содрогнулась.
— Ах эта злосчастная Калифорния! Ты слышишь, Гомер? Мы могли погибнуть в кроватях и даже не заметить этого. Зачем я поддалась твоим уговорам и уехала из Айовы?
— Что ты, дорогая! — уныло запротестовал супруг. — Ведь это ты хотела переехать в Калифорнию. Тебе не нравилось в Де-Мойне.
— Пожалуйста, не спорь! — решительно заявила миссис Бейли. — Ты мужчина, ты должен предвидеть такие вещи. Подумать только: землетрясение!
— Как раз этого, миссис Бейли, вам не надо бояться в новом доме, — вмешался Тил. — Сейсмически он абсолютно устойчив. Каждая его часть находится в точном динамическом равновесии с любой из остальных.
— Надеюсь! А где ж этот дом?
— Сразу за поворотом. Вот уже виден плакат.
Он показал на дорожный знак в виде большущей стрелы, какими любят пользоваться торговцы земельными участками. Буквы, слишком крупные и яркие даже для южной Калифорнии, складывались в слова:
ДОМ БУДУЩЕГО
Колоссально — Изумительно — Революция в зодчестве.
Посмотрите, как будут жить ваши внуки!
Архитектор К. ТИЛ
— Конечно, это уберут, как только вы вступите во владение, — поспешно сказал Тил, заметив гримасу на лице миссис Бейли.
Он обогнул угол и под визг тормозов остановил машину перед Домом Будущего.
— Ну, вот!
Тил впился взором в супругов, ожидая, какова будет их реакция.
Бейли недоверчиво таращил глаза, миссис Бейли смотрела с явным неодобрением.
Перед ними был обыкновенный кубический массив с дверями и окнами, но без каких-либо иных архитектурных деталей, если не считать украшением множество непонятных математических знаков.
— Слушай, — медленно произнес Бейли, — что ты тут нагородил?
Архитектор перевел взгляд на дом. Исчезла сумасшедшая башня с выступающими комнатами второго этажа. Ни следа не осталось от семи комнат над нижним этажом. Не осталось ничего, кроме единственной комнаты, опирающейся на фундамент.
— Мама родная! — завопил Тил. — Меня ограбили!
Он бросился к дому и обежал его кругом.
Но это не помогло. И спереди и сзади у сооружения был тот же вид. Семь комнат исчезли, словно их и не было.
Бейли подошел и взял Тила за рукав.
— Объясни! О каком грабеже ты говоришь? С чего тебе пришло в голову построить этот ящик? Ведь мы договорились совсем о другом!
— Но я тут ни при чем! Я построил в точности то, что мы с тобой наметили: восьмикомнатный дом в виде развернутого тессеракта. Это саботаж! Происки завистников! Другие архитекторы города не хотели, чтобы я довел дело до конца. Они знали, что после этого вылетят в трубу.
— Когда ты был здесь в последний раз?
— Вчера во второй половине дня.
— И все было в порядке?
— Да. Садовники заканчивали работу.
Бейли огляделся. Кругом — безукоризненный, вылизанный ландшафт.
— Я не представляю себе, как стены и прочие части семи комнат можно было разобрать и увезти отсюда за одну ночь, не разрушив сада.
Тил тоже огляделся.
— Да, непохоже. Ничего не понимаю!
К ним подошла миссис Бейли.
— Ну что? Долго я буду сама себя занимать? Раз мы здесь, давайте все осмотрим. Но предупреждаю тебя, Гомер, мне этот дом не нравится.
— Что ж, осмотрим, — согласился Тил. Он достал из кармана ключ и отпер входную дверь. — Может быть, мы обнаружим какие-нибудь улики.
Вестибюль оказался в полном порядке, скользящие перегородки, отделявшие его от гаража, были отодвинуты, что давало возможность обозреть все помещение.
— Здесь, кажется, все благополучно, — заметил Бейли. — Давайте поднимемся на крышу и попробуем сообразить, что произошло. Где лестница? Ее тоже украли?
— Нет, нет! — отверг это предположение Тил, — Смотрите.
Он нажал кнопку под выключателем. В потолке откинулась панель, и вниз бесшумно спустилась легкая, изящная лестница. Ее несущие части были из матового серебристого дюралюминия, ступеньки — из прозрачной пластмассы.
Тил вертелся, как мальчишка, успешно показавший карточный фокус. Миссис Бейли заметно оттаяла.
Лестница была очень красива.
— Неплохо! — одобрил Бейли. — А все-таки эта лестница как будто никуда не ведет.
— Ах, ты об этом… — Тил проследил за его взглядом. — Когда вы поднимаетесь на верхние ступеньки, откидывается еще одна панель. Открытые лестничные колодцы — анахронизм. Пойдем!
Как он и предсказал, во время их подъема крышка лестницы открылась, и они ступили — но не на крышу единственной уцелевшей комнаты, как ожидали, нет, они оказались в центральной из пяти комнат, составляющих второй этаж задуманного Типом дома, — в холле.
Впервые за все время у Тила не нашлось слов. Бейли тоже молчал и только жевал сигару. Все было в полном порядке. Перед ними сквозь открытую дверь и полупрозрачную перегородку виднелась кухня, мечта повара, доведенное до совершенства произведение инженерного искусства. Большой кухонный стол, скрытое освещение, целесообразная расстановка всевозможных приспособлений. Налево гостей ожидала немного чопорная, но уютная и приветливая столовая. Мебель была расставлена, как по шнуру.
Тил, даже не повернув головы, уже знал, что гостиная и бар тоже заявят о своем вполне материальном, хотя и невозможном существовании.
— Да, нужно признать, это чудесно, — одобрила миссис Бейли. — Для кухни я прямо не нахожу слов. А ведь по наружному виду дома я ни за что не догадалась бы, что наверху окажется столько места. Конечно, придется внести кое-какие изменения. Например, вот этот секретер. Что, если мы переставим его сюда, а диванчик туда?..
— Помолчи, Матильда, — бесцеремонно прервал ее Бейли. — Как ты это объяснишь, Тил?
— Ну, знаешь, Гомер! Как можно… — не унималась миссис Вейли.
— Я сказал — помолчи! Ну, Тил?
Архитектор переминался с ноги на ногу.
— Боюсь что-либо сказать. Давайте поднимемся выше.
— Как?
— А вот так.
Он нажал еще одну кнопку. Копия, только в более темных тонах, того волшебного мостика, что уже помог им подняться, открыла доступ к следующему этажу. Они взошли и по этой лестнице — миссис Бейли замыкала шествие, без устали что-то доказывая, — и оказались в главной спальне, предназначенной для хозяев дома. Шторы здесь были опущены, как и внизу, но мягкое освещение включилось автоматически. Тил снова нажал кнопку, управлявшую движением еще одной выдвижной лестницы, и они быстро поднялись в кабинет, помещавшийся в верхнем этаже.
— Послушай, Тил, — предложил Бейли, когда немного пришел в себя, — нельзя ли нам подняться на крышу над зтой комнатой? Оттуда мы могли бы полюбоваться окрестностями.
— Конечно Там устроена площадка для обзора.
Они поднялись по четвертой лестнице, но, когда находившаяся вверху крышка повернулась, чтобы пустить их наверх, они очутились не на крыше, а в комнате нижнего этажа, через которую вначале вошли в дом.
Лицо мистера Бейли приняло серый оттенок.
— Силы небесные! — воскликнул он. — Здесь колдуют духи. Прочь отсюда!
Схватив в охапку жену, он распахнул входную дверь и нырнул в нее.
Тил был слишком погружен в свои мысли, чтобы обратить внимание на их уход. Все это должно было иметь какое-то объяснение, и Тил заранее не верил в него. Но тут ему пришлось отвлечься от своих размышлений, так как где-то наверху раздались хриплые крики. Он спустил лестницу и взбежал наверх. В холле он обнаружил Бейли, склонившегося над женой, которая упала в обморок. Тил не растерялся, подошел к встроенному шкафчику с напитками в баре, палил рюмку коньяку и подал ее Бейли.
— Дай ей выпить. Она сразу придет в себя.
Бейли выпил коньяк.
— Я налил для миссис Бейли.
— Не придирайся, — огрызнулся Бейли. — Дай ей другую рюмку.
Тил из осторожности сначала выпил сам и лишь после этого вернулся с порцией, отмеренной для жены его клиента. Она как раз в эту минуту открыла глаза.
— Выпейте, миссис Бейли, — успокаивающе сказал он. — Вы почувствуете себя лучше.
— Я никогда не пью спиртного, — запротестовала она и разом осушила рюмку.
— Теперь скажите мне, что случилось, — попросил Тил. — Я думал, что вы с мужем ушли.
— Мы и ушли: вышли из двери и очутились в передней, на втором этаже.
— Что за вздор! Гм… подождите минутку!
Тил вышел в бар. Он увидел, что большое окно в конце комнаты открыто, и осторожно выглянул из него. Глазам его открылся не калифорнийский ландшафт, а комната нижнего этажа — или, точнее, ее повторение. Тил ничего не сказал, а возвратился к лестнице и заглянул вниз, в пролет. Вестибюль все еще был на месте. Итак, он умудрился быть одновременно в двух разных местах, на двух разных уровнях.
Тил вернулся в холл, сел напротив Бейли в глубокое низкое кресло и, подтянув вверх костлявые колени, пытливо посмотрел на приятеля.
— Гомер, — сказал он, — ты знаешь, что произошло?
— Нет, не знаю. Но, если не узнаю в самое ближайшее время, тебе несдобровать!
— Гомер, это подтверждает мою теорию: дом — настоящий тессеракт.
— О чем он болтает, Гомер?
— Подожди, Матильда!.. Но ведь это смешно, Тил. Ты придумал какое-то озорство и до смерти напугал миссис Бейли. Я тоже разнервничался и хочу одного — выбраться отсюда, чтобы не видеть больше твоих проваливающихся крышек и других глупостей.
— Говори за себя, Гомер, — вмешалась миссис Бейли. — Я нисколько не испугалась. Просто на минуту в глазах потемнело. Теперь уже все прошло. Это — сердце. В моей семье у всех сложение деликатное и нервы чувствительные. Так что же с этим тессе… или как там его? Объясните, мистер Тил. Ну же!
Несмотря на то, что супруги непрестанно перебивали его, он кое-как изложил теорию, которой следовал, когда строил дом.
— Я думаю, дело вот в чем, миссис Бейли, — продолжал он. — Дом, совершенно устойчивый в трех измерениях, оказался неустойчивым в четвертом. Я построил дом в виде развернутого тессеракта. Но случилось что-то — толчок или боковое давление, — и он сложился в свою нормальную форму, да, сложился. — Внезапно Тил щелкнул пальцами. — Понял! Землетрясение!
— Земле-трясе-ние?
— Да, да! Тот слабый толчок, который был ночью. С точки зрения четвертого измерения этот дом можно уподобить плоскости, поставленной на ребро. Маленький толчок, и он падает, складываясь по своим естественным сочленениям в устойчивую трехмерную фигуру.
— Помнится, ты хвастал, как надежен этот дом.
— Он и надежен — в трех измерениях.
— Я не считаю надежным дом, который рушится от самого слабого подземного толчка.
— Но погляди же вокруг! — возмутился Тил. — Ничто не сдвинулось с места, все стекло цело. Вращение через четвертое измерение не может повредить трехмерной фигуре, как ты не можешь стряхнуть буквы с печатной страницы. Если бы ты прошлой ночью спал здесь, ты бы не проснулся.
— Вот этого я и боюсь. Кстати, предусмотрел ли твой великий гений, как нам выбраться из этой дурацкой ловушки?
— А? Да, да! Ты и миссис Бейли хотели выйти и очутились здесь? Но я уверен, что это несерьезно. Раз мы вошли, значит, сможем и выйти. Я попробую…
Архитектор вскочил и побежал вниз, даже не договорив. Он распахнул входную дверь, шагнул в нее, и вот он уже смотрит на своих спутников с другого конца холла.
— Тут и вправду какое-то небольшое осложнение, — признал он. — Чисто технический вопрос. Между прочим, мы всегда можем выйти через стеклянные двери.
Он отдернул в сторону длинные гардины, скрывавшие стеклянные двери в стене бара. И замер на месте.
— Гм! — произнес он. — Интересно! Оч-чень интересно!
— В чем дело? — поинтересовался Бейли, подходя к нему.
— А вот…
Дверь открывалась прямо в столовую, а вовсе не наружу.
Бейли попятился в дальний угол, где бар и столовая примыкали к холлу перпендикулярно друг другу.
— Но этого же не может быть, — прошептал он. — От этой двери до столовой шагов пятнадцать.
— Не в тессеракте, — поправил его Тип. — Смотри!
Он открыл стеклянную дверь и шагнул в нее, глядя через плечо и продолжая что-то говорить.
С точки зрения супругов Бейли, он просто ушел.
Но это только с точки зрения супругов Бейли. У самого Типа захватило дух, когда он прямо-таки врос в розовый куст под окнами. Осторожно выбравшись из него, он решил, что впредь при разбивке сада будет избегать растений с шипами.
Он стоял снаружи. Рядом с ним высился тяжеловесный массив дома. Очевидно, Тил упал с крыши.
Он забежал за угол, распахнул входную дверь и бросился по лестнице наверх.
— Гомер! — кричал он. — Миссис Бейли! Я нашел выход.
Увидев его, Бейли скорее рассердился, чем обрадовался.
— Что с тобой случилось?
— Я выпал. Я был снаружи дома. Вы можете проделать это так же легко: просто пройдите в эту стеклянную дверь. Но там растет розовый куст — остерегайтесь его. Может быть, придется построить еще одну лестницу.
— А как ты потом попал в дом?
— Через входную дверь.
— Тогда мы через нее и выйдем. Идем, дорогая!
Бейли решительно напялил шляпу и спустился по лестнице, ведя под руку жену.
Тил встретил их… в баре.
— Я мог бы предсказать, что у вас так ничего не получится! — объявил он. — Насколько я понимаю, как только трехмерный человек пересечет какую-либо линию раздела в четырехмерной фигуре, например стену или порог, он имеет две возможности. Обычно он поворачивает под прямым углом через четвертое измерение, но сам при своей трехмерной сущности этого не чувствует. Вот, посмотрите!
Он шагнул в ту дверь, через которую минутой раньше выпал. Шагнул и очутился в столовой, где продолжал свои объяснения:
— Я следил за тем, куда я иду, и попал, куда хотел. — Он перешел обратно в холл. — В прошлый раз я не следил, двигался в трехмерном пространстве и выпал из дома. Очевидно, это вопрос подсознательной ориентации.
— Когда я выхожу за утренней газетой, я не хочу зависеть от подсознательной ориентации, — заметил Бейли.
— Тебе и не придется. Это станет автоматической привычкой. Теперь — как выйти из дома? Я попрошу вас, миссис Бейли, стать спиной к стеклянной двери. Если вы теперь прыгнете назад, я вполне уверен, что вы очутитесь в саду.
Лицо миссис Бейли красноречиво отразило ее мнение о Тиле и его предложении.
— Гомер Бейли, — пронзительным голосом позвала она, — ты, кажется, собираешься стоять здесь и слушать, как мне предлагают…
— Что вы, миссис Бейли, — попытался успокоить ее Тил, — мы можем обвязать вас веревкой и спустить самым…
— Выкинь это из головы, Тил, — оборвал его Бейли. — Надо найти другой способ. Ни миссис Бейли, ни я не можем прыгать.
Тил растерялся. Возникла недолгая пауза.
Бейли прервал ее:
— Тил, ты слышишь?
— Что слышу?
— Чьи-то голоса. Не думаешь ли ты, что в доме есть еще кто-то и что он морочит нам головы?
— Едва ли: единственный ключ у меня.
— Но это так, — подтвердила миссис Бейли. — Я слышу голоса с тех пор, как мы пришли сюда. Гомер, я больше не выдержу, сделай что-нибудь!
— Спокойнее, спокойнее, миссис Бейли! — пытался уговорить ее Тил. — Не волнуйтесь. В доме никого не может быть, но я все осмотрю, чтобы у вас не оставалось сомнений. Гомер, побудь здесь с миссис Бейли и последи за комнатами этого этажа.
Он вышел из бара в вестибюль, а оттуда в кухню и спальню. Это прямым путем привело его обратно в бар. Другими словами, идя все время прямо, он возвратился к месту, откуда начал обход.
— Никого нет, — доложил он. — По пути я открывал все окна и двери, кроме этой. — Он подошел к стеклянной двери, расположенной напротив той, через которую недавно выпал, и отдернул гардины.
Он увидел четыре пустые комнаты, но в пятой спиной к нему стоял человек. Тил распахнул дверь и кинулся в нее, вопя:
— Ага, попался! Стой, ворюга!
Неизвестный, без сомнения, услыхал его. Он мгновенно обратился в бегство. Приведя в дружное взаимодействие свои длиннющие конечности, Тил гнался за ним через гостиную, кухню, столовую, бар, из комнаты в комнату, но, несмотря на отчаянные усилия, ему все не удавалось сократить расстояние между собой и незнакомцем. Затем преследуемый проскочил через стеклянную дверь, уронив головной убор. Добежав до этого места, Тил нагнулся и поднял шляпу, радуясь случаю остановиться и перевести дух. Он опять находился в баре.
— Негодяй, кажется, удрал, — признался Тил. — Во всяком случае, у меня его шляпа. Может быть, но ней мы и опознаем этого человека.
Бейли взял шляпу, взглянул на нее, потом фыркнул и нахлобучил ее на голову Тила. Она подошла, как по мерке. Тил был ошеломлен. Он снял шляпу и осмотрел ее. На кожаной ленте внутри он увидел инициалы: «К. Т.» Это была его собственная шляпа.
По лицу Типа видно было, что он начинает что-то понимать.
Он вернулся к стеклянной двери и стал смотреть в глубь анфилады комнат, по которым преследовал таинственного незнакомца. И тут к удивлению своих спутников начал размахивать руками подобно семафору.
— Что ты делаешь? — спросил Бейли.
— Ступай сюда, и увидишь.
Супруги подошли к нему и, посмотрев в ту сторону, куда он указывал, увидели сквозь четыре комнаты спины трех фигур: двух мужских и одной женской. Более высокая и худощавая довольно глупо размахивала руками.
Миссис Бейли вскрикнула и опять упала в обморок.
Несколько минут спустя, когда она пришла в себя и немного успокоилась, Бейли и Тил подвели итоги.
— Тил, — сказал Бейли, — ругать тебя — значит зря тратить время. Взаимные обвинения бесполезны, и я уверен, что ты сам не ожидал ничего подобного. Но я думаю, ты понимаешь, в каком серьезном положении мы оказались. Как нам отсюда выбраться? Похоже, мы будем здесь торчать, пока не умрем с голоду. Каждая комната ведет в другую.
— Ну, не так все плохо. Ты знаешь, что я уже один раз выбрался.
— Да, но повторить этого несмотря на все попытки ты не можешь!
— Ну, мы еще не испробовали всех комнат. У нас в запасе кабинет.
— Ах да, кабинет! Мы, помнится, прошли через него, но задерживаться в нем не стали. Ты хочешь сказать, что, может быть, удастся выйти через его окна?
— Не создавай себе иллюзий. Если рассуждать математически, кабинет должен выходить в четыре боковые комнаты этого этажа. Впрочем, мы еще не поднимали штор. Давайте взглянем, что за этим окном.
— Беды от этого не будет. Дорогая, мне кажется, тебе лучше остаться здесь и отдохнуть.
— Остаться одной в этом ужасном ящике? Ни за что!
Не успев договорить, миссис Бейли вскочила с кушетки, на которой восстанавливала силы.
Поднялись в верхний этаж.
— Это внутренняя комната, не так ли, Тил? — спросил Бейли, когда они прошли через хозяйскую спальню и начали взбираться в кабинет. — Я припоминаю, что на твоем чертеже он имел вид маленького куба в центре большого и был со всех сторон окружен другими помещениями
— Совершенно верно, — согласился Тил. — Что ж, посмотрим. По-моему, окно тут выходит в кухню.
Дернув за шнур, он поднял жалюзи.
Предсказание не оправдалось. Всеми овладело сильнейшее головокружение, и они попадали на пол, беспомощно цепляясь за ковер, чтобы их не унесло в Невеедомое.
— Закрой, закрой! — простонал Бейли.
Преодолев первобытный атавистический страх, Тил, шатаясь, снова подошел к окну, и ему удалось опустить жалюзи. Окно смотрело вниз, а не вперед, вниз с ужасающей высоты.
Миссис Бейли опять упала в обморок.
Тил отправился за коньяком, а Бейли тем временем тер супруге запястья. Когда она очнулась, Тил осторожно подошел к окну и поднял жалюзи на одну планочку. Упершись коленями в стену, он стал вглядываться в то, что открылось его глазам. Потом обернулся к Бейли.
— Иди посмотри, Гомер. Узнаешь?
— Не ходи туда, Гомер Бейли!
— Не бойся, Матильда, я буду осторожен.
Он присоединился к архитектору и выглянул.
— Ну, видишь? Это, безусловно, небоскреб Крайслера! А там Ист-ривер и Бруклин. — Они смотрели прямо вниз с вершины необычайно высокого здания. На тысячу футов под ними расстилался игрушечный, но очень оживленный город. — Насколько я могу сообразить, мы смотрим вниз с Эмпайр-Стейт-билдинг, с точки, находящейся над его башней, — продолжал Тил.
— Что это? Мираж?
— Не думаю. Картина слишком отчетлива. Мне кажется, пространство здесь сложено пополам через четвертое измерение, и мы смотрим вдоль складки.
— Ты хочешь сказать, что мы этого на самом деле не видим?
— Нет, безусловно видим. Не знаю, что было бы, если бы мы вылезли из этого окна. Что до меня, то мне пробовать неохота. Но какой вид! Ах, друзья мои, какой вид! Попробуем другие окна.
К следующему окну они приблизились более осторожно. И не напрасно: им представилась картина еще более удивительная, еще более потрясающая разум, чем вид с опасной высоты небоскреба. Перед ними был обыкновенный морской пейзаж, открытый океан и синее небо, но только океан был там, где полагалось быть небу, а небо — на месте океана. На этот раз они уже несколько подготовились к неожиданностям, но при виде волн, катящихся над головами, их начала одолевать морская болезнь. Мужчины поспешили опустить жалюзи, прежде чем зрелище успело окончательно выбить из колеи и без того взволнованную миссис Бейли.
Тил покосился на третье окно.
— Попробуем, что ли, Гомер?
— Гм… Да… Гм!.. Если мы не попробуем, у нас останется неприятный осадок. Но ты полегче!..
Тил поднял жалюзи на несколько дюймов. Он не увидел ничего, поднял еще немного — по-прежнему ничего. Он медленно поднял жалюзи до отказа. Супруги Бейли и Тил видели перед собой… ничто.
Ничто, отсутствие чего бы то ни было. Какого цвета ничто? Не дурите! Какой оно формы? Форма — атрибут чего-то. Это ничто не имело ни глубины, ни формы. Оно не было даже черным. Просто — ничто.
Бейли жевал сигару.
— Тил, что ты об этом думаешь?
Безмятежность Типа была поколеблена.
— Не знаю, Гомер, право, не знаю… Но считаю, что это окно надо заделать. — Он минутку поглядел на опущенное жалюзи. — Я думаю… Может быть, мы смотрели в такое место, где вовсе нет пространства. Мы заглянули за четырехмерный угол, и там не оказалось ничего. — Он потер глаза. — У меня разболелась голова.
Они помедлили, прежде чем приступить к четвертому окну. Подобно невскрытому письму, оно могло и не содержать дурных вестей. Сомнение оставляло надежду. Наконец неизвестность стала невыносимой, и Бейли, несмотря на протесты жены, сам потянул за шнур.
То, что они увидели, было не так страшно. Ландшафт уходил от них вдаль, с подъемом в правую сторону. В общем, местность лежала на таком уровне, что кабинет казался комнатой первого этажа. И все же картина была неприветливая.
Знойное солнце хлестало лучами землю с лимонножелтого неба. Выгоревшая до бурого цвета равнина казалась бесплодной и неспособной поддерживать жизнь. Но жизнь здесь все же была. Странные увечные деревья тянули к небу узловатые искривленные ветви. Маленькие пучки колючих листьев окаймляли эту уродливую поросль.
— Божественный день! — прошептал Бейли. — Но где это?
Тил покачал головой, глаза его были полны смущения.
— Это выше моего понимания.
— На Земле нет ничего похожего. Скорей всего, это другая планета. Может быть, Марс.
— Бог его знает. Но может быть и хуже, Гомер! Я хочу сказать — хуже, чем другая планета!
— А? Что это значит?
— Все это может оказаться целиком вне нашего пространства. Я даже не уверен, наше ли это солнце. Что-то оно слишком яркое.
Миссис Бейли робко подошла к ним и теперь была во власти диковинного зрелища.
— Гомер, — тихо сказала она, — какие отвратительные деревья. Они пугают меня.
Он похлопал ее по руке.
Тил возился с оконным затвором.
— Что ты делаешь? — строго спросил Бейли.
— Собираюсь высунуть голову из окна. Я хочу оглядеться, и, может быть, я что-нибудь пойму тогда.
— Ну… что ж! — нехотя согласился Бейли. — Но будь осторожен.
— Хорошо. — Тил чуть приоткрыл окно и потянул носом. — По крайней мере, воздух как воздух.
Он распахнул окно, но больше ничего не успел сделать, так как внимание его было отвлечено странным явлением: все здание начало сотрясаться от мелкой дрожи, у людей такая дрожь обычно служит первым предвестником тошноты. Через две-три секунды она прекратилась.
— Землетрясение! — воскликнули все разом.
Миссис Бейли повисла на шее мужа.
Тип проглотил слюну. Он быстро оправился от испуга.
— Ничего худого не случится, миссис Бейли! Дом совершенно надежен. После толчка, который был ночью, можно, знаете ли, ожидать усадочных колебаний.
Не успел он придать лицу беспечное выражение, как толчок повторился. Но теперь это была не слабая дрожь, а настоящая морская, качка.
В каждом калифорнийце, будь он местный житель или приезжий, глубоко сидит автоматический рефлекс: стоит начаться землетрясению, как он мгновенно бросается из закрытого помещения на воздух. Самые примерные бойскауты, повинуясь этому рефлексу, отпихивают в сторону престарелых бабушек. Однако Тил и Бейли упали на спину миссис Бейли. Очевидно, она первая выскочила из окна. Впрочем, это еще не доказывает рыцарского благородства ее спутников. Скорее следует предположить, что она находилась в позе, особенно удобной для прыжка.
Они перевели дух, немного опомнились и очистили глаза от песка. И прежде всего они испытали радость, почувствовав под ногами плотный песок пустыни. Потом Бейли заметил нечто, заставившее их вскочить на ноги и предупредившее словесный поток, который уже готов был хлынуть из уст миссис Бейли.
— Где же дом?
Дом исчез. Не было ни малейшего признака его существования. Здесь царило полное запустение. Именно этот вид открылся им из последнего окна. Тут не было ничего, кроме увечных, искривленных деревьев, желтого неба и солнца над головой, сверкавшего невыносимым блеском.
Бейли огляделся, потом повернулся к архитектору.
— Ну, Тил?
В его голосе были зловещие нотки.
Тил безнадежно пожал плечами.
— Ничего не знаю. Не знаю даже, на Земле ли мы.
— Так или иначе, мы не можем оставаться здесь. Это верная смерть. В каком направлении нам лучше идти?
— Думаю, направление роли не играет, можно пойти в любую сторону. Будем ориентироваться по солнцу.
Они двинулись в путь и прошли не так уж много, когда миссис Бейли потребовала передышки. Остановились.
— Ну, что ты об этом думаешь? — театральным шепотом спросил у Бейли Тил.
— Ничего!.. Котелок не варит. Скажи, ты ничего не слышишь?
Тил прислушался.
— Может быть… если это не плод воображения.
— Похоже на автомобиль. Слушай, в самом деле автомобиль!
Пройдя не больше ста шагов, они очутились на шоссе. Когда автомобиль приблизился, оказалось, что это старенький тарахтящий грузовичок. Им управлял какой-то фермер. Они подняли руки, и машина скрежеща остановилась.
— У нас авария. Не выручите?
— Конечно. Залезайте!
— Куда вы едете?
— В Лос-Анджелес!
— В Лос-Анджелес? А где мы сейчас?
— Вы забрались в самую глубь Национального заповедника Джошуа-Три.
Обратный путь был уныл, как отступление французов из Москвы. Мистер и миссис Бейли сидели впереди, рядом с водителем, а Тил в кузове грузовичка подлетал на всех ухабах и старался как-нибудь защитить голову от солнца. Бейли попросил приветливого фермера дать крюк и подъехать к тессерактовому дому. Не то чтобы он или его жена жаждали вновь увидеть это жилище, но надо же было им забрать свою машину.
Наконец фермер свернул к тому месту, откуда начались их похождения. Но дома там не было.
Не было даже комнаты нижнего этажа. Она исчезла. Супруги Бейли, заинтересованные помимо собственной воли, побродили вокруг фундамента вместе с Тилом.
— Ну, а это ты понимаешь, Тил? — спросил Бейли.
— Несомненно, от последнего толчка дом провалился в другой сектор пространства. Теперь я вижу — надо было скрепить его анкерными связями с фундаментом.
— Тебе следовало еще многое сделать!
— В общем, я не вижу оснований для того, чтобы падать духом. Дом застрахован, а мы узнали поразительные вещи. Открываются широкие возможности, дружище, широкие возможности. Знаешь, мне сейчас пришла в голову поистине замечательная, поистине революционная идея дома, который…
Тил вовремя пригнул голову. Он всегда был человеком действия.
Ф. Энсти Стеклянный шар
перевод Е. Толкачева
Уже смеркалось, когда я возвращался домой и усиленно боролся с вьюгой, бившей в лицо вихрем белых снежинок. Не помню точно, на какой улице мое внимание привлекла ярко освещенная витрина игрушечного магазина. Я вспомнил, что обещал племяннику подарок, и вошел в магазин. Народу было много, и мне пришлось ждать, пока приказчик займется со мною.
В ожидании я рассматривал игрушки и увидел стеклянный шар. Вы знаете эти шары: внутри обычно плавают восковые лебеди или стоит картонный замок. Но шар, привлекший мое внимание, был несколько иным. Никаких фигур внутри не было, только тысячи белых точек застыли в нем, как снежинки.
Я стоял и смотрел на шар и вдруг заметил, что снежинки двигаются. Они падали сначала медленно, потом все быстрее, пока не превратились в настоящую снежную бурю. Они вылетали из шара и окружили меня; я понял, что нахожусь на улице и куда-то иду. Идти было трудно: вьюга слепила глаза и не позволяла видеть окружающего. Потом я сообразил, что иду не по улице, а скорее по полю.
Вдали зачернела какая-то глыба, которая при ближайшем рассмотрении оказалась… замком! Да, да, настоящим средневековым замком с башнями, бойницами и подъемным мостом. На сторожевой башне развевался диковинный флаг, а прямо передо мной темнела арка железных ворот. Пока я размышлял, соображая, в какую же часть Лондона занесла меня снежная буря, в воротах открылась калитка, и из нее вышел старик весьма почтенного вида. Вместо ливреи привратника или фрака мажордома он был одет в старинный костюм сенешаля.[3] Я, собственно, не знаю, что такое сенешаль, я никогда не видел живого сенешаля, но определил безошибочно, что этот вымерший тип находится передо мной.
— Добро пожаловать, храбрый рыцарь! — сказал он дребезжащим тенорком. — Добро пожаловать! Верное сердце подсказало мне, что несчастная госпожа моя обретет покровителя в своей тяжкой неволе, хотя она уже потеряла надежду на ваше долгожданное появление.
Я ответил, что меня никто не приглашал, а я пришел сам, заблудившись на улице.
— Да будет благословен ваш приход! — воскликнул старик на своем старинном диалекте. — Моя госпожа так нуждается в защитнике!
Я объяснил, что действительно юрист и что, если его госпожа действительно нуждается в моей помощи, я охотно дам ей нужный совет.
— Но умоляю вас, храбрый рыцарь, — заторопился старик, — не подвергать себя опасности. Войдите в замок!
Пожалуй, он был прав. Мудрено ли простудиться в такую погоду? Я только недоумевал, почему мой зонтик болтается в чехле, но тут же обнаружил, что в руке у меня нитка детского воздушного шарика, который постукивает о мой цилиндр. Я несколько смутился. Воздушный шарик — не лучшая эмблема в руках адвоката, идущего к незнакомому клиенту. Вспомнив про игрушечную лавку, я пытался объяснить старику, что шарик — подарок для племянника, но он, не слушая меня, втащил в калитку и так резко хлопнул дверью, что нитка лопнула и шарик скрылся в снежной вьюге.
— Не жалейте о нем, о милостивый сэр, — сказал старик, — он сделал свое дело, приведя вас к нашему замку.
Я пожал плечами: старичок-то, видимо, был с придурью. Он провел меня через большой двор, потом по узкой лестнице и коридорам в большой тускло освещенный зал, увешанный и устланный коврами. Здесь он попросил меня подождать выхода хозяйки дома.
Вскоре пришла и она сама.
Жалею, что не могу подробно описать ее, так как плохое освещение мешало мне рассмотреть ее, но во всяком случае, она была молода, лет восемнадцати, в каком-то странном блестящем платье, с длинными, распущенными по плечам волосами. У меня мелькнула мысль, что хозяйка, как и сенешаль, не вполне нормальна, однако в ее словах и действиях я не усмотрел ничего особенно странного. Красота же ее произвела на меня, сознаюсь, сильное впечатление.
— Правду ли мне сказали? — воскликнула она. — Вы пришли освободить меня, доблестный рыцарь?
— Дорогая леди, — начал я, — мне сказали, что вы нуждаетесь в моей помощи. Позвольте вам сказать, что я весь в вашем распоряжении. Прошу кратко и ясно изложить ваше дело.
Она всплеснула необычайно красивыми руками:
— Ах, рыцарь, нет на свете принцессы, более несчастной, чем я!
Я был польщен доверием столь интересной особы.
— Очень огорчен этим обстоятельством, леди, и прошу подробнее рассказать о вашем деле.
— Как? — удивилась она. — Вы не знаете, что меня угнетает злой тиран — дядя?
Я хотел ей объяснить, что не имею времени следить за всеми великосветскими скандалами, но решил держаться строго официально.
— Насколько я понял, вы сирота и вышеупомянутый неприятный родственник является вашим опекуном?
Она наклонила прелестную головку.
— Он держит меня в плену в этом страшном замке, он лишил меня всех радостей жизни и оставил только одного старого слугу!
Я ответил, что это, конечно, злоупотребление опекунской властью, и поинтересовался причиной:
— Может быть, есть кто-нибудь, кого вы…
— Нет, мне еще ни разу не разрешили взглянуть ни на одного мужчину, я сижу здесь, как в темнице. Но я скорее умру, чем соглашусь на ужасный брак. Вы должны спасти меня.
— Разумеется, я приложу все усилия, чтобы найти выход из столь неприятного для вас положения. Пытаясь принудить вас к браку, ваш опекун явно нарушил свои полномочия. Закон всецело за вас.
— Ах, я знаю, что он негодяй, а вы будете моим рыцарем. Как вы думаете освободить меня?
— Учитывая все известные мне обстоятельства, я счел бы целесообразным начать с обоснованной жалобы на лишение свободы. Вас вызовут в суд, и я не сомневаюсь, что судья решит дело в вашу пользу. Я полагаю, что он лишит вашего дядю звания опекуна, и вы поступите под надзор опекунского совета.
Мне известно, как трудно бывает клиенту освоиться с юридической терминологией и постигнуть механику судопроизводства. Хозяйка замка явно не поняла меня.
— Но вы забываете, рыцарь, — воскликнула она, — что мой дядя известный колдун и только рассмеется в ответ на решение суда!
— Тем хуже для него, леди. Тогда он будет привлечен к суду по обвинению в непослушании. А если его считают колдуном, то у нас найдется еще один козырь. Если бы мы могли доказать, что он пользовался неким тайным способом для обмана или нанесения кому-либо вреда, мы можем возбудить против него дело, как против мошенника и подозрительной личности. Ему будет грозить тюремное заключение до шести месяцев.
— Ах, рыцарь! — нетерпеливо перебила красавица. — Вы тратите драгоценное время на речи, из которых я понимаю меньше половины. А между тем приближается час его появления. Если я опять откажу ему, его гнев будет ужасен.
— Вам просто не следует входить с ним в пререкания, а направить его ко мне. Я сумею убедить его. Если вы ждете его визита, разрешите мне переговорить с ним.
— О, к счастью, он еще далеко отсюда! Но как вы не понимаете, что спасти меня можно только до его прибытия?
— После тщательных размышлений, — сказал я, подумав, — я должен заявить вам, что, поскольку существует опасение насильственных действий со стороны этого необузданного человека, я имею право, в обход необходимых формальностей, освободить вас от опеки теперь же и взять на себя всю ответственность за возможные последствия.
— Простите меня за нетерпение, — сказала красавица с чудной улыбкой, — я рада слышать, что могу рассчитывать на помощь храброго рыцаря.
— Согласитесь со мною, леди, что, будучи холостяком, я не имею возможности предложить вам убежище в своей квартире. Я могу предложить вам дом моей тетки в Кройдоне, заботами которой, смею надеяться, вы останетесь довольны. Все это, конечно, на время, вплоть до выяснения положения. Я думаю, что ваши сборы в дорогу не будут слишком продолжительными.
— Бежим сейчас же!
— Вам следовало бы взять хоть ручной саквояж. Вы успеете собрать все необходимое, пока ваш слуга кликнет такси. Действительно, к чему медлить? Что нам мешает отправиться сию минуту?
— О! — с восхищением сказала она. — Вы даже не боитесь дракона?
Я усмехнулся: красавица, видно, не забыла еще сказок детства.
— Полагаю, что в настоящее время ни один дракон не может считаться серьезным препятствием. Вам же известно, что драконов практически не существует…
— Вы уничтожили его! — воскликнула она. — О, если дракон убит, волшебник не удержит меня! Как давно я не смела выглянуть в окно! А теперь я могу…
Она отдернула штору, закрывавшую окно, и испустила крик ужаса.
— Вы меня обманули! Он жив! Посмотрите!
Я подошел к окну. Оно выходило во двор, а во дворе… Я протер глаза. Над замковой стеной с зубцами покачивалась отвратительная шишковатая голова крокодила на гибкой длинной шее жирафа, с зелеными мутными глазами, устремленными на замок. Остальная часть туловища скрывалась за стеной, но я и без того убедился, что это дракон довольно солидных размеров. Теперь я понял, что сенешаль предостерегал меня не от насморка.
Я молчал, не в силах что-либо сказать.
— Вы удивляетесь, рыцарь? — сказала принцесса. — Но разве вы не знали, что дракон сторожит меня по приказу дяди?
— В первый раз об этом слышу.
— Но вы, рыцарь, найдете способ уничтожить злого гада?
— Гм, гм, позвольте сначала закрыть занавеску. Думаю, что дракон не заинтересуется моим появлением и позволит мне спокойно обдумать положение. Итак, вы сказали, что этот не внушающий доверия зверь принадлежит вашему дяде?
— Да.
— Тогда я полагаю, что вашего родственника можно привлечь к суду по обвинению в отсутствии надзора за животным, опасным для общества, гуляющим без привязи и без намордника. Ему будет предложено немедленно уничтожить дракона.
— Плохо же вы знаете моего дядю, если думаете, что он согласится уничтожить своего последнего дракона!
— За отказ на него будет наложен штраф в размере двадцати шиллингов за каждый просроченный день. Так или иначе, я обещаю вам, что, выбравшись отсюда, я приму все меры к скорейшему вашему освобождению.
— И вы уверены в успехе?
— Да, если, конечно, доберусь до дому. Тогда завтра же с утра я попытаюсь убедить суд, что закон может быть распространен не только на собак, но и вообще на всех опасных животных…
— Но вы понимаете, что время идет! Только вы можете освободить меня от этого гнусного червя. Убейте его, рыцарь!
На это я не мог пойти: в наше время адвокаты уже не вступают в рукопашную за интересы клиентов…
— Если бы его с какой-нибудь стороны можно было сравнить со слепым и пугливым червем, я бы, пожалуй, не поколебался напасть на него.
— О, вы сделаете это! Как я рада! — не поняла красавица.
Она была так очаровательна, что у меня не хватило духу отказать ей наотрез:
— Я с радостью сделаю для вас все, что не противоречит закону и здравому смыслу. Но прошу вас принять во внимание, что мое вооружение и броня состоят лишь из пальто, цилиндра и зонтика. У него явный перевес в оборонительном и наступательном оружии.
— Вы правы, мой рыцарь, — согласилась она, — я не могу требовать от вас столь неравного боя. Все будет устроено.
Она хлопнула в ладоши, тотчас же появился сенешаль, который, очевидно, торчал у замочной скважины.
— Благородный рыцарь желает сразиться с драконом. Его нужно вооружить для опасного боя.
Я хотел возразить, что ее выводы слишком поспешны и прямолинейны, но старик рассыпался в столь цветистых и бесконечных благодарностях, что я не мог вставить ни слова.
— Проведи рыцаря в оружейную, — приказала красавица, — и предоставь ему оружие и броню, достойную его храбрости. Рыцарь, я не знаю, как выразить вам мою благодарность! Я верю, что вы сделаете для меня все! Но если вы погибнете в бою…
Я хотел протестовать, но она продолжала:
— Но нет, вы не погибнете! Сердце подсказывает мне, что вы победите, и тогда, — она зарделась, — вы можете требовать награды, даже моей руки… — и она в смущении скрылась.
Я попал в затруднительное положение. Логика говорила, что такое задание слишком необычно для адвоката, призванного давать юридические советы. Даже если бы мой подвиг удался, в чем я имел все основания сомневаться, то от огласки могла пострадать моя репутация. Что же касается предложенного вознаграждения, то женитьба на эксцентричной красавице была бы с моей стороны весьма опрометчивым шагом. Однако, вспомнив прекрасную улыбку принцессы, я лишь вздохнул и последовал за слугой. Он повел меня через огромную сводчатую кухню, кишевшую полчищами тараканов.
Оружейная была в жалком состоянии: ржавые кольчуги пришли в негодность и лопались на мне одна за другой. Согласитесь, что сражаться с драконом и одновременно поддерживать сползающую кольчугу было невозможно.
— Ничего из этого не выйдет, — сказал я, надевая пиджак.
— Неужели вы хотите сражаться в этой одежде? Это безумие!
— Вот именно, друг мой! Поэтому я хочу просить вас, чтобы вы, не подвергаясь ненужному риску, подразнили дракона с одной стороны замка, чтобы я мог беспрепятственно выйти с другой стороны.
— О жалкий трус! — воскликнул он. — Вы оставляете на погибель прекрасную принцессу!
— Оскорбления ваши я пропускаю мимо ушей: принцессу я бросать не собираюсь. Я хочу лишь сходить домой и вернуться с оружием более современным, чем все эти примитивные копья и топоры.
В самом деле, я одолжу у приятеля-охотника винтовку с разрывными пулями или приглашу его самого, и дракон будет ликвидирован в два счета.
— Но, рыцарь, — возразил сенешаль, — выйти отсюда невооруженным — значит погибнуть.
— Нелогично, — ответил я, — ведь дракон не пытался причинить мне вреда, когда я входил сюда…
— Входить сюда можно, но выходить нельзя.
— Ну, он может и не знать о моем уходе.
— Увы, он ползает вокруг замка и бросится по вашим следам.
— Гм, значит, вы думаете, что мне лучше остаться?
— Только до возвращения волшебника. После этого я бы не поручился за вашу безопасность.
— Неужели он так бессердечен, что выставит меня из замка на съедение этой противной гадине? Конечно, я обязан исполнить требование оставить его дом…
— Дракона можно победить только силой или хитростью. Ведь вы же знали, зачем шли сюда.
— Клянусь вам, друг мой, я и сам не знаю, как попал сюда! Пожалуй, вы правы: если я не прикончу эту тварь тотчас же, она прикончит меня через некоторое время. Но с чего начать?
Вдруг меня осенило вдохновение. В замке есть тараканы. Где есть тараканы, там есть и состав для их истребления. Я бросился на кухню и перерыл все. Наконец в запыленном глиняном сосуде я нашел заплесневевший состав, явно пригодный для уничтожения вредных насекомых. Вспомнив, что драконы летают, я решил, что с некоторой натяжкой его тоже можно причислить к насекомым, а раз так, то… Я потребовал у недоумевающего сенешаля каравай хлеба и стал густо его намазывать отравой.
— О рыцарь! — воскликнул он. — Еще не все потеряно. Не спешите губить свою молодую жизнь!
— Не волнуйтесь, это для дракона. Проведите меня на крышу или куда-нибудь, где можно потолковать с ним о легкой закуске.
Дрожа, слуга подвел меня к лестнице, по которой я поднялся на площадку башни. Подползши к зубцам, я увидел дракона во всей его красе. Не думаю, что сильно ошибусь, считая, что он немногим больше скелета диплодока в Британском музее. Окраска его чешуи была красивее, чем у удава, но на взгляд неспециалиста он был не слишком приятен. Он дремал. Вероятно, я неосторожно шевельнулся, потому что вдруг розовые пленки на его глазах поднялись с шумом железных штор, и он с любопытством взглянул на меня. Затем он поднялся, его голова стала вытягиваться на длинной шее, пока не появилась над зубцами. Я, разумеется, благоразумно отступил, держа в протянутой руке зонтик, на конце которого висел аппетитный каравай.
Очевидно, чудовище было очень голодно. Сверкнули зубы, челюсти щелкнули, как крышка чемодана, и хлеб вместе с зонтиком исчез в кровавой пасти.
Голова дракона исчезла. Я слышал противный хруст пережевываемого зонтика, потом все стихло. Дракон облизывался. По-видимому, зонтик показался ему желанным лакомством. Но сердце мое замерло: если зонтик из хорошего шелка, с деревянной ручкой прошел так безболезненно, то произведет ли впечатление старая отрава? Я решил, что предприятие безнадежно. Закуска ему понравилась, он скоро попросит еще, а что я ему могу предложить? Не сходить ли в самом деле за секирой? Может быть, он подавится ею?
Но вдруг я заметил, что дракон начинает беспокоиться. Сперва он слегка подергивал шеей и хлопал глазами. Затем распушил страшный гребень на хвосте и перегнулся, стараясь ухватить свой зобный мешок, откуда, очевидно, исходила причина беспокойства.
Я не специалист и плохо знаю быт и нравы драконов, но видел, что ему не по себе. Но в чем причина: отрава или зонтик? А от этого зависит судьба красавицы и меня самого.
Вдруг дракон яростно замычал, заревел, стал хлопать кожаными крыльями и кататься по земле в конвульсиях.
«Ясное дело, от зонтика», — решил я.
Последний раз вскрикнул дракон и замер на боку, хрипя, как испорченный автомобиль. Потом поблекли его яркие краски, и он затих.
«Несомненно, зонтик!» — подумал я.
К победе я отнесся без излишнего энтузиазма. Святой Георгий, специалист по убийству драконов, нашел бы мою систему неспортивной, но ведь важен результат, а не все ли равно — копье или зонтик?
Я уже собирался идти объявить красавице о своей удаче, как вдруг в воздухе загудел самолет и я увидел, как сверху без всяких приспособлений на меня летит грозный пожилой джентльмен. Я понял, что это и есть дядя девушки.
Только тогда я осознал, что моя горячность толкнула меня на поступок, не соответствующий профессиональной этике. Уничтожив хотя и свирепое, но не принадлежащее мне животное, я, несомненно, совершил незаконное деяние. Поэтому, когда мистер колдун с перекошенным от ярости лицом спустился на башню, я решил, что должен принести ему свои извинения. Я вежливо сиял цилиндр и ожидал, что он скажет.
— Вам отпускают, сэр? — сказал он.
И тотчас все исчезло: замок, волшебник, дракон, — и только медленно кружились крохотные снежинки в стеклянном шаре.
— Вам нравится этот шар с вьюгой, сэр? Цена всего один шиллинг, — продолжал приказчик. — Очень подходящий подарок для ребенка, сэр. Сейчас мы их продаем больше двух дюжин в день, сэр…
Род Серлинг Можно дойти пешком
перевод Е. Кубичева
Звали его Мартин Слоун, и было ему от роду тридцать шесть лет. Он смотрел на свое отражение в зеркале шкафа, снова испытывая извечное недоумение, что вот этот высокий симпатичный человек, глядящий из зеркала, и есть он сам, и вслед за этой мыслью тотчас явилась другая — ведь его образ в стекле к нему самому не имеет ровно никакого отношения. Хотя, спору нет, из зеркала смотрел он, Мартин Слоун, высокий, ростом в шесть футов и два дюйма, с худощавым загорелым лицом, с прямым носом и квадратной челюстью; лишь несколько ниточек седины протянуто на висках, глаза поставлены не слишком широко и не слишком близко — словом, хорошее лицо. Он перевел, взгляд ниже, продолжая читать в стекле инвентарный список личности. Костюм от братьев Брукс, сидящий на нем с небрежным совершенством, рубашка от Хэтэуэя и шелковый галстук, тонкие золотые часы — и все это так подобрано, во всем чувствуется такой вкус.
Он продолжал рассматривать себя и все удивлялся, как все-таки, оказывается, внешний лоск может скрыть своим камуфляжем истинную сущность человека. Ибо то, что он наблюдал сейчас в зеркале, было именно камуфляжем. Черт возьми, ну да, он, Мартин Слоун, крупная шишка в рекламном агентстве — у него сказочная холостяцкая квартира на Парк-авеню с окнами на Шестьдесят третью улицу, он водит красный «мерседес-бенц», у него живой ум, ум чрезвычайно творческого склада — словом, этакий, знаете, пробивной молодой человек с перспективой. Он может читать меню по-французски, быть запанибрата с Джеки Глизоном, и ему известно ощущение той непередаваемой теплоты от сознания значительности своей личности, которое испытываешь, если метрдотель у Сарди, или в «Колонии», или в заведении Дэнни назовет тебя по имени и улыбнется тихой, уважительной, особенной улыбкой, когда ты входишь в зал.
Но оборотной стороной всего этого, проклятием жизни Мартина Слоуна была начинающаяся язва, которая и в эту минуту начала исподволь, потихоньку терзать своими острыми когтями его внутренности. Паника и так охватывала его по десятку раз на дню — конвульсивное, захватывающее дух, леденящее ощущение сомнения и нерешительности; чувство, что ты не сразу находишь нужный ответ, что ты ошибаешься; усилие, которое нужно сделать, чтобы голос звучал твердо, а решения и выводы непреложно, тогда как глубоко внутри, где-то в самом кишечнике, и с каждым днем все ясней и ясней он ощущал, как блекнут все его ловкие выдумки, когда он отдает их на всеобщий суд, когда говорит с президентом агентства, с клиентами или со своими коллегами.
И эта язва! Эта проклятая язва! Он почувствовал, как она снова запускает в него свои зубы, и весь напрягся, как человек, ступающий под холодный душ. Она насквозь прожигала желудок. Когда боль отпустила, он закурил сигарету и почувствовал, что спина у него взмокла: горячая июньская испарина превратила рубашку от Хэтэуэя в липкую, щекочущую тряпку, и даже ладони стали такими же мокрыми, как и все тело.
Мартин Слоун подошел к окну взглянуть на Нью-Йорк. На Парк-авеню уже зажгли фонари, и ему вспомнились фонари его родного городка. В последнее время он часто думал о том месте, где родился и провел детство. Вот уже несколько месяцев, возвращаясь с работы домой, он садился в своей затянутой сумерками гостиной и в задумчивом одиночестве пил виски. Он вспоминал время, когда был еще мальчишкой, и место, где все это начиналось, — всю хронологию тридцатишестилетнего мужчины, который теперь умел держать жизнь мертвой хваткой, но которому, по крайней мере, три раза в неделю хотелось заплакать.
Слоун рассеянно смотрел вниз, на огни Парк-авеню, и думал о себе, как о мальчишке, и о главной улице своего городка, и об аптеке, которую держал мистер Уилсон. Нечаянные, несвязанные воспоминания, но они были частью той сладкой тоски, которая делала столь невыносимой и эту комнату, и виски, и отражение в зеркале. Снова ощутил он настойчивый натиск подступающих слез и снова подавил его, запрятав поглубже вместе с болью язвы. В голову ему пришла мысль. Сесть в машину — и в путь! Вон из Нью-Йорка! Подальше от Мэдисон-авеню. Подальше от вздорного, бессмысленного жаргона босса, вечно не к месту употребляющего метафоры; подальше от налогов, и процентных отчислений, и космических счетов, и приходных статей в три миллиона долларов, и нездоровой, уродливой маски этакой доброй компанейщины, которая прикрывает отношения глубоко чужих друг другу людей.
Подсознание шепнуло ему, что уже куда позднее, чем он думал. Он вышел из квартиры, сел в машину и вывел ее на Гранд Сентрал Паркуэй. Вцепившись в руль своего красного «мерседеса», Слоун вдруг спросил себя — куда же это, черт побери, он едет, и — странное дело — то, что он не смог найти ответа, не повергло его в растерянность. Ему хотелось подумать, только и всего. Ему хотелось вспоминать. И когда он свернул на нью-йоркскую Сквозную и направился к северу, у него не было уже никаких колебаний. Он просто гнал и гнал машину в ночь, и лишь в самом уголке мозга почему-то теплилась мысль об аптеке старика Уилсона.
Именно картина этой аптеки снова вернула все его сознание к воспоминаниям о прошлом. К воспоминаниям о городишке под названием Хоумвуд, штат Нью-Йорк, этом тихом, осененном кронами деревьев городке, где населения-то было всего три тысячи человек. Сидя за рулем, он припоминал время, которое составило только небольшую часть его жизни, но, боже мой, какую часть! Восхитительные дни детства. Тихие улочки летними вечерами. Радость парков и площадок для игр. Невозбранную свободу ребенка. Как прилив и отлив, воспоминания накатывались на мозг и откатывались, пробуждая странный, труднопреодолимый голод, который он воспринимал подсознательно, как тоску не только по самому месту, но и по тогдашнему времени. Ему хотелось снова стать мальчиком. Вот чего ему хотелось. Он хотел развернуться в жизни на сто восемьдесят градусов и двинуться назад. Он хотел пробежаться вдоль строя годов и найти тот единственный, когда, ему было одиннадцать…
Мартин Слоун в костюме от Брусков, сидящий за рулем красного спортивного автомобиля, направился в ночь и подальше от Нью-Йорка. Он настойчиво гнал вперед машину, словно имея перед собой определенную цель, хотя на самом-то деле и понятия не имел о пункте своего назначения. Это не была обычная поездка на уик-энд. И это не было минутным порывом, когда человек отворачивается от общепринятого, ставшего нормой. Это был Исход. Это было бегство. Где-то там, в конце длинной бетонной ленты шестирядного шоссе, что пролегло через вздымающиеся волнами холмы северной части штата Нью-Йорк, Мартин Слоун надеялся найти убежище от помешательства.
Он остановился в мотеле неподалеку от Бингхэмптона, штат Нью-Йорк, проспал несколько часов и снова пустился в путь, и к девяти утра въехал на площадку заправочной станции, примостившейся у бетонной полосы шоссе штата. Скорость у него была приличной, когда он сбросил газ, и машина, останавливаясь, завизжала тормозами и подняла клубы пыли. Последние остатки напористости, которая поддерживала его в Нью-Йорке, последние остатки того нетерпения, что толкало его сквозь череду дней, еще жили в душе Мартина, и он настойчиво нажал на кнопку клаксона. Рабочий симпатичный парнишка в штанах из грубого холста — поднял лицо от покрышки, ремонтом которой он занимался в нескольких метрах от Мартина, вытер руки тряпкой и так и остался стоять, прислушиваясь к гудку «мерседеса».
— Как насчет того, чтобы обслужить? — крикнул ему Мартин.
— А как насчет того, чтобы потише? — ответил парнишка.
Мартин закусил нижнюю губу и отвернулся, крепко сжав руки на руле, впившись взглядом в приборную доску.
— Простите, — мягко произнес он.
Парнишка направился к нему.
— Залейте, пожалуйста, бак, — попросил Мартин.
— Это можно.
— Я извинился, — сказал Мартин.
— Я слышал, — ответил парнишка. — Залить, верно, самого лучшего?
Мартин кивнул и отдал ему ключи. Парнишка обошел автомобиль сзади и отпер горловину бака.
— Как насчет того, чтобы сменить масло и вообще всю смазку? — спросил его Мартин.
— Можно, — сказал парнишка. — Но часик на это уйдет.
— У меня времени сколько хочешь, — сказал Мартин.
Он повернулся и посмотрел через шоссе на придорожный щит, надпись на котором гласила: «Хоумвуд, 1,5 мили».
— Это что — тут у вас Хоумвуд неподалеку? — спросил Мартин.
— Точно, — кивнул парнишка.
— Я там жил когда-то. Можно даже сказать, вырос. Не был там лет восемнадцать, а то и двадцать. — Он вышел из машины, полез в карман за сигаретой и обнаружил, что у него осталась только одна. Перед бензоколонкой стоял автомат для продажи сигарет. Мартин купил пачку и вернулся к машине, говоря на ходу: — Лет восемнадцать-двадцать. И вдруг прошлой ночью я просто… просто сел в машину и поехал. Дошел до точки, когда… в общем, когда мне уже обязательно нужно было выбраться из Нью-Йорка. Еще один совет директоров, еще один звонок, доклад, проблема, и я… — Он засмеялся, но смех был усталый и какой-то пустой.
— Значит, вы из Нью-Йорка? — спросил его парнишка.
— Точно. Из Нью-Йорка.
— Здесь полным-полно проезжают из Нью-Йорка, — сказал парнишка. — Ведь у нас здесь как: хочешь ехать, сто миль в час — валяй! А там, в городе, красный свет — стой, потом дадут зеленый, кто-то тебя с места обгонит — и все, на целый день настроение испорчено. Господи боже мои, да как вы вообще умудряетесь там жить!
Мартин отвернулся и занялся боковым зеркальцем машины.
— Просто терпим, — ответил он. — Миримся с этим, пока не наступит однажды в июне такая ночь… Тогда-то мы неожиданно и срываемся с места. Он снова посмотрел через дорогу на щит. — Полторы мили, — задумчиво прочитал он. — Можно дойти пешком.
— Кому пустяк, а кому и нет, — отозвался парнишка.
— Думаешь, если люди зашибают деньги в Нью-Йорке и разъезжают в красных спортивных автомобилях, так они уж и ходить разучились, а? — широко улыбнулся Мартин.
Парнишка пожал плечами.
— Я вернусь за машиной поздней. — Улыбка не сходила с лица Мартина. Полторы мили — можно дойти и пешком!
Он взял с сиденья пиджак, перебросил его через плечо и не торопясь пошел по дороге к Хоумвуду; городок лежал впереди на расстоянии чуть больше мили, а по времени — двадцать лет спустя.
…Мартин вошел в аптеку и недвижимо остановился возле двери в темной прохладе помещения. Все было в точности так, как ему запомнилось. Узкая комната с высоким потолком, в одном конце которой стоял сатуратор с газировкой, а в другом был устроен бар. Деревянная лестница, которая вела в крохотный кабинет на антресолях. Мартин вспомнил, что мистер Уилсон, владелец, именно там любил подремать в свободную минуту. Худощавый человек невеликого роста, в очках с толстыми стеклами перетирал у прилавка с газировкой стаканы и улыбнулся Мартину.
— Что пожелаете? — спросил он.
Мартин смотрел на расклеенные по стенам плакаты, на старомодные висячие светильники, на лопасти двух большущих электрических вентиляторов, висевших под потолком. Он подошел к стойке и сел. Все пять стеклянных кувшинов с дешевыми конфетами были точь-в-точь такими, как он их помнил.
— Вы еще делаете ту чудную шоколадную содовую с мороженым? — опросил он у человека за стойкой. — С тремя шариками мороженого?
Улыбка продавца вроде бы стала несколько напряженной.
— Как вы сказали?
Мартин смущенно засмеялся.
— Я когда-то проводил в этой аптеке половину всего времени, — объяснил он. — Я здесь рос. И помню, что мы постоянно заказывали одно и то же содовая, шоколадный сироп и три шарика мороженого. Помню еще, стоило это десять центов.
Человек глядел на него вопросительно, и Мартин внимательно посмотрел ему в лицо.
— Знаете, какая штука, — сказал Мартин, — ваше лицо мне знакомо. Не встречал ли я вас раньше?
Продавец пожал плечами и улыбнулся.
— Самое обычное лицо…
— Давно было все, — сказал Мартин. — Восемнадцать, а то и двадцать лет назад. Вон когда я отсюда уехал, — и он рассмеялся пестрой череде потаенных мыслей, которые быстрой стайкой пронеслись у него в голове. Хотел бы я, — продолжал он, — чтобы мне дали по доллару за каждый час, который я провел у этой стойки. От приготовительной школы до третьего года в средней. — Он повернулся на табурете, чтобы посмотреть в окно на солнечную, яркую улицу. — И город выглядит так же, как тогда. — Он снова обратился к человечку: — Вы знаете, это в самом деле поразительно. Через двадцать лет выглядеть до такой степени тем же самым…
Человечек в очках тем временем приготовил и подвинул ему мороженое.
— Десять центов.
Мартин сунул было руку в карман, но затем внезапно замер.
— Десять центов? — недоверчиво переспросил он и поднял огромный, до краев наполненный темной жидкостью бокал. — Три шарика?
Продавец засмеялся.
— Так уж мы их делаем, — сказал он.
У Мартина снова вырвался смех.
— Вы так проторгуетесь до последней рубашки. Кто же теперь продает мороженое с содовой за десять центов!
Воцарилось короткое молчание.
— Не продают? — спросил Мартина человечек. — Да откуда вы?
Мартин принялся ложкой топить шарик мороженого.
— Из Нью-Йорка, — сказал он между двумя глотками. — Слушайте-ка, мороженое у вас первый сорт!
Человечек оперся локтями о стойку.
— Как на вкус? — спросил он.
— Замечательно! — Мартин прикончил мороженое и выпил остатки содовой. Словно я и не уезжал отсюда, — улыбнулся он. — Просто прекрасно. — Он повернулся и обвел взглядом комнату. — Смешно, — сказал он, — сколько воспоминаний связано у человека с каким-нибудь местом! Я всегда считал, что, если я когда-нибудь и вернусь сюда, здесь все переменится.
Аптека тоже смотрела на него. Смотрели стойки, и полки, и плакаты, и лампы. Смотрели электрические вентиляторы. Они смотрели на него, как старые друзья.
— Все так… — задумчиво сказал Мартин, — как если бы я уехал отсюда только вчера. — Он встал с табурета и стоял, вращая сиденье. — Как будто не был здесь всего один вечерок. — Он улыбнулся продавцу. — Я почти уверен, что и мистер Уилсон сидит там, наверху, в кабинетике и посапывает себе после обеда, как он всегда делал прямо до самой смерти.
Он не заметил, что, услышав это, продавец вздрогнул.
— Одна из картин детства, — продолжал Мартин. — Старина Уилсон, спящий наверху в своем большом, удобном кресле. Старина Уилсон — да упокоится душа его в мире…
Он сунул руку в карман, вытащил бумажный доллар и положил его на стойку. Продавец в удивлении воззрился на бумажку.
— Да ведь это доллар!
Мартин улыбнулся и пальцем легонько постучал по бокалу.
— Эта штука… — он оглядел комнату, — и все это, все это дороже доллара.
Он вышел под горячее летнее солнце. Продавец облокотился о стойку, размышляя о посетителе, затем поднял крышку банки с шоколадным сиропом и заглянул внутрь. Снова опустив крышку на место, он обошел стойку, поднялся по лестнице и раз-другой негромко стукнул в дверь.
— Да? — отозвался сонный старческий голос.
Продавец приоткрыл дверь на несколько дюймов.
— Мистер Уилсон, — сказал он, обращаясь к седовласому старику, покоившемуся в тяжелом кожаном кресле; один глаз у старика был закрыт, мистер Уилсон, нам нужно прикупить шоколадного сиропу.
Старик мигнул, кивнул и снова смежил веки.
— Закажу сегодня же. — И тотчас уснул.
Продавец вернулся к стойке. Он взял бокал Мартина Слоуна и принялся его мыть. «Смешной какой парень!» — подумалось ему.
«Проторгуетесь, — говорит, — до последней рубашки, если станете давать за десять центов три шарика». Все время, пока вытирал бокал, продавец ухмылялся. «Никто, — говорит, — больше не продает по три шарика за десять центов». Он пожал плечами и отставил бокал в сторону. Кого только не встретишь! Кого угодно, уж это точно. Но этот парень, этот парень какой-то странный. У этого на лице написано что-то такое… Как бы это сказать… Он выглядел таким… таким счастливым. Сидел себе в темной, захудалой аптеке, а вид у него был счастливый…
В аптеку вошла какая-то женщина с рецептом, и продавец в этот день уже больше не вспоминал про Мартина Слоуна.
…Мартин шагал по Дубовой улице — по улице, на которой прошло его детство. Она простерлась перед ним, окаймленная рослыми кленами, уже полностью развернувшими листья. От деревьев в слепящей белизне солнечного света падали четкие черные тени. Большие двухэтажные дома викторианской архитектуры, расположенные позади просторных зеленых лужаек, все были старыми друзьями Мартина.
Медленно шагая мимо них по тротуару, он вслух произносил имена владельцев. Ванберен, Уилкокс, Эбернети. Он перевел взгляд на противоположную сторону улицы. А там дома доктора Брэдбери, Малруни, Грея. Он остановился, огляделся по сторонам. Улица была в точности такой, какой он ее помнил. Сладкая боль ностальгии ужалила его в самое сердце. Ему припомнилось, как на этой самой улице он играл с другими ребятишками. Как разносил газеты. Как падал, катаясь на роликовых коньках и велосипеде. Припомнил и людей. Их лица и имена, которые сейчас хлынули в мозг. Его дом стоял на углу, но по какой-то причине Мартину захотелось подойти к нему в самую последнюю очередь, Он видел его впереди, за деревьями — большой, белый, с полукруглой верандой вокруг. Купола. Железный флюгер впереди. Господи, чего только не помнит человек! Даже те вещи, которые он давно задвинул в самый дальний сусек памяти и забыл о них. Но затем человек поднимает крышку — и вот они, снова перед ним.
— Привет! — произнес ребячий голос.
Мартин Слоун взглянул вниз и увидел четырехлетнего карапуза с мордахой, измазанной сиропом. Мальчишка играл в шарики.
— Привет, — ответил Мартин и присел рядом с ним на край тротуара. Как, получается? — Он показал на мальчишкины шарики.
— В шарики играть? — спросил мальчуган. — Я хорошо умею.
Мартин взял один из шариков и прищурился сквозь него.
— Я когда-то тоже играл в шарики. Мы шарикам давали имена. Например, из стали — мы их доставали из старых подшипников, — те мы называли стальками. А через которые можно было смотреть, мы называли ясненькие. А как сейчас тоже даете им названия?
— Ага, — сказал мальчуган.
Мартин показал рукой через улицу на телефонный столб, изрезанный и истыканный тысячами складных ножей.
— Здесь мы играли в пряталки, — сказал он мальчугану и громко засмеялся, потому что воспоминание это согрело его и пришлось по сердцу. Вот прямо на этой улице и играли, летом, что ни вечер. А я жил вон в том угловом доме. — Он показал рукой. — В том большом, в белом.
— В доме Слоуна? — спросил мальчуган.
Глаза у Мартина расширились.
— Верно. Вы все еще так его называете?
— Как?
— Дом Слоуна. Это я Слоун. Меня зовут Мартин Слоун. А тебя как?
Он протянул ладонь для рукопожатия, но мальчишка подался назад, нахмурившись.
— Вы не Мартин Слоун, — укоризненно сказал он. — Я знаю Мартина Слоуна, а вы и не он совсем.
Мартин засмеялся.
— Не он, говоришь? Ну-ка посмотрим тогда, что у меня написано в водительских травах.
Он сунул руку в нагрудный карман за бумажником. Когда он поднял взгляд от удостоверения, мальчуган уже улепетывал по улице, а потом свернул с нее на лужайку и помчался к дому напротив дома Слоуна. Мартин медленно встал и двинулся дальше. «Да это же в первый раз, бог знает за какое время, подумалось Мартину, — что я могу вот так неспешно пройтись». Дома и лужайки уплывали назад мимо него, а он вбирал их в себя. Он хотел, чтобы это тянулось как можно дольше. Ему хотелось познать это все. Где-то подальше — он слышал — звучал детский смех и тилиньканье колокольчика на фургоне мороженщика. Все подходило одно к одному — и то, что открывалось глазу, и звуки, и общее настроение. Он ощутил, как в горле поднялся и остановился какой-то комок.
Слоун не обратил внимания, сколь долго он шел, но в конце концов увидел, что находится в парке. Здесь тоже все было по-прежнему — как эта аптека, как эти дома, как эти звуки. На том же месте стоял павильон с большой круглой эстрадой для оркестра. Все так же крутилась облепленная ребятишками карусель, и металлическая дребезжащая музыка шарманки по-прежнему сопровождала ее круговой бег. Были и те же самые деревянные кони, и те же латунные кольца, и те же киоски с мороженым, и те же продавцы сахарной ваты. И всюду дети. Короткие штанишки и микки-маусовые рубашки. Леденцы и стаканчики с мороженым, и смех, и радостный визг. Язык детства. Музыка — симфония лета. Звуки водоворотом кружились вокруг него. Шарманка, смех, ребятишки… Снова он почувствовал, как что-то сдавило горло. Снова горько-сладкое. Он оставил все это так далеко позади, и вот вдруг смог обрести все опять.
Мимо него прошла хорошенькая молодая женщина, толкая перед собой коляску с ребенком. Что-то в лице Мартина Слоуна, который разглядывал карусель, привлекло, должно быть, ее внимание, потому что она остановилась. Никогда раньше она не видела такого выражения. Может быть, поэтому она улыбнулась ему, и он тоже ответил ей улыбкой.
— Чудесное место, не правда ли? — сказал он.
— Парк? Да уж конечно!
Мартин кивнул по направлению карусели.
— Тоже часть лета, правда? Эта карусельная музыка. Шарманка.
Хорошенькая женщина рассмеялась.
— И сахарная вата, и мороженое, и оркестр на эстраде…
На лице Мартина уже не было улыбки. Ее сменило выражение сосредоточенности и внутренней муки.
— Ничто с этим не может сравниться никогда, — мягко сказал он. — Ничего не может быть лучше, чем когда стоит лето, а ты еще совсем маленький.
Женщина пристально смотрела на него. Да что же все-таки с этим мужчиной?
— Вы здешний? — спросила она.
— Был когда-то. Очень давно, — ответил Мартин. — Я жил в двух кварталах отсюда. Помню вот и эту эстраду. Господи, еще бы мне не помнить! Бывало, убежишь вечером потихоньку из дому, ляжешь вон там в траве, смотришь на звезды и слушаешь музыку. — Голос его стал звучать взволнованно. — А вон на том поле я играл в бейсбол. Стоял на третьей линии. И все-то детство у меня связано с этой вот каруселью. — Он протянул руку по направлению к эстраде. — Вон на том столбе однажды летом я вырезал свое имя. Мне было одиннадцать, и я вырезал свое имя прямо на… — Он резко оборвал себя и уставился во все глаза.
На перилах эстрады павильона сидел мальчик и складным ножом вырезал что-то на столбе. Мартин Слоун медленно направился к нему. Он ощутил вдруг чувство, которого до сих пор никогда не испытывал. Его бросало то в жар, то в холод и познабливало от возбуждения; это было потрясение, изумление, это была тайна, глубина которой казалась ему непостижимой. Снизу вверх он взглянул на мальчугана и увидел свое собственное лицо, каким оно было двадцать пять лет тому назад. Он смотрел на себя самого. Он стоял, недоверчиво качая головой, щурясь на солнце, и затем увидел, что именно вырезал на столбе этот мальчишка. Детскими, неровными, печатными буквами. «_Мартин Слоун_» гласила надпись. Мартин перевел дух и протянул руку к мальчишке, который только сейчас заметил, что за ним наблюдают.
— Мартин Слоун! Ты Мартин Слоун?..
Мальчишка соскользнул с перил. Вид у него был испуганный.
— Да, сэр, но я ничего не хотел плохого, честно. Все ребята вырезают здесь свои имена. Честно. Я же не первый…
Мартин подвинулся к мальчику еще на шаг.
— Ты Мартин Слоун. Ну, конечно, ты — Мартин Слоун, вот кто ты… Вот так я и выглядел…
Он не замечал, что его голос внезапно стал громким, и, уж конечно, никак не мог видеть, как напряжено его лицо. Мальчишка подался назад, а потом помчался вниз по ступенькам.
— Мартин! — крикнул ему вдогонку Слоун. — Мартин, прошу тебя… вернись! Пожалуйста, Мартин!
Он побежал было за ним, но мальчик уже затерялся в многоцветной толпе коротеньких штанишек, миккимаусовых рубашек и батистовых платьев матерей.
— Прошу тебя, Мартин! — снова закричал Слоун, пытаясь разглядеть мальчика. — Пожалуйста… не надо бояться. Я не сделаю тебе ничего дурного. Я просто хотел… Я просто хотел порасспросить тебя кое о чем… Я только хотел сказать тебе, — с нежностью продолжал Мартин, обращаясь уже больше к себе, — я только хотел сказать тебе, что потом случится…
Он повернулся и увидел давешнюю хорошенькую женщину. Она стояла рядом. Он закрыл глаза и провел рукой по лицу — ничего не понимающий, сбитый с толку.
— Не знаю, — слабо произнес он, — право, не знаю. — Он открыл глаза и уронил руку от лица. — Если это сон, я, надеюсь, проснусь…
Он снова стал слышать смех, музыку шарманки, ребячьи голоса.
— Я не хочу, чтобы это был сон, — сказал он. — О боже, я не хочу, чтобы это был сон!
Когда он перевел взгляд на молодую женщину, в ее глазах стояли слезы.
— Я не хочу, чтобы время проходило, вы меня понимаете? Я хочу, чтобы всегда было как сейчас…
Молодая женщина не понимала, что в этом человеке заставило ее испытывать к нему такую жалость. Ей хотелось успокоить его, но она не умела. Она только молча смотрела, как он повернулся и вышел из парка; и весь остаток дня она думала о нем, странном человеке с напряженным взглядом, который стоял в самом центре их парка, влюбленный в него.
Теперь Мартин знал, куда ему следует пойти. Это было все, что он знал. Все, кроме сознания того, что с ним происходит что-то странное. Что-то нереальное. Он не был испуган. Он только потерял внутренний покой. Он вернулся на Дубовую улицу и остановился перед своим домом. Снова почувствовал он, как воспоминания охватывают его. Он двинулся к дому по дорожке, поднялся по ступенькам и позвонил. Его всего трясло, но он не мог бы сказать ничего. Послышались приближающиеся шаги, дверь отворилась, и через сетку от насекомых на него уставился какой-то мужчина.
— Да? — спросил он.
Мартин Слоун не отвечал. Он не мог говорить. Восемнадцать лет назад дождливым, холодным, насквозь продутым ветром, мартовским полднем состоялись похороны его отца, он сам был на них, и вот теперь он смотрел на лицо своего отца там, по другую сторону сетки. Квадратная челюсть, глубоко сидящие голубые глаза, на редкость выразительные морщины, избороздившие лицо и придающие ему одновременно чуть насмешливое и мудрое выражение. Лицо его отца. Лицо, которое он любил. И это именно оно смотрело на него через сетку.
— Да? — Его отец перестал улыбаться, и в голосе у него прозвучала нотка нетерпения. — Кого вам нужно?
— Папа! Папа! — Голос Мартина больше напоминал шепот.
Изнутри, из комнат, он услышал голос матери. Уже четырнадцать лет, как ее не было на свете, но это был ее голос.
— Кто там, Роберт? — спросила женщина. Его мать.
— Мама? — голос Мартина дрогнул. — Это мама?
Глаза Роберта Слоуна сузились и губы сжались.
— Кто вы такой? — резко сказал он. — Что вам здесь нужно?
Миссис Слоун уже стояла подле мужа, взглянула разок ему в лицо и перевела взгляд на Мартина.
— Почему вы оба здесь? — спросил Мартин. — Как вы можете быть здесь?
Недоумевающая и обеспокоенная миссис Слоун снова перевела взгляд с Мартина на мужа.
— Кто это? — спросила она. — Чего вы хотите, молодой человек?
Мартин, не веря своим глазам, покачал головой, чувствуя, как все в нем рвется навстречу этому мужчине и этой женщине, стоящим перед ним. Ему хотелось коснуться их, обнять их, прижаться к ним.
— Мамочка, — произнес он наконец. — Неужели ты не узнаешь меня? Это Мартин, мамочка. Это Мартин!
Глаза женщины расширились.
— Мартин? — Она повернулась к мужу, шепча ему: — Это какой-то лунатик или еще кто…
Роберт Слоун начал закрывать дверь. Мартин схватился было за ручку рамы с сеткой. Она не поддалась.
— Папа, прошу тебя, подожди минутку. Ты не должен меня бояться. Господи боже, да как вы можете бояться меня? — Он ткнул себя пальцем, как если бы представлял сейчас собой всю логику мира. — Я Мартин, — повторил он. Неужели вы не понимаете? Я Мартин. Я здесь рос!..
Он видел холодность на их лицах, страх, неприятие. Он был в эту минуту, как маленький мальчик, который потерялся, но затем вернулся домой и нашел дверь запертой.
— Я ваш сын, — молил он. — Неужели вы меня не узнаете? Мамочка! Отец! Пожалуйста… посмотрите на меня!
Дверь с треском захлопнулась перед самым его носом, и прошло несколько минут, прежде чем он смог сойти вниз по ступенькам крыльца. Там он остановился, чтобы еще раз окинуть взглядом дом. Вопросы осаждали его, вопросы, которые даже не имели какой-то четкой формы. Бессмысленные вопросы. Во имя господа, что же это здесь творится? Где он? Когда он? Деревья и дома валились на него, он чувствовал, что на него поднимается вся улица. О боже, ему совсем не хочется уходить отсюда! Он должен снова увидеть своих родителей. Он должен поговорить с ними!
Звук автомобильного гудка ударил ему в уши. В соседнем дворе он увидел мальчишку, показавшегося ему знакомым. Парень стоял возле открытого двухместного автомобиля с откидывающимся задним сиденьем.
— Привет! — прокричал ему мальчишка.
— Привет, — ответил Мартин. Он подошел к автомобилю.
— Ничего штучка, правда? — опросил мальчишка. — Первый такой в городе. Отец мне его только что купил.
— Что? — спросил Мартин.
— Новая машина. — Улыбка не сходила с губ мальчишки. — Первый такой. Вот красавец, правда?
Мартин окинул взглядом автомобиль — от переднего бампера до стоп-фонарей.
— Откидное сиденье, — тихо сказал он.
Мальчишка вопросительно наклонил голову.
— Ну, ясно, откидное. Это же тип такой.
— Двадцать лет не видел откидных сидений.
Вышла пауза, и лицо мальчишки попыталось было снова вернуть себе энтузиазм предыдущей минуты.
— Да вы откуда взялись, мистер?
Мартин Слоун не ответил. Он смотрел на автомобиль. Первый такой в городе, сказал мальчишка. Первый. Новехонький. Автомобиль выпуска 1934 года был новехонький…
Уже вечерело, когда Мартин Слоун снова вернулся на Дубовую улицу и остановился перед своим домом, глядя на немыслимо теплые его огни, горевшие в окнах. Цикады трещали так, словно где-то в темноте били пальцами в целый миллион бубнов. В воздухе стоял аромат гиацинтов. Тихое шелестение лиственных крон закрывало луну и странными тенями пятнало остывающие тротуары. Лето, лето было во всем, так хорошо помнящееся лето…
Мартин Слоун исходил множество тротуаров и о многом передумал. С яркой и четкой ясностью знал он теперь, что очутился на двадцать пять лет назад во времени. Каким-то необъяснимым образом ему удалось пробиться через непроходимое измерение. Ничто более не затрудняло его, не томили никакие предчувствия. Теперь у него были цель и решимость. Он хотел бросить вызов Этому прошлому. Он прошел к ступеням на веранде, и нога его ткнулась во что-то мягкое. Это была бейсбольная перчатка. Он поднял ее, натянул на руку, пару раз ткнул кулаком в ловушку, как делал это много лет назад. Затем увидел, что посреди двора стоит велосипед. Он несколько раз тренькнул звонком на руле и вдруг почувствовал, как чья-то рука легла на его руку и погасила звук. Он поднял глаза и увидел рядом с собой Роберта Слоуна.
— Снова вернулись, значит? — произнес его отец.
— Я должен был вернуться, папа. Это мой дом. — Он поднял перчатку, которую держал в руке. — И эта перчатка тоже моя. Ты подарил ее мне, когда мне исполнилось одиннадцать.
Глаза его отца сузились.
— Ты подарил мне и бейсбольный мяч, — продолжал Мартин. — На нем еще есть автограф Лу Герига.
Долгую, заполненную размышлениями минуту отец смотрел на него.
— Кто вы? — мягко спросил он. — Что вам здесь нужно? — Он чиркнул спичкой, раскурил свою трубку и затем вытянул руку с огоньком, вглядываясь в лицо Мартина в те короткие секунды, пока маленькое пламя еще теплилось.
— Я просто хочу отдохнуть, — сказал Мартин. — Просто на какое-то время мне нужно сойти с дистанции, Я ведь весь тут. Неужели ты не понимаешь, папа? Я отсюда, я свой, это все мое…
Лицо Роберта Слоуна смягчилось. Человек он был добрый и чувствительный. И разве не было чего-то в этом незнакомце, что пробуждало в нем странные, неясные чувства? Что-то такое, что… похоже, было знакомым?
— Послушайте-ка сынок, — сказал он. — Может, вы больны. Может, у вас навязчивая идея или еще что. Не хочется вас задевать, и не хочется, чтобы вы угодили в какую-нибудь беду. Но все же вы лучше выбирайтесь отсюда, а то беды не миновать.
За его спиной раздался скрип открываемой двери — это вышла миссис Слоун.
— С кем ты тут разговариваешь, Роб?.. — позвала было она. Увидев Мартина, она тотчас умолкла.
Он подбежал к веранде и метнулся вверх по ступенькам, чтобы схватить ее в объятия.
— Мамочка! — крикнул он ей. — Посмотри на меня! Всмотрись в мое лицо! Ведь ты-то узнаешь, узнаешь — правда?
Миссис Слоун выглядела испуганной и попятилась.
— Мамочка! Посмотри же на меня! Прошу тебя! Кто я? Скажи мне, кто я?
— Вы посторонний, — ответила миссис Слоун. — Я никогда раньше вас не встречала. Роберт, скажи ему, пусть уйдет!
Мартин снова схватил ее и повернул к себе лицом.
— У вас есть сын по имени Мартин, ведь так? Он ходит в Эмерсоновскую школу. Август он проводит на ферме у своей тетки неподалеку от Буффало, а года два назад каждое лето вы ездили на озеро Саратогу и снимали там домик. А когда-то у меня была сестра, но она умерла, когда ей был только год!..
Широко раскрыв глаза, миссис Слоун смотрела на него.
— Где сейчас Мартин? — спросила она мужа.
Руки Мартина снова крепко сжали ей плечи.
— Это я, Мартин! — прокричал он. — Я ваш сын! Вы должны мне поверить. Я ваш сын Мартин. — Он отпустил ее и полез в карман пиджака за бумажником. Одну за другой он начал вытаскивать из него бумажки. — Видите? Видите? Вот все мои документы. Удостоверения личности. Прочитайте их. Вот прочитайте, прочитайте!
Он настойчиво совал бумажник матери, но его мать в отчаянии и испуге вырвалась и наотмашь ударила его по лицу. Движение было инстинктивное, но она вложила в удар всю силу. Мартин застыл, бумажник выскользнул из его пальцев и упал наземь, голова его конвульсивно дернулась, ему казалось, что случилась непоправимая ошибка, и он никак не мог поверить, что женщина, стоящая перед ним, не понимает этого. Слабое эхо шарманки донеслось откуда-то издалека. Мартин повернулся и прислушался. По ступенькам мимо отца он сошел на дорожку. Там он снова остановился, прислушиваясь. Затем бросился бежать по самой середине улицы на звуки музыки.
— Мартин! — кричал он, сломя голову мчась по направлению к парку. Мартин! Мартин! Мартин! Мне нужно поговорить с тобой!
В парке горели разноцветные фонарики, и светильники на столбах, и разноцветные электрические надписи над эстрадой. Светящаяся дорожка, радиусом пролегшая от карусели, все вращалась, с каждым оборотом ложась на лицо Мартину, а он затравленно озирался, пытаясь разглядеть одиннадцатилетнего мальчишку в вечерней тьме, которая кишмя кишела этими сорванцами. Затем внезапно он его увидел. Мальчик катался на карусели.
Мартин подбежал к ней, схватился за стойку, когда она поравнялась с ним, и одним махом взметнул свое тело на движущуюся платформу. Он начал, спотыкаясь, пробираться через лабиринт высящихся над полом коней под взглядами сотен маленьких лиц, двигающихся перед ним вверх и вниз.
— Мартин! — закричал он, столкнувшись с одной из лошадок. — Мартин, прошу тебя, я должен поговорить с тобой!
Мальчик услышал свое имя, оглянулся через плечо, увидел этого человека со спутанными волосами и лицом в испарине, который пробирался к нему. Он слез с коня, отбросил в сторону коробку с жареной кукурузой и кинулся бежать, ловко проскальзывая между то вздымающимися, то припадающими всадниками.
— Мартин! — бился ему вслед голос Слоуна.
Слоун настигал. Их разделяло теперь всего только десять или пятнадцать футов, но мальчик не сдавался, продолжал убегать.
Случилось это внезапно. Мартин уже приблизился к мальчику на расстояние вытянутой руки и протянул ее, чтобы схватить беглеца. Мальчик через плечо оглянулся на него и, не заметив, ступил мимо края платформы и головой вперед рухнул в кружащийся многоцветный вихрь. Ногой он зацепился за какую-то железяку, торчащую из-под платформы, и некоторое время карусель тащила его за собой, кричащего в смертельном испуге. Он успел крикнуть только раз, потому что служитель в тот же миг схватил рубильник и рванул его на себя. Никто не заметил тогда и никто не мог вспомнить после, что с затихающим, нестройным аккордом преждевременно умолкнувшей шарманки слились два крика. Закричали двое. Одиннадцатилетний мальчик, теряющий и потерявший сознание, пережив перед этим секунды кошмара. И Мартин Слоун, который вдруг ощутил, как пронзительная боль агонии схватила его правую ногу. Он схватился за ногу, едва не упав. Теперь кричали уже все — матери и ребятишки, сбегаясь отовсюду к мальчику, лежавшему вниз лицом в нескольких футах от карусели. Они собрались вокруг него. Служитель протолкался через кольцо обступивших; и опустился на колени рядом с маленьким телом. Когда он осторожно поднял его на руки, над толпой прозвенел тонкий голосишко какой-то девочки:
— Посмотрите на его ногу! Ой, посмотрите!
Одиннадцатилетнего Мартина Слоуна унесли из парка. По его искалеченной правой ноге текла кровь. Мартин хотел было подойти к нему, но мальчика уже унесли. Воцарилась тишина, в которой только постепенно зародился шепот. Люди стали медленно расходиться по домам. Киоски закрылись. Погасли огни. В какую-то минуту Мартин остался совсем один. Он прислонился головой к одному из столбов ограждения карусели и закрыл глаза.
— Я только хотел сказать тебе, — прошептал он, — я только хотел сказать тебе, какое это чудесное время. Пусть ни одна секунда его не уплывет мимо тебя, пока… пока ты не насладишься ею. Больше не будет каруселей. Не будет сахарной ваты. И музыканты больше не будут играть с эстрады. Я только хотел сказать тебе, Мартин, что это изумительное время. Сейчас! Здесь!.. Вот и все. Вот все, что я хотел тебе сказать.
Он почувствовал, как его душу охватывает печаль.
— Да поможет тебе господь, Мартин, это все, что я хотел тебе сказать!
Он подошел к краю платформы и сел. Деревянные кони смотрели на него безжизненными глазами. Слепо уставились на него запертые киоски. Летняя ночь развесила вокруг него свои пологи, оставив его в одиночестве. Он не знал, сколько просидел вот так, как вдруг услышал шаги. Он поднял голову и увидел отца. Тот шел к нему через платформу карусели. Роберт Слоун смотрел на него сверху и держал в протянутой руке бумажник. Его, Мартина, бумажник.
— Я подумал, что вам захочется узнать, — сказал отец. — С мальчиком все будет в порядке. Может быть, станет чуть прихрамывать, говорит доктор, но все будет в порядке.
Мартин кивнул:
— Я благодарю бога за это.
— Вы уронили вот это возле дома, — сказал Роберт, передавая ему бумажник. — Я заглянул внутрь.
— И?..
— Он кое-что рассказал о вас, — честно признался Роберт. — Водительские права, визитные карточки, деньги. — Он помолчал. — Похоже, что вы в самом деле Мартин Слоун. Вам тридцать шесть лет. В Нью-Йорке у вас есть квартира…
Он еще помолчал, затем заговорил. На этот раз голос его звучал немного вопросительно:
— Тут написано, что на водительские права срок выходит в тысяча девятьсот шестидесятом. Это ведь через двадцать пять лет. И даты на бумажниках… на деньгах… Эти годы тоже еще не наступили.
Мартин прямо взглянул отцу в лицо.
— Значит, теперь ты знаешь, да? — спросил он.
Роберт кивнул.
— Да. Знаю. Я знаю, кто вы, и знаю что вы пришли сюда издалека. Издалека… и во времени тоже. Я не знаю, зачем или как. А вы?
Мартин покачал головой.
— Но зато вам известно кое-что другое, а, Мартин? То, что еще только должно случиться…
— Да, мне это известно.
— И вам известно и то, когда ваша мать и я… когда мы…
— Да, я это тоже знаю, — шепотом сказал Мартин.
Роберт вынул трубку изо рта и долгое время, пристально смотрел на Мартина.
— Ну что ж, говорить этого не надо. Мне бы лучше этого не знать. Это ведь часть той тайны, с которой мы живем. И я думаю — пусть это так навсегда и останется тайной. — Он умолк на мгновение. — Мартин?
— Да, папа.
Роберт положил Мартину руку на плечо.
— Вы должны уйти отсюда. Вам здесь нет места. И ничего вашего уже нет. Вы понимаете?
— Я вижу, что это так, — тихо сказал Мартин, кивнув головой. — Но понять… нет, понять этого я не могу. Почему нет?
— Мне кажется, потому, что в жизни нам выпадает только одна возможность. Может так быть, что на каждого отпущено только одно лето. Роберт улыбнулся. Теперь в его голосе звучало глубокое и сердечное сострадание. — Тот мальчик, тот, которого я знаю, тот, который здешний. Это его лето, Мартин. В точности как когда-то оно было вашим. — Он покачал головой. — Не заставляйте его делиться с вами.
Мартин поднялся и смотрел теперь в сторону, в темноту парка.
— Там… так плохо? Там, откуда вы пришли? — спросил Роберт.
— Я так считал, — ответил Мартин. — Я живу как в бешеной гонке, папа. Я слаб — и вот я выдумал, что я силен. Мне страшно до смерти — а я играю этакого сильного человека. Но внезапно все это настигает меня. И я почувствовал такую усталость, папа. Я почувствовал такую адскую усталость, потому что гонка была такой долгой… И тогда… в один прекрасный день я понял, что я должен вернуться. Я должен был вернуться и прокатиться на карусели, и послушать джаз с эстрады, и полакомиться сахарной ватой… Я должен был остановиться и перевести дух, закрыть глаза, вдыхать этот запах и слушать…
— Мне кажется, мы все этого хотим, — тихо заметил Роберт. — Но ведь, Мартин, когда вы вернетесь туда, вы, возможно, обнаружите, что и там, откуда вы, тоже есть и карусели, и играет джаз, и есть летние ночи. Может быть, вы просто не посмотрели где надо. Вы оглядываетесь, Мартин. Попробуйте заглянуть вперед.
Молчание. Мартин повернулся, чтобы посмотреть на отца. Его душила любовь, самая нежная нежность, какое-то звено, которое связывало его с этим человеком сильнее и глубже, чем зов крови.
— Может быть, папа, — сказал он, — может быть. Прощай, папа.
Роберт отошел на несколько футов, остановился, постоял так, спиной к Мартину, потом снова повернулся к нему.
— Прощай… сын, — сказал он.
Через мгновение он уже исчез. За спиной у Мартина тихо пришла в движение карусель. Огни были погашены, ни единого звука не раздавалось, только смутные силуэты коней перемещались по кругу. Мартин ступил на карусель, когда она двинулась в свой круговой путь, — безмолвный табун деревянных скакунов с нарисованными глазами, ночной быстроногий табун. Карусель обошла полный круг, затем стала останавливаться. На ней никого не было. Мартин Слоун исчез.
Мартин Слоун вошел в аптеку. Это была та самая аптека, которую он помнил еще мальчишкой, но внутри она ничем не напоминала ту, разве что кроме общих очертаний да лестницы, что вела к кабинету на антресолях. Теперь здесь было светло и весело от разноцветных полосок флюоресцентных трубок, оглушительно играл сверкающий огнями музыкальный автомат, замысловатый сатуратор с газировкой блистал хромированными частями. Было полным-полно старшеклассников, которые танцевали под эту громкую музыку или увлеченно листали журналы для подростков в уголке возле окна, выходящего на улицу. Аппарат для кондиционирования воздуха источал прохладу. Мартин пробирался сквозь сигаретный дым, сквозь рев рок-н-ролла, сквозь смех подростков и их подружек, оглядываясь в поисках хотя бы чего-нибудь, что было бы ему знакомо. Молодой продавец газировки улыбнулся ему через стойку.
— Привет! — сказал он. — Что бы вы хотели?
Мартин уселся на кожаное сиденье хромированного табурета.
— Может быть, шоколадную содовую с мороженым, а? — сказал он парнишке за стойкой. — Мороженого три шарика.
— Три шарика, — повторил парнишка. — Сейчас я вам это мигом все сварганю. Будет первый класс! Тридцать пять центов. Ладно?
Мартин улыбнулся не без грусти.
— Тридцать пять, говоришь? — взгляд его снова обежал помещение. — А что старый мистер Уилсон? — спросил он. — Был когда-то здесь владельцем.
— А, он умер, — ответил парнишка. — Давным-давно. Лет пятнадцать назад, а может, и двадцать. Какое вам мороженое — шоколадное, ванильное?
Мартин не слушал его.
— Ванильное? — повторил парнишка.
— Я передумал, — сказал Мартин. — Я, пожалуй, не стану брать эту содовую. — Он стал подниматься с табурета и едва не упал, потому что его правая негнущаяся нога на момент оказалась в неловком положении. Табуреты эти не для таких ног деланы, — заметил он с горестной улыбкой.
Парнишка за стойкой поддержал разговор:
— Уж точно. А вас это что — на войне?
— Что?
— Ногу. Вас на войне ранило?
— Нет, — задумчиво ответил Мартин. — По совести сказать, это я свалился с карусели, когда еще совсем клопом был. Потом неправильно срослось.
— Карусель! — щелкнул пальцами парнишка — Слушайте, я же помню эту карусель. Ее сломали несколько лет назад. — Он улыбнулся доброй улыбкой. Но уж было поздно, как я полагаю, а?
— Как это? — спросил Мартин.
— Я хочу сказать, вам-то уж было все равно. Запоздало.
Мартин медленно оглядел аптеку.
— Очень запоздало, — тихо сказал он. — Для меня очень запоздало.
Он снова вышел наружу под горячее солнце. Жаркий летний день — 26 июня 1959 года по календарю. Он прошелся по главной улице и вышел из городка, направляясь к заправочной станции, где он так давно оставил свою машину, чтобы ей сменили смазку. Он медленно шагал по пыльной обочине шоссе, чуть приволакивая правую ногу.
На заправочной станции он расплатился, сел в автомобиль, развернул его и поехал назад, к Нью-Йорку. Лишь один раз он оглянулся через плечо на щит с надписью: «Хоумвуд, 1,5 мили». Надпись обманывала. Это-то он знал. Хоумвуд был дальше. Гораздо дальше…
Мужчина высокого роста в костюме от братьев Брукс, сидящий за рулем красного «мерседес-бенца», задумавшись, сжимал руль, направляясь на юг, к Нью-Йорку. Он не очень хорошо представлял себе, что ждет его в конце путешествия. Он знал только одно: кое-что он открыл для себя. Хоумвуд. Хоумвуд в штате Нью-Йорк. До него нельзя дойти пешком…
Роберт Шекли Особый старательский
перевод А. Иорданского
Пескоход мягко катился по волнистым дюнам. Его шесть широких колес поднимались и опускались, как грузные крупы упряжки слонов. Невидимое солнце палило сквозь мертвенно-белую завесу небосвода, изливая свой жар на брезентовый верх машины и отражаясь от иссушенных песков.
— Только не засни, — сказал себе Моррисон, выправляя по компасу курс пескохода.
Вот уже двадцать первый день он ехал по Скорпионовой пустыне Венеры. Двадцать первый день он боролся со сном за рулем пескохода, который, качаясь из стороны в сторону, переваливал одну песчаную волну за другой. Ехать по ночам было бы полегче, если бы не приходилось то и дело объезжать крутые овраги и валуны величиной с дом. Теперь он понимал, почему в пустыню направлялись группами: один вел машину, а другой тряс его, не давая заснуть.
— Но в одиночку лучше, — напомнил Моррисон сам себе. — Берешь вдвое меньше припасов и не рискуешь случайно оказаться убитым.
Он начал клевать носом и заставил себя рывком поднять голову. Перед ним, за поляроидным ветровым стеклом, все плясало и зыбилось. Пескоход бросало и качало с предательской мягкостью. Моррисон протер глаза и включил радио.
Это был рослый, загорелый, мускулистый молодой человек с коротко остриженными черными волосами и серыми глазами. Он наскреб двадцать тысяч долларов и приехал на Венеру, чтобы здесь, в Скорпионовой пустыне, заработать себе состояние, как это сделали уже многие до него. В Престо — последнем городке на рубеже дикой пустыни — он обзавелся снаряжением и пескоходом, после чего у него осталось всего десять долларов.
Десяти долларов в Престо хватило как раз на то, чтобы выпить в единственном на весь город салуне. Моррисон заказал виски с содовой, выпил с шахтерами и старателями и посмеялся над россказнями старожилов про стаи пустынных волков и эскадрильи прожорливых птиц, что водились в глубине пустыни. Он знал все о солнечной слепоте, тепловом ударе и о поломке телефона. Он был уверен, что с ним ничего подобного не случится.
Теперь же, пройдя за двадцать один день 1800 миль, он научился уважать эту безводную громаду песка и камня площадью втрое больше Сахары. Здесь и в самом деле можно погибнуть!
Но можно и разбогатеть. Именно это и намеревался сделать Моррисон.
Из приемника послышалось гудение. Повернув регулятор громкости до отказа, он едва расслышал звуки танцевальной музыки из Венусборга. Потом звуки замерли.
Он выключил радио и крепко вцепился обеими руками в руль. Разжав одну руку, он взглянул на часы. Девять пятнадцать утра. В десять тридцать он сделает остановку и вздремнет. В такую жару нужно отдыхать. Но не больше чем полчаса. Где-то впереди ждет сокровище, и ему нужно найти его до того, как кончатся припасы.
Там, впереди, должны быть выходы драгоценной золотоносной породы! Вот уже два дня, как он напал на ее следы. А что, если он наткнется на настоящее месторождение, как Кэрк в восемьдесят девятом году или Эдмондсон и Арслер в девяносто третьем? Тогда он сделает то же, что сделали они: закажет «Особый старательский» коктейль, сколько бы с него ни содрали.
Пескоход катился вперед, делая неизменные тринадцать миль в час, и Моррисон попытался сосредоточиться на опаленной жаром желтовато-коричневой местности. Вон тот выход песчаника точь-в-точь такого же цвета, как волосы Джейни.
Когда он доберется до богатой залежи, то вернется на Землю, купит себе ферму в океане и они с Джейн поженятся. Хватит с него старательства! Только бы одну богатую находку, чтобы он мог купить кусок глубокого синего Атлантического океана. Кое-кто может считать рыбоводство скучным занятием, но его это вполне устраивает.
Он живо представил себе, как стада макрелей пасутся, плавая в планктонных садках, а он сам в маленькой подводной лодке, сопровождаемый верным дельфином, посматривает, не сверкнет ли серебром хищная барракуда и не покажется ли из-за коралловых зарослей серо-стальная акула…
Пескоход бросило вбок. Моррисон очнулся, схватился за руль и изо всех сил повернул его. Пока он дремал, машина съехала с рыхлого гребня дюны. Опасно накренившись, пескоход цеплялся колесами за гребень. Песок и галька летели из-под его широких шин, которые с визгом и воем начали вытягивать машину вверх по откосу. И тут обрушился весь склон дюны.
Моррисон повис на руле. Пескоход завалился на бок и покатился вниз. Песок сыпался в рот и в глаза. Отплевываясь, Моррисон не выпускал руля из рук. Потом машина еще раз перевернулась и провалилась в пустоту. Она падала несколько секунд, а потом рухнула на дно сразу всеми колесами. Моррисон услышал, как с гулом лопнули обе задние шины. Он ударился головой о ветровое стекло и потерял сознание.
Очнувшись, он прежде всего взглянул на часы. Они показывали десять тридцать пять.
— Самое время вздремнуть, — сказал себе Моррисон. — Но, пожалуй, лучше я сначала выясню ситуацию.
Он обнаружил, что находится на дне неглубокой впадины, усыпанной острыми камешками. От удара лопнули две шины, разбилось ветровое стекло и сорвало дверцу. Снаряжение было разбросано вокруг, но как будто осталось невредимым.
— Могло быть и хуже, — сказал себе Моррисон.
Он нагнулся и внимательно осмотрел шины.
— Оно и есть хуже, — добавил он.
Обе лопнувшие шины были так изодраны, что починить их было уже невозможно. Запасные колеса он использовал еще десять дней назад, пересекая Чертову Решетку. Использовал и выбросил. Двигаться дальше без шин он не мог.
Моррисон вытащил телефон, стер пыль с черного пластмассового футляра и набрал номер гаража Эла в Престо. Через секунду засветился маленький видеоэкран. Он увидел длинное угрюмое лицо, перепачканное маслом.
— Гараж Эла. Эдди у аппарата.
— Привет, Эдди. Это Том Моррисон. С месяц назад я купил у вас этот пескоход «Дженерал моторс». Помните?
— Конечно, помню, — ответил Эл. — Вы тот самый парень, который поехал один по Юго-Западной тропе. Ну, как ведет себя таратайка?
— Прекрасно. Замечательная машина. Я вот по какому делу…
— Эй, — перебил его Эдди, — что с вашим лицом?
Моррисон провел рукой по лбу и почувствовал кровь.
— Ничего особенного, — сказал он. — Я кувырнулся с дюны, и лопнули две шины.
Он повернул телефон, чтобы Эдди смог их разглядеть.
— Не починить, — сказал Эдди.
— Так я и думал. А запасные я истратил, когда ехал через Чертову Решетку. Послушайте, Эдди, вы не могли бы телепортировать мне пару шин? Сойдут даже реставрированные. А то без них мне не сдвинуться с места.
— Конечно, — ответил Эдди, — только реставрированных у меня нет. Я телепортирую новые по пятьсот за штуку. Плюс четыреста долларов за телепортировку. Тысяча четыреста долларов, мистер Моррисон.
— Ладно.
— Хорошо, сэр. Если сейчас вы покажете мне наличные или чек, я буду действовать.
— В данный момент, — сказал Моррисон, — у меня с собой нет ни цента.
— А счет в банке?
— Исчерпан дочиста.
— Облигации? Недвижимость? Хоть что-нибудь, что можно обратить в наличные?
— Ничего, кроме этого пескохода, который вы продали мне за восемь тысяч долларов. Когда вернусь, рассчитаюсь с вами пескоходом.
— Если вернетесь. Мне очень жаль, мистер Моррисон, но ничего не выйдет.
— Что вы хотите сказать? — спросил Моррисон. — Вы же знаете, что я заплачу за шины.
— А вы знаете законы Венеры, — упрямо сказал Эдди. — Никакого кредита! Деньги на бочку!
— Не могу же я ехать на пескоходе без шин, — сказал Моррисон. — Неужели вы меня здесь бросите?
— Кто это вас бросит? — возразил Эдди. — Со старателями такое случается каждый день. Вы знаете, что делать, мистер Моррисон. Позвоните в компанию «Коммунальные услуги» и объявите себя банкротом. Подпишите бумагу о передаче им остатков пескохода и снаряжения и всего, что вы нашли по дороге. Они вас выручат.
— Я не хочу возращаться, — ответил Моррисон. — Смотрите.
Он подмес аппарат к самой земле.
— Видите, Эдди? Видите эти красные и пурпурные крапинки? Где-то здесь лежит богатая руда!
— Следы находят все, — сказал Эдди.
— Но это богатое место, — настаивал Моррисон. — Следы ведут прямо к чему-то крупному, к большой жиле. Эдди, я знаю, это очень большое одолжение, но если бы вы рискнули ради меня парой шин…
— Не могу, — ответил Эдди. — Я же всего-навсего здешний служащий. Я не могу телепортировать вам никаких шин, пока вы мне не покажете деньги. Иначе меня выгонят с работы, а может быть, и посадят. Вы знаете закон.
— Деньги на бочку, — мрачно сказал Моррисон.
— Вот именно. Не делайте глупостей и поворачивайте обратно. Может быть, когда-нибудь попробуете еще раз.
— Я двенадцать лет копил эти деньги, — ответил Моррисон. — Я не поверну назад.
Он выключил телефон и попытался что-нибудь придумать. Кому еще здесь, на Венере, он может позвонить? Только Максу Крэндоллу, своему маклеру по драгоценным камням. Но Максу негде взять тысячу четыреста долларов — в своей тесной конторе рядом с ювелирной биржей Венусборга он еле-еле зарабатывает на то, чтобы заплатить домохозяину.
«Не могу я просить Макса о помощи, — решил Моррисон. — По крайней мере до тех пор, пока не найду золото. Настоящее золото, а не просто его признаки. Значит, остается выпутываться самому».
Он открыл задний борт пескохода и начал разгружать его, сваливая снаряжение на песок. Придется отобрать только самое необходимое: все, что он возьмет, предстоит тащить на себе.
Нужно взять телефон, походный набор для анализов. Концентраты, револьвер, компас. И ничего больше, кроме воды, — столько, сколько он сможет унести. Все остальное придется бросить.
К вечеру Моррисон был готов. Он с сожалением посмотрел на остающиеся двадцать баков с водой. В пустыне вода — самое драгоценное имущество человека, если не считать телефона. Но ничего не поделаешь. Напившись досыта, он взвалил на плечи мешок и направился на юго-запад, в глубь пустыни.
Три дня он шел на юго-запад, потом, на четвертый день, повернул на юг. Признаки золота становились все отчетливее. Никогда не показывавшееся из-за облаков солнце палило сверху, и мертвенно-белое небо смыкалось над ним, как крыша из раскаленного железа. Моррисон шел по следам золота, а по его следам тоже кто-то шел.
На шестой день он уловил какое-то движение, но это было так далеко, что он ничего не смог разглядеть. На седьмой день он увидел, кто его выслеживает.
Венерианская порода волков, маленьких, худых, с желтой шкурой и длинными, изогнутыми, как будто в усмешке, челюстями, была одной из немногих разновидностей млекопитающих, которые обитали в Скорпионовой пустыне. Моррисон вгляделся и увидел, как рядом с первым волком появились еще два.
Он расстегнул кобуру револьвера. Волки не пытались приблизиться. Времени у них было достаточно.
Моррисон все шел и шел, жалея, что не захватил с собой ружье. Но это означало бы лишние восемь фунтов, а значит, на восемь фунтов меньше воды.
Раскидывая лагерь на закате восьмого дня, он услышал какое-то потрескивание. Он резко повернулся и заметил в воздухе футах в десяти слева от себя, на высоте чуть больше человеческого роста, маленький вихрь, похожий на водоворот. Вихрь крутился, издавая характерное потрескивание, всегда сопровождавшее телепортировку.
«Кто бы это мог мне что-то телепортировать?» — подумал Моррисон, глядя, как вихрь медленно растет.
Телепортировка предметов со стационарного проектора в любую заданную точку была обычным способом передвижения грузов через огромные расстояния Венеры. Телепортировать можно было любой неодушевленный предмет. Одушевленные предметы телепортировать не удавалось, потому что при этом происходили некоторые незначительные, но непоправимые изменения молекулярного строения протоплазмы. Кое-кому пришлось убедиться в этом на себе, когда телепортирование только еще входило в практику.
Моррисон ждал. Воздушный вихрь достиг трех футов в диаметре. Из него вышел хромированный робот с большой сумкой.
— А, это ты… — сказал Моррисон.
— Да, сэр, — сказал робот, окончательно высвободившись из вихря, — Уильямс-4 с венерианской почтой к вашим услугам.
Робот был среднего роста, с тонкими ногами и плоскими ступнями, человекоподобный и наделенный добродушным характером. Вот уже двадцать три года он представлял собой все почтовое ведомство Венеры — сортировал, хранил и доставлял письма. Он был построен основательно, и за все двадцать три года почта ни разу не задерживалась.
— Вот и мы, мистер Моррисон, — сказал Уильямс-4. — К сожалению, в пустыню почта заглядывает только дважды в месяц, но уж зато приходит вовремя, а это самое ценное. Вот для вас. И вот. Кажется, есть еще одно. Что, пескоход сломался?
— Ну да, — ответил Моррисон, забирая письма.
Уильямс-4 продолжал рыться в своей сумке. Хотя старый робот был прекрасным почтальоном, он слыл самым большим болтуном на всех трех планетах.
— Где-то здесь было еще одно, — сказал Уильямс-4. — Плохо, что пескоход сломался. Теперь уж пескоходы пошли не те, что во времена моей молодости. Послушайте моего совета, молодой человек. Возвращайтесь назад, если у вас еще есть такая возможность.
Моррисон покачал головой.
— Глупо, просто глупо, — сказал старый робот. — Жаль, что у вас нет моего опыта. Сколько раз мне попадались вот такие парни — лежат себе на песке в высохшем мешке из собственной кожи, а кости изгрызли песчаные волки и грязные черные коршуны. Двадцать три года я доставляю почту прекрасным молодым людям вроде вас, и каждый думает, что он необыкновенный, не такой, как другие.
Зрительные ячейки робота затуманились воспоминаниями.
— Но они такие же, как и все, — продолжал Уильямс-4. — Все они одинаковы, как роботы, сошедшие с конвейера, особенно это чувствуешь после того, как с ними разделаются волки. И тогда мне приходится пересылать их письма и личные вещи их возлюбленным на Землю.
— Знаю, — ответил Моррисон. — Но кое-кто остается в живых, верно?
— Конечно, — согласился робот. — Я видел, как люди составляли себе одно, два, три состояния. А потом умирали в песках, пытаясь составить четвертое.
— Только не я, — ответил Моррисон. — Мне хватит и одного. А потом я куплю себе подводную ферму на Земле.
Робот содрогнулся.
— Ненавижу соленую воду. Но каждому — свое. Желаю удачи, молодой человек!
Робот внимательно оглядел Моррисона — вероятно, чтобы прикинуть, много ли на нем личных вещей, — и полез обратно в воздушный вихрь. Мгновение — и он исчез. Еще мгновение — исчез и вихрь.
Моррисон сел и принялся читать письма. Первое было от маклера по драгоценным камням Макса Крэндолла. Он писал о депрессии, которая обрушилась на Венусборг, и намекал, что может оказаться банкротом, если кто-нибудь из его старателей не найдет чего-нибудь стоящего.
Второе письмо было уведомлением от Телефонной компании Венеры. Моррисон задолжал за двухмесячное пользование телефоном двести десять долларов и восемь центов. Если эта сумма не будет уплачена немедленно, телефон подлежит отключению.
Последнее письмо, пришедшее с далекой Земли, было от Дженни. Оно было заполнено новостями о его двоюродных братьях, тетках и дядях. Джейни писала о фермах в Атлантическом океане, которые она присмотрела, и о чудном местечке, что она нашла недалеко от Мартиники в Карибском море. Она умоляла его бросить старательство, если оно грозит какой-нибудь опасностью; можно найти и другие способы заработать на ферму. Она передавала ему свою любовь и заранее поздравляла с днем рождения.
— День рождения? — спросил себя Моррисон. — Погодите, сегодня двадцать третье июля. Нет, двадцать четвертое. А мой день рождения первого августа. Спасибо, что вспомнила, Джейни.
В эту ночь ему снились Земля и голубые просторы Атлантики. Но под утро, когда жара усилилась, он вообразил многие мили золотых жил, оскаливших зубы песчаных волков и «Особый старательский».
Моррисон продолжал свой путь по дну давно исчезнувшего озера. Камни сменились песком. Потом снова пошли камни, исковерканные и превращенные в тысячи зловещих фигур. Красные, желтые и бурые цвета плыли у него перед глазами. Во всей этой пустыне не было ни одного зеленого пятнышка.
Он продолжал идти в глубь пустыни, в хаотические нагромождения камней, а поодаль, с обеих сторон, за ним, не приближаясь и не отставая, шли волки.
Моррисон не обращал на них внимания. Ему доставляли достаточно забот отвесные скалы и целые поля валунов, преграждавшие путь на юг.
На одиннадцатый день после того, как он бросил пескоход, признаки золота стали настолько богатыми, что его уже можно было мыть. Волки все еще преследовали его, и вода была на исходе. Еще один дневной переход — и для него все будет кончено.
Моррисон на мгновение задумался, потом распаковал телефон и набрал номер компании «Коммунальные услуги». На экране появилась суровая, строго одетая женщина с седеющими волосами. — «Коммунальные услуги», — сказала она. — Чем мы можем вам помочь?
— Привет, — весело отозвался Моррисон. — Как погода в Венусборге?
— Жарко, — ответила женщина. — А у вас?
— Я даже не заметил, — улыбнулся Моррисон. — Слишком занят: пересчитываю свои богатства.
— Вы нашли золотую жилу? — спросила женщина, и ее лицо немного смягчилось.
— Конечно, — ответил Моррисон. — Но пока никому не говорите. Я еще не оформил заявку. Мне бы наполнить их, — беззаботно улыбаясь, он показал ей свои фляги. Иногда это удавалось. Иногда, если вы вели себя достаточно уверенно, «Коммунальные услуги» давали воду, не проверяя ваш текущий счет. Конечно, это было жульничество, но ему было не до приличий.
— Я полагаю, ваш счет в порядке? — спросила женщина.
— Конечно, — ответил Моррисон, почувствовав, как улыбка застыла на его лице. — Мое имя Том Моррисон. Можете проверить…
— О, этим занимаются другие. Держите крепче флягу. Готово!
Крепко держа флягу обеими руками, Моррисон смотрел, как над ее горлышком тонкой хрустальной струйкой показалась вода, телепортированная за четыре тысячи миль из Венусборга. Струйка потекла во флягу с чарующим журчанием. Глядя на нее, Моррисон почувствовал, как его пересохший рот начал наполняться слюной. Вдруг вода перестала течь.
— В чем дело? — спросил Моррисон.
Экран телефона померк, потом снова засветился, и Моррисон увидел перед собой худое лицо незнакомого мужчины. Мужчина сидел за большим письменным столом, а перед ним была табличка с надписью:
«Милтон П. Рид, вице-президент. Отдел счетов».
— Мистер Моррисон, — сказал Рид, — ваш счет перерасходован. Вы получили воду обманным путем. Это уголовное преступление.
— Я заплачу за воду, — сказал Моррисон.
— Когда?
— Как только вернусь в Веиусборг.
— Чем вы собираетесь заплатить?
— Золотом, — ответил Моррисон. — Посмотрите, мистер Рид. Это вернейшие признаки! Вернее, чем были у Кэрка, когда он сделал свою заявку. Еще день, и я найду золотоносную породу…
— Так думает каждый старатель, — сказал мистер Рид. — Всего один день отделяет каждого старателя на Венере от золотоносной породы. И все они рассчитывают получить кредит в «Коммунальных услугах».
— Но в данном случае…
— «Коммунальные услуги», — продолжал Рид, — не благотворительная организация. Наш устав запрещает продление кредита. Мистер Моррисон, Венера — еще не освоенная планета, и планета очень далекая. Любое промышленное изделие приходится ввозить сюда с Земли за немыслимую цену. У нас есть своя вода, но найти ее, очистить и потом телепортировать стоит дорого. Наша компания, как и любая другая на Венере, получает крайне малую прибыль, да и та неизменно вкладывается в расширение дела. Вот почему на Венере не может быть кредита.
— Я все это знаю, — ответил Моррисон. — Но я же говорю вам, что мне нужно только день или два…
— Абсолютно исключено. По правилам мы уже сейчас не имеем права выручать вас. Вы должны были объявить о своем банкротстве неделю назад, когда сломался ваш пескоход. Ваш механик сообщил нам об этом, как требует закон. Но вы этого не сделали. Мы имеем право бросить вас. Вы понимаете?
— Да, конечно, — устало ответил Моррисон.
— Тем не менее компания приняла решение ради вас нарушить правила. Если вы немедленно повернете назад, мы снабдим вас водой на обратный путь.
— Я еще не хочу поворачивать назад. Я почти нашел месторождение.
— Вы должны повернуть назад! Подумайте хорошенько, Моррисон! Что было бы с нами, если бы мы позволяли любому старателю рыскать по пустыне и снабжали бы его водой? Туда бы устремились десять тысяч человек, и не прошло бы и года, как мы были бы разорены. Я и так нарушаю правила. Возвращайтесь!
— Нет, — ответил Моррисон.
— Подумайте еще раз. Если вы сейчас не повернете назад, «Коммунальные услуги» снимают с себя всякую ответственность.
Моррисон кивнул. Если он пойдет дальше, то рискует умереть в пустыне. Но что, если он вернется? Он окажется в Венусборге без гроша в кармане, кругом в долгах, тщетно разыскивая работу в перенаселенном городе. Ему придется спать в ночлежке и кормиться бесплатной похлебкой вместе с другими старателями, которые повернули обратно. А как он заработает на возвращение на Землю? Когда он снова увидит Джейни?
— Я, пожалуй, пойду дальше, — сказал Моррисон.
— Тогда «Коммунальные услуги» снимают с себя всякую ответственность за вас, — повторил Рид и повесил трубку.
Моррисон уложил телефон, хлебнул глоток из своих скудных запасов воды и снова пустился в путь.
Песчаные волки рысцой бежали с обеих сторон, постепенно приближаясь. С неба его заметил коршун с треугольными крыльями. Коршун день и ночь парил на восходящих потоках воздуха, ожидая, пока волки прикончат Моррисона. Коршуна заметила стая маленьких летучих скорпионов. Они отогнали птицу наверх, в облачный слой. Летучие гады ждали целый день. Потом их, в свою очередь, прогнала стая черных коршунов.
Теперь, на пятнадцатый день после того, как он бросил пескоход, признаки золота стали еще обильнее. В сущности, Моррисон как будто шел по поверхности золотой жилы. Везде вокруг должно было быть золото. Но самой жилы он еще не нашел.
Моррисон сел и потряс свою последнюю флягу. Она не издала ни звука. Он отвинтил пробку и опрокинул флягу себе в рот. В его запекшееся горло скатились две капли.
Прошло уже четыре дня с тех пор, как он разговаривал с «Коммунальными услугами». Последнюю воду он выпил вчера. Или позавчера?
Он снова завинтил пустую флягу и окинул взглядом выжженную жаром местность. Потом он выхватил из мешка телефон и набрал номер Макса Крэндолла.
Круглое, озабоченное лицо Крэндолла появилось на экране.
— Томми, — сказал он, — на кого ты похож?
— Все в порядке, — ответил Моррисон. — Немного высох, и все. Макс, я у самой жилы.
— Ты в этом уверен? — спросил Макс.
— Смотри сам, — сказал Моррисон, поворачивая телефон в разные стороны. — Смотри, какие здесь формации! Видишь вон там красные и пурпурные пятна?
— Верно, признаки золота, — неуверенно согласился Крэндолл.
— Где-то поблизости богатая порода. Она должна быть здесь! — сказал Моррисон. — Послушай, Макс, я знаю, что у тебя туго с деньгами, но я хочу попросить тебя об одолжении. Пошли мне пинту воды. Всего пинту, чтобы хватило на день или два. Эта пинта может нас обоих сделать богачами.
— Не могу, — грустно ответил Крэндолл.
— Не можешь?
— Нет. Томми, я послал бы тебе воды, даже если бы вокруг тебя не было ничего, кроме песчаника и гранита. Неужели ты думаешь, что я дал бы тебе умереть от жажды, если бы мог что-нибудь поделать? Но я ничего не могу. Взгляни.
Крэндолл повернул свой телефон. Моррисон увидел, что стулья, стол, конторка, шкаф и сейф исчезли из конторы. Остался только телефон.
— Не знаю, почему не забрали и телефон, — сказал Крэндолл. — Я должен за него за два месяца.
— Я тоже, — вставил Моррисон.
— Меня ободрали как липку, — сказал Крэндолл. — Ни гроша не осталось. Пойми, за себя я не волнуюсь. Я могу питаться и бесплатной похлебкой. Но я не могу телепортировать тебе ни капли воды. Ни тебе, ни Ремстаатеру.
— Джиму Ремстаатеру?
— Ага. Он шел по следам золота на севере, за Забытой речкой. На прошлой неделе у его пескохода сломалась ось, а поворачивать назад он не захотел. Вчера у него кончилась вода.
— Я бы поручился за него, если бы мог, — сказал Моррисон.
— И он бы поручился за тебя, если бы мог, — ответил Крэндолл. — Но он не может, и ты не можешь, и я не могу. Томми, у тебя осталась только одна надежда.
— Какая?
— Найди породу. Не просто признаки золота, а настоящее месторождение, которое стоило бы настоящих денег. Потом позвони мне. Если это будет в самом деле золотоносная порода, я приведу Уилкса из «Три Плэнет Майнинг» и заставлю его дать нам аванс. Он, вероятно, потребует пятьдесят процентов.
— Но это же грабеж!
— Нет, это просто цена кредита на Венере, — ответил Крэндолл. — Не беспокойся, все равно останется немало. Но сначала нужно найти породу.
— О'кэй, — сказал Моррисон.. — Она должна быть где-то здесь. Макс, какое сегодня число?
— Тридцать первое июля. А что?
— Просто так. Я позвоню тебе, когда что-нибудь найду.
Повесив трубку, Моррисон присел на камень и тупо уставился в песок. Тридцать первое июля. Завтра у него день рождения. О нем будут думать родные. Тетя Бесс в Пасадене, близнецы в Лаосе, дядя Тед в Буранго. И конечно, Джейни, которая ждет его в Тампа.
Моррисон понял, что, если он не найдет породу, завтрашний день рождения будет для него последним.
Он поднялся, снова упаковал телефон рядом с пустыми флягами и направился на юг.
Он шел не один. Птицы и звери пустыни шли за ним. Над его головой без конца молча кружились черные коршуны. По сторонам, уже гораздо ближе, его сопровождали песчаные волки, высунув языки в ожидании, когда же он упадет замертво…
— Я еще жив! — заорал на них Моррисон.
Он выхватил револьвер и выстрелил в ближайшего волка. Расстояние было футов двадцать, но он промахнулся. Он встал на одно колено, взял револьвер в обе руки и выстрелил снова. Волк завизжал от боли. Стая немедленно набросилась на раненого, и коршуны устремились вниз за своей долей.
Моррисон сунул револьвер в кобуру и побрел дальше. Он знал, что его организм сильно обезвожен. Окружающие предметы прыгали и плясали перед его глазами, и его шаги стали неверными. Он выбросил пустые фляги, выбросил все, кроме набора для анализов, телефона и револьвера. Или он уйдет из этой пустыни победителем, или не уйдет вообще.
Признаки золота были все такими же обильными. Но он все еще не мог найти никакого ощутимого богатства.
К вечеру он заметил неглубокую пещеру в подножье утеса. Он заполз в нее и устроил поперек входа баррикаду из камней. Потом он вытащил револьвер и оперся спиной о заднюю стену.
Снаружи фыркали и щелкали зубами волки. Моррисон устроился поудобнее и приготовился провести всю ночь настороже.
Он не спал, но и не бодрствовал. Его мучили кошмары и видения. Он снова оказался на Земле, и Джейни говорила ему:
— Это тунцы. У них что-то неладно с питанием. Они все болеют.
— Проклятье, — отвечал Моррисон. — Стоит только приручить рыбу, как она начинает привередничать.
— Ну что ты там философствуешь, когда твои рыбы больны?
— Позвони ветеринару.
— Звонила. Он у Блейков, ухаживает за их молочным китом.
— Ладно. Пойду посмотрю.
Он надел маску и, улыбаясь, сказал:
— Не успеешь обсохнуть, как уже приходится лезть снова.
Его лицо и грудь были влажными.
Моррисон открыл глаза. Его лицо и грудь в самом деле были мокры от пота. Вглядевшись в перегороженное устье пещеры, он насчитал два, четыре, шесть, восемь зеленых глаз.
Он выстрелил в них, но они не отступили. Он выстрелил еще раз, и пуля, отлетев от стенки, осыпала его режущими осколками камня. Продолжая стрелять, он ухитрился ранить одного из волков. Стая разбежалась.
Револьвер был пуст. Моррисон пошарил в карманах и нашел еще пять патронов. Он тщательно зарядил револьвер. Скоро, наверное, рассвет.
Он снова увидел сон — на этот раз ему приснился «Особый старательский». Он слышал рассказы о нем во всех маленьких салунах, окаймлявших Скорпионову пустыню. Заросшие щетиной пожилые старатели рассказывали о нем сотню разных историй, а видавшие виды бармены добавляли свои варианты. Его заказал Кэрк в восемьдесят девятом году — большой, специально для себя. Эдмондсон и Арслер отведали его в девяносто третьем. Это было несомненно. И другие заказывали его, сидя на своих драгоценных золотых жилах. По крайней мере так рассказывали.
Но существовал ли он на самом деле? Был ли вообще такой коктейль — «Особый старательский»? Доживет ли он до того, чтобы увидеть это радужное чудо, выше колокольни, больше дома, дороже, чем сама золотоносная порода?
Ну конечно! Вон, он уже почти может его разглядеть.
Моррисон заставил себя очнуться. Наступило утро. Он с трудом выбрался из пещеры навстречу дню.
Он брел и полз к югу, за ним по пятам шли волки, по нему пробегали тени крылатых хищников. Он скреб пальцами камни и песок. Вокруг были обильные признаки золота. Верные признаки!
Но где же в этой заброшенной пустыне золотоносная порода?
Где? Ему уже было почти все равно. Он гнал вперед свое сожженное солнцем, высохшее тело, остановившись только для того, чтобы отпугнуть выстрелом подошедших слишком близко волков.
Осталось четыре пули.
Ему пришлось выстрелить еще раз, когда коршуны, которым надоело ждать, начали пикировать ему на голову. Удачный выстрел угодил прямо в стаю, свалив двух птиц. Волки начали грызться над ними. Моррисон, уже ничего не видя, пополз вперед.
И упал с гребня невысокого утеса.
Падение было не опасным, но он выронил револьвер. Прежде чем он успел его найти, волки бросились на него. Только их жадность спасла Моррисона. Пока они дрались над ним, он откатился в сторону и подобрал револьвер. Два выстрела разогнали стаю. После этого у него осталась одна пуля. Придется приберечь ее для себя — он слишком устал, чтобы идти дальше. Он упал на колени. Признаки золота здесь были еще богаче, Они были фантастически богатыми. Где-то совсем рядом…
— Черт меня возьми! — вырвалось у Моррисона.
Небольшой овраг, куда он свалился, был не чем иным, как сплошной золотой жилой.
Он поднял с земли камешек. Даже в необработанном виде камешек весь светился глубоким золотым блеском — внутри него сверкали яркие красные и пурпурные точки.
— Проверь, — сказал себе Моррисон. — Не надо ложных тревог. Не надо миражей и ложных надежд. Проверь.
Рукояткой револьвера он отколол от камня кусочек. С виду это была золотоносная порода. Он достал свой набор для анализов и капнул на камень белым раствором. Раствор вспенился и зазеленел.
— Золотоносная порода, точно! — сказал Моррисон, окидывая взглядом сверкающие склоны оврага. — Эге, я богач!
Он вытащил телефон и дрожащими пальцами набрал номер Крэндолла.
— Макс! — заорал он. — Я нашел! Я нашел настоящее месторождение!
— Меня зовут не Макс, — сказал голос по телефону.
— Что?
— Моя фамилия Бойярд, — сказал голос.
Экран засветился, и Моррисон увидел худого желтолицего человека с тонкими усиками.
— Извините, мистер Бойярд, — сказал Моррисон. — я, наверное, не туда попал. Я звонил…
— Это неважно, куда вы звонили, — сказал мистер Бойярд. — Я участковый контролер Телефонной компании Венеры. Вы задолжали за два месяца.
— Теперь я могу заплатить, — ухмыляясь, заявил Моррисон.
— Прекрасно, — ответил мистер Бойярд. — Как только вы это сделаете, ваш телефон снова будет включен.
Экран начал меркнуть.
— Подождите! — закричал Моррисон. — Я заплачу, как только доберусь до вашей конторы! Но сначала я должен еще раз позвонить. Только один раз, чтобы…
— Ни в коем случае, — решительно ответил мистер Бойярд. — После того как вы оплатите счет, ваш телефон будет немедленно включен.
— Но у меня деньги здесь! — сказал Моррисон. — Здесь, со мной.
Мистер Бойярд помолчал.
— Ладно, это не полагается, но, я думаю, мы можем выслать вам специального робота-посыльного, если вы согласны оплатить расходы.
— Согласен!
— Хм… Это не полагается, но я думаю… Где деньги?
— Здесь, — ответил Моррисон. — Узнаете? Это золотоносная порода!
— Мне уже надоели эти фокусы, которые вы, старатели, вечно пытаетесь мне устроить. Показываете горсть камешков…
— Но это на самом деле золотоносная порода! Неужели вы не видите?
— Я служащий, — ответил мистер Бойярд, — а не ювелир. Я не могу отличить золотоносной породы от золототысячника.
Экран погас.
Моррисон лихорадочно пытался дозвониться до конторы. Телефон молчал — не слышно было даже гудения. Он был отключен.
Моррисон положил телефон на землю и огляделся вокруг. Узкий овраг, куда он свалился, тянулся прямо ярдов на двадцать, потом сворачивал влево. В его крутых склонах не было видно ни одной пещеры, ни одного удобного места, где можно было бы устроить баррикаду.
Он услышал сзади какое-то движение. Обернувшись, он увидел, что на него бросается огромный старый волк. Моррисон, ни секунды не раздумывая, выхватил револьвер и выстрелил, размозжив голову зверя.
— Черт возьми, — сказал Моррисон, — я хотел оставить эту пулю для себя.
Он получил отсрочку на несколько секунд и бросился вниз по оврагу в поисках выхода. Золотоносная порода сверкала вокруг красными и пурпурными искрами. А позади бежали волки.
Моррисон остановился. Излучина оврага привела его к глухой стене.
Он прислонился к ней спиной, держа револьвер за ствол. Волки остановились в пяти футах от него, собираясь в стаю для решительного броска. Их было десять или двенадцать, и в узком проходе они сгрудились в три ряда. Вверху кружили коршуны, ожидая своей очереди.
В этот момент Моррисон услышал потрескивание телепортировки. Над головами волков появился воздушный вихрь, и они торопливо попятились назад.
— Как раз вовремя, — сказал Моррисон.
— Вовремя для чего? — спросил Уильямс-4, почтальон.
Робот вылез из вихря и огляделся.
— Ну-ну, молодой человек, — произнес Уильямс-4, — ничего себе, доигрались! Разве я вас не предостерегал? Разве я не советовал вернуться? Посмотрите-ка!
— Ты был совершенно прав, — сказал Моррисон. — Что мне прислал Макс Крэндолл?
— Макс Крэндолл ничего не прислал, да и не мог прислать.
— Тогда почему ты здесь?
— Потому что сегодня ваш день рождения, — ответил Уильямс-4. — У нас на почте в таких случаях всегда бывает специальная доставка. Вот вам.
Уильямс-4 протянул ему пригоршню писем — поздравления от Джейни, теток, дядей и двоюродных братьев с Земли.
— И еще кое-что есть, — сказал Уильямс-4, роясь в своей сумке. — Должно быть кое-что еще. Постойте… Да, вот.
Он протянул Моррисону маленький пакет.
Моррисон поспешно сорвал обертку. Это был подарок от тети Мины, жившей в Нью-Джерси. Он открыл коробку. Там были соленые конфеты — прямо из Атлантик-Сити.
— Говорят, очень вкусно, — сказал Уильямс-4, глядевший через его плечо. — Но не очень уместно в данных обстоятельствах. Ну, молодой человек, очень жаль, что вам придется умереть в день своего рождения. Самое лучшее, что я могу вам пожелать, — это быстрой и безболезненной кончины.
Робот направился к вихрю.
— Погоди! — крикнул Моррисон. — Не можешь же ты так меня бросить. Я уже много дней ничего не пил. А эти волки…
— Понимаю, — ответил Уильямс-4. — Поверьте, это не доставляет мне никакой радости. Даже у робота есть кое-какие чувства.
— Тогда помоги мне!
— Не могу. Правила почтового ведомства это категорически запрещают. Я помню, в девяносто седьмом году меня примерно о том же просил Эбнер Лоти. Его тело потом искали три года.
— Но у тебя есть аварийный телефон? — спросил Моррисон.
— Есть. Но я могу им пользоваться только в том случае, если со мной произойдет авария.
— Но ты хоть можешь отнести мое письмо? Срочное письмо?
— Конечно, могу, — ответил робот. — Я для этого и создан. Я даже могу одолжить вам карандаш и бумагу.
Моррисон взял карандаш и бумагу и попытался собраться с мыслями. Если он напишет срочное письмо Максу, тот получит его через несколько часов. Но сколько времени понадобится ему, чтобы сколотить немного денег и послать ему воды и боеприпасы? День, два? Придется что-нибудь придумать, чтобы продержаться….
— Я полагаю, у вас есть марка? — сказал робот.
— Нет, — ответил Моррисон. — Но я куплю ее у тебя.
— Прекрасно, — ответил робот. — Мы только что выпустили новую серию венусборгских треугольных. Я считаю их большим эстетическим достижением. Они стоят по три доллара штука.
— Хорошо. Очень умеренно. Давай одну.
— Остается решить еще вопрос об оплате.
— Вот! — сказал Моррисон, протягивая роботу кусок золотоносной породы стоимостью — тысяч в пять долларов.
Почтальон осмотрел камень и протянул его обратно:
— Извините, но я могу принять только наличные.
— Но это стоит побольше, чем тысяча марок! — сказал Моррисон. — Это же золотоносная порода!
— Очень может быть, — ответил Уильямс-4, — но я не запрограммирован на пробирный анализ. А почта Венеры основана не на системе товарного обмена. Я вынужден попросить три доллара бумажками или монетами.
— У меня их нет.
— Очень жаль.
Уильямс-4 повернулся, чтобы уйти.
— Но ты же не можешь просто уйти и бросить меня на верную смерть!
— Не только могу, но и должен, — грустно сказал Уильямс-4. — Я всего только робот, мистер Моррисон. Я был создан людьми и, естественно, наделен некоторыми из их чувств. Так и должно быть. Но есть и предел моих возможностей — в сущности, такой же предел есть и у большинства людей на этой суровой планете. И в отличие от людей я не могу переступить свой предел.
Робот полез в вихрь. Моррисон непонимающим взглядом смотрел на него. Он видел за ним нетерпеливую стаю волков. Он видел неяркое сверкание золотоносной породы стоимостью в несколько миллионов долларов, покрывавшей склоны оврага.
И тут что-то в нем надломилось.
С нечленораздельным воплем Моррисон бросился вперед и схватил робота за ноги. Уильямс-4, наполовину скрывшийся в вихре телепортировки, упирался, брыкался и почти стряхнул было Моррисона. Но тот вцепился в него как безумный. Дюйм за дюймом он вытащил робота из вихря, швырнул на землю и придавил его своим телом.
— Вы нарушаете работу почты, — сказал Уильямс-4.
— Это еще не все, что я собираюсь нарушить, — прорычал Моррисон. — Смерти я не боюсь. Это была моя ставка. Но будь я проклят, если намерен умереть через пятнадцать минут после того, как разбогател!
— У вас нет выбора.
— Есть. Я воспользуюсь твоим аварийным телефоном.
— Это невозможно, — ответил Уильямс-4. — Я отказываюсь извлечь его. А вы сами до него не доберетесь без помощи механической мастерской.
— Возможно, — ответил Моррисон. — Я хочу попробовать.
Он вытащил свой разряженный револьвер.
— Что вы хотите сделать? — спросил Уильямс-4.
— Хочу посмотреть, не смогу ли я раздолбать тебя в металлолом без всякой помощи механической мастерской. Думаю, что будет логично начать с твоих зрительных ячеек.
— Это действительно логично, — отвечал робот. — У меня, конечно, нет инстинкта личного самосохранения. Но позвольте заметить, что вы оставите без почтальона всю Венеру. От вашего антиобщественного поступка многие пострадают.
— Надеюсь, — сказал Моррисон, занося револьвер над головой.
— Кроме того, — поспешно добавил робот, — вы уничтожите казенное имущество. Это серьезное преступление.
Моррисон рассмеялся и взмахнул револьвером. Робот сделал быстрое движение головой и избежал удара. Он попробовал вывернуться, но Моррисон навалился ему на грудь всеми своими двумястами фунтами.
— На этот раз я не промахнусь, — пообещал Моррисон, примериваясь снова.
— Стойте! — сказал Уильямс-4. — Мой долг — охранять казенное имущество, даже в том случае, когда этим имуществом оказываюсь я сам. Можете воспользоваться моим телефоном, мистер Моррисон. Имейте в виду, что это преступление карается заключением не более чем на десять и не менее чем на пять лет в исправительной колонии на Солнечных болотах.
— Давай телефон, — сказал Моррисон.
Грудь робота распахнулась, и оттуда выдвинулся маленький телефон. Моррисон набрал номер Макса Крэндолла и объяснил ему положение.
— Ясно, ясно, — сказал Крэндолл. — Ладно, попробую найти Уилкса. Но, Том, я не знаю, чего я смогу добиться. Рабочий день окончен. Все закрыто…
— Открой! — сказал Моррисон, — Я могу все оплатить. И выручи Джима Ремстаатера.
— Это не так просто. Ты еще не оформил свои права на заявку. Ты даже не доказал, что это месторождение действительно чего-то стоит.
— Смотри, — Моррисон повернул телефон так, чтобы Крэндоллу были видны сверкающие стены оврага.
— Похоже на правду, — заметил Крэндолл. — Но, к сожалению, не все то золотоносная порода, что блестит.
— Что же нам делать? — спросил Моррисон.
— Нужно делать все по порядку. Я телепортирую к тебе общественного маркшейдера. Он проверит твою заявку, определит размеры месторождения и выяснит, не закреплено ли оно за кем-нибудь другим. Дай ему с собой кусок золотоносной породы. Побольше.
— Как мне его отбить? У меня нет никаких инструментов.
— Ты уж придумай что-нибудь. Он возьмет кусок для анализа. Если порода достаточно богата, твое дело в шляпе.
— А если нет?
— Может, лучше нам об этом не говорить, — сказал Крэндолл. — Я займусь делом, Томми. Желаю удачи.
Моррисон повесил трубку, встал и помог подняться роботу.
— За двадцать три года службы, — произнес Уильямс-4, — впервые нашелся человек, который угрожал уничтожить казенного почтового служащего. Я должен доложить об этом полицейским властям в Венусборге, мистер Моррисон. Я не могу иначе.
— Знаю, — сказал Моррисон. — Но мне кажется, пять или даже десять лет в тюрьме все же лучше, чем умереть.
— Сомневаюсь. Я ведь и туда ношу почту. Вы сами увидите все месяцев через шесть.
— Как? — переспросил ошеломленный Моррисон.
— Месяцев через шесть, когда я закончу обход планеты и вернусь в Венусборг. О таком деле нужно докладывать лично. Но прежде всего нужно разнести почту.
— Спасибо, Уильямс. Не знаю, как мне…
— Я просто исполняю свой долг, — сказал робот, подходя к вихрю. — Если вы через шесть месяцев все еще будете на Венере, я принесу вашу почту в тюрьму.
— Меня здесь не будет, — ответил Моррисон. — Прощай, Уильямс.
Робот исчез в вихре. Потом исчез и вихрь. Моррисон остался один в сумерках Венеры.
Он разыскал выступ золотоносной породы чуть больше человеческой головы. Он ударил по нему рукояткой револьвера, и в воздухе заплясали мелкие искрящиеся осколки. Спустя час на револьвере появились четыре вмятины, а на блестящей поверхности породы — лишь несколько царапин.
Песчаные волки начали подкрадываться ближе. Моррисон швырнул в них несколько камней и закричал сухим, надтреснутым голосом. Волки отступили.
Он снова вгляделся в выступ и заметил у его основания трещину не толще волоса. Он начал колотить в этом месте. Но камень не поддавался.
Моррисон вытер пот со лба и собрался с мыслями. Клин, нужен клин…
Он снял ремень. Приставив край стальной пряжки, он ударом револьвера вогнал ее в трещину на какую-то долю дюйма. Еще три удара — и вся пряжка скрылась в трещине, еще удар — и выступ отделился от жилы. Отломившийся кусок весил фунтов двадцать. При цене пятьдесят долларов за унцию этот обломок должен был стоить тысяч двенадцать долларов, если только золото будет такое же чистое, каким оно кажется.
Наступили темно-серые сумерки, когда появился телепортированный общественный маркшейдер. Это был невысокий, приземистый робот, отделанный старомодным черным лаком.
— Добрый день, сэр, — сказал он. — Вы хотите сделать заявку? Обычную заявку на неограниченную добычу?
— Да, — ответил Моррисон.
— А где центр вышеупомянутой заявки?
— Что? Центр? По-моему, я на нем стою.
— Очень хорошо, — сказал робот.
Вытащив стальную рулетку, он быстро отошел от Моррисона на двести ярдов и остановился. Разматывая рулетку, робот ходил, прыгал и лазил по сторонам квадрата с Моррисоном в центре. Окончив обмер, он долго стоял неподвижно.
— Что ты делаешь? — спросил Моррисон.
— Глубинные фотографии участка, — ответил робот. — Довольно трудное дело при таком освещении. Вы не могли бы подождать до утра?
— Нет!
— Ладно, придется повозиться, — сказал робот.
Он переходил с места на место, останавливался, снова шел, снова останавливался. По мере того как сумерки сгущались, глубинные фотографии требовали все большей и большей экспозиции. Робот вспотел бы, если бы только умел это делать.
— Все. — сказал он наконец. — С этим покончено. Вы дадите мне с собой образец?
— Вот он, — сказал Моррисон, взвесив в руке обломок золотоносной породы и протягивая его маркшейдеру. — Все?
— Абсолютно все, — ответил робот. — Если не считать, конечно, того, что вы еще не предъявили мне Поисковый акт.
Моррисон растерянно заморгал:
— Чего не предъявил?
— Поисковый акт. Это официальный документ, свидетельствующий о том, что участок, на который вы претендуете, не содержит радиоактивных веществ до глубины в шестьдесят футов. Простая, но необходимая формальность.
— Я никогда о ней не слыхал, — сказал Моррисон.
— Ее сделали обязательным условием на прошлой неделе, — объяснил маркшейдер. — У вас нет акта? Тогда, боюсь, ваша обычная неограниченная заявка недействительна.
— Что же мне делать?
— Вы можете, — сказал робот, — вместо нее оформить специальную ограниченную заявку. Для этого Поискового акта не требуется.
— А что это значит?
— Это значит, что через пятьсот лет все права переходят к властям Венеры.
— Ладно! — заорал Моррисон. — Хорошо! Прекрасно! Это все?
— Абсолютно все, — ответил маркшейдер. — Я захвачу этот образец с собой и отдам его на срочный анализ и оценку. По нему и по глубинным фотографиям мы сможем вычислить стоимость вашего участка.
— Пришлите мне что-нибудь отбиваться от волков, — сказал Моррисон. — И еды. И послушайте: я хочу «Особый старательский».
— Хорошо, сэр. Все это будет вам телепортировано, если ваша заявка окажется достаточно ценной, чтобы окупить расходы.
Робот влез в вихрь и исчез.
Время шло, и волки снова начали подбираться к Моррисону. Они огрызались, когда тот швырял в них камнями, но не отступали. Разинув пасти, высунув языки, они проползли остававшиеся несколько ярдов.
Вдруг волк, ползший впереди всех, взвыл и отскочил назад. Над его головой появился сверкающий вихрь, из которого упала винтовка, ударив его по передней лапе.
Волки пустились наутек. Из вихря упала еще одна винтовка, потом большой ящик с надписью «Гранаты. Обращаться осторожно», потом еще один ящик с надписью «Пустынный рацион К».
Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающее устье вихря, который пронесся по небу и остановился неподалеку от него. Из вихря показалось большое круглое медное днище. Устье вихря стало расширяться, пропуская нижнюю часть огромного медного сосуда, которая становилась все шире и шире. Днище уже стояло на песке, а сосуд все рос вверх. Когда, наконец, он показался весь, в безбрежной пустыне стояла гигантская вычурная медная чаша для пунша. Вихрь поднялся и повис над ней.
Моррисон ждал. Его запекшееся горло саднило. Из вихря показалась тонкая струйка воды и полилась в чашу. Моррисон все еще не двигался.
А потом началось. Струйка превратилась в поток, рев которого разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низвергался из вихря в гигантскую чашу.
Моррисон, шатаясь, побрел к ней. «Надо было попросить флягу», — говорил он себе, охваченный страшной жаждой, ковыляя по песку к чаше. Но вот, наконец, он встал под «Особым старательским» — выше колокольни, больше дома, наполненным водой, что была дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши. Вода смочила желтый песок и ручейками побежала вниз по дюне.
«Надо было еще заказать чашку или стакан», — подумал Моррисон, лежа на спине и ловя открытым ртом струю воды.
Рэй Брэдбери Мальчик-невидимка
перевод Л. Жданова
Она взяла большую железную ложку и высушенную лягушку, стукнула по лягушке так, что та обратилась в прах, и принялась бормотать над порошком, быстро растирая его своими жесткими руками. Серые птичьи бусинки глаз то и дело поглядывали в сторону лачуги. И каждый раз голова в низеньком узком окошке ныряла, точно в нее летел заряд дроби.
— Чарли! — крикнула Старуха. — Давай выходи! Я делаю змеиный талисман, он отомкнет этот ржавый замок! Выходи сей момент, а не то захочу — и земля заколышется, деревья вспыхнут ярким пламенем, солнце сядет средь белого дня!
Ни звука в ответ, только теплый свет горного солнца на высоких стволах скипидарного дерева, только пушистая белка, щелкая, кружится, скачет на позеленевшем бревне, только муравьи тонкой коричневой струйкой наступают на босые, в синих жилах, ноги Старухи.
— Ведь уже два дня не евши сидишь, чтоб тебя! — выдохнула она, стуча ложкой по плоскому камню, так что набитый битком серый колдовской мешочек у нее на поясе закачался взад и вперед.
Вся в поту, она встала и направилась прямиком к лачуге, зажав в горсти порошок из лягушки.
— Ну выходи! — Она швырнула в замочную скважину щепоть порошка. — Ах так! — прошипела она. — Хорошо же, я сама войду. — Она повернула дверную ручку пальцами, темными, точно грецкий орех, сперва в одну сторону, потом в другую.
— Господи, о Господи, — воззвала она, — распахни эту дверь настежь!
Но дверь не распахнулась; тогда она кинула еще чуток волшебного порошка и затаила дыхание. Шурша своей длинной, мятой синей юбкой, Старуха заглянула в таинственный мешочек, проверяя, нет ли там еще какой чешуйчатой твари, какого-нибудь магического средства посильнее этой лягушки, которую она пришибла много месяцев назад как раз для такой вот оказии.
Она слышала, как Чарли дышит за дверью. Его родители в начале недели подались в какой-то городишко в Озаркских горах, оставив мальчонку дома одного, и он, страшась одиночества, пробежал почти шесть миль до лачуги Старухи — она приходилась ему не то теткой, не то двоюродной бабкой или еще кем-то, а что до ее причуд, так он на них не обращал внимания.
Но два дня назад, привыкнув к мальчишке, Старуха решила совсем оставить его у себя — будет с кем поговорить. Она кольнула иглой свое тощее плечо, выдавила три бусинки крови, смачно плюнула через правый локоть, ногой раздавила хрусткого сверчка, а левой когтистой лапой попыталась схватить Чарли и закричала:
— Ты мой сын, мой, отныне и навеки!
Чарли вскочил, будто испуганный заяц, и ринулся в кусты, метя домой.
Но Старуха юркнула следом — проворно, как пестрая ящерица, — и перехватила его. Тогда он заперся в ее лачуге и не хотел выходить, сколько она ни барабанила в дверь, в окно, в сучковатые доски желтым кулачком, сколько ни ворожила над огнем и ни твердила, что теперь он ее сын, больше ничей, и делу конец.
— Чарли, ты здесь? — спросила она, пронизывая доски блестящими, острыми глазками.
— Здесь, здесь, где же еще, — ответил он наконец усталым голосом. Еще немного, еще чуть-чуть, и он свалится сюда на приступку. Старуха с надеждой подергала ручку. Уж не перестаралась ли она — швырнула в скважину лишнюю щепоть, и замок заело. «Всегда-то я, как ворожу, либо лишку дам, либо не дотяну, — сердито подумала она, — никогда в самый раз не угадаю, черт бы его побрал!»
— Чарли, мне бы только было с кем поболтать вечерами, вместе у костра руки греть. Чтобы было кому утром хворосту принести да отгонять блуждающие огоньки, что подкрадываются в вечерней мгле! Никакой тут каверзы нет, сынок, но ведь невмоготу одной-то. — Она почмокала губами. — Чарли, слышь, выходи, уж я тебя такому научу!
— Чему хоть? — недоверчиво спросил он.
— Научу, как дешево покупать и дорого продавать. Излови ласку, отрежь ей голову и сунь в задний карман, пока не остыла. И все!
— Э-э! — презрительно ответил Чарли. Она заторопилась.
— Я тебя средству от пули научу. В тебя кто стрельнет из ружья, а тебе хоть бы что.
Чарли молчал; тогда она свистящим, прерывистым шепотом открыла ему тайну:
— В пятницу, в полнолуние, накопай мышиного корня, свяжи пучок и носи на шее на белой шелковой нитке.
— Ты рехнулась, — сказал Чарли.
— Я научу тебя заговаривать кровь, пригвождать к месту зверя, исцелять слепых коней — всему научу! Лечить корову, если она дурной травы объелась, выгонять беса из козы. Покажу, как делаться невидимкой!
— О! — воскликнул Чарли.
Сердце Старухи стучало, словно барабан солдата Армии спасения.
Ручка двери повернулась, нажатая изнутри.
— Ты меня разыгрываешь, — сказал Чарли.
— Что ты! — воскликнула Старуха. — Слышь, Чарли, я так сделаю, ты будешь вроде окошка, сквозь тебя все будет видно. То-то ахнешь, сынок!
— Правда, буду невидимкой?
— Правда, правда!
— А ты не схватишь меня, как я выйду?
— Я тебя пальцем не трону, сынок.
— Ну ладно, — нерешительно сказал он. Дверь отворилась. На пороге стоял Чарли — босой, понурый, глядит исподлобья.
— Ну, делай меня невидимкой.
— Сперва надо поймать летучую мышь, — ответила Старуха. — Давай-ка, мчи!
Она дала ему немного сушеного мяса, заморить червячка, потом он полез на дерево. Выше, выше… Как хорошо на душе, когда видишь его, когда знаешь, что он тут и никуда не денется, после многих лет одиночества, когда даже «доброе утро» сказать некому, кроме птичьего помета да серебристого улиткина следа…
И вот с дерева, шурша между веток, падает летучая мышь со сломанным крылом. Старуха схватила ее — теплую, трепещущую, свистящую сквозь фарфорово-белые зубы, а Чарли уже спускался вниз, перехватывая ствол руками, и победно вопил.
В ту же ночь, в час, когда луна принялась обкусывать пряные сосновые шишки, Старуха извлекла из складок своего просторного синего платья длинную серебряную иголку. Твердя про себя: «Хоть бы сбылось, хоть бы сбылось», она крепко-крепко сжала пальцами холодную иглу и тщательно прицелилась в мертвую летучую мышь.
Она уже давно привыкла к тому, что, несмотря на все ее потуги, всяческие соли и серные пары, ворожба не удается. Но как расстаться с мечтой, что в один прекрасный день начнутся чудеса, фейерверк чудес, алые цветы и серебряные звезды — в доказательство того, что Господь простил ее розовое тело и розовые грезы, ее пылкое тело и пылкие мысли в пору девичества. Увы, до сих пор Бог не явил ей никакого Знамения, не сказал ни слова, но об этом, кроме самой Старухи, никто не знал.
— Готов? — спросила она Чарли, который сидел, обхватив поджатые стройные ноги длинными, в пупырышках, руками, рот открыт, зубы блестят…
— Готов, — содрогаясь, прошептал он.
— Раз! — Она глубоко вонзила иглу в правый глаз мыши. — Так!
— Ох! — крикнул Чарли и закрыл лицо руками.
— Теперь я заворачиваю ее в полосатую тряпицу — вот так, а теперь клади ее в карман и носи там вместе с тряпицей. Ну!
Он сунул амулет в карман.
— Чарли! — испуганно вскричала она. — Чарли, где ты? Я тебя не вижу, сынок!
— Здесь! — Он подпрыгнул так, что свет красными бликами заметался по его телу. — Здесь я, бабка!
Он лихорадочно разглядывал свои руки, ноги, грудь, пальцы.
— Я здесь!
Она смотрела так, словно полчища светлячков мельтешили у нее перед глазами в пьянящем ночном воздухе.
— Чарли! Надо же, как быстро пропал! Точно колибри! Чарли, вернись, вернись ко мне!
— Да ведь я здесь! — всхлипнул он.
— Где?
— У костра, у костра! И… и я себя вижу. Вовсе я не невидимка!
Тощее тело Старухи затряслось от смеха.
— Конечно, ты видишь сам себя! Все невидимки себя видят. А то как бы они ели, гуляли, ходили? Тронь меня, Чарли. Тронь, чтобы я знала, где ты.
Он нерешительно протянул к ней руку.
Она нарочно вздрогнула, будто испугалась, когда он ее коснулся.
— Ой!
— Нет, ты и впрямь не видишь меня? — спросил он. — Правда?
— Ничего не вижу, хоть бы один волосок! Она отыскала взглядом дерево и уставилась на него блестящими глазами, остерегаясь глядеть на мальчика.
— А ведь получилось, да еще как! — Она восхищенно вздохнула. — Ух ты! Никогда еще я так быстро не делала невидимок! Чарли, Чарли, как ты себя чувствуешь?
— Как вода в ручье, когда ее взбаламутишь.
— Ничего, муть осядет. — Погодя, она добавила: — Вот ты и невидимка, что ты теперь будешь делать, Чарли?
Она видела, как озорные мысли вихрем роятся в его голове. Приключения, одно другого увлекательнее, плясали чертиками в его глазах, да по одному только его широко раскрытому рту было видно — что значит быть мальчишкой, который вообразил, будто он горный ветер.
Грезя наяву, он заговорил:
— Буду бегать по хлебам напрямик, забираться на самые высокие горы, таскать на фермах белых кур, поросенка увижу — пинка дам. Буду щипать за ноги красивых девчонок, когда спят, а в школе дергать их за подвязки.
Чарли взглянул на Старуху, и ее сверкающие зрачки увидели, как что-то скверное, злое исказило его лицо.
— И еще много кой-чего буду делать, уж я придумаю, — сказал он.
— Только не вздумай мне козни строить, — предупредила Старуха. — Я хрупкая, словно весенний лед, со мной грубо нельзя.
Потом прибавила:
— А как с твоими родителями?
— Родителями?
— Не можешь же ты таким вернуться домой. Ты ж их насмерть перепугаешь! Мать так и шлепнется в обморок, будто срубленное дерево. Очень им надо на каждом шагу спотыкаться о тебя, очень надо матери поминутно звать: «Чарли, где ты?» — а ты у нее под носом!
Об этом Чарли не подумал. Он малость поостыл и даже прошептал: «Господи?», после чего осторожно ощупал свои длинные ноги.
— Ох, и одиноко тебе будет. Люди станут смотреть прямо сквозь тебя, как сквозь стеклянную банку, толкать, пихать на ходу — ведь тебя же не видно. А девчонки-то, Чарли, девчонки…
Он глотнул.
— Ну, что девчонки?
— Ни одна и глядеть на тебя не захочет. Думаешь, им нужно, чтоб их целовал парень, если ни его, ни губ не видать!
Чарли озабоченно ковырял землю пальцами босой ноги. Он надул губы:
— Все равно хоть немного побуду невидимкой. Уж я позабавлюсь! Буду осторожным, только и всего. Буду держаться подальше от фургонов и коней. И от отца подальше, он как услышит шорох какой, сразу стреляет. — Чарли моргнул. — Я же невидимка, вот и влепит он мне заряд крупной дроби, очень просто, почудится ему, что белка скачет на дворе, и саданет. Ой-ой…
Старуха кивнула дереву:
— А что, так и будет.
— Ладно, — рассудил Чарли, — сегодня вечером я по-буду невидимкой, а завтра утром ты меня по-старому сделаешь, решено?
— Есть же чудаки, выше себя прыгнуть стараются, — сообщила Старуха жуку, который полз по бревну.
— Это почему же? — спросил Чарли.
— А вот почему, — объяснила она. — Не так-то это просто было, сделать тебя невидимкой. И теперь нужно время, чтобы с тебя сошла невидимость. Это как краска, сразу не сходит.
— Это все ты! — вскричал он. — Ты меня превратила! Теперь давай ворожи обратно, делай меня видимым!
— Тише, не кричи, — ответила Старуха. — Само сойдет помаленьку, сперва рука покажется, потом нога.
— Это как же так — я иду по горам, и только одну руку видно?
— Будто пятикрылая птица скачет по камням, по ежевике!
— Или ногу?..
— Будто розовый кролик в кустах прыгает!
— Или одна голова плывет в воздухе?
— Будто волосатый шар на карнавале!
— Когда же я целым стану?
Она прикинула, что, пожалуй, не меньше года пройдет. У него вырвался стон. Потом он захныкал, кусая губы и сжимая кулаки.
— Ты меня заколдовала, это все ты, ты наделала. Теперь мне нельзя бежать домой!
Она подмигнула:
— Так оставайся, живи со мной, сынок, тебе у меня будет вот как хорошо, уж я тебя так баловать да холить стану.
— Ты нарочно это сделала! — выпалил он. — Старая карга, вздумала удержать меня!
И он вдруг метнулся в кусты.
— Чарли, вернись!
Никакого ответа, только топот ног по мягкому темному дерну да сдавленный плач, но и тот быстро смолк вдали. Подождав, она развела костер.
— Вернется, — прошептала она. И громко заговорила, убеждая сама себя: — Будет у меня собеседник всю весну и до конца лета. А уж тогда, как устану от него и захочется тишины, спроважу его домой.
Чарли вернулся беззвучно вместе с первым серым проблеском дня; он прокрался по белой от инея траве туда, где возле разбросанных головешек, точно сухой обветренный сук, лежала Старуха.
Он сел на скатанные ручьем голыши и уставился на нее.
Она не смела взглянуть на него и вообще в ту сторону. Он двигался совсем бесшумно, как же она может знать, что он где-то тут? Никак!
На его щеках были следы слез.
Старуха сделала вид, будто просыпается — она за всю ночь и глаз-то не сомкнула, — встала, ворча и зевая, и повернулась лицом к восходу.
— Чарли?
Ее взгляд переходил с сосны на землю, с земли на небо, с неба на горы вдали. Она звала его, снова и снова, и ей все мерещилось, что она глядит на него в упор, но она вовремя спохватывалась и отводила глаза.
— Чарли? Ау, Чарльз! — кричала Старуха и слышала, как эхо ее передразнивает.
Губы его растянулись в улыбку: ведь вот же он, совсем рядом сидит, а ей кажется, что она одна! Возможно, он ощущал, как в нем растет тайная сила, быть может, наслаждался сознанием своей неуязвимости, и уж, во всяком случае, ему очень нравилось быть невидимым.
Она громко произнесла:
— Куда же этот парень запропастился? Хоть бы зашумел, хоть бы услышать, где он, я бы ему, пожалуй, завтрак сготовила.
Она принялась стряпать, раздраженная его упорным молчанием. Она жарила свинину, нанизывая куски на ореховый прутик.
— Ничего, небось запах сразу учует! — буркнула Старуха.
Только она повернулась к нему спиной, как он схватил поджаренные куски и жадно их проглотил.
Она обернулась с криком:
— Господи, что это? Подозрительно осмотрелась вокруг.
— Это ты, Чарли?
Чарли вытер руками рот.
Старуха засеменила по прогалине, делая вид, будто ищет его. Наконец ее осенило: она прикинулась слепой и пошла прямо на Чарли, вытянув вперед руки.
— Чарли, да где же ты?
Он присел, отскочил и молнией метнулся прочь.
Она чуть не бросилась за ним вдогонку, но с великим трудом удержалась — нельзя же гнаться за невидимым мальчиком! — и, сердито ворча, села к костру, чтобы поджарить еще свинины. Но сколько она ни отрезала себе, он всякий раз хватал шипящий над огнем кусок и убегал прочь. Кончилось тем, что Старуха, красная от злости, закричала:
— Знаю, знаю, где ты! Вот там! Я слышу, как ты бегаешь! Она показала пальцем, но не прямо на него, а чуть вбок. Он сорвался с места.
— Теперь ты там! — кричала она. — А теперь там… там! — Следующие пять минут ее палец преследовал его. — Я слышу, как ты мнешь травинки, топчешь цветы, ломаешь сучки. У меня такие уши, такие чуткие — словно розовый лепесток. Я даже слышу, как движутся звезды на небе! Он втихомолку удрал за сосны, и оттуда донесся голос:
— А вот попробуй услышать, как я буду сидеть на камне! Буду сидеть — и все!
Весь день он просидел неподвижно на камне, на видном месте, на сухом ветру, боясь даже рот открыть.
Собирая хворост в чаще, Старуха чувствовала, как его взгляд зверьком юлит по ее спине. Ее так и подмывало крикнуть: «Вижу тебя, вижу! Не бывает невидимых мальчиков, я просто выдумала! Вон ты сидишь!» Но она подавляла свою злость, крепко держала себя в руках.
На следующее утро мальчишка стал безобразничать. Он внезапно выскакивал из-за деревьев. Он корчил рожи — лягушачьи, жабьи, паучьи: оттягивал губы вниз пальцами, выпучивал свои нахальные глаза, сплющивал нос так, что загляни — и увидишь мозг, все мысли прочтешь.
Один раз Старуха уронила вязанку хвороста. Пришлось сделать вид, будто испугалась сойки.
Мальчишка сделал такое движение, словно решил ее задушить.
Она вздрогнула.
Он притворился, будто хочет дать ей ногой под колено и плюнуть в лицо.
Она все вынесла, даже глазом не моргнула, бровью не повела.
Он высунул язык, издавая странные, противные звуки. Он шевелил своими большими ушами, так что нестерпимо хотелось смеяться, и в конце концов она не удержалась, но тут же объяснила:
— Надо же, на саламандру села, дура старая! И до чего колючая!
К полудню вся эта кутерьма достигла опасного предела.
Ровно в полдень Чарли примчался откуда-то сверху совершенно голый, в чем мать родила!
Старуха едва не шлепнулась навзничь от ужаса!
«Чарли!» — чуть не вскричала она.
Чарли взбежал нагишом вверх по склону, нагишом сбежал вниз, нагой, как день, нагой, как луна, голый, как солнце, как цыпленок только что из яйца, и ноги его мелькали, будто крылья летящего над землей колибри.
У Старухи отнялся язык. Что сказать ему? Оденься, Чарли? Как тебе не стыдно? Перестань безобразничать? Сказать так? Ох, Чарли, Господи Боже мой, Чарли… Сказать и выдать себя? Как тут быть?..
Вот он пляшет на скале, голый, словно только что на свет явился, и топает босыми пятками, и хлопает себя по коленям, то выпятит, то втянет свой белый живот, как в цирке воздушный шар надувают.
Она зажмурилась и стала читать молитву.
Три часа это длилось, наконец она не выдержала:
— Чарли, Чарли, иди же сюда! Я тебе что-то скажу! Он спорхнул к ней, точно лист с дерева, — слава Богу, одетый.
— Чарли, — сказала она, глядя на сосны, — я вижу палец твоей правой ноги. Вот он!
— Правда видишь? — спросил он.
— Да, — сокрушенно подтвердила она. — Вон, на траве, похож на рогатую лягушку. А вот там, вверху, твое левое ухо висит в воздухе — совсем как розовая бабочка.
Чарли заплясал.
— Появился, появился! Старуха кивнула:
— А вон твоя щиколотка показалась.
— Верни мне обе ноги! — приказал Чарли.
— Получай.
— А руки, руки как?
— Вижу, вижу: одна ползет по колену, словно паук коси-коси-ножка!
— А вторая?
— Тоже ползет.
— А тело у меня есть?
— Уже проступает, все как надо.
— Теперь верни мне голову, и я пойду домой. «Домой», — тоскливо подумала Старуха.
— Нет! — упрямо, сердито крикнула она. — Нет у тебя головы! Нету! — Оттянуть, сколько можно оттянуть эту минуту…
— Нету головы, нету, — твердила она.
— Совсем нет? — заныл Чарли.
— Есть, есть, о Господи, вернулась твоя паршивая голова! — огрызнулась она, сдаваясь. — А теперь отдай мне мою летучую мышь с иголкой в глазу!
Чарли швырнул ей мышь.
— Эге-гей!
Его крик раскатился по всей долине, и еще долго после того, как он умчался домой, в горах бесновалось эхо.
Старуха, согнутая тяжелой, тупой усталостью, подняла свою вязанку хвороста и побрела к лачуге. Она вздыхала и что-то бормотала себе под нос, и всю дорогу за ней шел Чарли, теперь уже и в самом деле невидимый, она не видела его, только слышала: вот упала на землю сосновая шишка — это он, вот журчит под ногами подземный поток — это он, белка цепляется за ветку — это Чарли; и в сумерках она и Чарли сидели вместе у костра, только он был настоящим невидимкой, и она угощала его свининой, но он отказывался, тогда она все съела сама, потом немного поколдовала и уснула рядом с Чарли, правда, он был сделан из сучьев, тряпок и камешков, но все равно он теплый, все равно ее родимый сыночек — вон как сладко дремлет, ненаглядный, у нее на руках, материнских руках, — и они говорили, сонно говорили о чем-то приятном, о чем-то золотистом, пока рассвет не заставил пламя медленно, медленно поблекнуть…
Станислав Лем Правда
перевод Д. Брускина
Сижу и пишу тут, в запертой комнате с дверью без ручки. Окно тоже не открывается, и стекло в нем небьющееся. Я пробовал. Не от желания сбежать и не со злости — просто хотел убедиться. Стол у меня из орехового дерева. Бумаги вдосталь. Писать разрешается. Только никто этого не читает. Но я все равно пишу. Не хочу одиночества, а читать не могу. Что ни дадут мне читать, все сплошная неправда, буквы начинают плясать перед глазами, и я теряю терпение. То, что есть в книгах, ничуть меня не интересует с той минуты, когда я понял, как все обстоит на самом деле.
Меня очень опекают. Утром — ванна, теплая либо комнатной температуры, с тонким ароматом. Я установил, чем различаются дни недели: по вторникам и субботам вода пахнет лавандой, а в остальные дни — хвойным лесом. После ванны — завтрак и визит врача. Один из младших врачей, не помню его имени (не то, чтоб у меня с памятью было неладно — просто я сейчас стараюсь не запоминать несущественные факты), интересовался моей историей. Я ему дважды все рассказывал, с начала до конца, а он записывал мой рассказ на магнитофон. Вероятно, он добивался повторения, чтобы сличить обе записи и таким путем установить, что в них остается неизменным. Я сказал ему, что об этом думаю; сказал также, что детали несущественны.
Спросил я его еще, собирается ли он представить мою историю как «клинический случай», чтобы привлечь к себе внимание медиков. Он слегка смутился. Может, мне это только почудилось; во всяком случае, с тех пор он перестал выказывать ко мне расположение.
Но все это не имеет значения. И то, до чего я допекался, отчасти по воле случая, отчасти благодаря другим обстоятельствам, в некотором (тривиальном) смысле тоже не имеет значения.
Существует два рода фактов. Одни могут оказаться полезными — например, тот факт, что вода кипит при ста градусах и превращается в пар, согласно законам Бойля-Мариотта и Гей-Люссака; благодаря этому в свое время оказалось возможным сконструировать паровую машину. Факты другого рода не имеют такого конкретного значения, ибо касаются всего, и никуда от них не денешься. Для них нет никаких исключений и нет никакого применения — и и этом смысле они ни к чему. Иногда они могут иметь неприятные для кого-нибудь последствия.
Я солгал бы, если б начал утверждать, что удовлетворен своим теперешним положением и что мне совершенно безразлично, какие записи сделаны в моей истории болезни. Но мне известно, что единственная моя болезнь — это мое существование и что вследствие этой болезни, всегда имеющей роковой исход, мне удалось доискаться до истины, а поэтому я испытываю некоторое удовлетворение, как всякий, кто сознает свою правоту — вопреки большинству. В моем случае — вопреки всему миру.
Я могу так выразиться, потому что Маартенса и Ганимальди нет в живых. Истина, которую мы втроем открыли, убила их. В переводе на язык большинства слова эти означают только то, что имел место несчастный случай. Действительно, он имел место — но значительно раньше, миллиарды лет назад, когда пласты огня, оторвавшиеся от Солнца, начали сворачиваться в шар. Это было началом агонии, а все остальное, включая темные канадские ели за окном, и щебетанье сиделок, и мое бумагомарание, — это уже только загробная жизнь. Знаете, чья? В самом деле, не знаете?
А ведь вы любите глядеть в огонь. Если не любите, то из благоразумия либо из духа противоречия. Вы только попробуйте усесться перед огнем, отведя от него взгляд, — и сразу убедитесь, что он притягивает. Того, что творится в пламени (а творится там очень многое), мы даже назвать не сможем. Есть у нас для этого около дюжины ничего не говорящих обозначений. Впрочем, я об этом понятия не имел, как и любой из вас. И, несмотря на свое открытие, я не стал огнепоклонником, так же как материалисты не становятся — не должны становиться, во всяком случае, материепоклонниками.
Впрочем, огонь… Он только намек. Напоминание. Поэтому мне смешно становится, когда добродушная врачиха Меррин говорит кому-то из посторонних (это, конечно, очередной врач, посетивший наше образцовое заведение), что, дескать, этот человек — вон тот заморыш, что греется на солнышке, — пиропараноик. Забавное словечко, правда? Пиропараноик. Сие означает, что моя противоречащая реальности систем а имеет знаменателем огонь. А я будто бы верю в «жизнь огня» (по выражению достопочтенной Мерриа). Разумеется, в этом нет ни слова правды. Огонь, в который мы любим смотреть, жив не больше, чем фотографии наших дорогих усопших. Его можно исследовать всю жизнь и ничего не добиться. Действительность, как всегда, оказывается более сложной. Но зато и менее злобной.
Написал я уже порядочно, а содержания тут маловато. Но это в основном потому, что времени у меня в избытке: Я ведь знаю, что, когда дело дойдет до серьезных вещей, когда все о них будет рассказано, я действительно могу впасть в отчаяние — вплоть до той минуты, когда записки эти будут уничтожены и я получу возможность писать все заново. Я никогда не повторяю одно и то же. Я не граммофонная пластинка.
Хотелось бы мне, чтобы солнце заглянуло в комнату, но в эту пору года оно навешает меня лишь около четырех, и то ненадолго. Хотелось бы понаблюдать его в большой хороший телескоп — например, тот, который Хемфри Филд установил четыре года назад на Маунт-Вилсон, с полным набором абсорбентов, поглощающих излишки энергии, так что можно спокойно, часами напролет разглядывать изрытое провалами лицо нашего отца. Плохо я сказал, это ведь не отец. Отец дарует жизнь, а Солнце понемногу умирает, подобно миллиардам других солнц.
Может, пора уже познакомить вас с той истиной, которую я постиг благодаря случаю и своей любознательности.
Я был тогда физиком. Специалистом по высоким температурам. Это специалист, который занимается огнем так, как могильщик занимается человеком. Вместе с Маартенсом и Ганимальди мы работали при большом боулдерском плазмотроне. Прежде наука действовала в несравненно меньшем масштабе — пробирки, реторты, штативы — и результаты были соответственно мельче. А мы брали миллиард ватт энергии, впускали ее в нутро электромагнита, каждая секция которого весила семьдесят тонн, а в фокусе магнитного поля помещали большую кварцевую трубку.
Электрический разряд проходил через трубку от одного электрода к другому, и сила его была такова, что срывала с атомов электронные оболочки и оставалось лишь месиво раскаленных ядер, вырожденный ядерный газ, сиречь плазма, которая взорвалась бы и превратила бы в грибовидное облако нас, броню, кварц, электромагнит, заякоренный в бетоне, стены здания и его сверкающий купол — и все это произошло бы в стомиллиардную долю секунды, куда быстрей, чем можно даже подумать о возможности такой катастрофы. Если б не это магнитное поле.
Это поле сжимало разряды в плазме, скручивало их в пульсирующий огненный шнур, брызжущий жестким излучением, тянущийся от электрода к электроду, вибрирующий в вакууме внутри кварца; магнитное поле не давало обнаженным ядерным частицам с температурой в миллион градусов приблизиться к стенам сосуда, оно охраняло нас и нашу работу. Но все это вы найдете в любой популяризаторской книжке, а я неумело излагаю это лишь для порядка, поскольку надо же с чего-нибудь начать, а как-то трудно считать началом этой истории дверь без ручки или полотняный мешок с очень длинными рукавами. Правда, тут я уже начинаю преувеличивать, потому что таких мешков — смирительных рубашек — уже не применяют. Они стали ненужными, когда были найдены сильнодействующие успокоительные препараты. Но хватит об этом.
Итак, мы исследовали плазму, занимались плазменными проблемами, как полагается физикам: теоретически, математически, иератически, возвышенно и таинственно — по крайней мере в том смысле, что пренебрежительно относились к нажиму наших несведущих в науке нетерпеливых финансовых опекунов; они требовали результатов, обеспечивающих практическое применение. В ту пору было очень модно разглагольствовать о таких результатах или по крайней мере об их вероятности. А именно о том, что должен был возникнуть существовавший пока лишь на бумаге плазменный двигатель для ракет; очень требовался плазменный взрыватель для водородных бомб — тех самых, которые «чистые», — теоретически разрабатывали даже водородный реактор на основе плазменного шнура. Словом, если не все будущее целиком, то по крайней мере будущее энергетики и транспорта видели в плазме. Плазма была, как я уже говорил, в моде, заниматься ее исследованием считалось хорошим тоном, а мы были молоды, хотели делать то, что наиболее важно и что может принести успех, славу… впрочем, не знаю! Если свести человеческие поступки к первоначальным их мотивам, они покажутся сплошь тривиальными; разумность и чувство меры, а также утонченность анализа состоят в том, чтобы поперечный разрез и фиксацию произвести в пункте максимальной усложненности, а не у истоков явления, так как все мы знаем, что даже Миссисипи у истоков выглядит не слишком импозантно и каждый может там запросто через нее перепрыгнуть. Потому-то к истокам относятся с некоторым пренебрежением. Но, по-моему, я отошел от темы.
Исследования наши и сотен других плазмологов, призванные осуществить все эти великие проекты, через некоторое время привели нас в область явлений, столь же непонятных, сколь и неприятных. До известной границы до границы средних температур (средних в космическом понимании, то есть таких, которые преобладают на поверхности звезд) — плазма вела себя послушно и солидно. Если ее связывали надлежащим образом — при помощи магнитного поля или некоторых изощренных штучек, основанных на принципе индукции, — она позволяла впрячь себя в лямку практических применений, и ее энергию якобы можно было использовать. Якобы — потому что на поддержание плазменного шнура тратилось больше энергии, чем из него получалось; разница возникала за счет потерь лучистой энергии, ну и за счет возрастания энтропии. Баланс пока не принимался в расчет, так как по теории получалось, что при более высоких температурах затраты автоматически снизятся. Таким образом действительно получился некий прототип реактивного моторчика и даже генератор ультражестких гамма-лучей; но вместе с тем плазма не оправдывала многих надежд, на нее возлагавшихся. Маленький плазменный двигатель функционировал, а те, что проектировались на большую мощность, взрывались или выходили из повиновения. Оказалось, что плазма в определенном диапазоне термических и электродинамических возбуждений ведет себя не так, как предусматривалось теорией; это всех возмутило, потому что теория была совершенно новой и удивительно изящной в математическом отношении.
Такое случается; более того — должно случаться. Поэтому многие теоретики, в том числе и наша группа, не смущаясь этой непокорностью явления, принялись изучать плазму там, где она вела себя наиболее строптиво.
Плазма — это имеет некоторое значение для моей истории — выглядит довольно внушительно. Попросту говоря, она напоминает осколок солнца, к тому же — из центральной зоны, а не из прохладной хромосферы. Блеском она не уступает солнцу — наоборот, превышает его. Она не имеет ничего общего ни с бледно-золотистым танцем вторичной, уже окончательной гибели, которую демонстрирует нам дерево, соединяющееся с кислородом в печи, ни с бледно-лиловым шипящим конусом, что исходит из сопла горелки, где фтор вступает в реакцию с кислородом, чтобы дать самую высокую температуру из достижимых посредством химии, ни, наконец, с вольтовой дугой, изогнутым пламенем между кратерами двух углей, хотя при наличии доброй воли и надлежащего упорства исследователь смог бы сыскать места, где бывает побольше, чем 3000 градусов. Также и температуры, возникающие вследствие того, что затолкают этак миллион ампер в тонкий проводник, который станет тогда совсем уж теплым облачком, и термические эффекты ударных волн при кумулятивном взрыве; все это плазма оставляет далеко позади. В сравнении с ней подобные реакции следует считать холодными, прямо-таки ледяными, а мы не судим так лишь потому, что случайно возникли из материи, совершенно уже застывшей, омертвелой поблизости от абсолютного нуля; наше бравое существование отделено от него лишь тремястами градусами по абсолютной шкале Кельвина, в то время как вверх эта шкала тянется на миллиарды градусов. Так что воистину не будет преувеличением, если мы отнесем даже самые огненные температуры, каких можем добиться в лабораторных условиях, к явлениям из области вечного теплового молчания.
Первые огоньки плазмы, которые пробились в лабораториях, тоже не были особенно горячими — двести тысяч градусов считали тогда внушительной температурой, а миллион был уже необычайным достижением. Однако же математика, эта примитивная и приблизительная математика, возникшая из анализа явлений ледяной сферы, предсказывала, что надежды, возлагаемые на плазму, осуществятся лишь на гораздо более высоком температурном уровне; она требовала температур по-настоящему высоких, почти звездных. Я имею в виду, конечно, температуру в недрах звезд; это, должно быть, необычайно интересные места, хотя для посещения их человеком, по-видимому, еще не настало время.
Итак, требовались миллионноградусные температуры. Начали их добиваться; мы тоже над этим работали — и вот что обнаружилось.
По мере возрастания температуры быстрота перемен, безразлично каких, тоже возрастает. При скромных возможностях этакой жидкой капельки (которой является наш глаз), соединенной с другой каплей, побольше (которую представляет мозг), даже пламя свечи есть сфера явлений, не уловимых из-за быстроты темпа, — что уж говорить о трепещущем огне плазмы! Пришлось, в общем, обратиться к иным методам — плазменные разряды стали фотографировать, и мы это тоже делали. Потом Маартенс при помощи своих знакомых оптиков и инженеров-механиков соорудил кинокамеру, сущее чудо (по крайней мере, в наших условиях), — она делала миллионы снимков в секунду. Не буду говорить о ее конструкции, чрезвычайно остроумной и свидетельствующей о нашем похвальном рвении. Главное, что мы перепортили километры киноленты, но в результате получили несколько сот метров, достойных внимания, и прокручивали их в темпе, замедленном в тысячу, а потом и в десять тысяч раз. Ничего особенного мы не заметили, кроме того, что некоторые вспышки, ранее считавшиеся явлениями элементарными, оказались конгломератами, возникающими вследствие взаимонаслоения тысяч крайне быстрых изменений; но и с этим в конце концов удалось справиться нашей примитивной математике.
Изумление охватило нас лишь в тот день, когда в лаборатории произошел взрыв — вследствие какого-то недосмотра, так и не выявленного до сих пор, либо по некой не зависящей от нас причине. Это, собственно, не был настоящий взрыв, иначе мы не остались бы в живых, — просто плазма в катастрофически малую долю секунды поборола магнитное поле, сжимающее ее отовсюду, и вдребезги разнесла толстостенную кварцевую трубку, в которой была заточена.
По счастливому стечению обстоятельств уцелела кинокамера, снимавшая эксперимент, уцелела и лента. Взрыв продолжался миллионные доли секунды, а потом осталось лишь пожарище, стреляющее во все стороны брызгами расплавленного кварца и металла. Наносекунды взрыва запечатлелись на нашей киноленте, и этого зрелища я не забуду до самой смерти.
Непосредственно перед взрывом шнур плазменного огня, дотоле цельный и практически однородный, начал сужаться через равные интервалы, словно его дергали, как струну, а потом распался, превратился в цепочку круглых зерен, перестал существовать как целое. Каждое зерно росло и преображалось, эти капельки атомного пламени потеряли четкость очертаний, из них выползли отростки, породившие очередную генерацию капелек; потом все эти капельки сбежались к центру и образовали сплюснутый шар, который сжимался и расширялся, словно дышал, и в то же время высылал вокруг на разведку огненные щупальца с вибрирующими окончаниями. Потом наступил моментальный (даже и на нашей киноленте) распад, исчезновение всякой упорядоченности, и виден был только ливень огненных брызг, рассекающих поле зрения, — пока все не утонуло в сплошном хаосе.
Я не преувеличу, сказав, что мы прокручивали эту ленту чуть не сотню раз. Потом — признаюсь, это была моя идея — мы пригласили к себе (не в лабораторию, а на квартиру к Ганимальди) некоего авторитетного биолога, досточтимую знаменитость. Ничего ему заранее не сказав, ни о чем не предупредив, мы взяли середину этой самой ленты и прокрутили ее для уважаемого гостя через обычный аппарат; только насадили темный фильтр на объектив, вследствие чего пламя на снимках поблекло и стало выглядеть как некий предмет, довольно ярко освещенный извне.
Профессор проглядел наш фильм и, когда зажегся свет, выразил вежливое удивление — почему это мы, физики, занимаемся столь далекими от нас делами, как жизнь инфузорий. Я спросил его, уверен ли он, что видел действительно колонию инфузорий.
Как сейчас помню его усмешку.
— Снимки были недостаточно четкими, — сообщил он с этой усмешкой, — и, с позволения сказать, видно, что делали их не профессионалы, но могу вас заверить, что это — не артефакт…
— Что вы понимаете под этим словом? — спросил я.
— Artefactum есть нечто искусственно созданное. Еще во времена Шванна развлекались тем, что имитировали живые существа, впуская капли хлороформа в прованское масло; эти капли проделывают амебообразные движения, ползают по дну сосуда и даже начинают делиться, если меняется осмотическое давление у полюсов. Но здесь чисто внешнее, поверхностное сходство, и это явление имеет столько же общего с жизнью, сколько манекен в витрине — с человеком. Ведь все решает внутреннее строение, микроструктура. На вашей ленте видно, хоть и неотчетливо, как совершается деление этих одноклеточных. Я не могу определить их вид и даже не поручился бы, что передо мной не просто клетки животной ткани, которые долгое время выращивались на искусственных питательных средах и были подвергнуты воздействию гиалоронидазы, чтобы разъединить их, расклеить. Во всяком случае, это клетки, поскольку они имеют хромосомный аппарат, хоть и поврежденный. Среда, видимо, подвергалась воздействию какого-то канцерогенного препарата?
Мы даже не переглянулись. Постарались не отвечать на его все новые и новые вопросы. Ганимальди просил гостя еще раз просмотреть фильм, но это не получилось, не помню уж почему, — может, профессор спешил, а может, думал, что за нашим умолчанием кроется какой-то розыгрыш. В самом деле не помню. Так или иначе, он ушел, и, как только закрылись двери за этой знаменитостью, мы поглядели друг на друга, совершенно ошарашенные.
— Слушайте, — сказал я, опережая других, — я считаю, что мы должны пригласить еще одного специалиста и показать ему фильм полностью, без вырезок. Теперь, когда мы знаем, о чем идет речь, это уж должен быть специалист что надо — именно по одноклеточным.
Маартенс предложил одного из своих университетских знакомых, который жил неподалеку. Но он был в отъезде, вернулся только через неделю и тогда пришел на старательно подготовленный сеанс. Ганимальди не решился сообщить ему, в чем дело. Просто показал ему весь фильм, кроме начала, потому что шнур плазмы, распадающийся на лихорадочно пульсирующие капли, заставил бы слишком глубоко задуматься, отвлек бы внимание от дальнейшего. Зато мы показали теперь конец, эту последнюю фазу существования плазменной амебы, когда она разлетается во все стороны, как взорвавшийся снаряд.
Этот биолог был намного моложе того, первого, и поэтому не отличался такой самоуверенностью; вдобавок он, по-видимому, хорошо относился к Маартенсу.
— Это какие-то глубоководные амебы, — сказал он. — Их разорвало внутреннее давление, когда начало падать внешнее. Так же, как бывает с глубоководными рыбами. Их нельзя доставить живьем со дна океана, они всегда гибнут, их разрывает изнутри. Но откуда у вас такие снимки? Вы опустили камеру в глубь океана или как?
Он смотрел на нас с возрастающей подозрительностью.
— Изображение нечеткое, правда? — скромно заметил Маартенс.
— Хоть и нечеткое, все равно интересно. Кроме тоги, деление происходит как-то ненормально. Я не заметил как следует очередности фаз. Пустите-ка ленту еще раз, только медленней.
Мы прокрутили фильм так медленно, как только удавалось, но это мало помогло — молодой биолог не вполне удовлетворился.
— Еще медленней нельзя?
— Нет.
— Почему вы не вели ускоренную съемку?
Мне ужасно хотелось спросить его, считает ли он, что пять миллионов снимков в секунду — это несколько ускоренная съемка; но я прикусил язык. Не до шуток было.
— Да, деление идет анормально, — сказал биолог, в третий раз просмотрев фильм. — Кроме того, создается такое впечатление, словно все это происходит в более плотной среде, чем вода… Вдобавок большинство дочерних клеток во втором поколении имеет возрастающие генетические дефекты, митоз извращен… И почему они сливаются все вместе? Это очень странно… Вы это делали на материале простейших в радиоактивной среде? спросил он вдруг.
Я понял, о чем он думает. В то время много говорилось о том, что крайне рискованно затоплять радиоактивные отходы в герметических контейнерах на дне океана, что это может привести к заражению морской воды.
Мы заверяли его, что он ошибается, что это не имеет ничего общего с радиоактивностью, и с трудом от него отделались — он, хмурясь, приглядывался поочередно к каждому из нас и задавал все больше вопросов, на которые никто не отвечал, потому что мы заранее так условились. Событие было слишком необычайным и слишком значительным, чтобы довериться постороннему — пусть даже и приятелю Маартенса.
— Теперь, дорогие мои, надо нам всерьез поразмыслить, как тут быть, сказал Маартенс, когда мы остались одни после этой второй консультации.
— То, что твой биолог принял за спад давления, из-за которого разорвало «амеб», на деле было внезапным спадом напряженности магнитного поля… сказал я Маартенсу.
Ганимальди, до тех пор молчавший, высказался, как всегда, рассудительно.
— Считаю, — заявил он, — что нам надо продолжить эксперименты…
Мы отдавали себе отчет в риске, на который идем. Было уже ясно, что плазма, относительно спокойная и поддающаяся укрощению при температурах до миллиона градусов, где-то выше этой грани переходит в неустойчивое состояние и заканчивает свое недолговечное бытие взрывом, подобным тому, что недавним утром прогремел в нашей лаборатории. Возрастание магнитного поля приводило лишь к почти непредсказуемому запаздыванию взрыва. Большинство физиков считали, что значение определенных параметров меняется скачком и поэтому нужна будет совершенно новая теория «горячего ядерного газа». Впрочем, гипотез, долженствующих объяснить этот феномен, было уже порядочно.
Во всяком случае, нечего было и думать об использовании горячей плазмы для ракетных двигателей или для реакторов. Путь этот признали неверным, ведущим в тупик. Исследователи, особенно те, кто интересовался конкретными результатами, вернулись к более низким температурам. Примерно так выглядела ситуация, когда мы приступили к дальнейшим экспериментам.
При температуре выше миллиона градусов плазма становилась материалом, по сравнению с которым вагон нитроглицерина — детская игрушка. Но опасность не могла нас остановить. Мы были слишком заинтригованы своим поразительным, сенсационным открытием и готовы на все. Другое дело, что мы не замечали массы ужасающих препятствий. Последний след ясности, который математика вносила в раскаленные недра плазмы, исчезал где-то на подступах к миллиону (или, по другим, менее надежным методам исчисления, к полутора миллионам) градусов. Дальше расчеты вообще ни к чему не вели — получалась сплошная бессмыслица.
Так что оставался лишь старый метод проб и ошибок, то есть экспериментирование вслепую, — по крайней мере на первых этапах. Но как уберечься от взрывов, грозящих ежеминутно? Железобетонные блоки, самая прочная броня, любые заслоны — все это перед крупицей материи, раскаленной до миллиона градусов, становится не более надежной защитой, чем листок папиросной бумаги.
— Представим себе, — сказал я товарищам, — что где-то в космической пустоте, при температуре, близкой к абсолютному нулю, обитают существа, не похожие на нас, — ну, скажем, некие металлические организмы — и что они проводят эксперименты. Между прочим, удается им — не важно, каким образом, но удается — синтезировать живую белковую клетку. Одну амебу. Что с ней произойдет? Конечно, едва успев возникнуть, она немедленно распадется, взорвется, останки же ее замерзнут, потому что в вакууме закипит и мгновенно превратится в пар содержащаяся в ней вода, а энергия белкового обмена тут же излучится. Металлические экспериментаторы, снимая свою амебу камерой наподобие нашей, смогут ее видеть какую-то долю секунды, но для того, чтобы сохранить ей жизнь, им пришлось бы создать для нее соответствующую среду…
— Ты в самом деле думаешь, что наша плазма породила «живую амебу»? спросил Ганимальди. — Что это — жизнь, созданная из огня?
— Что есть жизнь? — спросил я, подобно Понтию Пилату, вопросившему: «Что есть истина?». — Я ничего не утверждаю. Одно, во всяком случае, ясно: космическая пустота и космический холод — гораздо более благоприятные условия для существования амебы, нежели земные условия — для существования плазмы. Единственная среда, в которой плазма при температуре выше миллиона градусов может уцелеть, это…
— Понятно. Звезда. Недра звезды, — сказал Ганимальди. — И ты хочешь создать эти недра в лаборатории, вокруг трубки с плазмой? Действительно, нет ничего проще… Только сначала придется поджечь весь водород в океанах…
— Это не обязательно. Попробуем кое-что другое.
— Можно было бы сделать это иначе, — заметил Маартенс. — Взорвать заряд трития и в полость взрыва ввести плазму.
— Этого сделать нельзя, ты сам знаешь. Прежде всего, никто тебе не разрешит устроить водородный взрыв, а если б и разрешили, то нет никакой возможности ввести плазму в очаг взрыва. Да и полость эта существует лишь до тех пор, пока мы вводим свежий тритий извне.
После этого разговора мы разошлись в довольно мрачном настроении похоже было, что дело безнадежное. Но потом снова начались нескончаемые дискуссии, и наконец мы отыскали нечто такое, что казалось шансом или хоть смутной тенью шанса. Нам требовалось теперь магнитное поле с необычайным напряжением и звездной температурой. Оно должно было стать «питательным раствором» для плазмы, ее «естественной» средой. Мы решили начать эксперимент в поле с обычным напряжением, а потом внезапно в десять раз увеличить напряжение. По расчетам получалось, что нашу восьмисоттонную магнитную махину вдребезги разнесет или, по крайней мере, расплавится обмотка, но перед этим, в момент короткого замыкания, мы получим постулируемое поле — на две, а может, даже на три стотысячных секунды. По отношению к темпу процессов, протекающих в плазме, это был немалый отрезок времени. Весь проект имел явно преступный характер и, конечно, никто не дал бы нам разрешения осуществить его. Но нас это мало трогало. Нас интересовало только одно — зарегистрировать явления, которые произойдут в момент замыкания и мгновенно следующего за ним взрыва. Если мы загубим аппаратуру и не получим ни метра ленты, ни одного снимка, все наши действия будут сводиться к акту уничтожения.
Здание лаборатории находилось, к счастью, милях в пятнадцати от города, среди пологих холмов. На верхушке одного из этих холмов мы устроили наблюдательный пункт, с кинокамерой, телеобъективами и со всем электронным хозяйством, разместив все это за плитой из бронестекла с высокой прозрачностью. Сделали серию пробных снимков, применяя все более мощные телеобъективы; наконец остановились на таком, который давал восьмидесятикратное увеличение. У него была очень малая светосила, но, поскольку плазма ярче солнца, это не имели значения.
В этот период мы действовали скорее как заговорщики, чем как исследователи. Пользовались тем, что наступила пора летних отпусков и ближайшие две недели никто, кроме нас, не появится в лаборатории. За это время мы и должны все закончить. Мы понимали, что дело не обойдется без шума, а может, и серьезных неприятностей — ведь надо будет как-то оправдаться по поводу катастрофы; мы даже придумали довольно правдоподобные варианты объяснения, которое должно создать видимость нашей невиновности. Мы не знали, даст ли этот отчаянный опыт хоть какие-то видимые результаты; ясно было лишь одно — после взрыва лаборатория перестанет существовать. Мы только на нее и могли рассчитывать.
Мы вынули окна вместе с рамами из той стены, что была обращена в сторону холма, демонтировали и убрали защитные перегородки перед электромагнитом, чтобы с наблюдательного пункта хорошо просматривался источник плазмы.
К эксперименту мы приступили шестого августа в семь двадцать утра, под безоблачным небом и жарким солнцем. На склоне холма, у самой вершины, мы выкопали глубокий ров. Сидя в нем, Маартенс при помощи маленького переносного пульта, кабели от которого тянулись к дому, управлял электромагнитом. Ганимальди имел на попечении кинокамеру, а я рядом с ним, подняв голову над бруствером, сквозь бронестекло и мощную стереотрубу, установленную на треножном штативе, вглядывался в темный квадрат оголенного окна, в ожидании того, что произойдет там, внутри.
— Минус 21… минус 20… минус 19… - монотонно, без оттенка эмоций произносил Маартенс, сидевший за моей спиной средь путаницы кабелей и выключателей. В поле зрения у меня была густая тьма, в центре которой вибрировала и лениво изгибалась ртутная жилка разогревающейся плазмы. Я не видел ни озаренных солнцем холмов, ни травы, усеянной белыми и желтыми цветами, ни августовского неба над куполом лаборатории: линзы были старательно зачернены с краев.
Когда плазма начала взбухать посредине, я испугался, что она разорвет трубку раньше, чем Маартенс скачком усилит поле. Хотел уж крикнуть, открыл рот, но в этот самый миг Маартенс произнес: «Ноль!»
Нет. Земля не заколебалась, гром не грянул. Только тьма, в которую я вглядывался, побледнела. Отверстие в стене лаборатории заполнилось оранжевым туманом, потом оно стало ослепительно сверкающим квадратным солнцем — и тут же все утонуло в огненном вихре; отверстие в стене увеличилось, стрельнуло во все стороны ветвистыми трещинами, пышущими дымом и пламенем, и с протяжным грохотом, разнесшимся по всей окрестности, купол осел на падающие стены. Через стереотрубу уже ничего нельзя было разглядеть, я отвел от нее глаза и увидел бьющий в небо столб дыма. Ганимальди отчаянно шевелил губами, крича что-то, но грохот все не утихал, перекатывался над нами, и я ничего не слышал — уши были словно ватой забиты. Маартенс вскочил и просунул голову между нами, чтобы глянуть вниз, — до тех пор он был всецело занят пультом. Грохот наконец утих. И тут же мы вскрикнули — кажется, в один голос.
Дымовая туча, вскинутая взрывом, поднялась уже высоко над руинами лаборатории, все медленней оседавшими на землю в тумане известковой пыли. Из белых клубов этой пыли вынырнул ослепительный продолговатый огонь, окруженный лучистым ореолом, — словно солнце, вытянутое наподобие червяка. Около секунды он почти неподвижно висел над дымящимися развалинами, сжимаясь и распрямляясь, потом спланировал вниз. Черные и красные круги плавали у меня перед глазами, так как это существо полыхало сиянием, равным солнечному, но я успел еще увидеть, как мгновенно исчезает, дымясь, высокая трава на его пути, когда оно снижается до земли. Огненный червяк двигался к нам не то ползком, не то порхая, его лучистый ореол, пульсировал, и он был словно ядром пламенного пузыря. Сквозь бронестекло хлынул жар излучения; огненный червяк исчез из поля зрения, но по вибрации воздуха над склоном, по клубам дыма и снопам трескучих искр, в которые превращались кусты, мы поняли, что он движется к вершине холма. Натыкаясь друг на друга, внезапно охваченные страхом, мы бросились в бегство. Знаю, что я бежал напрямик, затылок и спину обжигал невидимый огонь, словно преследуя меня. Я не видел ни Маартенса, ни Ганимальди, я словно ослеп и все мчался вперед, пока не споткнулся, попав ногой в кротовью нору, и не рухнул в еще влажную от ночной росы траву на дне ложбинки. Я тяжело дышал, изо всех сил жмурясь, и, хоть лицом я уткнулся в траву, вдруг сквозь веки проникло красноватое зарево, словно солнце светило мне прямо в глаза. Но, по правде говоря, я не вполне уверен, было ли это.
Тут в моей памяти зияет провал. Не знаю, сколько я пролежал в ложбинке. Очнулся, словно ото сна, с лицом, прижатым к траве. Едва успел шевельнуться, как ощутил нестерпимую жгучую боль в затылке и шее, и потом долго не решался поднять голову. Наконец рискнул. Я лежал в ложбине, между невысокими всхолмлениями; вокруг тихо колыхалась под ветерком трава, на ней сверкали последние капли росы, быстро испаряясь в солнечных лучах. Лучи эти основательно меня допекали; я понял, в чем дело, лишь когда осторожно притронулся к затылку и нащупал крупные пузыри ожога. Я встал и обвел взглядом холм, на котором мы устраивали наблюдательный пункт. Я долго не мог решиться туда пойти — страшно мне было. Перед глазами все время стояло это ползущее огненное чудище.
— Маартенс! — крикнул я. — Ганимальди!
Я инстинктивно поглядел на часы: было пять минут девятого. Я приложил часы к уху — они шли. Взрыв произошел в семь двадцать; все дальнейшее продолжалось, вероятно, около минуты. Значит, я три четверти часа был без сознания?
Я начал подниматься по склону. Метрах в тридцати от вершины холма наткнулся на первую проплешину сожженной земли. Она была покрыта синеватым, почти остывшим уже пеплом, словно след костра, кем-то здесь разожженного. Только очень уж странный это был костер — ему не сиделось на месте.
От обугленного круга тянулась полоса выжженной земли шириной метра полтора, извилистая, окаймленная по обе стороны травой, сначала обугленной, а потом лишь пожелтевшей и поникшей. Полоса эта кончалась за очередным кругом синеватого пепла. И тут лежал человек, ничком, подтянув одну ногу почти под грудь. Еще не коснувшись его, я понял, что он мертв. Одежда, с виду целая, стала серебристо-серой, и шея была того же немыслимого цвета; когда я над ним наклонился, все это начало рассыпаться от моего дыхания.
Я отшатнулся, вскрикнув от ужаса, но передо мной уже лежал съежившийся темный предмет, лишь приблизительно напоминавший человеческое тело. Я не знал, Маартенс это или Ганимальди, и не решался дотронуться до него, да и понимал, что лица у него уже нет. Делая громадные прыжки, я ринулся к вершине холма, но больше уж никого не звал. Снова увидел путь огня извилистую, черную, как уголь, полосу средь травы, местами расширяющуюся до размеров круга диаметром в несколько метров.
Я ожидал, что увижу второй труп, но его нигде не было. Я спустился с вершины туда, где был наш окоп; от бронестекла осталась лишь растекшаяся по склону стеклянистая пленка, похожая на замерзшую лужу. Все остальное аппаратура, кинокамера, пульт, стереотруба — просто исчезло, а сам окоп обвалился, словно под сильным нажимом сверху; на дне его, средь камней и пыли, поблескивали кое-где лужицы расплавленного металла. Я перевел взгляд на лабораторию. Она выглядела так, будто в нее угодила здоровенная авиабомба. Между покосившимися, падающими обломками стен порхали еле заметные в солнечном свете огоньки догорающего пожара. Я смотрел на это почти невидящими глазами, силясь припомнить, в какую сторону побежали мои товарищи, когда все мы выпрыгнули из окопа. Маартенс был тогда слева от меня — значит, это, наверно, его тело я нашел… А Ганимальди?
Я начал разыскивать его следы — тщетно, так как за пределами выжженных кругов и полос трава уже выпрямилась. Но я все бегал по склону холма, пока не нашел еще одну выжженную полосу; я начал спускаться по ней вниз, как по тропинке, она поскрипывала под ногами… и вдруг я замер. Обугленная полоса расширялась; мертвая, обгоревшая трава окружала пространство длиной метра в два, несимметричное по форме. С одной стороны оно было уже, с другой расширялось, распадаясь надвое… Все это походило на деформированный, расплющенный крест, покрытый довольно плотным слоем темной копоти, будто здесь медленно догорало деревянное распятие, раскинув свои руки-перекладины… А может, мне это лишь привиделось? Не знаю…
Уже давно казалось мне, что я слышу далекий пронзительный вой, но я не обращал на это внимания. Доносились до меня и голоса людей — и они тоже ничуть меня не интересовали. Вдруг я увидел маленькие фигурки людей, бегущих ко мне; сначала я припал к земле, словно пытаясь укрыться, и даже отполз от пожарища, кинулся в сторону; когда я бежал по противоположному склону холма, они вдруг появились, застудили мне дорогу с двух сторон. Я чувствовал, что ноги меня не слушаются; да, впрочем, мне было все равно.
Я, собственно, не знаю, почему убегал от них — если это была попытка к бегству. Я сел на траву, а они окружили меня; один наклонился ко мне, что-то говорил; я сказал, пускай он перестанет, пускай лучше ищут Ганимальди, а со мной ничего такого. Они попытались поднять меня, я сопротивлялся, тогда кто-то схватил меня за плечо и я вскрикнул от боли. Потом я почувствовал укол и потерял сознание. Очнулся в госпитале.
Память у меня сохранилась полностью. Я помнил, сколько времени прошло с момента катастрофы. Я был весь забинтован, ожоги давали себя знать сильной болью, возраставшей при каждом движении, — так что я старался вести себя с величайшей осторожностью. Впрочем, эти мои больничные переживания, все трансплантации кожи, которые мне делали долгие месяцы, не имеют значения, так же как и то, что произошло позже. Да ничего другого и не могло произойти. Лишь много недель спустя прочел я в газете официальную версию катастрофы. Объяснение нашли простое, да оно само напрашивалось: лабораторию разрушил взрыв плазмы; трое ученых пытались спастись Ганимальди погиб под развалинами здания, Маартенс в пылающей одежде добежал до вершины холма и там умер, а я был обожжен и находился в тяжелом шоковом состоянии. На следы огня среди травы вообще не обратили внимания, так как исследовали прежде всего руины лаборатории. Кто-то из них, впрочем, утверждал, что траву поджег Маартенс, когда катался по ней, пытаясь сбить пламя с одежды. И так далее.
Я считал своим долгом рассказать правду независимо от последствий — уже хотя бы из-за Ганимальди и Маартенса. Мне очень осторожно дали понять, что моя версия событий является следствием шока, так называемой производной иллюзией. Ко мне еще не вернулось душевное равновесие; я начал бурно протестовать — мое возмущение сочли симптомом, подтверждающим диагноз.
Следующий разговор произошел примерно через неделю. На этот раз я старался держаться спокойней, аргументировал свои утверждения. Рассказал о первом снятом нами фильме, который должен находиться в квартире у Маартенса; однако поиски были безрезультатны. Догадываюсь, что Маартенс сделал то, о чем упомянул однажды мимоходом; положил пленку с фильмом в банковский сейф. Все, что он имел при себе, было полностью уничтожено значит, и ключ от сейфа, и банковская квитанция исчезли бесследно. Фильм наш, должно быть, по сей день лежит в этом сейфе. Таким образом и здесь я проиграл; однако, я не сдавался, и, уступив моим настойчивым просьбам, решили провести осмотр на месте происшествия. Я заявил, что все докажу именно там; врачи в свою очередь предполагали, что там, возможно, вернется ко мне память о «подлинных» событиях. Я хотел показать им кабели, которые мы протянули из лаборатории к вершине холма, в окоп. Но и кабелей не было. Я утверждал, что раз их нет, то, значит, их кто-то убрал уже потом может, пожарные, когда гасили огонь.
Только там, среди зеленых холмов, под голубым небом, рядом с почерневшими и словно съежившимися развалинами лаборатории, я понял, почему все так получилось.
Огненный червяк не преследовал нас. Он не хотел нас убить. Он ничего о нас не знал, мы его не интересовали. Рожденный взрывом, он, выбравшись наружу, уловил ритм сигналов, которые все еще пульсировали в проводах, так как Маартенс не выключил управляющего устройства. Это к нему, к источнику электрических импульсов поползло огненное создание, никакое не разумное существо, просто солнечная гусеница, цилиндрический сгусток организованного огня… которому оставалось лишь несколько десятков секунд жизни. Об этом свидетельствовал его расширяющийся ореол; температура, при которой он мог существовать, стремительно падала, каждое мгновение он тратил, наверное, массу энергии, излучал ее, и неоткуда было ее черпать поэтому он и извивался судорожно у кабелей, несущих электроэнергию, превращая их в пар, в газ. Маартенс и Ганимальди оказались случайно на его пути; он, наверное, к ним и не приближался. Маартенса убил термический удар, а Ганимальди, возможно, ослепнув от сияния плазмы и потеряв ориентировку, ринулся прямо в бездну сверкающей смерти.
Да, огненное создание умирало там, на вершине холма, бессмысленно извиваясь и корчась в отчаянных и бесплодных поисках источников энергии, которая вытекала из него, как кровь из жил. Оно убило двух людей, даже не узнав об этом. Впрочем, обугленные полосы и круги поросли уже травой.
Когда я оказался там в сопровождении двух врачей, какого-то незнакомого человека (кажется, из полиции) и профессора Гилша, ничего уже нельзя было найти, хотя со дня катастрофы не прошло и трех месяцев. Все поросло травой, и то место, где я видел некую тень распятия, тоже; трава тут разрослась особенно буйно. Все словно ополчилось на меня. Окоп, правда, был виден, но кто-то использовал его как мусорную свалку, он был доверху забит ржавым железом и консервными банками. Я повторял, что под этой грудой лежат расплавленные осколки бронестекла. Мы копались в этом мусоре, но стекла не нашли. То есть были какие-то крупинки, даже оплавленные. Но мои спутники сочли, что это осколки обычных бутылок, которые кто-то расплавил в печи центрального отопления, предварительно раздробив их для уменьшения объема — перед тем как выбросить в мусорный бак. Я просил, чтобы отдали стекло на анализ, но они этого не сделали. У меня остался только один шанс — показания молодого биолога и профессора, которые видели наш фильм. Профессор был в Японии и собирался вернуться лишь весной, а приятель Маартенса подтвердил, что мы показывали ему такой фильм, но только там была снята вовсе не ядерная плазма, а глубоководные амебы. Он сказал, что Маартенс категорически отрицал при нем, что снимки могут представлять нечто иное.
И это ведь была правда. Маартенс говорил так потому, что мы условились хранить тайну.
Таким образом, дело оказалось закрытым.
А что же сталось с огненным червяком? Может, он взорвался, когда я лежал без сознания, а может, тихо окончил свое мимолетное существование; оба варианта одинаково правдоподобны.
При всем при том меня, наверное, выпустили бы из лечебницы как неопасного, но я оказался упрямым. Гибель Маартенса и Ганимальди накладывала на меня обязательства. В период выздоровления я требовал массу различных книг. Мне давали все, что я хотел. Я проштудировал всю соларистику, узнал, что нам известно о солнечных протуберанцах и о шаровых молниях. Мысль о том, что огненный червяк находился в некоем родстве с такой молнией, возникла у меня потому, что в поведении их имеются сходные черты. Шаровые молнии (явление, по сути, все еще загадочное, не объясненное физикой) возникают среди мощных электрических разрядов, во время грозы, Эти светящиеся раскаленные шары свободно парят в воздухе, иногда поддаются его течениям, сквознякам, ветрам, а иногда плывут против течения. Их притягивают металлические предметы и электромагнитные волны, особенно ультракороткие, — их влечет туда, где воздух ионизирован. Охотней всего они держатся около проводов, по которым идет электроток. Словно бы пытаются выпить этот ток, но это им никак не удается. Зато весьма вероятно — по крайней мере так считают некоторые специалисты, — что они «подкармливаются» волнами десятиметровой длины через канал ионизированного воздуха, который образует породившая их линейная молния.
Утечка энергии, однако, превышает то ее количество, которое поглощают шаровые молнии, и поэтому их существование измеряется немногими десятками секунд. Озарив все вокруг синевато-желтым сиянием, покружившись в трепетном и возвышенном полете, они исчезают в грохоте и блеске взрыва либо тают и гаснут почти беззвучно. Разумеется, они — не живые существа; с жизнью у них общего не больше, чем у тех капель масла в хлороформе, о которых нам рассказывал профессор.
А огненный червяк, которого мы создали, — он жил? Тому, кто задаст мне такой вопрос (конечно, не с целью подразнить сумасшедшего, ибо я не сумасшедший), я честно отвечу: не знаю. Однако сама эта неуверенность, это неведение таят в себе возможность такого переворота в наших познаниях, который никому и в бреду не мерещится.
Существует, говорят мне, лишь одна форма жизни: та вегетация белковых организмов, какую мы знаем, разделенная на растительное и животное царства. При температурах, всего на триста мелких шажков отстоящих от абсолютного нуля, возникла эволюция и ее венец — человек. Только он и ему подобные могут противостоять тенденции хаоса, царящей во Вселенной. Ну да, этот постулат основан на убеждении, что все вокруг есть хаос и беспорядок — ужасающий жар в недрах звезд, огненные грани галактических туманностей, раскаляющихся от взаимопроникновения, шары газовых солнц; да ведь, говорят эти трезвые, разумные и поэтому всегда, безусловно, правые люди, никакая упорядоченность, никакой вид или хотя бы зародыш организованности не может возникнуть в океанах кипящего огня; солнца — это слепые вулканы, из недр которых извергаются планеты, а они, в порядке исключения, весьма редко, создают человека; все остальное — лишь мертвая ярость вырожденных атомных газов, скопище зловещих огней, сотрясаемое протуберанцами.
Я усмехаюсь, слушая эту самовосхваляющую лекцию, продиктованную слепой манией величия. Существуют, говорю я, две формы Жизни. Одна из них, могучая и гигантская, освоила весь наблюдаемый Космос. То, что ужасает нас, угрожает нам гибелью — звездные температуры, исполински мощные магнитные поля, чудовищные вулканические извержения, — для этой формы жизни является комплексом условий благоприятных, более того — необходимых.
Хаос, говорите? Водоворот мертвого пламени? Тогда почему же астрономы наблюдают на поверхности Солнца прямо-таки неисчислимое множество явлений, хоть и непонятных, но регулярно протекающих? Почему так удивительно регулярны магнитные вихри? Почему существуют ритмические циклы активности звезд, точно так же, как существуют циклы обмена веществ в любом живом организме? У человека есть цикл суточный и месячный, кроме того, на протяжении всей жизни в нем борются антагонистические силы роста и умирания; у Солнца есть одиннадцатилетний цикл, а каждые четверть миллиарда лет оно переживает депрессию, свой «климакс», который порождает на Земле ледниковые эпохи. Человек родится, стареет, умирает — как звезда.
Вы слушаете и не верите. И вам смешно. Вам хочется спросить меня просто смеха ради, — может, я верю, что у звезд есть разум? Считаю, что они мыслят? Этого я тоже не знаю. Но вместо того, чтобы беззаботно осуждать мои безумства, приглядитесь к протуберанцам. Попробуйте еще раз просмотреть фильм, снятый во время солнечного затмения, когда эта огненная мошкара вылезает наружу и на сотни тысяч, на миллионы километров удаляется от своей колыбели, чтобы, проделывая диковинные и непонятные маневры, вытягиваясь и снова сжимаясь, непрерывно менять форму и наконец рассеяться, исчезнуть в космической пустоте либо вернуться в добела раскаленный океан, который породил их. Я не утверждаю, что это — щупальца Солнца. С тем же успехом они могут быть его паразитами.
Ну, допустим, говорите вы для поддержания дискуссии, чтобы этот оригинальный, хоть и очень перегруженный абсурдом разговор не оборвался преждевременно, нам хочется еще кое-что выяснить. Почему ж это мы не пробуем переговариваться с Солнцем? Мы штурмуем его радиоволнами. Может, ответит? Если не ответит, твоя теория будет опровергнута…
Интересуюсь, о чем могли бы мы беседовать с Солнцем? Какие идеи, понятия, проблемы могут оказаться у нас с ним общими? Вспомните, что мы увидели в нашем первом фильме. Огненная амеба в миллионную долю секунды превратилась в два будущих своих поколения. Разница темпа тоже имеет определенное значение. Договоритесь сначала с бактериями, живущими в вашем организме, с кустами в вашем саду, с пчелами и цветами — тогда можно будет поразмыслить над методикой информационного контакта с Солнцем.
Если так, скажет самый добродушный из скептиков, все это оказывается попросту… несколько оригинальной точкой зрения. Твои взгляды ни на йоту не изменят существующей действительности, ни теперь, ни в будущем. Вопрос о том, является ли звезда живым существом, становится делом договоренности, согласия принять такой термин — только и всего. Одним словом, ты рассказал нам сказку…
Нет, отвечаю я. Вы ошибаетесь. Вы думаете, что Земля — это крупинка жизни в океане небытия. Что человек одинок, и звезды, туманности, галактики он считает своими противниками. Что единственно возможны и доступны те познания, которые добыл и добудет в дальнейшем он, единый создатель Гармонии и Порядка, непрерывно подверженного опасности захлебнуться в потоке бесконечности, сверкающей дальними световыми точками. Но дело обстоит иначе. Иерархия активной стабильности вездесуща. Кто желает, может назвать ее жизнью. На пиках ее, на высотах энергетического возбуждения существуют огненные организмы. У самой грани, вплотную к абсолютному нулю, в области тьмы и стынущего дыхания жизнь возникает снова, как бледный отблеск той, как слабое, угасающее напоминание о ней, — это мы. Станьте на такую точку зрения и учитесь скромности, а вместе с тем надежде — ибо когда-нибудь Солнце станет Новой и заключит нас в милосердные огненные объятия, и, вернувшись таким путем в вечное круговращение жизни, сделавшись частицами его величия, мы приобретем более глубокое знание, чем то, которое досталось в удел обитателям ледяной сферы. Вы не верите мне. Так я и знал. Теперь я соберу эти исписанные листы, чтобы уничтожить их, но завтра или послезавтра снова усядусь за пустой стол и начну писать правду.
Альфред Бестер Исчезновения
перевод Н. Семевской
Ее не называли последней войной или войной во имя конца всех войн. Ее называли Войной за Американскую Мечту. Такое название придумал генерал Карпентер и неустанно повторял его.
Бывают генералы-вояки (они нужны армии), генералы-политики (они нужны государственному аппарату) и генералы — общественные деятели (они нужны в тылу для ведения войны). Генерал Карпентер был мастером по части общественной деятельности. Прямолинейный и непреклонный, он питал идеалы такие же высокие и всем доступные, как идеалы денежного мешка. В понятии американцев он воплощал в себе армию, управление, щит и меч и твердую руку нации. Его идеал был Американская Мечта.
— Мы сражаемся не за деньги, не за власть, не за мировое господство, провозгласил он на обеде, где собрались представители прессы.
— Мы сражаемся исключительно за Американскую Мечту, — заявил он на сто шестьдесят второй сессии Конгресса.
— Наша цель не агрессия, не порабощение народов, — сказал он на ежегодном ужине в честь выпускников Вест-Пойнтской военной академии.
— Мы воюем за суть цивилизации, — сообщил он клубу ветеранов в Сан-Франциско.
— Мы боремся за идеалы цивилизации, за культуру, за поэзию, за то единственное, что мы обязаны сохранить, — заявил он на Празднике Урожая в Чикаго.
— Это — война за самосохранение. Мы сражаемся не из корысти, а во имя нашей мечты, за лучшее, что есть в жизни и что не должно исчезнуть с лица земли.
Америка воевала. Генерал Карпентер потребовал сто миллионов человек. Армии дали сто миллионов человек. Генерал Карпентер потребовал десять тысяч водородных бомб. Десять тысяч водородных бомб были доставлены и сброшены. Враг тоже сбросил десять тысяч водородных бомб и разрушил большинство американских городов.
— Чтобы устоять против варварских орд, мы должны закопаться, — решил генерал Карпентер. — Дайте мне тысячу саперов.
Тысяча саперов явились, и под землей были созданы сто городов.
— Дайте мне пятьсот специалистов по санитарной технике и, двести по кондиционированию воздуха, восемьсот организаторов транспорта, сто руководителей городских самоуправлений, тысячу экспертов по связи, семьсот начальников кадров.
Список требований генерала Карпентера на технических экспертов был бесконечен. Америка просто не знала, как его удовлетворить.
— Мы должны стать страной специалистов, — заявил генерал Карпентер Национальной ассоциации американских университетов. — Чтобы выиграть битву за Американскую Мечту, каждый мужчина, каждая женщина должны стать специальными орудиями для специальной работы, орудиями, закаленными и отточенными вашим воспитанием и обучением.
Во время завтрака на Уолл-стрит по поводу кампании в пользу займов Карпентер сказал:
— Наша мечта, — это мечте кротких греков Афин, благородных римлян… э-э… Рима. Это мечта о самом лучшем в жизни. О музыке и живописи, поэзии и культуре. Деньги — только оружие, которым мы пользуемся в сражении за нашу мечту, честолюбие — это лишь лестница, по которой мы поднимаемся к ней, талант — это инструмент, который придает форму нашей мечте.
Уолл-стрит аплодировала. Генерал Карпентер потребовал сто пятьдесят миллиардов долларов, полторы тысячи преданных фанатиков идеи, которые согласились бы работать бесплатно, три тысячи специалистов по минералогии, петрографии, массовому производству, химическому оружию, авиационных диспетчеров. Все они были ему предоставлены. Страна работала на полную мощность. Стоило генералу Карпентеру нажать кнопку, как нужный специалист был тут как тут.
В марте две тысячи сто двенадцатого года война достигла максимального напряжения, и Американская Мечта осуществилась. Но произошло это не на одном из семи фронтов, где миллионы людей проливали кровь в ожесточенных боях, не в штаб-квартирах воюющих наций и не в производственных центрах, неустанно изрыгавших оружие и боеприпасы, а в Отделении Т военного госпиталя Соединенных Штатов, спрятанного под землей на глубине трехсот футов под тем местом, которое некогда называлось Сент-Албанс, штат Нью-Йорк.
Отделение Т было загадкой Сент-Албанса. Как и во всех других госпиталях, в Сент-Албансе были разные отделения, предназначенные для различного рода ранений. Ампутация правой руки производилась в одном отделении, ампутация левой руки — в другом. Ожоги от радиации, ранения в голову, поражения внутренних органов, отравление вторичными гамма-лучами и так далее — для всего этого было отведено в госпитале свое особое место. Армейский медицинский корпус установил семнадцать видов ранений, включавших всевозможные повреждения мозга и тканей. Они обозначались буквами от A до S. А что же было в отделении Т?
Этого никто не знал. Двери туда были наглухо заперты. Посетители не допускались. Больным не разрешалось покидать палаты. Люди видели только, как входят и выходят врачи. Их растерянные лица порождали самые фантастические толки, но врачи ничего не говорили. Медицинских сестер забрасывали вопросами, но и они были немы, как рыбы.
Все же наружу просачивались какие-то сведения, впрочем, противоречивые и неясные. Уборщица утверждала, что, когда она пришла убрать палаты, там никого не было. Буквально ни души. Двадцать четыре койки и больше ничего. Спал ли кто-нибудь на этих койках ночью? По-видимому, да; некоторые постели были измяты. Были ли признаки того, что палаты обитаемы? О, да; на столиках лежали разные личные вещи, но покрытые пылью, словно к ним давно никто не прикасался.
Общественное мнение пришло к выводу, что это — отделение призраков. Только для духов! Однако часовой доложил, что, проходя ночью мимо запертой палаты, он слышал пение. Какое пение? Похоже, что на чужом языке. На каком именно? Этого часовой не мог сказать. Некоторые слова были как будто знакомые: «Гавкни, дама, иди, дурь».[4]
Общественное мнение затряслось в лихорадке и определило, что это вражеское отделение: только для шпионов!
Сент-Албанс обратился к помощи кухонного персонала и обследовал доставку пищи. Три раза в день в отделение Т относили двадцать четыре подноса. И двадцать четыре подноса выносили обратно. Иногда они были пусты, но большей частью еда оставалась нетронутой.
Общественное мнение поднатужилось и решило, что отделение Т, несомненно, притон жуликов, своего рода неофициальный клуб, где веселятся мошенники и бандиты. Вот вам и «иди, дурь»!
По части сплетен госпиталь посрамил бы самых зловредных провинциальных кумушек из кружков кройки и шитья, но больные люди легко возбуждаются; достаточно пустяка, чтобы вывести их из равновесия. Не прошло и трех месяцев, как догадки и подозрения накалили атмосферу Сент-Албанса до предела. В январе две тысячи сто двенадцатого года он был солидным, хорошо управляемым госпиталем. В марте две тысячи сто двенадцатого года он пришел в состояние такой психической неуравновешенности и такого возбуждения, что это сказалось на статистических отчетах. Процент выздоровлений снизился. Появились симулянты. Участились нарушения дисциплины. Вспыхивали бунты. Произвели чистку персонала, но это не помогло. Отделение Т по-прежнему оставалось источником беспорядков. Произвели еще одну чистку, и еще одну, но волнения в госпитале только усиливались.
Наконец, по официальным каналам, вести дошли до генерала Карпентера.
— В нашей битве за Американскую Мечту, — заявил он, — нельзя пренебрегать теми, кто уже жертвовал собой. Прислать ко мне специалиста по управлению госпиталями!
Специалиста доставили. Он не смог исцелить Сент-Албанс. Генерал Карпентер прочитал отчет и прогнал специалиста.
— Жалость к больным — это первое условие цивилизации, — сказал генерал Карпентер. — Прислать ко мне главного врача!
Главного врача доставили. Но и он был не в силах разделаться с неурядицами в Сент-Албансе, и поэтому генерал Карпентер разделался с ним. Тем временем об отделении Т стали упоминать в официальных донесениях.
— Прислать ко мне заведующего отделением Т! — распорядился генерал Карпентер.
Сент-Албанс прислал доктора — капитана Эдзела Диммока. Это был полный и уже лысый молодой человек, который всего три года назад окончил медицинский институт, но имел превосходную характеристику как специалист по психотерапии. Генерал Карпентер любил специалистов, и Диммок ему понравился, Диммок же восхищался генералом как глашатаем культуры. Правда, до сей поры у врача не было времени приобщиться к культуре, так как из него готовили слишком узкого специалиста, но он надеялся насладиться ею полностью после победоносного окончания войны.
— Слушайте-ка, Диммок, — начал разговор генерал Карпентер. — Сегодня каждый из нас орудие, закаленное и отточенное для своей особой работы. Вы знаете наш девиз: работа для каждого и каждый на работе. В Отделении Т кто-то не выполняет своей работы, и его надо вышвырнуть. Так вот, прежде всего: что это за штука — отделение Т?
Диммок мялся и мямлил что-то невнятное. Наконец он объяснил, что это специальное отделение для особого вида контузий — боевого шока.
— Значит, в палатах есть пациенты?
— Да, сэр. Десять женщин и четырнадцать мужчин.
Карпентер помахал кипой донесений.
— Смотрите, больные утверждают, что в Отделении Т нет ни одного человека.
Диммок возмутился:
— Это неправда! — заверил он генерала.
— Ну, ладно, Диммок. У вас там двадцать четыре заморыша. Их дело выздороветь, ваше дело — их вылечить. Так какого дьявола в госпитале такая кутерьма?
— В-видите ли, сэр, вероятно, это происходит оттого, что мы держим пациентов взаперти.
— Отделение Т на замке?
— Да, сэр.
— Почему?
— Чтобы удержать пациентов в палатах, сэр.
— Удержать? Что это значит? Они пытаются удрать? Буйствуют?
— Нет, сэр, они не буйствуют.
— Вот что, Диммок. Мне не нравится ваше поведение. Вы хитрите и увиливаете от ответов. И еще кое-что мне не нравится: этот ваш разряд Т. Я запросил эксперта по документации из медицинского корпуса, и он сказал, что никакого разряда Т нет. Что вы там мудрите?
— В-видите ли, сэр, разряд Т мы изобрели. Он… они… это совершенно особые больные, сэр. Мы не знаем, что с ними делать, как их лечить. М-мы хотели молчать, пока не выработаем modus operandi.[5] Болезнь совершенно новая, сэр, совершенно новая. — Тут специалист в Диммоке взял верх над чиновником. — Это сенсация, Мы произведем переворот в медицине и войдем в историю! Честное слово, это будет величайшее открытие!
— О чем вы, Диммок? Выражайтесь точнее.
— Так вот, сэр. Наши больные поступили к нам с диагнозом шока. Невменяемое состояние, почти кататония.[6] Очень слабое дыхание, нитевидный пульс. Никаких реакций.
— Я видел тысячи подобных случаев шока, — проворчал Карпентер. — Что же тут необыкновенного?
— Вы правы, сэр. Пока все симптомы, о которых я говорил, подходят под разряды P и R. Необычно вот что: наши пациенты не едят и не спят.
— Совсем?
— Некоторые — совсем.
— Почему же они не умирают?
— Мы не знаем. Обмен веществ нарушен в сторону диссимиляции. Катаболизм продолжается. Иными словами, сэр, они выбрасывают ненужные организму продукты, но ничего не принимают внутрь. Они нейтрализуют яды усталости и восстанавливают изношенные ткани, но не спят и не едят. Бог знает, как это возможно! Какая-то фантастика!
— Тогда почему вы держите их взаперти? Может быть, вы подозреваете, что они таскают пищу и дрыхнут где-нибудь тайном?
У Диммока был очень смущенный вид.
— Н-нет, сэр, я не знаю, как вам сказать, генерал. Я… мы запираем их потому, что тут что-то таинственное. Они… ну, в общем, они исчезают.
— Что-о?
— Исчезают, сэр! Пропадают прямо на глазах.
— Что за чушь вы несете!
— Уверяю вас, сэр! Вы входите и видите: они сидят на койках или ходят по палате. Вот они перед вами, а через минуту их уже и нет! Иногда в Отделении Т все двадцать четыре человека, а иногда — ни одного. Они появляются и исчезают ни с того, ни с сего. Вот почему, генерал, мы держим палаты на запоре. Во всей истории войн и военных ранений подобных случаев не было. Мы не знаем, как их лечить.
— Приведите ко мне троих ваших пациентов, — распорядился генерал Карпентер.
Нейтен Райли съел яичницу с гренками, выпил две кружки пива, выкурил сигару, деликатно рыгнул и встал из-за стола. Он дружелюбно кивнул Джентльмену Джиму Корбету, и тот, прервав беседу с Джимом Брейди, по прозвищу Бриллиант, перехватил Райли на пути к кассовому окошку.
— На кого ты ставишь в этом году, Нейт? — спросил Джентльмен Джим.
— На Проныр, — ответил Райли.
— Но у них подача никуда не годится.
— Зато у них есть такие игроки, как Снайдер, Фурильо и Кампанелла. Они завоюют кубок этого года, Джим. Держу пари, что они станут чемпионами так скоро, как не удавалось еще ни одной команде. К тринадцатому сентября. Запиши и увидишь, что я прав.
— Ты всегда прав, Нейт.
Райли улыбнулся, заплатил по счету, вышел на улицу и остановил кэб, направлявшийся к Мэдисон-скверу. На углу Пятнадцатой улицы и Восьмой авеню он вышел из экипажа и поднялся в контору букмекера на втором этаже, над радиоремонтной мастерской. Букмекер взглянул на него, вынул из стола конверт и отсчитал пятнадцать тысяч долларов.
— Рокки Марчиано нокаутировал Роланда Ля Старца в одиннадцатом раунде, сообщил он. — Как ты умудряешься так здорово угадывать, Нейт?
Райли улыбнулся.
— Я же на это живу. Ты завел книгу предвыборных ставок?
— Эйзенхауэр — двенадцать против пяти. Стивенсон…
— Плевать мне на Эдлая. Я ставлю на Айка. Вот деньги. Запищи!
Райли положил на конторку двадцать тысяч долларов.
Выйдя из конторы, он отправился к себе домой в Уолдорф-Асторию, где его с нетерпением поджидал высокий, худощавый молодой человек.
— Ах, да, — сказал Нейтен Райли, — вы — Форд, не так ли? Гаролд Форд?
— Генри Форд, мистер Райли.
— И вы хотите, чтобы я финансировал производство машины, которую вы построили в своей велосипедной мастерской? Как она называется?
— Я называю ее «ипсимобилем», мистер Райли.
— Гм, это название мне что-то не нравится. Что, если мы назовем вашу машину «автомобилем»?
— Чудесное предложение, мистер Райли! Я им непременно воспользуюсь.
— Вы мне нравитесь, Генри. Вы молоды, талантливы, умеете приспосабливаться к обстоятельствам. Я верю в ваше будущее и верю в ваш автомобиль. Я вложу в это дело двести тысяч долларов.
Райли выписал чек и проводил Генри Форда до дверей. Взглянув на часы, он внезапно почувствовал настойчивое желание вернуться ненадолго в совсем иное место и посмотреть, что там делается. Он прошел в спальню, разделся, облачился в серую рубашку и широкие серые брюки. На карман рубашки были нашиты крупные синие буквы: ГСША. Райли запер дверь и… исчез.
Он появился вновь в Госпитале Соединенных Штатов в Сент-Албансе, рядом со своей койкой, одной из двадцати четырех коек, выстроившихся вдоль стен длинного стального барака. Не успел он перевести дух, как его схватили три пары рук. Он попытался вырваться, но в него вонзили шприц и ввели ему под кожу полтора кубических сантиметра тиоморфата натрия.
— Одного поймали! — объявил чей-то голос.
— Смотри в оба, — откликнулся другой. — Генерал Карпентер велел доставить троих.
После того как Марк Юний Брут покинул ее ложе, Лила Мэчен хлопнула в ладоши. В спальню вошла рабыня и приготовила ванну. Лила выкупалась, оделась, надушилась и позавтракала винными ягодами из Смирны и апельсинами. Она выпила бокал лакриме кристи и выкурила сигарету. После этого она приказала подать носилки.
Как всегда, у ворот ее дома толпились обожавшие ее воины Двадцатого легиона. Два центуриона отстранили носильщиков и понесли Лилу на своих могучих плечах. Она улыбалась. Внезапно из толпы вырвался юноша в сапфирово-голубом плаще и кинулся к Лиле. В его руке блеснул нож. Лила выпрямилась, чтобы достойно встретить смерть.
— Госпожа, — воскликнул юноша, — госпожа Лила! Он полоснул ножом по своей левой руке, и алая кровь, хлынув, обрызгала одежду Лилы.
— Эта кровь — наименьший дар, который я могу тебе преподнести! воскликнул юноша.
Лила нежно дотронулась до его лба.
— Глупый мальчик! — сказала она. — Зачем ты это сделал?
— Из любви к тебе, моя госпожа!
— Вечером в девять часов тебя проводят ко мне, — шепнула Лила. Он смотрел на нее так растерянно, что она рассмеялась. — Обещаю тебе. Как твое имя, красавчик?
— Бен-Гур.
— Так приходи в девять, Бен-Гур!
Носилки двинулись дальше. Возле Форума Юлий Цезарь горячо спорил о чем-то с Савонаролой. Увидев носилки, Цезарь резким жестом приказал центурионам остановиться. Он раздвинул занавески и пристально посмотрел на Лилу, окинувшую его холодным взглядом. Лицо Цезаря исказилось.
— За что? — хрипло пробормотал он. — Я. пресил, умолял, засыпал подарками, плакал, но ты неумолима. Почему, Лила, почему?
— А ты помнишь Боадицею? — спросила Лила.
— Боадицею? Королеву бриттов? Бог мой, Лила, что может она значить для нашей любви? Я не любил Боадицею. Я только победил ее в сражении.
— И убил ее, Цезарь!
— Она сама отравилась, Лила.
— Это была моя мать! — Лила обличительно указала пальцем на Цезаря. Убийца! Ты будешь наказан. Берегись мартовских ид, Цезарь!
Цезарь отпрянул в ужасе. Толпа почитателей, обступившая Лилу, издала возглас одобрения. Под ливнем розовых лепестков и фиалок она продолжала свой путь через Форум к Храму весталок. Там она рассталась с восхищенными поклонниками и вошла в святилище.
Она преклонила колени перед алтарем, произнесла нараспев молитву, бросила в пламя алтаря щепотку фимиама и сняла тунику. Она залюбовалась своим прекрасным телом, отраженным в серебряном зеркале, и вдруг почувствовала прилив тоски по родине. Она надела серую блузу и широкие серые штаны. На кармане блузы виднелись буквы ГСША. Стоя перед алтарем, Лила еще раз улыбнулась и… исчезла.
Она появилась вновь в Отделении Т военного Госпиталя Соединенных Штатов, где в нее с помощью пневматического шприца немедленно вкатили полтора кубических сантиметра тиоморфата.
— Вот и вторая, — сказал кто-то.
— Нужен еще один, — отозвался другой.
Джордж Ханмер сделал драматическую паузу и огляделся по сторонам. Он бросил взгляд на скамьи оппозиции, на спикера, восседавшего на мешке с шерстью, на серебряный жезл, лежавший на алой подушке перед спикером. Весь парламент, захваченный пламенной речью Ханмера, затаив дыхание, ждал продолжения.
— Мне нечего больше сказать, — проговорил наконец Ханмер. Его голос дрожал от волнения, лицо было бледно и серьезно. — Я буду бороться за этот билль до конца. Я буду бороться за него в городах и селах, на полях и в малых деревушках. Я буду бороться за этот билль до самой смерти, а если богу будет угодно, то и после смерти. Пусть совесть почтенных джентльменов решит, вызов это или молитва. Я уверен и убежден только в одном: Суэцкий канал должен принадлежать Англии!
Ханмер сел. Зал взорвался аплодисментами. Под восторженные крики и овации Ханмер проследовал в кулуары, где Глэдстон, Черчилль и Питт остановили его, чтобы пожать ему руку. Лорд Пальмерстон холодно взглянул на него, но Дизраэли отодвинул лорда плечом и, прихрамывая, подошел к Ханмеру, весь — энтузиазм, весь — восхищение.
— Поедем закусить в Таттерсол, — сказал Дизраэли, — автомобиль у подъезда.
Леди Биконсфилд ждала их а роллс-ройсе у здания парламента. Она приколола цветок к сюртуку Ханмера и ласково потрепала его по щеке.
— Далеко же ты, Джорджи, шагнул от того мальчугана, который, бывало, в школе дразнил Дизи! — сказала она.
Ханмер рассмеялся. Дизи запел «Gaudeamus igitur». Ханмер подтянул, и они пели эту старинную студенческую песню, пока не доехали до клуба. Там Дизи заказал индейку и рыбу, жаренную на рашпере, а Ханмер поднялся в клуб переодеться.
Ни с того ни с сего ему вдруг захотелось еще раз заглянуть в другой мир. Может быть, ему было жаль вконец порывать с прошлым. Он снял сюртук, нанковый жилет, брюки кофейного цвета, начищенные до блеска ботинки и белье. Надел серую рубашку, серые брюки и… исчез.
Он появился в отделении Т Госпиталя Сент-Албанса, где с помощью полутора кубических сантиметров тиоморфата натрия был немедленно приведен в бесчувственное состояние.
— Это третий, — сказал кто-то.
— Везем их к Карпентеру!
Они сидели в канцелярии генерала Карпентера: рядовой Нейтен Райли, сержант медицинской службы Лила Мэчен и капрал Джордж Ханмер. На них была больничная одежда. Они еще не совсем пришли в себя после тиоморфата.
Из канцелярии вынесли все лишнее, и она была залита светом. В креслах сидели специалисты из Разведки, Контрразведки, Бюро расследований и Бюро обследований. Когда капитан Эдзел Диммок увидел, что его и пациентов ждет эта компания безжалостных людей с каменными лицами, он испугался. Генерал Карпентер мрачно усмехнулся.
— Вам не приходило в голову, Диммок, что мы можем не поверить вашей сказочке про исчезновения?
— С-сэр?
— Я и сам специалист, Диммок. Можете не сомневаться. Дела на войне идут плохо, из рук вон плохо. Утечка военных тайн! Возможно, эта Сент-Албанская фантастика укажет на вас.
— Н-но ведь они в самом деле исчезают, сэр. Я…
— Мои специалисты желают побеседовать с вами и вашими пациентами по поводу этих исчезновений, Диммок. Они начнут с вас.
Специалисты обрабатывали Диммока с помощью новейших научных методов, воздействовавших на психику и волю человека. Они вводили ему пентотал «сыворотку правды» и применяли все способы физического и морального давления. Три раза они доводили отчаянно вопившего Диммока до такого состояния, когда он готов был признаться в чем угодно, но только ему не в чем было признаваться.
— Дайте ему передохнуть, — сказал Карпентер. — Принимайтесь теперь за пациентов.
Специалистам, по-видимому, не очень-то хотелось применять насилие к больным мужчинам и женщине.
— Ради бога не раскисайте, — неистовствовал Карпентер. — Мы ведем войну за цивилизацию. Мы должны любой ценой защитить наши идеалы. Приступайте!
Специалисты из Разведки, Контрразведки, Бюро расследований и Бюро обследований взялись за дело. И вдруг рядовой Нейтен Райли, сержант медицинской службы Лила Мэчен и капрал Джордж Ханмер потухли, исчезли, подобно огонькам трех догоревших свечей. Только что они сидели на стульях, окруженные злобными взглядами, а в следующий миг их не стало.
Специалисты разинули рты, а генерал Карпентер сделал великолепный жест. Он торжественно подошел к Диммоку и проговорил:
— Капитан Диммок, я приношу вам извинения. Полковник Диммок, вы повышаетесь в чине за важное открытие… Однако что все это значит, черт побери! Надо проверить.
Он прокричал в микрофон;
— Привести ко мне специалиста по шоку и психиатра!
Специалисты прибыли. Их кратко посвятили в суть дела. Они опросили свидетелей и погрузились в раздумье.
— Мы все в легкой форме страдаем шоком, — заметил первый специалист, нервное возбуждение, вызванное войной.
— Вы хотите сказать, что мы на самом деле не видели, как они исчезли?
Специалист по шоку покачал головой и взглянул на психиатра, который тоже покачал головой.
— Массовая галлюцинация, — заявил он.
В тот же миг рядовой Райли, сержант медицинской службы Лила Мэчен и капрал Джордж Ханмер вновь появились. Только что они были «массовой галлюцинацией», а теперь они опять сидели на своих стульях, окруженные растерянными взглядами.
— Усыпите их снова, Диммок, — крикнул Карпентер. — Дайте им галлон наркоза! — И он заорал в микрофон: — Всех специалистов сюда! Экстренное совещание в моей канцелярии!
В течение трех часов тридцать семь специалистов — все закаленные и отточенные орудия — исследовали находившихся без сознания больных шоком и совещались. Некоторые выводы были очевидны: существует какой-то новый, фантастический комплекс симптомов, вызванный новыми фантастическими ужасами войны. По мере развития военной техники реакции жертв этой техники меняются. Для каждого действия есть равное противодействие. Принято единогласно.
Новый комплекс симптомов включает в себя какой-то вид телепатии: власть разума над пространством. Очевидно, разрушая известные центры мозга, шок развивает другие, скрытые и ранее не известные ячейки. Принято единогласно.
Очевидно, пациенты способны возвращаться только в то место, откуда они исчезли, иначе они не возвращались бы в Отделение Т и уж тем более не вернулись бы в канцелярию генерала Карпентера. Принято единогласно.
Поскольку никто из пациентов не спит и не принимает пищу в Отделении Т, очевидно, они делают это там, куда уходят. Принято единогласно.
— Одно маленькое замечание, — сказал полковник Диммок. — По-моему, они все реже возвращаются в Отделение. Вначале они что ни день то появлялись, то исчезали. Теперь же пропадают неделями, а некоторые как будто и вовсе не собираются возвращаться.
— Это не важно, — заявил Карпентер. — А вот куда они уходят?
— Может быть, они проникают за линию фронта? — предположил кто-то из присутствующих. — Я имею в виду утечку военных тайн.
— Приказываю Разведке выяснить, — отрезал Карпентер, — известны ли подобные случаи у врага, скажем, с военнопленными, исчезающими из их концентрационных лагерей. Может быть, среди них есть наши пациенты из Отделения Т.
— А может быть, они просто уходят домой, — предположил Диммок.
— Приказываю Бюро расследований выяснить, — распорядился Карпентер. Покопайтесь в личной жизни и связях всех двадцати четырех исчезающих. Что касается наших мероприятий, то у полковника Диммока намечен план.
— Мы поставим в Отделение Т еще шесть коек, — пояснил Диммок. — Направим туда шесть специалистов. Пусть они там живут и ведут наблюдения. Они будут получать информацию от самих пациентов, но косвенным путем. Когда пациенты в сознании, они ведут себя, как кататоники, и обычно молчат, а под действием наркоза вообще не способны отвечать на вопросы.
Карпентер подвел итог:
— Джентльмены, это — величайшее потенциальное оружие во всей истории войн. Мне незачем говорить вам, что может значить для нас, если мы телепатически перекинем целую армию в тыл врага. Если мы овладеем тайной, которая известна этим поврежденным умам, мы в один день выиграем войну за Американскую Мечту. Мы должны победить!
Специалисты засуетились. Бюро расследований допрашивало, Бюро обследований опрашивало. В Отделении Т Госпиталя Сент-Албанс поселились шесть закаленных и отточенных орудий, но они очень медленно знакомились с исчезающими пациентами, которые появлялись в палатах все реже и реже. Напряжение росло.
Разведка доложила, что за последний год в Америке не зарегистрировано ни одного случая таинственных исчезновений. Контрразведка сообщила, что, по всем данным, у противника не наблюдается подобых случаев ни среди их собственных раненых, ни в лагере военнопленных.
Карпентер выходил из себя.
— Это совершенно новое явление. У нас нет специалистов в этой области. Необходимо создать новые орудия. Соедините меня с каким-нибудь колледжем, прорычал он в микрофон.
Его соединили с Йелем.
— Мне нужны специалисты по торжеству разума над материей. Создайте их!
Йель немедленно организовал три новые кафедры: деятельности чудотворцев, сверхчувственного восприятия и телекинезиса.
Первый шаг к решению задачи был сделан, когда специалисты из Отделения Т потребовали помощи еще одного эксперта: им нужен был гранильщик камней.
— На черта он вам понадобился? — полюбопытствовал генерал Карлентер.
— Наш специалист по кадрам уловил упоминание о каком-то драгоценном камне, — пояснил полковник Диммок — Между тем он эксперт только по личному составу и не знает ничего, что выходит за рамки его профессии.
— Так и должно быть, — одобрительно заметил Карпентер. — Работа для каждого и каждый на работе! Доставит мне гранильщика! — крикнул он в микрофон.
Гранильщик камней, вызванный из Воинского арсенала, получил приказ дать сведения, какой бриллиант называется Джим Брейди. У него таких сведений не было.
— Попробуем подойти к делу с другой стороны, — решил Карпентер. — Пришлите мне лингвиста!
Лингвист покинул свой пост в Отделе военной пропаганды, но не сумел расшифровать слова «Джим Брейди». С его точки зрения, это были просто имя и фамилия, не больше. Он посоветовал обратиться к специалисту по генеалогии.
Специалист по генеалогии получил однодневный отпуск из Комитета по выявлению предков неамериканского происхождения, но и он мог сказать только, что Брейди — самая обыкновенная фамилия, встречающаяся в Америке уже на протяжении пятисот лет. Он рекомендовал вызвать археолога.
Археолога отпустили из Отдела картографии Штаба по вторжению, и он мгновенно решил загадку: Джим Брейди, по прозвищу Бриллиант, был исторической личностью. Одно время имя его гремело в городе Старый Нью-Йорк, и было это в период между правлениями губернатора Питера Стюйвезанта и Фиорелло Ля-Гардия.
— Боже мой! — изумился Карпентер. — Да это же было в незапамятные времена! Откуда Нейтен Райли выкопал этого Брейди? Присоединитесь-ка вы к нашим специалистам в Отделении Т и выясните дело до конца.
Археолог отправился в Отделение Т, собрал сведения и написал доклад. Карпентер прочитал его и был потрясен. Он немедленно созвал экстренное совещание специалистов своего штаба.
— Джентльмены, — провозгласил он. — В Отделении Т наблюдается явление, по сравнению с которым телепатия-детская игрушка. Наши пациенты делают нечто гораздо более невероятное, гораздо более важное. Джентльмены, они путешествуют во времени!
Штаб недоверчиво заерзал в креслах, Карпентер настойчиво закивал головой.
— Да, джентльмены, мы имеем дело с путешествием во времени! Это открытие пришло не так, как мы ожидали. Не в результате научной работы квалифицированных специалистов. Оно пришло как чума, как зараза… Это военная болезнь, следствие боевых шоков, перенесенных обыкновенными людьми. Прежде чем продолжать, прошу вас просмотреть эти донесения.
Штаб ознакомился со стенографическими сообщениями. Рядовой Нейтен Райли… исчезает в Нью-Йорк начала двадцатого века. Сержант медицинской службы Лила Мэчен… посещает Рим первого столетия. Капрал Джордж Ханмер… путешествует в Англию девятнадцатого века. И так все двадцать четыре пациента спасаются от передряг и ужасов войны нынешнего, двадцать второго века, переносясь то в Венецию дожей, то на Ямайку к пиратам, то в Китай династии Хань, то в Норвегию Эрика Рыжего, словом, любое место на земном шаре и в любую эпоху.
— Мне незачем говорить вам об огромном значении этого открытия, — сказал генерал Карпентер. — Подумайте, что значило бы для хода войны, если бы мы могли послать нашу армию в прошлое время, в то прошлое, которое было неделю, месяц или год назад. Да мы бы выиграли войну и не начав ее! Не подвергая себя ни малейшей опасности, мы отстояли бы от варварства нашу Мечту — Поэзию, Красоту, Культуру Америки!
Штаб попытался освоиться с проблемой победы еще до начала войны.
— Положение осложняется тем, что люди в Отделении Т non compos.[7] Может быть, они знают, как им удается путешествовать во времени, а может быть, и не знают. Так или иначе, они не способны поделиться своими знаниями с экспертами, которые могли бы превратить это чудо в систему. Нам надо найти ко всему этому ключ. Сами пациенты нам не помогут.
Закаленные и отточенные специалисты растерянно озирались.
— Нам нужны эксперты, — заявил Карпентер.
Штаб оживился: это была знакомая тема.
— Нам нужны: специалист по физиологии мозга, кибернетик, психиатр, анатом, археолог и первоклассный историк. Они отправятся в Отделение Т и не выйдут оттуда, пока не сделают того, что от них требуется: не научатся путешествовать во времени.
Первые пять специалистов были без труда извлечены из разных военных учреждений. Вся Америка была набита закаленными и отточенными специалистами. Но найти первоклассного историка оказалось делом нелегким, пока на помощь не пришло Федеральное управление тюрем, которое по настоянию военных властей освободило доктора Брэдли Скрима, отбывавшего двадцать лет каторги. Скрим был человек язвительный и ершистым. Когда-то он занимал кафедру истории философии в одном из западных университетов. Но однажды он высказал свое мнение о войне за Американскую Мечту, и это обернулось для него двадцатью годами каторжных работ.
Скрим был по-прежнему прям и откровенен, но согласился принять участие в решении загадки Отделения Т.
— Только имейте в виду, что я не специалист, — сухо заявил он. — В нашей сумасшедшей стране экспертов я всего лишь последний веселый кузнечик, распевающий на муравейнике.
Карпентер схватился за микрофон.
— Энтомолога мне! — рявкнул он.
— Не утруждайтесь, — заметил Скрим. — Я переведу свои слова на обычный язык. Муравейник — это вы все; надсаживаетесь, лезете из кожи, специализируетесь… во имя чего?
— Во имя защиты Американской Мечты, — горячо заявил Карпентер. — Мы боремся за Поэзию и Культуру, за Образование и все лучшее в жизни.
— Иными словами, вы боретесь, чтобы защитить меня, — сказал Скрим, — Я посвятил свою жизнь тому, что вы сейчас назвали. А что вы со мной сделали? Посадили в тюрьму.
— Вы были осуждены за сочувствие врагу, — сказал Карпентер.
— Я был осужден за то, что верил в свою Американскую Мечту. Иными словами, меня посадили под замок за то, что я имел собственное мнение.
В Отделении Т Скрим был все так же прям и откровенен. Он провел там одну ночь, насладился хорошим трехразовым питанием, прочитал донесения, отбросил их и стал кричать, чтобы его выпустили.
— Мы даем работу каждому, и каждый должен быть на своей работе, — объяснил ему полковник Диммок. — Вы не выйдете, пока не разгадаете тайны путешествия во времени.
— Здесь нет тайны, которую я мог бы разгадать.
— Пациенты путешествуют во времени?
— И да и нет…
— Ответ должен быть определенным, а ив двусмысленным. Вы уклоняетесь…
— Послушайте, — усталым голосом перебил его Скрим, — вы в какой области специалист?
— В психотерапии.
— Где же вам разобраться в том, что я говорю. Это чисто философская концепция. Уверяю вас, тут нет тайны, которой могла бы воспользоваться армия или вообще какая-нибудь группа людей. Эта тайна может пригодиться только отдельной личности.
— Не понимаю.
— Где уж вам понять! Отведите меня к Карпентеру.
Скрима, похожего на худосочного рыжего дьявола, отвели в канцелярию Карпентера, где он, оскалив зубы, злобно усмехнулся в лицо генералу.
— Мне понадобится десять минут, — сказал Скрим. — Можете вы оторваться от своей коллекции специалистов и уделить это время мне?
Карпентер кивнул.
— Так слушайте внимательно. Я дам вам ключ к явлению, столь грандиозному и удивительному, что вам надо будет напрячь весь свой закаленный и отточенный ум, чтобы проникнуть в его суть.
Карпентер нетерпеливо ждал продолжения.
— Нейтен Райли возвращается во времени к началу двадцатого столетия. Он живет там жизнью своей заветной мечты. Он — крупный игрок, приятель Джима Брейди по прозвищу Бриллиант и других. Он ставит деньги на будущие события и всегда выигрывает, так как заранее знает их исход. Он выиграл, поставив на Эйзенхауэра в дни президентских выборов. Он выиграл пари, что боксер по имени Марчиано победит чемпиона Ля Старца. Он нажил большие деньги, финансируя автомобильную компанию Генри Форда. Вот вам ключ. Он что-нибудь значит для вас!
— Я буду это знать, посоветовавшись со специалистом по социологическому анализу. — И генерал Карпентер потянулся к микрофону.
— Подождите, я расскажу вам еще кое-что. Попробуем другие ключики. Возьмем, например, Лилу Мэчен. Она уходит в Римскую Империю и живет там жизнью своей мечты. Она — роковая женщина. Все влюбляются в нее: Юлий Цезарь, Савонарола, весь Двадцатый Легион, юноша по имени Бен-Гур. Вы видите несоответствия!
— Нет.
— А ведь при всем том она курит сигареты!
— Ну, и что? — помолчав, спросил Карпентер.
— Продолжаю. Джордж Ханмер спасается в Англии девятнадцатого века. Там он член парламента, друг Глэдстона, Уинстона Черчилля и Дизраэли, который катает его в своем роллс-ройсе. Вы знаете, что такое роллс-ройс?
— Нет.
— Это была марка автомобиля.
— А-а!
— Вы все еще не понимаете?
— Нет.
Скрим в волнении зашагал по комнате.
— Карпентер, это открытие более важное, чем телепатия и путешествие во времени. Может быть, в нем — спасение человечества. Думаю, что я не преувеличиваю. Двадцать четыре жертвы шока в Отделении Т были доведены атомными бомбардировками до состояния настолько необычного, что, разумеется, никакие ваши специалисты и эксперты не могут его понять.
— Какая штука может быть удивительнее путешествия во времени, Скрим?
— Слушайте, Карпентер. Эйзенхауэр баллотировался в президенты в середине двадцатого века. Нейтен Райли не мог быть другом Джима Брейди Бриллианта и в то же время заключать пари, что Эйзенхауэр победит на выборах… Они жили а разное время. Брейди умер за четверть века до того, как Айк стал президентом. Марчиано победил Ля Старца через пятьдесят лет после того, как Генри Форд основал свою автомобильную компанию. В путешествии Нейтена Райли множество таких анахронизмов.
Карпентер был озадачен.
— Бен-Гур не мог быть любовником Лилы Мэчен: он не жил в Риме. Он вообще никогда не жил. Это — герой литературного произведения. Лила не могла курить: римляне не знали табака. Видите? Опять анахронизмы. Дизраэли не мог катать Джорджа Хан-мера в роллс-ройсе, потому что Диэраэли умер задолго до того, как были изобретены автомобили.
— Что за безобразие?! — воскликнул Карпентер. — Вы хотите сказать, что они все это наврали?
— Нет. Не забывайте, что они не едят и не спят в госпитале. Нет, они не лгут. Они на самом деле путешествуют во времени. Они едят и спят в другом мире.
— Но вы только что сказали, что их рассказы — вранье, в них множество несоответствий.
— Да, потому что они путешествуют а прошлую эпоху, воссоздаваемую их воображением. Нейтен Райли создал в своем представлении картину Америки начала двадцатого века. Эта картина неверна, она полна анахронизмов, так как Райли необразованный человек. Но для него она реальна. Он там живет. То же происходит и с остальными.
Карпентер вытаращил глаза.
— Все это выше нашего понимания, — продолжал Скрим. — Эти люди научились превращать мечту в действительность. Они умеют уходить в реальный мир своей мечты, живут там и, быть может, останутся там навсегда. Бог мой, Карпентер, да ведь это же и есть ваша Американская Мечта, она творит чудеса, в ней бессмертие, божественное начало, торжество разума над материей. Ее надо исследовать, изучить, дать миру.
— Вы можете сделать это, Скрим?
— Нет, не могу. Я историк. Я не творю и потому это выше моих сил. Вам нужен поэт… художник, который умеет творить мечты. Тому, кто воплощает свои мечты на бумаге, вероятно, не так уж трудно сделать еще один шаг и претворить мечты в действительность.
— Поэт? Вы говорите серьезно?
— Конечно. Знаете, что такое поэт? Вот уже пятый год вы твердите, что война ведется ради спасения поэзии.
— Ну, ну, Скрим, что за шутки! Я…
— Пошлите в Отделение Т поэта. Он проникнет в тайну исчезновений. Только он и способен на это. Ведь для него мечты всегда наполовину реальны. Когда он узнает секрет, он поделится им с вашими психологами и анатомами. И тогда они научат нас. Поэт — единственный, кто может быть посредником между пациентами Отделения Т и вашими специалистами.
— Я думаю, вы правы, Скрим.
— Не медлите же, Карпентер. Больные все реже и реже возвращаются в палаты. Надо раскрыть их тайну, пока они не исчезли навсегда.
Карпентер крикнул в микрофон.
— Послать ко мне поэта!
Он ждал… ждал… ждал… Америка судорожно рылась в своем собрании анкетных данных о двухстах девяноста миллионах закаленных и отточенных специалистов, своих орудий, готовых защитить Американскую Мечту о Красоте, Поэзии и обо всем лучшем в жизни. Генерал ждал, когда же найдут поэта, и не понимал причины бесконечной задержки, бесплодных поисков. Не понимал он также, почему Брэдли Скрим так хохотал над этим последним, роковым исчезновением.
Роберт Блох Поезд в ад
перевод Д. Горфинкеля
Когда Мартин был маленьким, его папа служил на железной дороге. Папа никуда не ездил, а ходил и осматривал пути Северо-Западной железной дороги. Он гордился своей работой. И каждый вечер, напившись, горланил старую песню о «поезде в ад».
Мартин плохо помнил слова, но не мог забыть, как папа выкрикивал их. Однажды папа допустил ошибку: он напился днем и был раздавлен между буферами вагона-цистерны и платформы с песком. Мартина удивило, что члены Железнодорожного Братства не пели эту песню на его похоронах.
Потом обстоятельства жизни сложились для Мартина не слишком удачно. Но почему-то он всегда вспоминал папину песню. Когда мама вдруг взяла да и удрала с коммивояжером из Киокука (папа, наверное, перевернулся в гробу, узнав, что она выкинула такое, и притом с пассажиром!), Мартин попал в приют, и там каждый вечер тихонько напевал эту песню. А позже, когда Мартин удрал сам, он ночью, где-нибудь в лесу, выждав, пока другие бродяги уснут, чуть слышно насвистывал все тот же мотив.
Мартин пробродяжничал лет пять и понял, что в этом мало толку. Конечно, он брался за многие дела: нанимался собирать фрукты в Орегоне, мыл посуду в захудалой монтанской харчевне, воровал колпаки с автомобильных ступиц в Денвере и шины в Оклахома-Сити. Но, промаявшись полгода в кандальной бригаде в штате Алабама, он пришел к выводу, что шатание по свету не сулит ему ничего хорошего.
Тогда он сделал попытку устроиться на железной дороге, как папа, но ему сказали, что времена плохие и новых людей не берут.
Однако Мартина тянуло к железным дорогам. Скитаясь, он всегда разъезжал в поездах. И он предпочитал ютиться в товарном поезде, идущем на север, когда и без того был мороз, чем поднять у шоссе руку и прокатиться в роскошном кадиллаке во Флориду. Когда ему случалось раздобыть бутылку винца, он усаживался в уютной теплой канализационной трубе, думал о давно минувших днях и при этом частенько мурлыкал песню о поезде в ад. В этом поезде ехали пьяницы и развратники, шулера и мошенники, кутилы, бабники и прочая веселая братия. Недурно было бы прокатиться в такой чудесной компании. Но вот думать о том, что случится, когда поезд, наконец, подкатит к «Потустороннему подземному вокзалу», Мартин не любил. Он не собирался целую вечность топить котлы в аду, где его не сможет защитить даже профсоюз. А все-таки это была бы недурная поездка! Вот только ходит ли этакий поезд в ад? Увы, такого поезда, конечно, нет.
По крайней мере так думал Мартин, пока однажды поздно вечером не вышел с узловой станции Эплтон и не зашагал по шпалам на юг. Ночь была холодная и темная, как и положено ноябрьской ночи в долине реки Фокс, а Мартин хотел пробраться на зиму в Новый Орлеан или даже в Техас. Впрочем, эта мысль почему-то не очень прельщала его, хотя он слыхал, что в Техасе на многих машинах колпаки ступиц — из настоящего золота.
«Нет, нет, увольте, он создан не для мелких краж. Они хуже смертного греха: они неприбыльны! Мало того, что служишь дьяволу, так еще получаешь за это гроши! Может, лучше позволить Армии Спасения наставить тебя на путь истинный?»
Мартин брел, напевая папину песню, и ждал, когда его нагонит товарный, который должен был скоро выйти со станции. Надо вскочить в него — больше ничего не остается.
Но первым оказался поезд, идущий в обратном направлении, — он с ревом приближался к Мартину с юга.
Мартин всматривался в даль, но глаза работали не так хорошо, как уши, и пока до него долетал только рев гудка. Так или иначе, это был поезд. Мартин слышал, как содрогалась земля и пела сталь под ногами. Откуда взялся этот поезд? Следующая станция к югу Нийна-Менаша, а оттуда еще несколько часов не должно быть поезда.
Небо было покрыто тяжелыми тучами. По земле стлался холодный туман ноябрьской полуночи. И все равно Мартин должен был бы уже видеть головной фонарь мчащегося состава. Но он только слышал гудение, рвавшееся из черной глотки мрака. Мартин мог распознать голос любого когда-либо построенного паровоза, но подобного гудка он никогда не слыхал. Это был не сигнал, в скорее вопль потерянной души.
Мартин отошел в сторону — поезд был совсем близко. И вдруг он увидел паровоз и вагоны. Застонали, заскрежетали тормоза, и поезд непостижимо быстро остановился. Колеса не были смазаны, раз они скрежетали, как окаянные грешники. Вскоре скрежет замер, стихли и стоны. Мартин поднял глаза и увидел, что поезд пассажирский. Огромный, черный, без проблеска света в будке машиниста или где-либо в длинной веренице вагонов. Мартин не мог разглядеть надписей на вагонах, но был уверен, что это не поезд Северо-Западной дороги.
Еще более он уверился в этом, когда с переднего вагона неловко спустилась какая-то фигура. Что-то странное было в походке этого человека, словно он волочил одну ногу, и фонарь он нес какой-то странный. Этот фонарь не горел, но человек поднял его и дунул. Фонарь мгновенно вспыхнул красным светом. Не надо быть членом Железнодорожного Братства, чтобы признать диковинным такой способ зажигать фонари.
Когда фигура приблизилась, Мартин увидел на ней кондукторскую фуражку. Это немного успокоило его, но только на миг: он заметил, что фуражка сидит высоковато, как если бы изнутри ее что-то подпирало.
Надо сказать, что Мартин умел себя держать и, когда человек улыбнулся ему, сказал:
— Добрый вечер, мистер кондуктор!
— Добрый вечер, Мартин.
— Откуда вы знаете мое имя?
Человек пожал плечами.
— А откуда вы знаете, что я кондуктор?
— Но вы и вправду кондуктор?
— Для вас — да. Но людям на иных житейских путях я могу предстать в совсем других обличьях. Посмотрели бы вы на меня, когда я появляюсь в Голливуде! — Он усмехнулся и тут же пояснил: — Я много путешествую.
— А зачем вы приехали сюда? — спросил Мартин.
— Как?! Вы должны знать ответ на свой вопрос, Мартин: приехал я потому, что нужен вам. Сегодня ночью я вдруг обнаружил, что вы на краю гибели. Вы собирались вступить в Армию Спасения, не так ли?
— М-да, — неуверенно протянул Мартин.
— Не стесняйтесь. Ошибаться свойственно людям, как кто-то однажды сказал. Кажется, это было напечатано в «Ридерз Дайджест». Ну, не важно. Важно другое: я почувствовал, что нужен вам. Поэтому я отклонился от своего пути и вот встретился с вами.
— Для чего?
— Ну, ясно: чтобы предложить вам прокатиться. Разве не лучше путешествовать поездом, чем брести по холодным улицам за оркестром Армии Спасения? Тяжело ногам, говорят, а еще тяжелее барабанным перепонкам.
— Что-то мне не очень хочется ехать в вашем поезде, сэр, принимая во внимание, где я в конце концов окажусь.
— Да, да! Старое возражение! — вздохнул кондуктор. — Полагаю, вы предпочли бы заключить сделку, а?
— Вот именно, — согласился Мартин.
— К сожалению, я совсем перестал заключать подобные договоры. Сокращения притока новых пассажиров на предвидится. Зачем же я стану предлагать вам особые приманки?
— Очевидно, я вам нужен, иначе вы не стали бы делать крюк, чтобы со мной встретиться.
Кондуктор снова вздохнул.
— Вы правы. Самоуверенность — мой главный порок, должен это признать. А все-таки неохота мне уступать вас конкурентам, после того как я столько лет считал вас своим. — Он помолчал. — Что ж, если вы настаиваете, я готов выслушать ваши условия.
— Мои условия? — переспросил Мартин.
— Что до меня, то мои условия известны: вы получите все, что пожелаете.
— Ага, — произнес Мартин.
— Но предупреждаю — я не допущу никаких трюков. Я удовлетворю любое ваше желание, а взамен вы должны обещать, что сядете в поезд, когда придет срок.
— А что, если он никогда не придет?
— Придет.
— А что, если я придумаю такое желание, которое навсегда убережет меня?
— Таких желаний не может быть.
— Не будьте так уверенны.
— Ну, это уже моя забота, — сказал кондуктор. — Что бы вы ни придумали, знайте: рано или поздно я приду за расплатой. И тогда — никаких фокусов в последнюю минуту! Никаких сцен запоздалого раскаяния, никаких прелестных блондинок или изворотливых адвокатов, которые станут вызволять вас. Я предлагаю честную сделку. Это значит, что вы получите свое, а я свое.
— Я слышал, что вы обманываете людей. Говорят, вы хуже торговца подержанными автомобилями.
— Погодите минутку…
— Прошу прощения, — поспешно промолвил Мартин. — Но ведь, кажется, это факт, что вам нельзя доверять?
— Готов признать. С другой стороны, вы, по-видимому, считаете, что нашли лазейку.
— Да такую, что мне и огонь не страшен.
— Огонь не страшен? Очень забавно! — Собеседник Мартина рассмеялся, но сейчас же сдержал себя. — Мы теряем драгоценное время, Мартин. Перейдем к делу. Что вы от меня хотите?
Мартин глубоко вздохнул.
— Я хочу, чтобы я мог остановить время.
— Сейчас?
— Нет. Пока еще — нет. И не для всех. Я, конечно, понимаю, что это невозможно. Но я хочу, чтобы я мог остановить время для себя. Один раз, в будущем. Как только случится, что я буду всем доволен и счастлив, я остановлю время. Вот и выйдет, что я сберегу свое счастье навсегда.
— Интересное желание, — задумчиво произнес кондуктор. — Должен признаться, что до сих пор не слыхал ничего подобного. А я, верьте мне, успел наслушаться всяких выдумок. — Он взглянул на Мартина и усмехнулся. — Так вы хорошо обмозговали свою мысль?
— Вынашиваю ее не первый год, — признался Мартин. Он кашлянул. — Ну, что же вы скажете?
— Тут нет ничего невозможного, — пробормотал кондуктор, — если опираться на ваше личное ощущение времени. Да, я полагаю, это можно устроить.
— Но я имею в виду, что время в самом деле остановится. Не то, чтобы я это только воображал.
— Понимаю. И берусь это сделать.
— Значит, вы согласны?
— А чего ж? Я вам это уже раньше обещал! Давайте руку.
Мартин колебался.
— Будет очень больно? Я хочу сказать, что не терплю вида крови, а кроме того…
— Глупости! Вы наслушались всякой чепухи. И мы, голубчик, уже заключили сделку. Я только хочу вложить кое-что вам в руку: способ и средство осуществить свое желание. В конце концов откуда мне знать, когда именно вы решите воспользоваться нашей сделкой, не могу же я вмиг бросить все дела и мчаться к вам. Лучше сделать так, чтобы вы сами могли все решать.
— Вы хотите дать мне «стоп-кран времени»?
— Что-то в этом роде. Вот только решу, что будет удобнее. — Кондуктор помедлил. — А, придумал! Возьмите мои часы.
Он вынул из жилетного кармана серебряные железнодорожные часы. Открыв крышку, он что-то чуть-чуть переставил. Мартин пытался уследить, что, собственно, он делает, но пальцы кондуктора двигались слишком проворно.
— Готово, — улыбнулся кондуктор. — Часы поставлены, как нужно. Когда вы окончательно решите остановить время, повертите головку завода в обратную сторону до отказа и тем самым спустите весь завод. Когда часы станут, остановится и время — для вас. Просто?
С этими словами кондуктор вложил часы в руку Мартина.
Молодой человек крепко сжал часы.
— Значит, это все?
— Абсолютно все. Но помните, вы можете остановить часы только раз. Поэтому вы должны быть вполне уверены, что хотите продлить выбранный миг. Я вас честно предупреждаю: не ошибитесь в выборе!
— Ладно, — усмехнулся Мартин. — И раз вы ведете себя в этом деле так честно, я тоже буду с вами честен. Вы, кажется, кое-что забыли. Какой именно миг я выберу, это неважно. Ведь когда я остановлю время для себя, я уже не буду меняться. Мне не придется стареть. А если я не состарюсь, то никогда и не помру. А если я никогда не помру, мне не придется ехать в вашем поезде!
Кондуктор отвернулся. Плечи его судорожно тряслись. Может быть, он плакал.
— А вы еще сказали, что я хуже торговца подержанными автомобилями! — сдавленным голосом проговорил он.
И он скрылся в тумане, и гудок нетерпеливо рявкнул, и поезд сразу быстро пошел по рельсам и, громыхая, исчез во тьме.
Мартин стоял и, моргая, смотрел на серебряные часы в своей руке. Если бы он не видел их своими глазами, не осязал своими пальцами и не чувствовал исходившего от них особого запаха, он подумал бы, что недавняя сцена — поезд, кондуктор, сделка — от начала до конца плод его воображения.
Но у него были часы, и он различал запах, оставленный ушедшим поездом: в округе было не так много паровозов, отапливаемых смолой и серой.
Насчет самой сделки у него не возникало сомнений. Вот что значит обдумать вопрос с начала до конца. Многие дураки потребовали бы богатства или власти. Папа Мартина продался бы за бутылку виски.
Мартин знал, что заключил более выгодный договор. Выгодный? Во всяком случае безопасный. Все, что ему теперь нужно сделать, это — выбрать момент.
Он положил часы в карман и вновь зашагал по шпалам. Раньше у него не было определенной цели, а теперь была: добиться минуты счастья…
Молодой Мартин не был таким уж простофилей. Он отлично понимал, что счастье — понятие относительное. Степень довольства и самый его характер меняются вместе с поворотами судьбы. Пока он был бродягой, его удовлетворяла подачка в виде теплой еды, длинная скамья в парке или бутылка стерно. Такие простые средства не раз доставляли ему минутное блаженство, но он знал, что на свете есть вещи получше. Мартин решил искать их.
Через два дня он был в Чикаго, в этом гигантском городе. Вполне естественно, его повлекло в сторону западной Мэдисон-стрит, и там он предпринял шаги, чтобы возвыситься в жизни. Он стал городским бродягой, попрошайкой и воришкой. За неделю он поднялся до такого положения, когда слово «счастье» означало для него еду в настоящей закусочной, койку в настоящей ночлежке и целую бутылку муската.
Однажды вечером, полностью насладившись всей этой роскошью, Мартин, находясь на вершине опьянения, подумал, не спустить ли ему завод своих часов. Но он подумал также о тех зажиточных людях, у которых он лишь сегодня выклянчивал подаяние. Да, это были люди степенные, не бог весть какого ума, но жилось им недурно. Они хорошо одевались, занимали хорошие должности и разъезжали в хороших машинах. Их счастье было еще более ослепительным, чем его — они обедали в шикарных отелях, они спали на пружинных матрацах, они пили неразбавленное виски.
Умны они или глупы, но их жизнь неплоха. Мартин потрогал свои часы, преодолел искушение обменять их на еще одну бутылку муската и лег спать с решением добыть работу и повысить коэффициент своего счастья.
Когда он проснулся, его порядком мутило, но вчерашнее решение не покидало его. Не прошло и месяца, как Мартин уже работал у подрядчика на Южной стороне, где велось большое строительство. Работа была утомительная. Он ненавидел свою лямку, но платили хорошо, и он мог уже снять себе однокомнатную квартирку на Блю-Айленд-авеню. Скоро Мартин привык обедать в приличном ресторане, купил себе удобную кровать и по субботам заглядывал вечерком в таверну на углу. Все это было очень приятно, но…
Мастер хвалил работу Мартина и обещал ему через месяц прибавку. Стоит только немного подождать, и он купит себе подержанную машину. Имея машину, он мог бы время от времени катать в ней девушек. Так делали многие парни у него на работе, и вид у них был очень счастливый.
Мартин продолжал работать, и прибавка стала явью, и машина стала явью, и девушки стали явью.
Когда это случилось в первый раз, он захотел немедленно спустить завод своих часов. Но вспомнил, что говорил кое-кто из мужчин постарше. С ним вместе на подъемнике работал, например, парень по имени Чарли. И тот говорил: «Пока человек молод и не знает жизни, ему не претит возиться со всякой дрянью. Но годы идут, и человек начинает искать что-нибудь получше. Ему уже нужна порядочная девушка, своя собственная. Вот это — да!»
Мартин почувствовал, что обязан это выяснить, что таков его долг перед собой. Если ему не понравится, он всегда может вернуться к прежнему образу жизни.
Прошло почти полгода, и Мартин познакомился с Лилиан Гиллис. За это время его еще раз повысили по службе, и он работал уже не на стройке, а в конторе. Его заставили посещать вечернюю школу, чтобы изучить основы бухгалтерии. Теперь ему платили добавочные пятнадцать долларов в неделю, да и работать в закрытом помещении было приятнее.
Проводить время с Лилиан тоже было удивительно приятно. А когда она сказала Мартину, что станет его женой, он был уверен, что время приспело. Вот только она была немного… она в самом деле была порядочная девушка и поэтому сказала, что им надо подождать жениться. Конечно, Мартин не мог рассчитывать жениться на ней, пока не накопит немного денег. Может, как раз набежит новая прибавка…
На все это ушел год. Мартин был терпелив — он знал, что игра стоит свеч. И каждый раз, когда у него зарождалось сомнение, он доставал свои часы и смотрел на них. Но он никогда не показывал их ни Лилиан, ни кому-либо еще. Большинство других мужчин носили дорогие ручные часы, а у старых серебряных железнодорожных часов был простоватый вид.
Мартин посмеивался, глядя на головку завода. Несколько поворотов головки, и он получит такое, чего никогда не будет у этих жалких тупоголовых работяг. Неизменная радость, зарумянившаяся от смущения невеста!..
Однако женитьба оказалась только началом. Правда, это было чудесно, но Лилиан сказала ему, что было бы лучше, если бы они могли переехать в новый дом и отделать его по-своему. Мартин хотел, чтобы у них была приличная мебель, телевизор, машина хорошей марки.
Тогда Мартин начал посещать специальные вечерние курсы и добился перевода в главную контору. Зная, что скоро родится ребенок, он старался побольше сидеть дома, чтобы быть на месте, когда прибудет его сын. И когда сын появился, Мартин рассудил, что должен подождать, чтобы ребенок немного подрос, начал ходить, говорить, стал маленькой личностью.
Примерно в это время начальство назначило его аварийным монтером и стало посылать в командировки. Он много разъезжал и ел теперь в хороших отелях и вообще тратил немало за счет фирмы. Не раз у него возникал соблазн остановить часы. Ведь он жил чудесно… Впрочем, было бы еще лучше, если б он мог не работать. Рано или поздно, если ему удастся провести для фирмы крупное дело, он сорвет куш и выйдет в отставку. Тогда все будет идеально.
Так и вышло, но на это потребовалось время. Сын Мартина уже начал ходить в школу, когда Мартин разбогател по-настоящему. Он ясно сознавал, что пора ему решить свою судьбу: ведь он был уже далеко не юноша.
Около этого времени он познакомился с Шерри Уэсткот, и она, по-видимому, вовсе не считала его человеком средних лет, хотя у него редели волосы и росло брюшко. Она научила его прятать под париком лысину, а под широким поясом — брюшко. Она много чему его научила, а он учился с таким восхищением, что раз как-то в самом деле вынул часы и приготовился спустить завод.
На беду он выбрал тот самый миг, когда частные сыщики взломали дверь его номера в гостинице, после чего потянулся долгий бракоразводный процесс, и у Мартина возникло столько хлопот, что он ни одной минуты не был вполне счастлив.
К тому времени, когда Мартин уладил все дела с Лили, он совсем прогорел, и Шерри, видимо, решила, что в конце концов он и вправду не так уж молод. Тогда Мартин расправил плечи и опять взялся за работу.
Он опять загреб немалые деньги, но теперь на это ушло больше времени, и весь этот срок ему было не до наслаждений. Кричаще-роскошные дамы в кричаще-роскошных коктейль-барах перестали интересовать его. Охладел он также к спиртным напиткам. Кстати, и доктор предостерегал Мартина от них.
Однако были другие удовольствия, вполне доступные богатому человеку. Путешествия, например, и отнюдь не в товарных вагонах из одного захудалого городишки в другой. Мартин объездил весь мир на самолетах и в первоклассных лайнерах. Раз как-то ему показалось, что он-таки нашел подходящую минуту. Это было, когда он посетил Тадж-Махал при лунном свете. Мартин вытащил свои потертые старенькие часы и готов был спустить завод. Никто за ним в этот миг не наблюдал.
Вот это и заставило его поколебаться. Конечно, момент был восхитительный, но Мартин чувствовал себя одиноким. Лили и мальчик ушли, ушла Шерри, а Мартину всегда было некогда заводить дружбу. Возможно, что, найдя близких по духу людей, он достигнет полного счастья. Вот где решение: не в деньгах или власти, или любви женщины, или созерцании прекрасных вещей. Подлинное удовлетворение дает только дружба.
Поэтому на пути домой Мартин пытался познакомиться с кем-нибудь в пароходном баре. Но туда заходили все какие-то молокососы, и у Мартина не было с ними ничего общего. Им хотелось пить и танцевать, а Мартин уже не ценил такого времяпрепровождения. Все же он пытался не отставать от них.
Возможно, это и было причиной «маленькой неприятности», постигшей Мартина накануне прихода в Сан-Франциско. Маленькой неприятностью назвал это судовой врач. Но Мартин заметил, с каким серьезным видом он приказал сейчас же уложить Мартина в постель и вызвал санитарную машину, которая должна была встретить лайнер на пристани и отвезти пациента прямо в больницу.
В больнице все дорогостоящие методы лечения, и дорогостоящие улыбки, и дорогостоящие слова нисколько не обманули Мартина. Он — старый человек с плохим сердцем, и эти люди считают, что он скоро умрет.
Но он может их надуть. Часы-то по-прежнему у него. Он нащупал их в пиджаке, оделся в свое платье и улизнул из больницы.
Ему незачем умирать. Он может одним движением руки взять верх над смертью, но желает сделать это свободным человеком, под открытым небом.
Вот в чем истинная тайна счастья. Теперь он понял. Даже дружба мало чего стоит в сравнении со свободой. Вот оно, высшее благо: свобода от друзей, и семьи, и фурий плоти.
Мартин медленно побрел под ночным небом вдоль железнодорожной насыпи. Если разобраться, так выходит, что он пришел к тому, с чего начал много лет назад. Но эта минута была хороша, достаточно хороша, чтобы продлить ее навеки. Бродяга всегда остается бродягой.
Подумав об этом, он улыбнулся, но улыбка резко и внезапно скривила ему лицо, как резко и внезапно вспыхнула боль в груди. Мир завертелся, и Мартин упал на откос насыпи.
Он плохо видел, но был в полном сознании и знал, что произошло: второй удар, и притом скверный. Может быть, это конец. Но только он больше не будет дураком. Он не стремится увидеть, что его ждет на том свете.
Вот как раз случай воспользоваться своей тайной силой и спасти себе жизнь. И он это сделает. Он еще может двигаться, и ничто его не остановит.
Пошарив в кармане, он вытащил старые серебряные часы, потрогал головку завода. Несколько оборотов, — и он перехитрит смерть и никогда не поедет поездом в ад. Он будет жить вечно.
Вечно!
Раньше Мартин никогда глубоко не задумывался над этим словом. Жить вечно — но как? Неужели он хочет жить так вечно: больным стариком, беспомощно валяющимся в траве?
Нет. Он не может на это пойти. Он на это не пойдет. И вдруг он почувствовал, что вот-вот заплачет. Он понял, что где-то на жизненном пути перемудрил. А теперь уже поздно, В глазах у него потемнело, в ушах стоял рев…
Он, конечно, узнал этот рев и нисколько не был удивлен, когда из тумана на насыпь вырвался мчащийся поезд. Не удивился он и тогда, когда поезд остановился и кондуктор, сойдя по ступенькам, медленно направился к нему.
Кондуктор нисколько не изменился. Даже усмешка была та же самая.
— Привет, Мартин, — сказал он. — Объявляется посадка!
— Знаю, — прошептал Мартин. — Но вам придется нести меня, ходить я не могу. Пожалуй, я и говорю не очень внятно.
— Что вы, — возразил кондуктор, — я вас прекрасно слышу! Ходить вы тоже можете.
Он нагнулся и положил руку Мартину на грудь. Миг ледяного онемения, а потом — гляди! — к Мартину вернулась способность ходить.
Он встал и пошел за кондуктором по откосу к поезду.
— Сюда влезать? — спросил он.
— Нет, в следующий вагон, — тихо сказал кондуктор. — Мне кажется, вы заслужили право ехать в пульмановском. В конце концов вы человек, добившийся успеха. Вы вкусили наслаждение богатством, положением, престижем. Вам знакомы радости брака и отцовства. Вы ели, пили и безобразничали в свое удовольствие, вы путешествовали в самых лучших условиях по всему свету. Так обойдемся же в последнюю минуту без взаимных попреков.
— Очень хорошо, — вздохнул Мартин. — Я не могу корить вас за мои ошибки. С другой стороны, вы не можете ставить себе в заслугу то, что произошло. За все, что получал, я платил своим трудом. Я достигал всего сам. И ваши часы мне даже не понадобились.
— Это верно, — с улыбкой сказал кондуктор, — Поэтому сделайте милость, верните их мне.
— Они пригодятся вам для следующего молокососа? — пробормотал Мартин.
— Возможно.
Что-то в тоне кондуктора побудило Мартина взглянуть на него. Он хотел видеть глаза кондуктора, но козырек фуражки бросал на них тень. И Мартин снова опустил взор на часы.
— Скажите мне, — мягко начал он, — если я отдам вам часы, что вы с ними сделаете?
— Что? Брошу в канаву, — ответил кондуктор. — Больше мне нечего с ними делать.
И он протянул руку.
— А если кто-нибудь пройдет мимо, и найдет их, и покрутит головку назад, и остановит время?
— Никто этого не сделает, — проворчал кондуктор, — даже зная, в чем дело.
— Вы хотите сказать, что все это был трюк? Что это обыкновенные дешевые часы?
— Этого я не говорил, — прошептал кондуктор. — Я только сказал, что никто еще не крутил головку завода назад. Все люди похожи на вас, Мартин: они глядят в будущее, надеясь найти там полное счастье, Ждут минуты, которая никогда не настает.
Кондуктор снова протянул руку.
Мартин вздохнул и покачал головой.
— А все-таки, в конечном счете, вы меня обманули.
— Вы сами себя обманули, Мартин. А теперь поедете поездом в ад.
Он подтолкнул Мартина к вагону и заставил влезть на ступеньки. Не успел тот войти, как поезд тронулся и заревел гудок. Мартин стоял теперь в качающемся пульмановском вагоне и смотрел вдоль прохода на других пассажиров. Они сидели перед ним, и почему-то это совсем не казалось ему странным.
Вот они перед его глазами — пьяницы и развратники, шулера к мошенники, кутилы, бабники и прочая веселая братия. Они, конечно, знают, куда едут, но им, по-видимому, наплевать. Шторы на окнах опущены, но в вагоне светло, и все веселятся напропалую — горланят, передают по кругу бутылку и хохочут до упаду. Они бросают кости, отпускают шутки и хвастаются, хвастаются вовсю, совсем как в старинной песне, которую распевал папа.
— Превосходные попутчики! — сказал Мартин. — По правде говоря, я никогда не встречал такой приятной компании. По-моему, они от души веселятся!
Кондуктор пожал плечами.
— Боюсь, они не будут так веселы, когда мы войдем в Потусторонний подземный вокзал. — Он протянул руку в третий раз. — Так вот, прежде чем сесть, будьте любезны отдать мне часы. Договор есть договор…
Мартин улыбнулся.
— Договор есть договор, — повторил он. — Я согласился ехать в вашем поезде, если до этого смогу остановить время, когда найду минуту полного счастья. Мне кажется, что здесь я могу быть счастлив как никогда.
Мартин медленно взялся за головку завода своих серебряных часов.
— Не смейте! — с трудом выдохнул кондуктор. — Не смейте!
Но Мартин уже повернул головку.
— Вы понимаете, что натворили? — заорал кондуктор. — Теперь мы никогда не доберемся до Вокзала! Мы будем ехать и ехать — вечно!
Мартин усмехнулся.
— Знаю, — сказал он. — Но вся радость — в самой поездке, а не в том, чтобы добраться до цели. Вы сами меня так учили. Я предвижу чудесную поездку. И послушайте, я, пожалуй, даже мог бы помочь вам в работе. Найдите мне какую-нибудь форменную фуражку и оставьте часы у меня.
На этом они в конце концов и поладили. Мартин надел фуражку железнодорожника, спрятал в карман свои старые, потертые серебряные часы, и нет на всем свете, да и не будет на том человека счастливее Мартина. Мартина, нового тормозного на поезда в ад.
Клиффорд Саймак Фактор ограничения
перевод Н. Евдокимовой
Вначале были две планеты, начисто лишенные руд, выработанные, выпотрошенные и оставленные нагими, словно трупы, обглоданные космическим вороньем.
Потом была планета с волшебным городком, наводящим на мысль о паутине, на которой еще не высохли блестки росы, — царство хрусталя и пластиков, исполненное такой чудесной красоты, что при одном взгляде щекотало в горле.
Однако город был только один. На всей планете, кроме него, не видно было никаких признаков разумной жизни. К тому же он был покинут. Исключительной красоты город, но пустой, как хихиканье.
Наконец, была металлическая планета, третья от Светила. Не просто глыба металлической руды, а планета с поверхностью — или крышей — из выплавленного металла, отполированного до блеска ярких стальных зеркал. И, отражая свет, планета сверкала, точно второе солнце.
— Не могу избавиться от ощущения, — проговорил Дункан Гриффит, — что это не город, а всего-навсего лагерь.
— По-моему, ты спятил, — резко ответил Пол Лоуренс. Рукавом он утер со лба пот.
— Возможно, выглядит он не как лагерь, — настойчиво твердил Гриффит, — но это все же временное жилье.
Что до меня, то он выглядит как город, подумал Лоуренс. И всегда так выглядел, с того мгновенья, как я увидел его впервые, и всегда так будет. Большой и пронизанный жизнью, несмотря на атмосферу сказочности, — место, где можно жить, мечтать и черпать силы и смелость, чтобы претворять мечты в жизнь. Великие мечты, думал он. Мечты подстать городу — такому городу, что людям на сооружение подобного понадобилась бы тысяча лет.
— Единственное, что мне совсем непонятно, — сказал он вслух, причина такого запустения. Здесь нет и следов насилия. Никаких признаков…
— Жители покинули его добровольно, — отозвался Гриффит. — Вот так, просто, снялись с места и улетели. И, очевидно, потому, что этот город не был для них настоящим домом, а был всего лишь лагерем, не оброс традициями, не окутался легендами. А лагерь не представлял никакой ценности для тех, кто его выстроил.
— Лагерь, — упрямо возразил Лоуренс, — это всего лишь место привала. Временное жилье, которое воздвигается наскоро и где, по возможности, подручными средствами оборудуется комфорт.
— Ну и что? — спросил Гриффит.
— Здесь был не просто привал, — пояснил Лоуренс. — Этот город сколочен не кое-как, не на скорую руку. Его проектировали с дальним прицелом, строили любовно и тщательно.
— С человеческой точки зрения, бесспорно, — сказал Гриффит. — Но здесь ты столкнулся с нечеловеческими категориями и с нечеловеческой точкой зрения.
Присев на корточки, Лоуренс сорвал травинку, зажал ее зубами и принялся задумчиво покусывать. То и дело он косился на молчаливый, пустынный город, сверкающий в ослепительном блеске полуденного солнца.
Гриффит присел рядом с Лоуренсом.
— Как ты не понимаешь, Пол, — заговорил он, — ведь это временное жилье. На планете нет никаких остатков старой культуры. Никакой утвари, никаких орудий труда. Здесь вел раскопки сам Кинг со своими молодцами, и даже он ничего не нашел. Ничего, кроме города. Подумай только: совершенно девственная планета и город, который может пригрезиться разве что расе, существующей не менее миллиона лет. Сначала прячутся под деревом во время дождя. Потом забираются в пещеру, когда наступает ночь. После этого приходит очередь навеса, вигвама или хижины. Затем три хижины, и вот тебе селение.
— Знаю, — сказал Лоуренс. — Знаю…
— Миллион лет развития, — безжалостно повторил Гриффит. — Десять тысяч веков должны пройти, прежде чем раса научится воздвигать такую феерию из хрусталя и пластиков. И этот миллион проходил не здесь. Миллион лет жизни оставляет на планете шрамы. А здесь нет даже их подобия. Новенькая, с иголочки, планета.
— Ты убежден, что они прибыли откуда-то издалека, Дунк?
Гриффит кивнул:
— Должно быть, так.
— Наверное, с планеты Три.
— Этого мы не знаем. Во всяком случае, пока не можем знать.
— Скорей всего никогда и не узнаем, — пожал плечами Лоуренс и выплюнул изжеванный стебелек. — Эта планетная система, — заявил он, похожа на неудачный детективный роман. Куда ни повернись, натыкаешься на улику, и все улики страшно запутаны. Слишком много загадок, Дунк. Этот город, металлическая планета, ограбленные планеты — слишком много всего в один присест. Нечего сказать, повезло — набрели на уютное местечко.
— У меня есть предчувствие, что все эти загадки между собой связаны, — сказал Гриффит.
Лоуренс что-то неодобрительно промычал.
— Это чувство истории, — пояснил Гриффит. — Чувство соответствия предметов. Рано или поздно оно развивается у всех историков.
Позади заскрипели шаги, и собеседники, вскочив на ноги, обернулись.
К ним спешил радист Дойл из лагеря, который члены экипажа десантной ракеты раскинули на планете Четыре.
— Сэр, — обратился он к Лоуренсу, — только что я говорил с Тэйлором, который сейчас находится на планете Три. Он спрашивает, не можете ли вы туда вылететь. Похоже, они нашли люк.
— Люк! — воскликнул Лоуренс. — Окно в планету! Что же там внутри?
— Он не сказал, сэр.
— Не сказал?
— Нет. Видите ли, сэр, им никак не удается взломать этот люк.
С виду люк был довольно невзрачен.
Двенадцать отверстий на поверхности планеты были сгруппированы в четыре ряда по три отверстия в каждом, словно перчатки для трехпалых рук.
И все. Невозможно было угадать, где начинается люк и где кончается.
— Здесь есть щель, — рассказывал Тэйлор, — но ее едва видно через увеличительное стекло. Даже с увеличением она не толще волоса. Люк пригнан настолько идеально, что практически составляет одно целое с поверхностью. Долгое время мы и не подозревали, что это люк. Сидели кругом и гадали, зачем тут дырки. Нашел его Скотт. Он просто катался здесь и увидел какие-то дырочки. Вообще-то можно было смотреть, пока глаза не вылезут, и никогда не обнаружить этот люк, если бы не счастливый случай.
— И нет никакой возможности открыть его? — спросил Лоуренс.
— Пока что нет. Мы пробовали приподнять дверцу, засовывая пальцы в эти отверстия. С таким же успехом можно пытаться приподнять планету. Да и вообще здесь не очень-то развернешься. Просто невозможно удержаться на ногах. Эта штука до того скользкая, что по ней еле ходишь. Вернее, не ходишь, а скользишь, как по льду. Как подумаешь, что может случиться, если ребята со скуки затеют возню и кого-нибудь толкнут.
— Я знаю, — посочувствовал Лоуренс. — Я посадил ракету со всей мыслимой осторожностью, и то мы скользили миль сорок, если не больше.
Тэйлор хмыкнул:
— Звездолет я поставил на все магнитные якоря, и все равно он качается из стороны в сторону, едва к нему прислонишься. По сравнению с этой чертовщиной, лед шершав, как терка.
— Кстати, о люке, — прервал его Лоуренс. — Вам не приходило в голову, что отверстия могут быть секретным замком?
Тэйлор кивнул:
— Конечно, мы об этом думали. Если так, то у нас нет и тени надежды. Умножьте элемент случайности на непредсказуемость чуждого разума.
— Вы проверяли?
— Да, — ответил Тэйлор. — Вставляли отвод кинокамеры в эти отверстия и делали всевозможные снимки. Ничего. Совершенно ничего. Глубина — дюймов восемь или около того. Книзу расширяются. Однако гладкие. Ни выступов, ни граней, ни замочных скважин. Мы умудрились выпилить кусок металла для анализа. Испортили три ножовки, пока пилили. В основном, это сталь, но в сплаве с чем-то таким, к чему Мюллер никак не может приклеить ярлык. А молекулярная структура просто сводит его с ума.
— Значит, люк заклинился? — спросил Лоуренс.
— Ну да. Я подвел звездолет к самому люку, мы подцепили его подъемным краном и стали тащить изо всех сил. Корабль раскачивался, как маятник, а люк не шелохнулся.
— Можно поискать другие люки, — предложил Лоуренс. — Не все же они похожи один на другой.
— Искали, — ответил Тэйлор. — Как ни смешно, искали. Все ползали на коленях. Мы разделили эту зону на секторы и по-пластунски обшарили многие квадратные мили, пяля глаза вовсю. Чуть не ослепли — а тут еще солнце отражается в металле и наши рожи на нас глазеют, будто по зеркалу ползем.
— Если вдуматься хорошенько, — сказал Лоуренс, — то едва ли люки располагаются вплотную один к другому. Скажем, через каждые сто миль… а может быть, через каждую тысячу.
— Вы правы, — согласился Тэйлор. — Возможно, и через тысячу.
— Остается только одно, — сказал Лоуренс.
— Да, знаю, — ответил Тэйлор. — Однако к этому у меня душа не лежит. Здесь ведь сложная задача. Нечто, требующее особого решения. А если мы начнем взрывать — значит, провалились на первом же уравнении.
Лоуренс беспокойно заерзал.
— Я понимаю, — отозвался он. — Если с первого хода выявится их преимущество, то на втором и на третьем ходу у нас не останется никаких шансов.
— Однако нельзя же сидеть сложа руки, — сказал Тэйлор.
— Нельзя, — поддержал Лоуренс. — По-моему, никак нельзя.
— Надеюсь, хоть это поможет, — заключил Тэйлор.
Это помогло…
Взрыв оторвал крышку люка и швырнул ее в пространство. Она упала на расстоянии около мили и как причудливое, неровно вырезанное колесо покатилась по скользкой поверхности.
Примерно пол-акра поверхности отошло вверх и в сторону и повисло, искореженное, напоминая поблескивающий под солнцем вопросительный знак.
Десантную ракету, на которой не оставили даже дежурного, удерживало на металле слабое магнитное поле. При взрыве ракета отклеилась, как плохо смоченная марка, и на протяжении добрых двенадцати миль неуклюже исполняла танец конькобежцев.
Толщина металлической оболочки не превышала четырнадцати дюймов — по сути, папиросная бумага, если принять во внимание, что диаметр планеты не уступал земному.
Вниз, внутрь, наподобие винтовой лестницы, уходил металлический пандус, верхние десять футов которого были искорежены и разрушены взрывом.
Из отверстия не доносилось ничего — ни звука, ни света, ни запаха.
Семеро начали спускаться по пандусу — на разведку. Прочие остались ждать наверху, в лихорадочном волнении и гнетущей неизвестности.
Возьмите триллион детских наборов «Конструктор».
Дайте волю миллиарду детишек.
Предоставьте им неограниченное время, но лишите инструкций.
Если кое-кто из детишек рожден не людьми, а иными разумными существами, — это еще лучше.
Потом, располагая миллионом лет, определите, что произойдет.
Миллион лет, друзья, вовсе не такой уж долгий срок. Даже за миллион лет вам это не удастся.
Внизу, разумеется, были машины. Ничего иного и быть не могло.
Однако машины походили на игрушечные — как будто собрал их ребенок, переполненный ощущением богатства и всемогущества, в день, когда ему подарили настоящий дорогой «Конструктор».
Там были валы, бобины, эксцентрики и батареи сверкающих хрустальных кубиков, которые, возможно, выполняли роль электронных устройств, хотя никто не знал этого доподлинно.
Вся эта техника занимала многие кубические мили и под лучами светильников, вмонтированных в шлемы землян, блестела и переливалась наподобие новогодней елки, словно была отполирована всего за час до их прихода. Однако когда Лоуренс перегнулся через перила пандуса и провел рукой, затянутой в перчатку, по блестящей поверхности вала, пальцы его испачкались пылью — мелкой, точно мука, пылью.
Люди все спускались всемером по спиральному пандусу, пока у них не закружилась голова, и отовсюду, насколько удавалось разглядеть в частично рассеянной мгле, вдаль уходили машины.
Машины, тихие и неподвижные — и казалось (хотя никто не мог толком обосновать это впечатление), что машины бездействуют вот уже несчетные века.
Одни и те же, снова и снова повторяющиеся детали — бессмысленный набор валов, бобин, эксцентриков и батарей из сверкающих хрустальных кубиков.
Наконец спуск закончился площадкой, которая тянулась во все стороны, насколько можно было охватить взглядом при скудном освещении; высоко вверху переплетались паутинообразные детали — они, очевидно, служили крышей, — а на металлическом полу была расставлена мебель (или то, что показалось им мебелью).
Люди стояли тесной кучкой; их светильники вызывающе пронизывали мглу, а сами они необычно притихли в темноте, безмолвии и тени иных веков, иных народов.
— Контора, — произнес, наконец, Дункан Гриффит.
— Или пункт управления, — сказал инженер-механик Тед Баклей.
— А может быть, жилье, — возразил Тэйлор.
— Не исключено, что здесь был ремонтный цех, — предположил математик Джек Скотт.
— Не приходит ли вам в голову, джентльмены, — спросил геолог Герберт Энсон, — что это может оказаться ни тем, ни другим, ни третьим? Возможно, то, что мы здесь видим, не связано ни с какими известными нам понятиями.
— Все, что остается делать, — ответил археолог Спенсер Кинг, — это по возможности лучше перевести все, что мы видим, на язык известных нам понятий. Вот я, например, предполагаю, что здесь находилась библиотека.
Лоуренс подумал словами басни: «Как-то раз семеро слепцов повстречали слона…»
Вслух он сказал:
— Давайте начнем с осмотра. Если мы не осмотрим это помещение, то никогда о нем ничего не узнаем.
Они осмотрели…
…И все равно ничего не узнали.
Взять, например, картотеку. Очень удобная вещь.
Выбираете какое-то определенное пространство, облекаете его сталью вот вам место хранения. Вставляете выдвижные ящички и кладете туда хорошенькие, чистенькие карточки, надписываете эти карточки и расставляете в алфавитном порядке. После этого, если вам нужна какая-то определенная бумажка, вы почти всегда ее находите.
Важны два фактора — пространство и нечто, в нем заключенное, — чтобы отличить от другого пространства, чтобы в любой момент можно было отыскать место, предназначенное вами для хранения информации.
Ящички и карточки, расставленные в алфавитном порядке, — это лишь усовершенствование. Они подразделяют пространство так, что вы можете мгновенно указать любой его сектор.
Таково преимущество картотеки над беспорядочным хранением всех нужных предметов в виде кучи, сваленной в углу комнаты.
Но попробуйте представить, что некто завел у себя картотеку без ящичков.
— Эге, — воскликнул Баклей, — а это штука легкая. Подсобите-ка мне кто-нибудь.
Скотт быстро выступил вперед; вдвоем они подняли с полу ящик и встряхнули его. Внутри что-то загремело.
Они снова поставили ящик на пол.
— Там внутри что-то есть, — взволнованно прошептал Баклей.
— Да, — согласился Кинг. — Это какое-то вместилище. Несомненно. И внутри что-то есть.
— Что-то гремящее, — уточнил Баклей.
— А мне кажется, — объявил Скотт, — что звук больше походил на шорох, чем на грохот.
— Не много же нам пользы от звука, — сказал Тэйлор, — если мы не можем добраться до содержимого. Если только и делать, что слушать, как вы, ребята, трясете эту штуку, выводов будет мало.
— Да ведь это легко, — пошутил Гриффит. — Она же четырехмерная. Произнесите волшебное слово, ткните рукой в любой уголок, — и вытянете то, что вам нужно.
Лоуренс покачал головой.
— Прекрати насмешки, Дунк. Тут дело серьезное. Кто-нибудь из нас представляет себе, как сделана эта штука?
— Не может того быть, чтобы ее сделали, — взвыл Баклей. — Ее просто-напросто не делали. Нельзя взять листовой металл и сделать из него куб без спаев или сварочных швов.
— Сравни с люком на поверхности, — напомнил Энсон. — Там тоже ничего не было видно, пока мы не взяли сильную лупу. Так или иначе, ящик открывается. Кто-то или что-то уже открывал его — когда положил туда то, что гремит, когда встряхиваешь.
— А он бы не клал, — добавил Скотт, — если бы не знал способа извлечь оттуда.
— А может быть, — предположил Гриффит, — он запихнул сюда то, от чего хотел избавиться.
— Мы могли бы распилить ящик, — сказал Кинг. — Дайте фонарь.
Лоуренс остановил его:
— Один раз мы уже так поступили. Мы вынуждены были взорвать люк.
— Эти ящики тянутся здесь на полмили, — заметил Баклей. — Все стоят рядком. Давайте потрясем еще какие-нибудь.
Они встряхнули еще десяток. Грохота не услышали.
Ящики были пусты.
— Все вынули, — печально проговорил Баклей.
— Пора уносить отсюда ноги, — сказал Энсон. — От этого места меня мороз по коже пробирает. Вернемся к кораблю, присядем и обсудим все как следует. Ломая себе голову здесь, внизу, мы свихнемся. Взять хоть те пульты управления.
— Может быть, это вовсе не пульты управления, — одернул его Гриффит. — Надо следить за собой, чтобы не делать якобы очевидных, а в действительности — поспешных выводов.
В спор вмешался Баклей.
— Чем бы они ни были, — сказал он, — у них есть какое-то целевое назначение. В качестве пультов они пригодились бы больше, чем в любом другом, как ни прикидывай.
— Однако на них нет никаких индикаторов, — возразил Тэйлор. — На пульте управления должны быть циферблаты, сигнальные лампочки или хоть что-нибудь такое, на что можно смотреть.
— Не обязательно такое, на что может смотреть человек, — парировал Баклей. — Иной расе мы показались бы безнадежно слепыми.
— У меня есть зловещее предчувствие, что мы ничего не достигнем, пожаловался Лоуренс.
— Мы опозорились перед люком, — подытожил Тэйлор. — И здесь мы тоже опозорились.
Кинг сказал:
— Придется разработать упорядоченный план исследования. Надо все разметить. Начинать сначала и по порядку.
Лоуренс кивнул.
— Оставим нескольких человек на поверхности, а остальные спустятся вниз и разобьют здесь лагерь. Будем работать группами и по возможности быстро определим ситуацию — общую ситуацию. Потом можно заполнять пробелы деталями.
— Начинать сначала, — пробормотал Тэйлор. — А где тут начало?
— Понятия не имею, — ответил Лоуренс. — А у всех остальных есть какие-нибудь идеи?
— Давайте выясним, что здесь такое, — предложил Кинг. — Планета или планетарная машина.
— Надо поискать еще пандусы, — сказал Тэйлор. — Здесь должны быть и другие спуски.
Заговорил Скотт:
— Попытаемся выяснить, как далеко простираются эти механизмы. Какое пространство занимают.
— И выяснить, работают ли они, — прибавил Баклей.
— Те, что мы видели, не работают, — откликнулся Лоуренс.
— Те, что мы видели, — провозгласил Баклей тоном лектора, — возможно, представляют собой всего лишь уголок гигантского комплекса механизмов. Все они могут работать и не одновременно. По всей вероятности, раз в тысячелетие или около того используется какая-то определенная часть комплекса, да и то в течение нескольких минут, если не секунд. После этого она может простоять в бездействии еще тысячу лет. Однако часть эта должна быть наготове и дожидаться своего мига в тысячелетии.
— Стоило бы попытаться, по крайней мере, высказать грамотное предположение о том, для чего служат эти механизмы. Что они делают. Что производят, — сказал Гриффит.
— Но при этом держать от них руки подальше, — предостерег Баклей. «Тут потянул, там подтолкнул — хотел знать, что получится» — чтоб этого здесь не было. Один бог ведает, к чему это может привести. Ваше дело маленькое — лапы прочь, пока не будете твердо знать, что делаете.
Это была самая настоящая планета.
Внизу, на глубине двадцати миль, исследователи нашли поверхность планеты. Под двадцатью милями хитросплетенного лабиринта сверкающих мертвых механизмов.
Там был воздух, почти столь же пригодный для дыхания, как на Земле, и они разбили лагерь на нижних горизонтах, довольные тем, что избавились от космических скафандров и живут, как нормальные люди.
Но там не было света и не было жизни. Не было даже насекомых, ни одной ползающей, пресмыкающейся твари.
А ведь некогда здесь была жизнь.
Историю этой жизни поведали развалины городов. Примитивная культура, заключил Кинг. Немногим выше, чем на Земле в двадцатом веке.
Дункан Гриффит сидел на корточках возле портативной атомной плиты, протянув руки к желанному теплу.
— Переселились на планету Четыре, — говорил он с самодовольной уверенностью. — Здесь не хватало жизненного пространства, вот они и отправились туда и встали там лагерем.
— А горные работы вели на двух других планетах, — продолжил Тэйлор не без иронии. — Добывали необходимую руду.
Лоуренс, подавленный, ссутулился.
— Что мне не дает покоя, — сказал он, — так это мысль о побудительной причине, стоящей за всеми загадками — о всепоглощающей, нерассуждающей тяге, о духе, который гонит расу с родной планеты на чужую и разрешает затратить века, чтобы превратить родную планету в сплошную машину. — Он обернулся к Скотту. — Ведь правда, нет никаких сомнений, — спросил он, это не что иное, как машина?
Скотт покачал головой:
— Не всю же ее мы видели, сам понимаешь. Для этого нужны годы, а мы не можем позволить себе швыряться годами. Однако мы почти уверены, что это единый машиномир, покрытый слоем механизмов высотой в двадцать миль.
— И к тому же бездействующих механизмов, — добавил Гриффит. Бездействующих, потому что их остановили. Жители этой планеты выключили все механизмы, изъяли все свои записи и все приборы, укатили и оставили пустую скорлупу. Точно так же, как покинули город на планете Четыре.
— Или же были отовсюду изгнаны, — уточнил Тэйлор.
— Нет, никто их не изгонял, — решительно заявил Гриффит. — Нигде во всей системе мы не нашли следов насилия. Никакого признака поспешности. Они не торопились, уложили все свое добро и не забыли ни единой мелочи. Ни одного ключа к тайне. Должны же где-то быть синьки чертежей. Нельзя построить и нельзя эксплуатировать такую махину без какого-нибудь подобия карты или плана. Где-то должны храниться записи — записи, где фиксировались результаты деятельности этого машиномира. Однако мы ведь их не нашли! Это потому, что их увезли при отъезде.
— Не везде же мы искали, — буркнул Тэйлор.
— Мы нашли помещения архивов, где, по законам логики, все это должно храниться, — возразил Гриффит, — но там не было никаких записей. Вообще ничего не было.
— А некоторые ящики, куда невозможно было заглянуть. Помните? Те, что мы нашли в первый же день на верхнем горизонте.
— Были тысячи других мест, куда можно заглянуть и где мы смотрели, отрезал Гриффит. — Однако мы не нашли орудий производства, не нашли ни единой записи и вообще ничего такого, что намекало бы на былое присутствие хоть чего-нибудь.
— Вот ящики наверху, на последнем горизонте, — заметил Тэйлор. — Ведь это место, если рассуждать логически, само собой напрашивается на поиски.
— Мы их встряхивали, — напомнил Гриффит, — все были пусты.
— Все, кроме одного, — настаивал Тэйлор.
— Я склонен верить в твою правоту, Дункан, — сказал Лоуренс. — Этот мир покинут, обобран и брошен на съедение ржавчине. По-настоящему нам следовало догадаться, как только мы обнаружили, что он беззащитен. Эти существа предусмотрели бы какие-то средства обороны — по всей вероятности, автоматические, — и если бы кто-нибудь не захотел нас впустить, мы бы никогда здесь и не очутились.
— Если бы мы оказались поблизости, когда этот мир функционировал, поддержал Гриффит, — нас бы разнесло вдребезги, прежде чем мы его увидели.
— Должно быть, это была великая раса, — задумчиво сказал Лоуренс. Одной лишь экономики такой планеты достаточно, чтобы любого бросило в дрожь. Чтобы создать такую планету, надо было много веков целиком затрачивать рабочую силу всей расы, а потом еще много веков надо было держать эту планету-машину на ходу. Это означает, что местное население тратило минимальное время на добывание пищи, на производство миллионов вещей, необходимых для жизни.
— Они упростили свой образ жизни и свои нужды, — сказал Кинг, — сведя их к самому необходимому. Одно уж это, само по себе, — знак величия.
— Притом же они были фанатики, — высказался Гриффит. — Не забывайте этого ни на миг. Работу, подобную этой, мог проделать лишь народ, одержимый всепоглощающей, слепой, однобокой целью.
— Но зачем? — спросил Лоуренс. — Зачем они выстроили эту штуковину?
Никто не ответил.
Гриффит тихонько хмыкнул.
— Даже ни одного предположения? — подзадорил он. — Ни одной осмысленной гипотезы?
Из тьмы, окутывающей крохотный кружок света от включенной плиты, медленно поднялся человек.
— У меня есть гипотеза, — признался он. — Вернее, мне кажется, я знаю, в чем дело.
— Послушаем Скотта, — громогласно объявил Лоуренс.
Математик покачал головой.
— Мне нужны доказательства. Иначе вы заподозрите, что я рехнулся.
— Доказательств не существует, — скептически заметил Лоуренс. — Нет доказательств чего бы то ни было.
— Я знаю место, где, возможно, есть доказательство — не утверждаю с уверенностью, но, может быть, и есть.
Все, кто сидел тесным кругом возле плиты, затаили дыхание.
— Помнишь тот ящик? — продолжал Скотт. — Тот самый, о котором только сейчас упомянул Тэйлор. Тот, где что-то гремело, когда мы его встряхивали. Тот, что мы не могли открыть.
— Мы по-прежнему не можем его открыть.
— Дайте мне инструменты, — предложил Скотт, — и я открою.
— Это уже было, — мрачно сказал Лоуренс. — Мы отличились бычьей силой и ловкостью, открывая ту злополучную дверь. Нельзя все время применять силу при решении нашей задачи. Здесь нужно нечто большее, чем сила. Здесь нужно понимание.
— По-моему, я знаю, что там гремело, — заявил Скотт.
Лоуренс промолчал.
— Послушай-ка, — не унимался Скотт. — Если у тебя есть какая-то ценность — какой-то предмет, который ты бережешь от воров — что ты с ним делаешь?
— Да в сейф кладу, — ответил Лоуренс не задумываясь.
По длинным, мертвым пролетам исполинской машины прокатилось пронзительное, как свист, молчание.
— Нет и не может быть более надежного места, — снова заговорил Скотт, — чем ящик, который не открывается. В этих ящиках хранилось что-то важное. Хозяева планеты забыли одну вещицу — чего-то они недоглядели.
Лоуренс медленно поднялся с места.
— Достанем инструменты, — сказал он.
…То была продолговатая карточка, весьма заурядная на вид, с асимметрично пробитыми отверстиями.
Скотт держал ее в руке, и рука его дрожала.
— Надеюсь, — горько заметил Гриффит, — ты не разочарован.
— Нисколько, — ответил Скотт. — Именно это я и предполагал.
Все дожидались продолжения.
— Не будешь ли ты любезен… — не вытерпел, наконец, Гриффит.
— Это перфокарта, — объяснил Скотт. — Ответ некоей задачи, введенной в дифференциальное счетно-решающее устройство.
— Но ведь мы не можем дешифровать ее, — сказал Тэйлор. — Никакими силами нельзя установить, что она означает.
— Ее и не надо дешифровать, — усмехнулся Скотт. — Она и без того рассказывает, что здесь такое. Эта машина — вся машина в целом представляет собой вычислительное устройство.
— Какая бредовая идея! — воскликнул Баклей. — Математическое…
Скот покачал головой.
— Не математическое. По крайней мере, не чисто математическое. Нечто более значительное. Логическое, по всей вероятности. Быть может, даже этическое.
Он оглядел присутствующих и прочел на их лицах неверие, еще не до конца развеянное.
— Да посудите же сами! — вскричал он. — Бесконечное повторение, монотонная одинаковость всей машины. Таково и есть вычислительное устройство — сотни или тысячи, или миллионы или миллиарды интегрирующих схем, сколько бы их ни было нужно, чтобы ответить на поставленный вопрос.
— Существует же какой-то фактор ограничения, — пробубнил Баклей.
— На всем протяжении своей истории, — ответил Скотт, — человечество не слишком-то обращало внимание на такие факторы. Оно продолжало делать свое дело и преодолевало всевозможные факторы ограничения. Очевидно, эта раса тоже не слишком-то обращала на них внимание.
— Есть такие факторы, — упрямо твердил Баклей, — которыми просто невозможно пренебречь.
У мозга есть свои ограничения.
Он ни за что не станет заниматься самим собой.
Он слишком легко забывает, забывает слишком многое и всегда именно то, что следовало бы помнить.
Он склонен к терзаниям — а для мозга это почти равносильно самоубийству.
Если слишком напрягать мозг, он находит убежище в безумии.
И, наконец, он умирает. Умирает как раз тогда, когда становится полноценным.
Поэтому создают механический мозг — гигант, двадцатимильным слоем покрывающий планету с Землю величиной — мозг, который займется делом и никогда ничего не забудет, и не сойдет с ума, ибо ему неведомо смятение.
Затем срываются с места и покидают такой мозг — это уже двойное безумие.
— Все наши догадки не имеют смысла, — сказал Гриффит. — Ведь мы никогда не узнаем, для чего служил этот мозг. Вы упорно исходите из предпосылки, будто хозяева этой планеты были гуманоиды, а ведь столько же шансов за то, что они отнюдь не гуманоиды.
— Предположение, что они в корне отличаются от нас, совершенно абсурдно, — возразил Лоуренс. — В городе на Четвертой могли бы жить и люди. Обитатели этой планеты столкнулись с теми же техническими проблемами, что встали бы и перед нами, если бы мы затеяли подобное начинание, и выполнили все в том стиле, какого придерживались бы и мы.
— Ты не учитываешь того, что сам же так часто подчеркиваешь, — указал Гриффит. — Ты не учитываешь фанатической тяги, которая заставила их пожертвовать решительно всем во имя великой идеи. Мы никакими силами не достигли бы столь тесного и фанатического сотрудничества. Один допустил бы грубейшую ошибку, другой перерезал бы горло третьему, четвертый потребовал бы следствия, а тогда оказалось бы, что вся свора спущена с цепи и лает на ветер.
— Они были последовательны, — продолжал Гриффит. — Ужасающе последовательны. Здесь нет жизни. Мы не нашли ни малейшего признака жизни — нет даже насекомых. А почему, как ты думаешь? Не потому ли, что жук мог бы запутаться в шестернях или еще где-нибудь и расстроить весь комплекс? Поэтому жукам пришлось исчезнуть.
Помолчав, Гриффит вскинул голову.
— Если на то пошло, хозяева планеты сами напоминают жуков. Вернее, муравьев. Колонию муравьев. Бездушное общество взаимных услуг, которое в слепом, но разумном повиновении неуклонно движется к намеченной цели. А если это так, друг мой, то твоя гипотеза, будто вычислительная машина применялась для разработки экономических и социальных теорий, просто вздор собачий.
— Это вовсе не моя гипотеза, — поправил его Лоуренс. — Это всего лишь одно из нескольких предположений. Есть и другое, не более спорное, — что они пытались разгадать тайну Вселенной: отчего она существует, что она такое и к чему идет.
— И каким образом, — прибавил Гриффит.
— Ты прав. И каким образом. А если они этим занимались, то, я уверен, не из праздного любопытства. Значит, был какой-то серьезнейший стимул, что-то вынуждало их к этому занятию.
— Продолжай, — усмехнулся Тэйлор. — Я жду с нетерпением. Доскажи свою сказку до конца. Они проникли во все тайны Вселенной и…
— Едва ли проникли, — спокойно проговорил Баклей. — Чего бы они ни добивались, вероятность того, им им удалось получить окончательный ответ, крайне мала.
— Что касается меня, — сказал Гриффит, — то я склонен думать, что они своего добились. Иначе зачем было уезжать и бросать эту гигантскую машину? Они нашли то, что искали, поэтому им стал не нужен ими же созданный инструмент познания.
— Ты прав, — подхватил Баклей. — Инструмент стал не нужен, но не потому, что сделал все возможное и этого оказалось достаточно. Его бросили, потому что он слишком мал, он не может решить задачу, которую должен был решить.
— Слишком мал! — не выдержал Скотт. — Да ведь все, что в таком случае надо было сделать — это нарастить вокруг планеты еще один ярус!
Баклей покачал головой:
— Помнишь, я говорил о факторах ограничения? Так вот, перед тобой фактор, которым не так-то просто пренебречь. Подвергни сталь давлению в пятьдесят тысяч фунтов на квадратный дюйм — и она потечет. Здесь-то, должно быть, металл воспринимает гораздо большее давление, но и у него есть предел прочности, выходить за который было небезопасно. На высоте двадцати миль над поверхностью планеты ее хозяева достигли этого предела. Уперлись в тупик.
Гриффит шумно вздохнул.
— Моральный износ, — пробормотал он.
— Аналитическая машина — это вопрос габаритов, — рассуждал Баклей вслух. — Каждая интегрирующая схема соответствует клеточке человеческого мозга. У нее ограниченная функция и ограниченные возможности. То, что делает одна клетка, контролирует две другие. Принцип «зри в три» как гарантия, что ошибок не будет.
— Можно было стереть все, что хранилось в запоминающих устройствах, и начать все сызнова, — сказал Скотт.
— Не исключено, что так и поступали, — ответил Баклей. — Много-много раз. Хотя всегда был элемент риска, что каждый раз после стирания машина потеряет какие-то… э-э… ну, рациональные, что ли, качества, или моральные. Стирание памяти для машины таких размеров — шок, подобно тому как коррективная хирургия мозга — шок для человека. Здесь произошло что-то одно из двух. Либо машина очутилась на пределе стирания — в электронных устройствах слишком заметно скапливалась остаточная память…
— Подсознательное, — перебил Гриффит. — Интересная мысль развивается ли у машины подсознание?
— Либо, — продолжал Баклей, — ее неизвестные хозяева подошли к проблеме настолько сложной, настолько многогранной, что эта машина, несмотря на фантастические размеры, не могла с нею справиться.
— И тогда они отправились на поиски еще большей планеты, — продолжил Тэйлор, сам не вполне веря в свои слова. — Другой планеты, масса которой достаточно мала, чтобы там можно было жить и работать, но диаметр достаточно велик для создания более мощной вычислительной машины.
— В этом был бы какой-то смысл, — неохотно признал Скотт. — Понимаете ли, они бы начали все заново, но с учетом ответов, полученных здесь. При усовершенствованной конструкции и новой технологии.
— А теперь, — торжественно провозгласил Кинг, — на вахту становится человечество. Интересно, что нам удастся сделать с такой диковиной? Во всяком случае, совсем не то, к чему ее предназначали строители.
— Человечеству, — ответил Баклей, — решительно ничего не придется с нею делать, по крайней мере, в течение ста лет. Головой ручаюсь. Никакой инженер не осмелится повернуть ни единое колесико в этой машине, пока не будет достоверно знать, для чего она, как и почему сделана. Тут надо вычертить миллионы схем, проверить миллионы полупроводников, сделать синьки, подготовить техников…
Лоуренс грубовато ответил:
— Это не наша забота, Кинг. Мы с тобой — сеттеры. Мы выслеживаем и вспугиваем перепелов, а дальше обойдутся без нас, и мы переходим к очередным вопросам. Как поступит человечество с нашими находками — это опять-таки очередной вопрос, но не нам с тобой его решать.
Он поднял с пола мешок с походным снаряжением и взвалил на спину.
— Все готовы к выходу? — спросил он.
Десятью милями выше Тэйлор перегнулся через перила, ограждающие пандус, и взглянул на расстилающийся под ним лабиринт машин. Из наспех уложенного рюкзака выскользнула ложка и, вертясь, полетела вниз.
Долго все прислушивались к тому, как она звенит, задевая о металл.
Даже когда ничего уже не было слышно, всем казалось, что до них еще доносится звон.
Примечания
1
Такие предметы продаются в Англии в специальных магазинах «для розыгрышей».
(обратно)2
Hot dogs — сосиски (англ.).
(обратно)3
Мажордом — дворецкий; сенешаль — дворецкий и церемониймейстер в средневековых замках.
(обратно)4
Пациенты пели старинную студенческую песню «Gaudeamus igitur».
(обратно)5
Способ действий (лат.).
(обратно)6
Один из видов психического расстройства.
(обратно)7
Невменяемы (лат.).
(обратно)
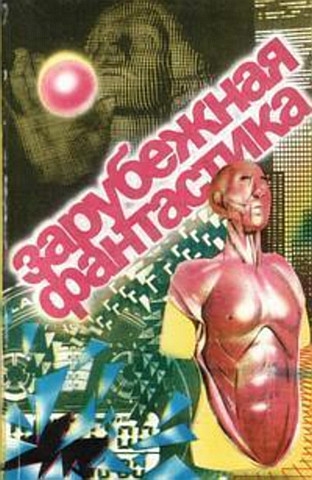


![Этот мир-мой! [Авт. сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/513744/primary-medium.jpg)

Комментарии к книге «Зарубежная фантастика. Выпуск 1», Клиффорд Саймак
Всего 0 комментариев