Илья Рушкин
"Квинт"
Синий плащ едва шевелил легкий ветерок, и запах от костров по бокам дороги неприятно щекотал ноздри. Квинт аристократически сморщился и без надобности поправил пояс рукой в перчатке. Жаркое солнце неторопливо летело вниз, и все в мире, казалось, отдыхало от жары. Дорога терялась в песке недалеко, за холмом. Квинт это знал. Придется тащиться по кочкам. Он вспомнил, как добирался в лагерь. Тогда было лучше. Тогда утреннее солнце ласкало спину, и шея была не в клочьях сгоревшей кожи... Лициний долго убеждал его взять проводника. Проводник сидел рядом. Бронзовый приветливый нумидиец. Квинт отказался, потому что нумидиец, как ему показалось, всю дорогу будет болтать. А сам Квинт был молчалив. О Стела! Дыхание твое свежее Луны! Зачем ему перчатки? Ведь жарко, хотя и закат. Он сорвал их обе и заткнул за пояс. Они немедленно принялись надоедливо давить в левый бок... Дорога, наконец, потерялась, и под ногами податливо зашелестел песок. Стало трудно идти. О Стела! Лицо твое светлее радости! Воздух быстро синел, наливался цветом, густел. В нем началось движение. Откуда-то (действительно, откуда?) появились птицы, которых Квинт не любил. Пожалуй, пора было сворачивать к морю. Там, если Лициний не обманул, его ждет лодка. И в который раз Квинт подумал о возможности побега. Бросить все, рвануться от моря и затеряться в нумидийской глуши? Еще не поздно! Еще не поздно! Тем временем показалась полоска на горизонте. Море. Лодка. Скучающий гребец. Квинт молча сел на корме. О Стела! Смех твой чище утреннего ветерка... Ритмичный плеск весел, и вот уже берег теряется вдали. - Ты - африканец? - спросил гребец. Квинт лихорадочно соображал. Следует ли благородному эвпатриду разговаривать с гребцом? И решил ответить. - Нет. А ты? И чем занимался раньше? - Испанец. А занимался...- он, задрав голову, ткнул пальцем во въевшуюся в шею, навсегда натертую красную полосу, словно его кто-то полоснул кнутом поперек шеи. Квинту были знакомы такие полосы. Он сам носил такую. Их нельзя спутать ни с чем. Такой след оставлял ремень римского солдатского шлема. Квинт безразлично кивнул в ответ. - Бросил службу? - Сбежал. Надоело. - Где воевал? - Да здесь же. - Ганнибала видел? - Видел.
Замолчали. Квинт вдруг подумал с тоской, как хорошо было бы не плыть сейчас в этой лодке, а бежать отсюда. На него вдруг обрушился прохладной вязкой волной страх. Решение созрело быстро, как это бывает очень часто. Решение почти всегда падает мгновенно. Оно импульсивно, случайно. Квинт хрипло сказал, указав через плечо гребца: "Смотри!" Гребец повернулся, и на затылок его обрушились сцепленные ладони Квинта. Что-то хрустнуло. Вероятно, запястья Квинта. Он ударил нерешительно, и гребец не рухнул, а резко повернулся к Квинту и бросился на него. Привычно Квинт захватил его голову и руки. Гребец побагровел. Мышцы вздулись... Но бороться ему было не по силам. Квинт окунул его голову в воду и держал, пока гребец не затих. Exit. О Стела! Руки твои прекрасней меча!
Квинт родился в Капуе. От раннего детства у него осталось немного воспоминаний. Почти ничего. Но это почти ничего было тепло и ласково. Темный бархатный закоулок в лабиринте памяти. Отец его был иностранец. По слухам, аристократ экзотических варварских кровей. Мать - вовсе неизвестного происхождения. Отец умер, когда Квинту было четыре года. Мать пережила его на одиннадцать лет. Таким образом, в пятнадцать лет Квинт остался один. Отец его когда-то проявил себя на войне, и город определил ему содержание. Теперь оно, естественно, перешло к Квинту, и это позволяло ему жить, не бедствуя. Кроме того, он обладал садом и маленьким, но очень милым домом. Обе смерти, озарившие его детство, были скоропостижны, и Квинту так и не суждено было узнать что-либо определенное о родителях, а следовательно, и о себе. Мать его была, да простят боги, женщиной доброго сердца, но крайне небольшого ума. О себе почти ничего сыну не рассказала, а о муже, похоже, ничего и не знала. Я имею в виду, естественно, его прежнюю жизнь до появления в Капуе. Квинт только выяснил, что встретилась она с ним уже здесь, в Италии, и, следовательно, его прошлое осталось для нее загадкой. Да впрочем, не важно все это. Совершенно неважно. Знала, не знала, сказала, не сказала. И как можно ничего не знать о родителях в пятнадцать лет, я не понимаю совершенно. Важно другое: В пятнадцать лет Квинт не имел прошлого. Оставшись один, Квинт обнаружил, что живет лучше, чем можно было предполагать. Хозяйство и так уже почти два года лежало на нем, так что в этом плане почти ничего не изменилось. Привыкать не пришлось. Жил он совершенно обособленно, с соседями, да и вообще с кем бы то ни было, совершенно не соприкасался. Его мир был надежно отделен от их общего мира. Не стенами, а расстоянием... Квинт предпочитал не выходить на улицу вообще, а если все же выходил, то ни с кем не заговаривал и не здоровался. И странная это была жизнь: жизнь одинокого, но нив ком не нуждающегося человека пятнадцати лет. Поначалу его пытались втянуть в круг общения, полагая, что в нем должно утихнуть горе потери, но в концов махнули рукой и оставили его в покое. Единственное, чего его удостаивали при встрече - это легкого недоуменного, а может быть, и презрительного пожимания плечами. Затем появилось и раздражение. Он, видите ли, был непонятен, а людей раздражает все непонятное, все, что не укладывается в выдуманные ими рамки, все, что им недоступно. Лежит ли в этом древний инстинкт сбиться в кучу, где все одинаковы, все равны в самом низменном смысле этого страшного слова? Или же тут обыкновенная зависть, в которой никто никогда сам себе не признается? Да, непонятного в Квинте было много. Просто все. Непонятен был его характер, его стиль поведения, эта невесть откуда взявшаяся сдержанная надменность, какой-то беспричинный, врожденный аристократизм в мелочах. В мелочах, заметных раньше всего. Прищур глаз, поворот головы, походка, небрежная естественность в жестах. В нем была интригующая таинственность. Вдобавок, непонятно было, откуда это все взялось у безродного мальчишки, предоставленного самому себе. И уже в этом, я думаю, можно увидеть первый признак божественной избранности Квинта. Итак, Квинт жил совершенно самостоятельно, никак не контактируя с остальным миром. Хотя противоположности, как известно всегда сходятся, и мы увидим, что это отсутствие всякого контакта было на самом деле самой тесной связью. Был ли Квинт несчастен? Нет. Не был. Чтобы быть несчастным, нужно сначала познать счастье. А вот этого-то Квинт не познал. Он жил в мире с самим собой, и этого, как ему казалось, было вполне достаточно. И было в его жизни одно страстное, неутоленное, неутолимое желание: узнать что-нибудь об отце. Почему это было так важно для него? Пожалуй, кое-какие соображения на этот счет привести можно. Во-первых, это ведь, в общем-то, естественное желание. Во-вторых, происхождение отца было тайной, о которой он знал с самого раннего детства, а такая тайна может глодать вечно. Но все это не причины, а запоздалые объяснения. Причины же кроются в запутаннейшей части мира - человеческом сознании. Так полюбуйтесь же на него! Квинт не был жесток. Скорее, он был безразличен. А может быть, это - одно и то же? Во всех его движениях была кошачья сила, которой он, впрочем, никогда не использовал. Его взгляд одаривал безжалостностью; и хотя из поступков его это никак не следовало (из них вообще ничего не следовало), казалось, что он способен на любое убийство. Нет. Пожалуй, безжалостность - не то слово. Это была безэмоциональность. Высшее равнодушие.
Да, он был необычен, он был непривычен, и никто из тех, кто его видел, не мог подозревать, кто перед ним. Да Квинт и сам не знал этого. И вместе с тем, он не был лишен чувств. У него были свои мнения относительно всего, что он видел. Он был задумчив. Он не был зол на людей. И кто поручится, что зависть и горечь не затопляла последние островки в его сердце, когда он смотрел на беззаботные игры детей, на дружелюбные разговоры их родителей. Он так не мог. Заговорить с соседом было выше его сил. Этот несгибаемый с виду юноша был сплетен из сотен страхов, беспокойств. И проходя мимо домов, он внутренне сжимался, боясь поймать насмешливый взгляд. Впрочем, надо сказать, что смешным он не выглядел.
Был он красив неоцененной никем мрачной, замкнутой красотой, был он прекрасно сложен, среднего роста. В каждом точном движении его сквозила уверенность (какой контраст с тем, что творилось у него в душе!) и, как я уже, кажется, отметил, властность. Он был таков, что о нем сочиняли истории. Он был загадочен в своей замкнутой простоте. Его непонятно как сформировавшиеся манеры интриговали. Его не любили. Но им восхищались. Так восхищаются, с безопасного места, красотой зверя. Восхищаются, не допуская даже мысли, что этот зверь хотя бы равен тебе. С пятнадцати лет и всю жизнь, за редчайшими исключениями, Квинт проходил, не расставаясь с коротким мечом. Меч ему достался от отца. Собственно, ничего больше и не досталось. А на медной рукояти было грубо выцарапано "от Велента на память".
Так уж устроен человек, что всегда должен иметь впереди цель. И достигнув ее, если она достижима, человек немедленно ставит новую. В этом смысл бытия: в бессмысленном, в конечном счете, движении вперед. Была ли такая цель у Квинта? Такая страсть, такая тайна, такой идефикс? Разумеется, была. Не могла не быть. Ибо без нее невозможна жизнь, а Квинт жил: он хотел выяснить, кем был его отец. Откуда он появился? Чем занимался? Каких версий не создавало его воспаленное, томящееся под непробиваемой оболочкой воображение. Ему не с кем было делиться, поэтому все его мысли перекипали, плавились в собственном соку, тяжелели, покрываясь темным налетом. Почему меч? И что еще за загадочный Велент? Кто он? Что значит эта надпись? О, хоть бы он появился. Несомненно, несомненно, он прольет свет на все эти тайны. Несомненно, он знает все, этот таинственный Велент, оставивший уродливую надпись на медной рукояти. Квинт ждал Велента как Мессии. Тайн было много, поговорить не с кем. И каждая тайна давила на Квинта, а все вместе они объединялись, танцуя перед его закрытыми глазами смертный танец, причудливо сливаясь друг с другом, извиваясь, сплетаясь в одно целое, доводя его до безумия и даже переводя за эту призрачную грань. Многое, многое может выдержать человек. Гораздо больше, чем может представить.
Итак, кого же мы видим перед собой? Статный юноша (замечу сразу, если еще не замечал, что Квинт был красив), предпочитающий темное, с неизменным мечом, с твердой походкой и уверенными жестами, с проступающими в складках ткани тренированными мышцами. Слегка надменный взгляд. Отрешенность в нем. Царственные широкие ладони. Покрытая легким загаром кожа, немного обветренная. Словом, Квинт производил впечатление. В том числе и на женщин. Но он-то к ним почти не выказывал интереса! Естественно было предположить, что и в душе Квинта царили спокойная уверенность в себе и гармония. Но если бы мы сделали это, то жестоко ошиблись бы. Какая там, к черту, гармония! Душа Квинта - это неразрешенный клубок страха, неуверенности, тончайшего дурмана и легкого, подрагивающего волнения. Багровые, туманные змеи танцевали в его душе свой чарующий танец, сплетаясь и спаиваясь. Оранжевый, будоражащий страх, заставляющий бояться ночи, перетекал в сиреневый тревожный туман, опадал ярко-синей росой отчаяния и вновь взметался, подхваченный мутно-желтым вихрем ежесекундной настороженности. Квинт идет по улице. Сзади раздался смех. Неужели над ним? Неужели над ним? Сердце мягко вздрагивает и теплеет. И Квинт не успевает посмотреть на женщину в окне внимательнее. И вот мысль: в ее взгляде почудилась насмешка. Была ли она? Группа детей. Почему они смотрят в его сторону? Ах, да! Здесь толстый веселый щенок. Но только ли? Только ли? Вот загадка! Еще шаг, и за спиной раздается шум. Обернуться! Но не выйдет ли это глупо? Ему кажется, что если та девушка впереди рассмеется, то он умрет. Но он не умирал. Да и, по правде говоря, никто над ним не посмеивался. Он вызывал уважение, а у некоторых и восхищение. Годы свои он считал аккуратно, и всегда точно знал, сколько ему лет. И с каждым годом увеличивалось озерцо горького недоумения. Вот еще один прошел. И все по-прежнему. И отец, связанные с ним силы, все еще не дают о себе знать. Так чего же именно ждал Квинт? Этого, наверное, не знает никто. А теперь скажите, господа: верил ли Квинт в каких-нибудь богов? Могла ли такая вот душа оставаться открытой сверху? Было ли в ней место для высшего?
Что есть религия? Может ли она быть личной, или же она - всегда общественна? Идея существования богов проста, в сущности. К ней пришли все. Ведь боги - не в мире. Боги - в душах. Человека без религии не бывает. Отсутствие всякой религии - тоже религия. Вера может быть глубоко личной, нераскрываемой, а может быть и демонстративной, и иногда это вызывает почтение, а иногда - раздражение у толпы. Нет пророка!.. О, этот зверь, тигр, светло горящий, человеческая толпа. Все законы истории здесь - в психологии толпы. Она отвратительна всем, даже тем, кто ее составляет, но она есть. И она - то главное ядро, вокруг которого ткется паутина, гордо называемая цивилизацией. Как только человек попадает в утробу этого зверя, он немедленно становится частицей его, и с этого мгновения у человека уже нет своей воли и своих стремлений. Всякая самостоятельность невозможна здесь. Здесь все - гротеск. Все пороки, и только они, возводятся в безумную степень. Толпа не знает благодарности; толпа не знает чести; толпа не знает совести; толпа не знает смущения. Это людское множество, соединенное инстинктом, всегда готово к расправе. Но это - и все, на что оно способно. Только разрушать. Ибо сотворить может только личность. У квинта были свои боги. Никто кроме него их не знал. А сам Квинт не знал их имен. Не знал, сколько их, где они и чем отличаются друг от друга. И откуда они появились у него, тоже не знал. Все это не нужно, уверяю вас! Боги Квинта - это неопределенная сила, способная вмешиваться в мир. И никому, ни одной живой душе Квинт никогда бы не признался, что эти боги существуют. Каждый должен сам дойти до этого понимания. Ему нельзя научить. Ведь никакое внешнее поклонение здесь не сыграет ни малейшей роли. Боги Квинта были смутны. Но разве от этого страдало их величие? Одна обращенная к ним тихая просьба была весомее любых храмов.
Боги Гомера! Вы просты и величественны. И ваш мир тоже прост. Прост и величественен. Но в этой простоте тончайше звенит ослепительный трагизм. Нет. Боги Квинта не были таковы. Прежде всего, в них не было простоты. Они, как я уже сказал, были смутны, таинственны. Что же касается величия, то здесь расхождение в иную сторону. Богов Квинта и Гомера просто нельзя сравнивать! А мир Квинта был так запутан, что иногда он сам предавался отчаянию. В этом мире он совершенно не знал своего предназначения (в восемнадцать-то лет!), не знал никаких законов. Этот мир был безумен. Как безумен был и сам Квинт. Ибо безумен тот, кто мыслит не так, как ты. Таков древний инстинкт. Видимо, он заключается в желании сделать всех людей такими, каков ты сам. Ибо нет, не было и не будет никогда человека, который бы мог жить, искренне считая себя сумасшедшим, злым, подлым... Люди вообще, в массе своей, очень легко раздают определения, калечащие жизни. Тот - сумасшедший, а тот - нет. Безобидная странность, если только она раздражает ту волю толпы, которую принято именовать "общественным мнением", решает судьбу человека, и вот он уже становится изгоем. Кончено. "Общественное мнение" превратилось в "общественное порицание", а уж безжалостнее этого ничего и представить нельзя!
Велент появился, когда Квинту исполнилось семнадцать. Обычно, когда кто-то нужен так сильно, как Квинту нужен был Велент, судьба уводит его как можно дальше. Нет, она, конечно, не зла. Она, скорее, с чувством юмора за наш, человеческий счет. Но для Квинта было сделано исключение, и в этом я вижу еще один признак его избранности. Велент появился до крайности просто. В дверь постучали. Квинт открыл. За порогом стоял коренастый человек с выгоревшими светлыми волосами. Был он в пропыленном плаще неопределенного темного цвета, с римским мечом на поясе; обветренное лицо, несимпатичное. Он неловко кашлянул и сказал то, чего глупее сказать было нельзя: "Привет!" И добавил: " Я Велент! Может, слышал? От отца?" Квинта хватило лишь на полуутвердительный-полупригласительный кивок куда-то внутрь дома. О Боги! Милости! И Велент вошел. И Велент как-то цепко осмотрелся. И Велент, вся неловкость которого сразу испарилась, скинул плащ. И Велент сел. Это было прекрасно. Это окрыляло. Квинт радостно служил гостю. Велент принимал все как должное.
Он был самнит, черт знает каким ветром занесенный в Галлию и проведший там двадцать лет. Он был солдат по профессии да и по натуре. Ничем другим он в жизни не занимался. О себе рассказывал не то чтобы мало, а все как-то не по существу. В жизни он уважал только искусство войны, а потому с большим уважением относился к Риму и всему римскому. Квинт подозревал, что именно из-за этих взглядов ему и пришлось в молодости покинуть родной Самний. В Галлии он то нанимался на службу, то разбойничал на дорогах, то есть, менял статус, оставляя сущность своего ремесла неизменной. Был он широкоплеч, склонен к пьянству и не расставался с мечом, которым владел великолепно. Вернувшись, наконец, в Италию (он был бродяга и легко перебирался с места на место), Велент искал место, где можно остановиться, и выбрал дом Квинта. То есть, он-то, конечно, имел в виду его отца, о смерти которого узнал только по приезде в Капую. С замиранием сердца Квинт протянул ему загадочный меч с выцарапанной надписью. Велент некоторое время рассматривал его, наконец, узнал и рассмеялся. Квинт, ничего не понимая, тоже улыбнулся. Велент объяснил. С отцом его он встретился очень давно в Галлии, в сравнительно культурных местах. Познакомились они за вином. Потом пели. Потом им велели убираться. Началась драка. Словом, типичная, в каком-то смысле, история. Квинт слушал ошарашенно. А Велент вспоминал с видимым удовольствием, смакуя детали: Через месяц они расстались. Отец Квинта собирался осесть в Италии (что ему и удалось вполне), Велент оставался в Галлии. Чем занималась эта парочка в течение месяца, - неизвестно, строго говоря, но можно предполагать, что в тех местах на дорогах стало неспокойнее еще на двух человек. На прощание Велент подарил другу этот самый меч, узнал, что тот собирается обосноваться в Капуе, и получил приглашение появляться когда угодно. О происхождении сотоварища по грабежам Велент не знал ничего. Ему не пришло в голову поинтересоваться. Краткий рассказ? Да уж. И тем не менее, он разрушал все надежды. Велент, долгожданный, многовыстраданный Велент оказался грубым и невежественным и ровным счетом ничего не прояснил. Но все равно он был прекрасен. Прекрасен уже тем, что он был тут. Велент остался жить у Квинта. Ослепленный Квинт был счастлив дрожащим полупризрачным счастьем. "С мечом ходишь? - одобрительно сказал самнит, хорошо владеешь?" "Сказать, что нет, - и уйдет", - с тоской подумал Квинт и кивнул головой утвердительно. "Это хорошо. Но проверим. Завтра".
Велент был далеко не идеальным соседом. А иногда он уходил куда-то дня на два-три бродяжничать и возвращался с деньгами. Откуда они - Квинт боялся спрашивать. Вечерами Велент пропадал где-то в кабачках, которые он изучил все через неделю после того как появился в городе. К тому же он был груб! И как только вполне освоился и отбросил всякие церемонии, а произошло это скоро - он был не из стеснительных, - Квинт почувствовал эту грубость на себе в полном размере. О Боги, Боги! Как он умел унизить насмешкой, как грубо издевался над его неумелостью, когда по утрам учил фехтовать. Он бил его плашмя мечом по плечам. Непристойные солдатские остроты летели Квинту в глаза, а он все сносил молча, преданно, потому что, несмотря на грубость, все еще любил Велента как полубога. До того, как Велент бесцеремонно вошел в его жизнь, Квинт, конечно, умел немного обращаться с мечом, но даже не подозревал, что существует на свете такое отточенное до бритвенной остроты искусство, которое демонстрировал ему ужасный обожаемый учитель. Велент прожил с ним три года, и три этих года Квинт впоследствии не любил вспоминать. Ему самому казалась отвратительной та рабская покорность, с которой он принимал насмешки и удары. Его били, а он преданно смотрел в глаза. И если воспоминание об этом все же всплывало, оно горячим кошачьим когтем царапало, оставляя по себе ноющую изнурительную боль. Мечу он Квинта научил, и Квинт, правда, не превзошел, но почти сравнялся с наставником. Однако, своим поведением Велент сумел-таки охладить слепую привязанность Квинта (у него же просто не было другого объекта для привязанности!). И к концу этих трех лет издевательства старого бродяги-разбойника все чаще натыкались на скрытое раздражение. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не случайность. В один прекрасный вечер, когда Квинт впервые четко подумал, что Велент стал ему окончательно неприятен, Велент, как обычно, пошел шляться по городу, в случайной пьяной драке получил широкое отточенное лезвие в правую лопатку и умер на месте.
Когда Квинт узнал об этой смерти (ему сообщил, исполняя нелегкий долг, сосед из дома напротив), он просто окаменел лицом и, ни слова не проронив, просто закрыл перед вестником дверь. Тот недоуменно выругался и забыл. А Квинт почувствовал натянувшуюся, готовую лопнуть напряженную пустоту в душе и в горле. Он дошел до постели, медленно лег и пролежал так, не двигаясь, весь день. Так впервые в жизни он почувствовал одиночество, которому предстояло стать его спутником почти до самого конца. До Велента было, в сущности, такое же одиночество, но тогда оно было почему-то естественным и не трогало. Не ищите логики в человеческом сознании, в глубинных человеческих поступках. Не ищите хотя бы потому, что ее там нет. Делать в Капуе двадцатилетнему Квинту было уже нечего, да и оставаться здесь, в этом доме, ему было уже не под силу. Заниматься же продажей и всем тем, что называется улаживанием дел, у него не было ни умения, ни желания. Поэтому он просто бросил все как есть и отправился в Рим, нелюбимый пока неосознанно, из-за ассоциаций с Велентом. О, этот город, самый живой город в мире! Благословенны проклятия на тебя и прокляты благословения на тебя! Город, деспотичный в своей справедливости, город, жестокий в своем великодушии, город, высокомерный в своей заботе. Он дышал свежей, юной силой, заставлявшей старые, угасающие народы отступать, силой, истинный пределов которой никто не знал, даже сам Рим. Здравствуй, Италия, мать урожаев! Вот твой сын! Твое средоточие, плоть от плоти, кровь от крови, кость от кости. Все лучшее в Италии и все худшее в Италии - все собралось здесь, увеличившись стократно, все сконцентрировалось здесь, спаялось в единую ослепительную звезду. Здесь вершина порока и добродетели, все противоположности собраны здесь. Римлянин! Ты научись народами править державно... Страшная строка. Но верная. Римляне еще только учились, они еще только пробовали силы. Они с простодушной жадностью бросались на все, что блестит. И они уже начинали диктовать свою волю эллинам, в сравнении с которыми были детьми... Грубый Лаций. Рим еще только рос, еще только перешагивал за пределы Италии непобедимыми своими легионами, а в римском Сенате египетские цари решали династические споры, надменные селевкиды излагали территориальные тяжбы, а ахейские стратеги оправдывали свои войны. Suum quique. Рим проигрывал битвы, но не проигрывал войн. Этот невероятный народ не умел отступать. Он только продвигался вперед, вбирая в себя все без разбора. Он был не лишен благородства и умел награждать союзников. Лучше испробовать римскую дружбу, чем римскую силу. Многие могли бы это подтвердить. И, наконец, уже мир смотрел на Рим без ненависти, а лишь с удивлением. Но вершина была еще впереди. Конец начала (он же - начало конца, как известно) еще не наступил. И будут, будут еще времена, когда воинственная Галлия станет покорна двум когортам, когда Азия склонится перед прутьями и топорами. Когда слова "римский гражданин" будут значить больше, чем многие титулы. И цари будут бороться друг с другом за тогу и чашу, и Сулла будет прекращать споры восточных деспотов, сказав: "народ и Сенат Рима думают так!", а претекста надолго станет для варваров одеждой бога. После каждого поражения Рим становился лишь сильнее. На каждый удар он отвечал ударом еще более сильным. И казалось, так будет всегда. Не раз Рим стоял на краю гибели. И кровь лилась. Но сквозь ливень смерти Рим вновь вздымался, как во сне. Люди гибли. Рим оставался. Захват Рима галлами послужил лишь прелюдией к победам Камилла, за Кавдинским ущельем последовал поход Курсора, а отчаянный союз трех сильнейших италийских народов не выстоял перед римскими легионерами и именем Долабеллы. И даже Пирр, пропитавший пренестинскую землю не только эпирской кровью, вынужден был все же отступить. С ним сражались пять консулов, и он уже диктовал условия мира, но Рим выстоял. Рим. Он был страшен и восхитителен. У него был волчий оскал. Он не умел останавливаться. Он уже, пока незаметно, пьянел от чужой крови и чужого золота; апогей наступит позже, когда Марий сделает римскую армию армией, а Лукулл пройдет по Азии огнем и мечом, когда Сулла разгромит Митридата и Метелл получит триумф за африканские победы. И даже, может быть, еще позже. Во время тяжеловесных походов Помпея и молниеносных войн Цезаря. Рим не знал жалости. Только расчет. Но он знал уважение. Этого у него нельзя отнять.
В этот-то город отправился Квинт солнечным летом двадцатого своего года, а не менее солнечной весной двадцать первого уже был солдатом в римском легионе (против всех правил, прошу заметить!), и отличался от остальных лишь необычным мечом, который наотрез отказался заменить, справедливо полагая, что лучший меч - меч победителя.
Тринадцать лет своей жизни Квинт отдал войне. И, поверьте, это была нелегкая жертва. Он раздваивался. Он любил битву, любил это пьяное ощущение сорванной маски, когда сразу видно, кто сколько стоит, когда не надо больше сдерживаться, когда нет мыслей, а есть только желание крови, когда смерть проносится рядом, опалив брови ласковым дыханием. И он ненавидел битву, ненавидел потому, что, вытащив меч из ножен, он вспоминал Велента, на которого, к своему ужасу, становился все более похож, (и даже в мелочах, в привычках!), и связанное с ним время. И сам меч свой он любил как единственного в мире верного друга и ненавидел из-за того, что он нес на себе память о ненавистном учителе-самните. О, этот Велент! Едкий, отвратительный, жестокий, ничего так и не понявший ни о Квинте, ни о его отце (да-да, теперь он в этом был уверен!). Он же просто не смог постичь, с кем его столкнула судьба! Грубый, часто пьяный, вечно наглый... Словом, Велент, которому он, Квинт обязан всем, что умеет, всем, что его кормит. Самые острые противоречия и парадоксы перестают беспокоить, стоит к ним только привыкнуть. Воином Квинт был, конечно, прекрасным. Однако, его не любили. Он ни с кем не сближался, ни с кем не говорил без надобности и оказывал немного почтения начальству, за исключением тех немногих, кто вызывал у него самое глубокое уважение. Им восхищались, стараясь не попадаться ему на глаза. Он представлялся удивительно совершенным орудием смерти, о его подвигах в бою складывались рассказы, но все это совершенно не мешало презирать его. Он всегда оказывался вне общей массы, вне общих законов. Прекращались негромкие разговоры, когда мимо костра проскальзывала сильная фигура Квинта, и еще долго он чувствовал спиной странный взгляд. Он стал своеобразной легендой. Но, хватит об этом. Не так уже важно, что испытывали те, кто встречался с Квинтом. Если обдумать его карьеру, она представится невероятной цепью совпадений. Однако, всякая невероятность исчезнет, стоит только узнать, кем был Квинт. Сам Квинт узнал это позже, когда уже ушел из армии. Впрочем, это был не уход: по своему обыкновению никому ничего не сказав, он просто исчез. В дальнейшем он, вероятно, числился дезертиром, но его это нисколько не волновало. Но это все позже, позже. А пока... Начать с того, что именно на время его службы пришлась вся война с Ганнибалом. И в этой войне Квинт принял участие почти во всяком значащем событии. Он прикрывал Сципионов при Тицине и сражался у Требии. Он выходил из страшной ловушки у Тразименского озера. Он участвовал в утомительных переходах Кунктатора. Он выжил у Канн. Он вместе с Марцеллом отбрасывал Пунийца от Нолы и осаждал родную Капую. Он плыл в Африку и стоял на Меркуриевом мысу. Он брал Тунет, двигаясь вслед за конницей Масиниссы, он рубил карфагенских наемников у Замы. И слезы душили его, когда великие легионы ложились на землю, оставляя по себе незабываемый сладкий запах крови, слезы поражения. Канны, Канны. Тысячи мечей, тысячи жизней, принесенных в жертву. И страшно становится, страшно, стоит только подумать, какая ничтожная случайность оторвала тебя от них, заставив жить дальше. О боги, боги! Если это вам необходимо, а иначе и не может быть, ибо это происходит, зачем показывать это? Скройте, скройте! Зачем обнажать истину! Взгляните: эти глаза никогда больше не раскроются, а эти руки никогда больше никого не обнимут. Они похолодели навеки под жарким италийским солнцем.
Квинт был всегда в центре вихря войны, и это вполне естественно, ибо он и был причиной этого вихря. Война не доставляла ему особенного удовольствия. Но она была единственным, в чем он мог рассчитывать на свои силы. Среди товарищей по оружию Квинта, если уж выражаться стилем высоким, о нем сложилось странное мнение. Он был груб и высокомерен (Велент, Велент!). Но его уважали! Как можно не уважать того, кто только под Каннами убил более семидесяти человек, и получил лишь после этого тяжелейший удар копьем в грудь, но выжил, назло всем правилам медицины? Человека такой храбрости, что в ней уже не угадывалось ничего человеческого? Таким был Квинт. Квинт Безумный. Квинт Ждущий. Квинт Слепой. Его сумасшедшая вера в свою исключительность стальной стеной отделяла от людей. Он был, и это - глубочайшее его убеждение, выше их. Он знал то, чего они не узнают никогда. А если бы и узнали, - погибли бы. У них нет чуда в будущем. С ними ничего не произойдет. Они доживут до бесславной старости и сгинут, передав нить своего бессмысленного существования дальше. Их жаль. Да. Жаль. Никакой неприязни, поверьте! Только сдержанная жалость. У него же все иначе. Вот-вот случится непознанное Что-то. Может быть, его отец был царем, и царем станет Квинт. А может быть, отец был божественен, и Квинт получит знак свыше (честно говоря, все фантазии Квинта всегда ограничивались этими двумя случаями; впрочем, неважно это!), и тогда он, наконец, вступит в ту единственно реальную жизнь, ожидание которой так затянулось. Ласковые прикосновения надежды залечивали зияющие раны квинтова сознания, да простят мне это сравнение, и дарили успокоение. Так как же все это уживалось в нем с той неуверенностью в себе, с тем страхом, который заполнял его целиком? Как-то уживалось...
По окончании же войны Квинт, несколько поправивший свое материальное положение, оставил службу вышеописанным способом и решил поселиться где-нибудь в большом городе, где никто не будет о нем сплетничать и вообще интересоваться им. Он никогда не чувствовал себя обязанным кому-то, так что бросил свой легион без малейшего воспоминания о присяге. Он был уже не так молод. Ему было тридцать три года. Но в душе он оставался почти тот же, что и в двадцать. Та же болезненная идея об отце, то же ожидание связанных с истиной о нем чудесных изменений в его жизни, та же отчужденность, то же одиночество. Ему казалось, сто главное в его жизни еще не пришло, что все это - только начало. Он был безумен. Точнее, он был не такой, как большинство. Впрочем, это одно и то же. Война, конечно, наложила на него свой отпечаток. Он стал жестким, чуть более угрюмым. У него появилось обыкновение, попав в незнакомое место, тотчас цепко осматриваться, по привычке определяя, откуда может грозить опасность (Велент, Велент!). Вот, собственно, и все. Сущность же квинта осталась почти без изменений. Хотя нет! Одно, но очень важное изменение все-таки произошло. Квинт обнаружил для себя, что может в разгаре боя забыть о Веленте, и тогда он пьянел, он ощущал низменное острое наслаждение от погружаемого в тело врага клинка. Сначала с испугом, а потом и спокойно он осознавал, что из него вырывается в такие моменты другой Квинт. Квинт Воин. Квинт Безжалостный. После некоторых, вполне понятных колебаний он поселился в Александрии, купив небольшой дом. Здесь он стал жить, ни о чем не думая. Денег было много, и кончиться они должны бил еще не скоро. Ну, а когда они все-таки закончатся, тогда что? Об этом, надо признаться, Квинт просто никогда не думал. Он чего-то ждал. И дождался, наконец. Но совсем не того, что мог предположить.
А теперь, после непростительно краткого описания почти всей, хронологически, жизни Квинта, я перейду к тому, что одно только и делает ее достойной упоминания. Незначительная, казалось бы, деталь: в Александрии соседом Квинта оказался римлянин. Несколько необычно, но и ничего сверхъестественного. А тем не менее, все началось с него, и ни с кого больше. Когда они сблизились (разумеется, Квинт не делал для этого никаких шагов), в нем стали заметны некоторые странности. Звали его Лицинием. Именно так он сам представился. Вот и первая странность. Почему только прономен? Был он небольшого роста, довольно упитанный, лет пятидесяти, румяный и очень жизнерадостный. Менее всего хотелось думать о беде, глядя на него. И все-таки, где-то, может на дне глаз, а может и нет, таилось что-то иное, и начинало, ах, начинало казаться, что добродушие его обманчиво, а глаза неискренни. Он был купцом, и занимался крупной государственной торговлей. Но главное, Квинту все время казалось, что необычный сосед хочет поговорить с ним о чем-то очень серьезном, но никак не решается. И вот загадка: ни разу Квинту не пришло в голову, что это и есть тот самый поворот в его жизни, о котором он столько мечтал. Он, который всю свою жизнь ждал чуда, совершенно не заметил его приближения! Однако, это не помешало течению событий. И то, что должно было произойти, - произошло, наконец. Лициний, словно преодолевая странный порог, пригласил Квинта к себе. И с этого момента, со встречи с Лицинием, прежний Квинт перестал существовать. То был Квинт До Встречи. Теперь же он стал Квинтом После Встречи.
Квинт сидел напротив Лициния, держа в правой руке предложенную чашу с вином. Чувствовал он себя неуютно и скованно. Разговор не получался. Вторую такую же чашу держал Лициний. Вино было превосходное, и Квинт пригубливал его с удовольствием. Лициний же не пил. Дом был богатый, но мрачноватый. - Ты из Капуи? - Да. А вы - кто? И вот тут Квинт увидел в глазах собеседника последний взмах сомнения, который потом пропал, Лициний явно на что-то решился, и ответил: - Я - бог. Квинт слабо улыбнулся. - А знаешь, кто ты сам? Этот вопрос поставил его в тупик, но издевки в нем, кажется, не было. И вдруг Квинту стало спокойно и тепло, так, словно он задремал на солнце на берегу прохладного озера. - Знаешь? - донесся до него гипнотизирующий голос. - Ты - тоже бог. В глазах Лициния светилось сейчас добродушие и простая радость встречи. И еще какое-то удовольствие. - Да, да. Бог. В самом деле. Квинт понял, что надо сбросить невесть откуда взявшееся кошачье благодушие. До самой последней частички своей темной, страшной для самого себя души он понял, что сейчас речь идет о самом важном, что только было в его жизни.
Не знаю, к добру ли, к худу ли, а только боятся люди своих душ. Боятся, потому что там, в самой интимной глубине себя - все то, что искренне человек ненавидит. Там - греховные желания, там - злорадность и страсть губить ближнего своего, там - затаенное чувство своего превосходства над другими. Там - тихая ненависть к окружающим. И страшно, страшно заглядывать туда, потому что начинает казаться, что ты - недостоин жить. Так страшно, что люди туда почти никогда не заглядывают, а заглянув раз, уже не знают покоя. Убедись с отвращением, что все те пороки, которые ты больше всего ненавидишь в других, присущи тебе самому там, на самом дне своей души. А ненависть остается, и разрастается, и мешает жить, лишает покоя и тишины. Но ненавидеть самого себя - выше сил человеческих. Не верьте, что кто-то может жить с такой ненавистью! И вот мучит сознание, что себя ты не ненавидишь за то, за что ненавидишь других. Презрение, ненависть, страх, мучение двойственности, неразрешимых противоречий, неприязни к своему "я", отвращения к своей душе, в которую осмелился, наконец, посмотреть, - все то, что грызет, точит, рвет на части гнилыми осколками зубов, - все это отчеканивается в одно кошмарное пурпурное кольцо, которое висит и давит, давит, давит, и воздуха уже перестает хватать, и надо всем царит это кольцо, вцепляются в горло горячие руки, и нечем дышать, да и если бы было чем, - сил нет, а неведомый голос (свой собственный) заставляет смотреть и смотреть в эту трижды проклятую, но родную, роднее не бывает, душу, этот клубок терний с тысячами концов и начал, а впрочем, может быть, начал и концов, всматриваться окровавленными глазами... А потом - самое страшное - все кончается.
Лициний наблюдал за ним с видимым удовольствием и повторил: - Бог. Ты управляешь жизнью в мире. Да. И не ты один. Хотя нас и не много. Десять или около того, кажется. Квинт сглотнул. - Нечего, нечего! Не веришь, да? Ладно. А ну-ка, вспомни, как Велент пропал. Вот это уже был удар. Откуда этот александрийский негоциант знает о его жизни? Но вспомнить пришлось. Да. Велент погиб именно тогда, когда Квинт впервые пришел к выводу, что тот стал несносен. Желал ли он тогда гибели Веленту? Может быть, и желал. Следовательно, если верить сидящему напротив, он, Квинт, убил Велента свои желанием. Он почему-то в мыслях своих уже не сомневался в Лициниевых словах. Оставалось проверить. - Так я его убил? - Нет. Ты его не убил. Ты, ну, скажем, распорядился его смертью (Квинт вздрогнул). Беда твоя в том, что ты пытаешься примерять к себе человеческие мерки и человеческую мораль. А ведь ты не человек. Ты - иное существо. Так что, ничего хорошего из этого не выйдет. Убийство ужасно тем, что человек прекращает жизнь, не имея на то морального права. Но ты-то это право имеешь! Жизни людей именно в твоем распоряжении. Квинт механически поставил пустую чашу, а Лициний продолжал: - Ну, сам посуди. Если человек человека убил - он преступник, ну, а если человек просто умер, никто же богов преступниками не считает! И правильно. Несомненно, последняя фраза была обдуманной. То, что говорил Лициний, никогда раньше не приходило Квинту в голову. Это было необычно, ново и страшно. И еще было какое-то сумасшедшее летучее чувство открытия долгожданной истины. "Вот оно! Вот оно!" гремело у него в голове. Произошло, наконец. Квинт - Бог. О, как все просто теперь! Странно было только одно: Квинту и не подумал усомниться! Он верил каждому невероятному слову собеседника. - Забавно, - продолжал тот, - мир управляется теми, кто, в
большинстве, и понятия не имеет, что чем-то управляет. Среди этих десяти есть и цари и нищие. Именно поэтому, я думаю, в мире так много глупостей и путаницы. Честно говоря, мне удивительно, что их еще не гораздо больше. Забавно. - Забавно. - Да уж. А тебя я давно чувствовал. Каждый раз, когда рождается бог, весь мир это чувствует. Мир - неосознанно, и все другие боги - неосознанно, ну, а я - осознанно. Теперь и ты - осознанно. Я даже знал, где ты. Кстати, ну ты и дел натворил. - Я? - А кто же? Думаешь, Велентом все и ограничилось? Напрасно. Ганнибала, если угодно, привел в Италию именно ты. Да и вообще, вся эта война - почти целиком твоих рук дело. Я очень редко вмешивался. Эту новость Квинт, как ни странно, воспринял спокойно. - Что же получается. Я участвовал в войне, которую сам создал? Забавно. - Забавно. Хотя, такое уже не раз бывало. А бывало и еще забавней: некоторые погибали в собственных, так сказать, катастрофах. Знаешь, в мире все так неторопливо, а убить - дело минутное, особенно в свалке. Бывает, и не уследишь. Особенно, если не знаешь, что ты - бог. А умираешь, возможно, не хуже простых смертных ("умираешь?" - недоуменно подумал Квинт). Кстати, о смертях! Не люблю я их устраивать. Что-то грандиозное - это да. А отдельную смерть... - он махнул рукой, - уж лучше старым добрым ножом. Квинт сейчас смотрел на его руки. На его розовые руки с мелкими ногтями. И думал о том, что эти руки, наверное, не раз сжимали хрипящее мягкое горло или погружали любовно отточенное лезвие кому-нибудь в спину. И совсем не добродушным стал казаться Лициний. По спине пробежал холодок, и новый, какой-то незнакомый страх окутал его тончайшей пеленой. - Вы знаете, кем был мой отец? - Отец? - Лициний выглядел искренне озадаченным, - впрочем, да. Припоминаю. Он из Галлии, кажется. Да. Галл. Царской крови, кстати. Не поделил он там с братом, и ушел...Бывает. - Вы что, можете заглядывать в прошлое? - Могу, - неожиданно сухо сказал Лициний, - а еще могу сказать, что только тем, кто лишен этой возможности, она кажется интересной. Итак, все было прозаично. Ответы лежали на поверхности. Отец, казавшийся варваром-аристократом в изгнании, оказался, действительно, аристократом, и действительно, экзотической, для Кампании, крови, и, в довершение всего, действительно, в изгнании. Та тайна, которую Квинт считал главным в своей жизни, ее стержнем, испарилась. Ее не было! Поворот в его жизни произошел, и нельзя было пожаловаться на обыкновенность, но он был вовсе не связан с отцом Квинта. Он вообще ни чем, видимо, не был связан. А потому вся его прежняя жизнь казалась теперь чем-то сомнительным, бесполезным.
У каждого человека есть своя, пусть порой выдуманная им самим, тайна. Это льстит ему. Это дает ему возможность думать, что он необычен. Эта тайна сокровенна. Ее невозможно открыть самому близкому другу. Она настолько тесно сплелась с человеческим "я", что можно считать, что человек - это и есть его тайна. Он священна. Для каждого своя. И что бы ни случилось - храните ее, лелейте ее, ибо если что и удерживает вас в страшные моменты отчаяния от неостановимого падения вниз, - так это она. Ваша тайна. И больно, невыразимо, нестерпимо больно, неосознаваемо больно терять ее. И мир становится пуст, тих и мертв. Квинту, если угодно, не повезло с тайной. За нее можно было ухватиться, так как она была связана со вполне осязаемым предметом - мечом, и вполне реальным, теперь, правда, умершим, человеком - отцом. Обычно тайны такого рода не имеют ничего общего с реальностью, и в этом счастье: такую тайну очень трудно потерять. Квинт свою тайну потерял, и, как я думаю, единственное, что его спасло, это то, что новая, и неизмеримо более грандиозная тайна вошла в его жизнь за десять минут до того, как он потерял старую. Эта новая была откровением. Она с трудом даже просто охватывалась умом. Бог! В начале разговора с Лицинием она вызывала страх и интерес, но теперь... Она была оглушительна. Она была подобна водопаду ярчайших красок, обрушившемуся на слепого. Она была опьяняюща, великолепна. Она давала невообразимую свободу. Свободу высшего порядка. Такую свободу, которую не могут представить простые смертные никогда.
Чрезвычайно сложно описывать жизнь Квинта после того, как он узнал о своей сущности. Ведь человек может пользоваться только своими, человеческими понятиями, а они во многом стали неприменимы к Квинту. Но есть, однако, одно обстоятельство, которое позволяет думать, что такое описание не очень далеко отойдет от действительности. Ведь и сам Квинт большую часть своей жизни считал себя человеком. Поэтому, возможно, он и теперь в какой-то мере продолжал мыслить и ощущать человеческими мерками и путями. Некоторое время он, словно еще не веря, испытывал свои способности. Лициний не вмешивался, предоставил Квинта самому себе. Огромная, высшая власть над миром, надо всем в общем и над каждым в отдельности настолько непривычна человеку, каковым Квинт являлся по складу ума и воспитанию, что удовлетворительно описать чувства, вызванные ее, как я уже сказал, нельзя. Квинт находился за пределом человеческих эмоций. Чувства и страсти лежали на земле, а он парил в воздухе над ними. Это напоминало сон. Великолепно было все. Всемогущество. У нас есть это слово. Но попробуйте представить себе его смысл! И хотя некоторые вопросы возникали, и какое-то недоумение уже накапливалось в душе, его было так мало, что заметно оно стало лишь гораздо позже...А пока все тонуло в непередаваемом волшебном ощущении власти и свободы. Квинт так и не понял, каким образом он влиял на мир, но влияние было. Он просто чего-то желал, - и желание исполнялось. Иногда ему казалось, что исполнение даже опережает. Это происходило само собой. Естественно, с полгода он только тем и занимался, что экспериментировал. Удачи вызывали восторг, неудач - не было. То были неспокойные полгода. Частые, как никогда пожары, войны и множество необъясненных чудес. Говоря прямо, Квинт вел себя как ребенок. В каждом человеке (за неимением другого удобного слова я буду так называть иногда и Квинта) дремлет ребенок. Он пробуждается в моменты наивысшего счастья. Детство - это ступень, на которой неплохо было бы остановиться и не двигаться дальше. И доказательство этому - то, что именно в лучшие мгновения своей жизни люди чувствуют себя детьми. А самое грустное проклятие рода человеческого - это то, что остановиться на этой ступени никому невозможно. Ее минуют с неумолимой быстротой. Дети - это абсолютно иные существа, поразительным образом, к сожалению, превращающиеся в людей. Чудо, к которому мы привыкли и не замечаем.
Странная, нереальная жизнь, конечно, изменила Квинта чрезвычайно сильно. Он все отчетливей чувствовал себя чужим всему. Мир, тот мир, который для человека является окружающим, был для него просто собственностью. Человек чувствует себя частью мира. Естественной или излишней, - но частью. Для него мир может быть разумен или безумен, жив или мертв, красив или отвратителен, но он вокруг человека, и вне его человек себя не мыслит. Квинт же мыслил себя именно вне мира. Отдельно. И все перипетии жизни перестали задевать его. Он обнаружил, что не помнит, когда в последний раз пожалел кого-нибудь, а ведь до Лициния такое иногда бывало. Ему стало трудно даже смотреть на людей, не могущих вообразить ту свободу и тот покой, в которых Квинт жил. Покой и свобода. Неужели это, действительно, по большому счету, все, что нужно для счастья? Мало это или очень много? И теряем ли мы покой, потеряв свободу? Похоже, что нет. Привыкает, привыкает человек ко всему; даже к рабству. В этом ужас. И правда. Но для Квинта все было чуть по-другому. Он потерял покой, обретя свободу. Хотя понял это слишком поздно. Это странное отчуждение от всего, чувство полной власти (он подсознательно не думал о том, что он не единственный: десять не десять, но уж Лициний то есть точно!) свело бы любого с ума. Но поскольку Квинт уже давно был безумен, ему это не грозило.
Квинт прожил в Александрии пять лет. И пять этих лет покрыты для него ирреальным туманом. Первые два - туманом сна, последние три - пеленой тревоги, неудовлетворения, а в конце и отчаяния. Чем выше забрался, тем больше падать. А потому отчаяние это было таким, какого, осмелюсь заявить, не испытывал еще никто. Граница между этими двумя и тремя годами пролегла довольно резко. Квинт тогда вышел прогуляться и обратил внимание на непривычный, но кажется, веселый шум на улицах и площадях. Прислушавшись к разговорам, он уяснил, что сегодня праздник Сераписа, и все идут на Площадь, где будут жертвоприношения. Что ж. Серапис так Серапис. Квинт неожиданно для себя заинтересовался и пошел вместе с толпой, неприятно выделяясь из нее странным выражением лица, ставшим для него обычным, и, если можно выразиться, походкой, лишенной праздничности. Сакральная жизнь, как и вся жизнь вообще, всегда проходила мимо него. В этом был до сих пор, кажется, мной не отмеченный парадокс. С одной стороны, он вертел жизнью на Земле по своему усмотрению (хотя чем дальше, тем ленивей, оставляя все, так сказать, на самотек). А с другой стороны, совершенно не соприкасался с ней. Он управлял ею как бог, как сила, и пренебрегал ею как личность, как человек. Видно, от этого слова никуда не денешься. Праздники, войны и перевороты интересовали его мало; даже те, которые он сам устраивал. И в этом, кстати, еще один парадокс. Он никому, и в первую очередь себе, не мог бы объяснить смысл своего вмешательства в мир. Совершив вмешательство, он сразу терял к нему интерес. Но, видно, парадоксы, с которыми свыкся, не беспокоят своей неразрешенностью и открытой нелогичностью. По крайней мере, тогда Квинт никакой противоречивости или, тем более, абсурдности в себе не замечал. А те недоуменные вопросы, которые, конечно, давно пришли в голову и вам и мне, еще спокойно дремали во тьме его отравленной души.
Уже толпа вплыла на площадь, уже нетерпение виднелось на всех лицах, уже потянулся над головами тот особенный, который ни с чем не спутать, гул, гул толпы, гул, которого не бывает на узких улицах, который рождается только на площадях, когда Квинт заметил Лициния. Тот стоял чуть ближе Квинта к жертвеннику и что-то весело рассказывал соседям. Те дружно, но почти не слышно из-за шума хохотали. Да. Вот уж кто, в противоположность Квинту, не выделялся из толпы. Лициний чувствовал себя здесь как дома. Толпа была его стихией, а он, как неожиданно подумалось Квинту, был ее порождением. Но вот, все затихло, и гимн понесся над головами мягкими волнами, воздух вибрировал, дрожал, и люди дрожали в такт. Квинт видел потрясающее. Он видел, как светлеют лица, как открываются, с трудом, подобно занесенному илом моллюску, их сердца. Как легкая, очищающая радость заполняет их заскорузлые души, вытесняя, вымывая из этих душ всю грязь, боль и жестокость, как глаза людей искрятся, и руки блаженно расслабляются. Как эти люди, сначала тихо, невольно, а потом вдохновленно подпевают гимну... Увиденное потрясло его. Он взглянул на Лициния. Тот делал все то же, что и другие. Но невыразимой фальшью веяло от него, и от этой фальши содрогнулся Квинт. А еще оттого, что никто, кроме него, этой фальши, похоже, не видел. В Квинте всплывало что-то новое. Это было странное, забытое ощущение. Вины? Но в чем, спрошу я? Презрения к жалким существам вокруг него, обступившим ложный кумир, не зная, что истинный --среди них? Нет. Чего-чего, а презрения тут не было вообще. Квинту вдруг захотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Ему захотелось бежать отсюда, отвернуться от этого, не слышать и не видеть ничего, не ощущать ничего. Мелькнула даже мысль, а не уничтожить ли толпу, как уничтожал он корабли штормами и молниями. Но мысль эта, по счастью, улетела так быстро, что не успела облечься в форму сомнения. Жертвоприношение уже шло. Запах жира, вина, крови, полусырого мяса и смолистых дров растекался кругом. И толпа благоговейно молчала. Квинту было плохо. Тревога разрасталась, окутывала, пробиралась к горлу, въедалась в каждую трещинку кожи. Ему, богу, было тревожно и страшно, страшно от всего этого! До оторопи, до капелек пота на висках... Он проклинал себя за то, что пошел на этот праздник, он собирался уничтожить все праздники вообще, стереть с лица Земли Александрию, уничтожить все храмы богов в мире...Лишить, лишить людей богов, чтобы они не могли собираться вот так! И тут он вторично взглянул на Лициния и замер. Лициний был счастлив. Он спокойно принимал на свой счет все это благоговение толпы. Он явно адресовал себе эти жертвы, эти гимны, эти восторженные, открывшиеся сердца. Он светился от удовольствия, от этих почестей и поклонения. И вот, страх и тревога Квинта прошли. Все стало буднично, обычно, неинтересно. То "божественное" двухгодичное его состояние, из которого он вышел на пятнадцать минут, к нему вернулось. А в сердце его кольнула игла неприязни к Лицинию.
Если такая неприязнь появилась, она уже не исчезнет. Невозможно, просто невозможно что-либо "забыть и простить". Если хоть раз кольнула такая игла нелюбви к кому-то, то знайте, что с этого момента ваши отношения уже никогда не будут теми, что прежде. Ваши пути уже немного разошлись и уже никогда не сойдутся опять. И с каждым разом вы будете все удаляться и удаляться. И никогда - сближаться. Если вы хоть на секунду ощутили неприязнь - это трещина, которой не суждено исчезнуть. Она может только увеличиваться, ветвиться, расти, и вот вы замечаете, что человек этот вам окончательно неприятен. Нет врагов ненавистнее, чем те, что когда-то были друзьями. Не раздаривайте же так свободно слово "друг", ибо оно священно. Ибо не может быть выше и полнее счастья, чем счастье дружбы или любви, что совершенно одно и то же.
Итак, с того дня между Квинтом и Лицинием появилась трещина, и эта трещина неумолимо расползалась. В неприятном почему-либо человеке начинает раздражать все. Даже мелочи, которых вы просто не замечаете у других. Квинта стала раздражать в Лицинии его манера смеяться, его цинизм, его полнота, его интонации, его привычка все время вертеть что-нибудь в руках. Словом, все. Не знаю, что чувствовал Лициний по отношению к Квинту, но совершенно ясно одно: не заметить перемены он не мог. Однако, неприязнь к собрату - это еще лучшее, что Квинт вынес из того ужасного дня. О Квинт, кто пожалеет тебя! Воспоминания о том, что он испытал в толпе, не давали покоя. Он никак не мог понять, что же с ним все-таки произошло. Похоже на наваждение. После этого он никогда не появлялся на таких праздниках. Просто не мог найти в себе силы пойти туда. И, кстати, в Лицинии, помимо всего прочего, его раздражало и пристрастие к таким сборищам. Лициний посещал их все. Без исключения. Они, судя по всему, доставляли ему самое острое наслаждение. Сильно подозреваю, что еще один пункт нелюбви Квинта к Лицинию состоял в обыкновенной (скорее всего - бессознательной, добавлю ему в оправдание) зависти. Ведь ему это наслаждение было совершенно недоступно. Чтобы ощущать его, нужно было быть самовлюбленным и циничным подлецом, как Лициний. Такие не могут испытывать страха и тревоги. Им незнакомы терзания. Они всегда чувствуют себя отлично, эти герои своего времени. И самое горькое в том, что все перемены, что ни делай, идут им только на пользу. Когда рушатся традиции и прерывается связь времен, когда гибнут безвинные и страдают беспомощные, - такие благоденствуют. И нет оружия, нет способа от них избавиться. И вот вскоре Квинт обнаружил, что вся его жизнь обратилась в сплошные поиски ответов на вопросы, которые окружали его. Сначала было недоумение. Почему Лициний совершенно спокоен и уравновешен. Он в таком же положении, что и Квинт, но, похоже, не испытывает никаких беспокойств. Ему все в радость. Он наслаждается жизнью. Почему это недоступно ему, Квинту? Но все больше и больше его волновал другой вопрос: а бог ли он. Первая эйфория уже прошла, и стало возможно оглядеться. Разве он всемогущ? Нисколько. Он не знает своей судьбы (иначе не пошел бы на тот праздник), он не знает будущего, время не подвластно ему, неподвластно и само мироздание. Может быть, он всего лишь человек, почему-то одаренный способностями чуть больше обычных? Какой смысл иметь власть, если она - не абсолютна? Теперь ему приходило в голову многое. Когда он не предпринимает ничего, мир живет и без его вмешательства ничуть не хуже. Так кто же, кто дает миру законы жизни? И не этот ли кто-то дал Квинту и еще некоторым странную привилегию? Со смертным ужасом пришла мысль, что "кто-то" играет с миром, и по правилам игры некоторым дается возможность управлять под строгим надзором. Что он - всего лишь марионетка, возомнившая о себе чересчур много. Кто устанавливает правила игры? Эта загадка не давала покоя. Она била, кусала, лишала сна и редких просветов радости. Она сдавливала обручем грудь и заставляла ныть десны. О, можете поверить, ужас Квинта не был чем-то простым. Это было сложнейшее переплетение чувств. Тут многое. И животный страх расплаты за свою самонадеянность и дерзость, и вопрос, как жить дальше, если он вдруг превратится в обычного человека, и еще более темный вопрос, как жить дальше, если не превратится, и страх перед миром, перед людьми, нежелание думать о прошлом и мучительная мысль о своем одиночестве. О том, что единственный близкий ему человек в мире - это Лициний, и этого Лициния он ненавидит иссушающей ненавистью. И еще много такого, чему нет названия, но что вы поймете, если попытаетесь примерить на себя жизнь Квинта со всеми ее взлетами и, конечно, падениями. Однако самой назойливой, и Квинт стыдился этого, была мысль о том, что он, судя по всему, смертен. Серьезно обмыслить это он не находил в себе смелости, потому что от этого веяло какой-то особенной, мертвящей, могильной прохладой. Вопросы переплетались со страхами, плавно и незаметно превращались в них, и весь этот вечный комок боли, не переставая, бешено вертелся в пустой до невероятия душе Квинта; вертелся, сверкая, так, что глазам становилось больно; вертелся, больно, режуще задевая за стенки, все подчиняя себе, надо всем возвышаясь, и уже казалось, что нет в мире ничего, кроме этого чудовищного комка. Нет, и не было. И не будет.
Кто сказал, что чудес не бывает? Наша жизнь полна ими. Только мы привыкли к ним. Чтобы чудо называли чудом, нужно, чтобы оно случалось редко. Так редко, что уже иссякала бы надежда на него. Как бы то ни было, я вижу именно чудо в том, что этот клубок в душе Квинта вдруг разорвался, рассеялся мелкими нестрашными брызгами, блеснувшими на мгновение в темноте. Решение было просто: надо убить Лициния. Почему? Не знаю. Зная только одно: как только это решение появилось, на Квинта снизошел давно забытый покой. Покой уверенности в своей правоте.
Но как же сделать это? Как же сделать? Спокойный и уверенный Квинт После Жертвоприношения, в котором было уже мало общего с Квинтом До Жертвоприношения, теперь холодно обдумывал детали плана.
Исходил он из довольно сомнительного соображения о том, что Лициний обладал такими же возможностями, что и он сам. Это означало, что мыслей он ни читал, будущего предвидеть не мог, и его вполне возможно было застать врасплох и прирезать, тем более, если сделает профессионал-убийца, которым Квинт являлся. Меч был для него словно частью тела. Без него он себя не представлял. И вот теперь этому мечу предполагалось вонзиться в плотное тело александрийского сибарита и подлеца, обманчиво-добродушного Лициния. Случая пришлось ждать довольно долго, но наконец, Квинт дождался. Лициний пригласил его прогуляться за городом, в местах, именуемых Холмы.Раньше таких предложений Лициний никогда не делал, и это насторожило Квинта. Но не пойти было, сами понимаете, невозможно, и он согласился.
Они отправились на Холмы под вечер. В противоположность всем ожиданиям, Лициний был молчалив. Они вообще, если забежать чуть вперед, за всю прогулку так и не сказали друг другу ни одного слова. Но молчание получалось почему-то не тягостное, не неудобное. Какое-то естественное молчание. Как будто общаться словами им было излишне. Неизвестно, о чем думал Лициний, который шел чуть впереди, но Квинт всю дорогу думал о своей цели, словно примерялся лезвием к неширокой спине... Что-то не давало ему ударить в спину. Непреодолимо хотелось увидеть глаза Лициния. Хотелось видеть, как в этих непробиваемых, наглых, отвратительных маленьких глазках поднимется, наконец, никогда еще в них не виданная волна страха. Ему хотелось видеть, как Лициний отбросит свою проклятую самоуверенность и сожмется в умоляющий о пощаде жалкий сгусток боли и унижения, встанет на колени...Да. За удовольствие видеть Лициния таким Квинт отдал многое. Но Лициний вдруг исчез. Он растворился в сумерках, сгущающихся в ночную тишину и тьму. Как это получилось, Квинт так никогда и не узнал. Сам Лициний впоследствии сухо сказал ему, что тоже не заметил, как они потеряли друг друга в темноте, и что он долго искал Квинта, но потом махнул рукой и пошел назад. Не знаю, правда ли это, но за то, что Квинт ждал его по меньшей мере два часа, я ручаюсь. Он сидел рядом с тропинкой, сжимая мокрой ладонью горячую, удобную рукоять меча, и всматривался в обманчивую тьму воспаленными глазами до белых искорок в них. Но никто не появился, и кровь, следовательно, не пролилась. Потом Квинт устал. А еще потом безнадежным жестом вбросил меч в ножны. Ему просто стало ясно, что нужна ему вовсе не смерть Лициния, которая возможна. Нужно ему было видеть мольбу в этих самодовольных глазах, унижение и страх в каждом жесте жертвы. А вот это-то было невозможно. И чистая, холодная, как ключевая вода, мысль об этом вызвала отрешенную спокойную тоску. Внизу, не так далеко, расстилалась лужей редких огней Александрия. Там жили люди. Простые, смертные люди. Добропорядочные горожане со своими мелкими, суетливыми интересами; веселые пьяницы; темные личности подозрительных профессий... Вся эта животная, низменная масса жрала, напивалась, спаривалась, веселилась и огорчалась, не думая о проблемах бытия нисколько. И эта-то масса была гораздо счастливей Квинта Вершителя Судеб. И тогда Квинт сделал такое, за что можно простить человеку очень и очень многое. Квинт заплакал. И слезы даровали ему покой.
Мы редко плачем. В этом наша беда. Почему, ну, почему плакать как-то не принято, если ты не ребенок? Ведь порой слезы - единственный выход для бушующих страстей. Не дать этого выхода, и эта буря начнет грызть и рвать, пока вы не падете на колени. Слезы несут с собой облегчение страданий, они целебны, они целебнее всего остального, что есть в мире. Они очищают, они дают возможность успокоиться и отдохнуть, начать все с начала. Они не могут повредить! Если вы видите, что человек плачет, знайте, что ему становится сейчас все легче и легче. Слезы текут, и вместе с ними вытекают, становясь безвредными, боль и тоска.
А всего через несколько месяцев он встретил Стелу. Она была намного младше его, лет двадцати, и жила неподалеку. Была она полугречанка-полуегиптянка с прелестными зубками и целой гривой нежнейших волос. О Стела! Волосы твои мягче шелка... Квинт, задумчивый, (но спокойный: теперь он всегда был спокоен) шел по улице, увидел ее и влюбился. Может быть, вы скажете, что все это похоже на пошлый роман, но ничего не поделаешь. Он действительно шел по улице, действительно увидел ее и действительно влюбился. До этого в жизни его была всего одна любовь. Очень давно, в юности. Еще в Капуе. Девушка, о которой я, кажется, не упомянул своевременно. И тем не менее, она была. Любовь оказалась счастливой, в Квинте была интригующая завлекающая таинственность. Длилась она два года, то есть, по понятиям их возраста, вечно. Никакого разрыва не было. Чувство прошло само собой, они остыли и, наконец, разошлись вовсе. Если уж говорить прямо, первым остыл Квинт. Стела ворвалась в его мрачную жизнь водопадом красок и ароматов. Это было похоже на свежий морской ветер. И под ее живительным натиском быстро улетучивались все темные стороны квинтова бытия. Она словно впустила ослепительный свет в его сознание. Я не говорю, как они познакомились, потому что не знаю. Просто не знаю, как эти двое могли сблизиться. Но факт, действительно, самая упрямая в мире вещь. Эти двое сблизились. Стела была очень милого характера. Веселая, беззаботная и очень бодренькая. Полная противоположность Квинту. Она приходила к его дому и весело колотила в дверь кулачками. Знала бы она, что стучит в обитель бога, что именно сюда сходятся отовсюду миллионы невидимых подрагивающих нитей... Бывало это, обычно, рано, через час после рассвета. Так рано Квинт не вставал со времени военной службы. Он распахивал дверь, и она, ворвавшись, бросалась ему на шею, целуя его быстрыми нестрастными поцелуями и блестя ослепительными мелкими зубками. Он подхватывал ее на руки и нес в дом. А потом она принималась болтать. А Квинт сидел перед ней, чувствуя себя прекрасно и непривычно, неумело улыбаясь. Иногда она залезала к нему на колени, и он осторожно гладил ее. Сначала Квинт чувствовал себя скованно. Он был сильным, очень сильным человеком и за свою жизнь привык к резким, грубым движениям. Нежность давалась ему с трудом. Он касался жесткой ладонью ее шеи, и Стела звонко смеялась от щекотки. Ему почему-то не хотелось, чтобы она видела вблизи его руки. Он стеснялся своих рук. Несоразмерно сильных, словно стальных, привычных к оружию, а не к женщине, унесших жизнь нескольких сотен человек. Рядом со Стелой он выглядел как неуклюжий зверь. Она была тоненькая, стройная, и он боялся неловким движением причинить ей боль. Но постепенно он привыкал, расслаблялся, набирался опыта. А Стела гладила его лицо и волосы и тихо при этом смеялась.
Ее интересовало прошлое Квинта. Как все, кто не видел войну своими глазами, она восхищалась битвами, осадами, поединками. Вспоминать все это Квинту было неприятно, но он вспоминал. Ибо так хотела Она. Она восхищалась его скупыми рассказами и им самим. В ее глазах он был могущественный, сильный герой. У него за плечами военная карьера и множество подвигов, он каждое утро упражняется с оружием (чтобы не потерять физическую форму, без которой, сами понимаете, герой не герой!)...Вела она себя как ребенок и явно была счастлива. Квинт так никогда и не был представлен ее семье. Так что вопрос, как смотрели на их связь ее родственники, - невыясненный. Для него Стела была сама по себе, без приложений. Знал только, что у нее есть родители и что они достаточно состоятельны, что у них чудный сад с персиками и что самой Стеле - ровно двадцать лет. Еще он знал, что она любит темно-синее и золотое и имеет весьма посредственное образование. Ею, как догадывался Квинт, никто в семье серьезно не занимался, хотя все любили и баловали, и она росла в окружении всеобщей ласки совершенно беззаботно. Она любила еще Квинта, котят, утренний бриз и захватывающие сюжеты. Серьезной ее Квинт не видел ни разу, если не считать одного происшествия, о котором чуть ниже и на котором все и кончилось. Вечером она тащила его гулять за город, на Холмы, но он всегда старался изменить этот маршрут.
Эпоха Стелы - это единственная в жизни Квинта эпоха, когда его вмешательства в мир стали иметь смысл. Он до мелочей продумывал погоду, дарил удачу ей и тем, о ком она рассказывала, заставлял пораньше расцветать тюльпаны и посылал ей веселые сны. "Угадай, что мне снилось!" спрашивала она, и Квинт притворно задумывался, на самом деле наслаждаясь ее солнечным голоском.
Так кем был Квинт? Был ли он богом, как это полагал Лициний? И куда делись теперь все его тревоги по этому поводу? Судьба управляла им ничуть не хуже, чем остальными. Но если остальные находили это вполне естественным, то Квинт - нет. Это ощущение неполноты своей власти, своей неабсолютности заставляло его кровь бурлить, вскипать мелкими пузырьками, и его уносил пламенеющими волнами гнев. Он просто физически чувствовал контроль над собой, и это чувства плющило, гнуло, скручивало тем сильнее, чем сильнее Квинт пытался разогнуться и встать во весь рост. В припадках безнадежной смелости он бросал вызов этому Высшему, но, естественно, не получал никакого специального ответа. И иногда это пренебрежение заставляло осознать всю ничтожность своих действий. Хотя, все это уже (или: пока?) в прошлом. Когда еще не было Стелы. Со Стелой все стало совершенно иначе. Вопросы не решились, нет. Они просто стали совсем не важны. О какой судьбе, господа, мог думать Квинт, если Стела улыбалась? О какой власти могла идти речь, если Стела брала его за руку? И о каком гневе можно было говорить, если она смеялась, невыразимо очаровательно откидывая назад голову, так что напрягалась ее прелестная, трижды благословенная, сотни раз покрытая поцелуями шея! Квинту никогда не приходило в голову, что это он своей властью заставил ее полюбить себя. И к счастью, что не приходило.
В тот майский вечер он впервые увидел Стелу Серьезную. Они, как всегда, гуляли в сумерках за городом. Стела, восхищенно улыбаясь, слушала Квинта, то и дело перебивая. Он скупо, поддаваясь на ее требования, рассказывал о Заме. И вот, когда он уже дошел до бешенства слонов, когда африканский строй уже распался, произошло непредвиденное. На дорогу, по которой они бездумно шли уже полчаса, и которая ласково ложилась под ноги, рождаясь и исчезая в бесконечности, выскочили пятеро. В руках у них были мечи, блеснувшие искрами. - Деньги! - тревожным напряженным голосом крикнул один из них. Стела испугалась, вскрикнула, но не сдвинулась с места. Квинт молчал. Он не испугался. Пять противников для него не составляли трудности. Но он удивился. Ему хотелось сказать: "Это же я!". Это, должно быть, ошибка! Он же бог! И его - грабят, как обыкновенного человека? Он почувствовал недоумение, хотя легкое, и даже обиду. Словно его, выделенного из всех, вознесенного, неожиданно бросили назад, вниз и поставили наравне с остальными. Но длилось это замешательство всего одно мгновение, и в Квинте, заслонив все остальное, проснулся Квинт Воин. Квинт Профессионал. Квинт Меченосец. Гнев, богиня, воспой! Он действовал решительно и уверенно. Левой рукою он отбросил Стелу себе за спину, а правой обнажил меч. Грабители явно не ожидали сопротивления, но отступать им было, видимо, неловко друг перед другом, и они метнулись вперед. Сразу стало ясно, что бойцы они плохие. Они умели немного обращаться с мечом, но несущего смерть отточенного искусства владения оружием не знали совершенно. Первого Квинт сразу поймал на лезвие и привычно повернул меч в ране, чтобы сделать ее смертельной. О Квинт Смертоносный! Легко увернувшись от двух других и четко отбив мечи, он обрушился на третьего. Тот упал с раскроенной головой, а Квинт в одном взмахе выбил меч у четвертого и у еще одного отсек руку. Оставшиеся заколебались, замешкались, и одному из них промедление стоило жизни. Быстро с Олимпа вершин устремился... Последний убежал в темноту. Да. Для Квинта это были не противники. У него даже не сбилось дыхание, и он не получил ни царапины, а перед ним лежали четверо. В одном еще теплилась жизнь, но быстро вытекала вместе с кровью из плеча. И тем не менее, он почувствовал радость победы. Это ощущение поразило его своей небывалой остротой и жизненностью. Он убедился, что почти забыл его. Это было так по-человечески, так просто и бесхитростно. Это заставило его на минуту забыть об исключительности своего положения. Перед ним ярко вспыхнула вся его военная жизнь, которую он не ценил. Простое, низменное, плотское упоение победы, вид поверженных врагов дали ему такой разряд, что, наконец, ярко запылало то пламя в душе, которое тлело у Квинта крохотными лепестками. Эта схватка, одним словом, доставила ему небывалое наслаждение. Раньше он не знал такого полного упоения боем. Квинт оглянулся на Стелу. Она была испугана и смотрела на распростертые тела в оцепенелом ужасе. Глаза ее медленно расширялись и сужались. Квинт неловко, приходя в себя, шагнул к ней. Она взглянула теперь на него, но ужас в глазах остался. Стела раньше не видела боя, и война казалась ей великолепной, а Квинт и ему подобные - вызывали восторг. Но вот теперь она увидела кровь, почувствовала ее приторный запах, услышала хрип и стоны, короткий лязг железа. Все это было невыразимо, до тошноты, до горькой слюны во рту отвратительно, от этого хотелось бежать. И Квинт теперь, когда она увидела, как из-под тонкой оболочки, которую она знала, считая, что знает его самого, вырвался на несколько мгновений истинный Квинт Безжалостный, внушал теперь ей животный страх. Квинт попытался улыбнуться и протянул к ней руку, не замечая, что в другой еще держит обагренный меч, но теперь она четко видела звериные искры в глубине его глаз, видела чудовище, испытывающее радость убийства, под тонким налетом спокойствия...Сдавленно вскрикнув, она отступила. Он беспомощно остановился, глядя на нее, и она слегка заколебалась. Но тут же вспомнила торжество на его лице, с которым он пронзал противников, и это решило дело. Она сошла с дороги, оглянулась и побежала в темноту. Квинт, все еще неподвижный, зачарованно слушал быстро стихающий топот ее легких ног. Потом он с удивительным спокойствием вытер клинок о траву, вложил его в ножны и отправился домой Если бы она не видела схватки, если бы об этом ей рассказал Квинт, она бы посмотрела на него с благоговением. И это было бы Квинту наградой. Только потому подвиги и имеют смысл, что есть на свете восхищение Женщины. Но Стела видела Квинта Безжалостного своими глазами, и все обернулось иначе.
И была в ту ночь буря, и молнии безжалостно полосовали небо. И говорю я вам, люди: не думайте, что знаете человека, пока не увидите его в схватке. Только тогда проступает его истинная сущность сквозь ту тонкую наносную оболочку, которую вы и знали.
Он не встретил Стелу больше ни разу. Но чувствовал ее. Вместе с родителями она отправилась в Грецию, как он выяснил. Корабль вышел из приветливого Александрийского порта, и после этого его никто никогда не видел. А Квинт вступил во второй круг. О Квинт! Кто пожалеет тебя!
Беда Квинта заключалась в том, что он был достаточно безумен, чтобы человечество стало презирать его, и недостаточно безумен, чтобы человечество стало преклонять перед ним. Он был между этими двумя гранями, в том пространстве, куда люди попадают обычно в моменты самой черной тоски. А Квинт там жил постоянно. И время текло как-то по-другому, резкими скачками, собираясь в неприятнейшие складки и даже отправляясь иногда назад, в небытие, где начало и конец всего в мире. Рвались хрупкие связи Квинта с Внешним, отрешение стало его ядром, и если бы он знал, что такое меланхолия, он бы предался ей. А боль росла! Боль росла! Сначала она легким дымком тянулась по земле, деловито прихватывая все уголки и шепча фальшиво успокоительные слова. Затем она начинала вскипать, в мгле ее намечались буруны и водовороты. Она осмеливалась добраться до уровня колен и уже совершенно закрывала все под собой, наливаясь цветом. Она становилась все темнее, весомее. Серый дым превращался в черную тучу с пугающими малахитовыми прожилками. И в ее шепоте становилось все больше фальши, но все меньше спокойствия. Еще два удара сердца, разгоняющих остывшую кровь, и вновь перемена. Боль поднимается со дна. Взметает грязь, становясь еще темней - только что казалось, что темнее уже некуда, однако - есть куда! Она завораживает. Квинт смотрит в бездну помертвевшими распахнутыми глазами. Туча, злобно хохоча, бросается вверх, на грудь, на шею, на губы. Сжигает кожу и проникает в глаза. Она танцует, давя. И Квинта, безнадежно кричащего, уносят гребни черных волн. Он захлебывается и выплывает, но его вновь мощно, настойчиво накрывает, словно шапкой, а страх почему-то заставляет не рваться вверх, а нестись вниз. Мрачный холод заползает в него, успокаивает, останавливает сердце, облегчая боль, вынимает легкие и запеленывает расслабленное тело в тончайшую паутину. И тут неожиданно все рвется, как перетянутая струна. Взлетает калейдоскопический вихрь и древнейший инстинкт раскрывает Квинту глаза. Он просыпается, встает, пьет глубокими редкими глотками вино. Медленно успокаивается гулкое в висках сердце. Он ложится вновь и (удивительно быстро, учитывая его состояние) засыпает. Кто поймет эту загадку. Эту зияющую тьму в самом центре нашего мира. Этот сложнейший лабиринт, который мы привыкли просто не замечать. Человеческую душу.
Ты, что встаешь из пепла. Ты, что восстаешь из роз. Взгляни же на мир, утопающий в тебе. Посмотри, как кровав он, Посмотри, как неправ он, Посмотри, как много в нем страха. Так смотри в него.
Ты, что нисходишь из земли. Ты, что восходишь с неба. Прислушайся к ритму беды. Услышь, как тревожен он, Услышь, как тревожны души, Услышь, как много сердец бьется не в такт. Так слушай его.
Ты, что очнулся в жизнь. Ты, что проснулся в мир. Чувствуешь ли ты холод бессмертия? Ощути радость конца, Ощути легкость смерти, Ощути счастье завершения. Так чувствуй его.
Ты, что уходишь в небытие. Ты, что вступаешь в смерть. Оглянись еще раз. Пойми грусть душ, Пойми запутанность сердец, Пойми грозу. Так поймешь его.
Нет ни малейшего сомнения, что это написал сумасшедший. В этом убеждает все. Общее сходство с бредом, нарочитое отсутствие ритма. Совершенно неясно, вдобавок, к кому направлены обращения и кого следует слушать и понимать. Это написал Квинт. И все же стихи эти останавливают. В этом отсутствии ритма бьется иной ритм. Какой-то древней грустью отзывается мозг... Но, как бы то ни было, для меня это ценно, поскольку ни одному другу не признаешься так искренне, как признаешься бумаге или любому ее заменителю. И стихи Квинта - лучший ответ на вопрос, что с ним происходило. Величие зыбко. Миллионы людей падали на колени перед величием богов. Его, Квинта, величием! Тысячи окровавленных жертвенных ножей взметались во славу его. Умирающие бойцы - во славу его. Взвихренные кони - во славу его. Гибельные тетриппы - во славу его. И ладан, и мирра - во славу его. И радость Сатурналий, и печаль Тяжелых дней - все во славу его. Во славу безызвестного отшельника, погибающего от сознания бесцельности своей жизни. А жизнь текла. Жизнь текла. И мы, не вовлеченные в круг эмоций, можем говорить об этом факте как о благе. Нет столь сильного переживания, которое не потянется благотворной, скрадывающей грани дымкой, не перестанет беспокоить, стоит только отплыть от него в течении времени достаточно далеко. Весь вопрос в том, сможете ли вы дожить до этого момента. Итак, Квинт вступил во второй круг.
"Успокойся! - сказал Квинт Воин Квинту Мечущемуся, - ты человек, предназначенный высшему. Ты должен, наконец, жить! Первая часть твоей жизни была осенена надеждой и ложной уверенностью. Первое ушло с Велентом, второе - с открытием Истины. Прозрей и успокойся! Убийство Лициния не было бы выходом, да и не могло бы им быть. А теперь иди к нему. Иди и славь свою судьбу и самое себя, за то, что кровь не пролилась. Иначе всю жизнь она бы жгла тебе память, и ты неизбывно мечтал бы о той жизни, где ты эту кровь не пролил". Сообщив это, Квинт Воин растворился в Квинте Мечущемся, окрасив его в темный тон, и слился с ним. Что ж. Квинт пошел. Не сразу, конечно, но пошел.
Он пошел к Лицинию, если быть точным, на третий день после той ночи. Вы, конечно, решили, что Лициний встретил его хмуро и сухо, холодно осведомился, что ему угодно. Или, быть может, Лицинию надлежало заключить Квинта в объятия и сказать, что он знает и прощает все. Если вы так решили, значит, мне не удалось представить Лициния таким, каким он был. Вот как он встретил Квинта. На губах его была легкая улыбка. Да, Квинт. Вынес ли ты это? В глазах его светилось обычное лукавство. Да, Квинт. Вынес ли ты это? И он был явно доволен тем, что Квинт пришел. Он явно ждал этого. Да, Квинт. Вынес ли ты и это? "Я вынес это. Я все вынес. Проклинаю тебя, Лициний. Проклинаю тебя огнем!" О, Квинт Бесстрашный! Начало и конец! Пламя. "Проклинаю тебя водой!" О, Квинт Ужасающий! Сама жизнь! Влага. "Проклинаю тебя землей!" О, Квинт Неназываемый! Вечный свидетель! Земля. "Проклинаю тебя также и..." Стой, Квинт Безжалостный! Мне жаль его. Не проклинай хотя бы этим. Оставь ему хотя бы этот путь.
Квинт, как всегда, был сжат и несколько напряжен. Он сидел, чуть подавшись вперед, слегка разведя ноги и положив колени на локти. Обеими руками, как старательный ребенок, он держал чашу с вином. Он не смотрел на Лициния. Его глаза были направлены в чашу, в вино, в благородную гладкую сумрачность, незаметно скрадывающую свет. Он как будто не смел поднять глаза. Лициний же был спокоен и свободен. Он сидел в кресле напротив Квинта, чуть боком, закинув ногу на ногу, небрежно держа в левой руке, двумя пальцами, свою чашу. Смотрел он на Квинта, и смотрел спокойно, добродушно, как на любимого зверька. Молчание тянулось и тянулось. Что-то мешало. "Что он меня всегда вином поит?" - подумал Квинт так злобно, что стал на мгновение сам себе противен. А вслух, нарушая тишину, сказал: "Да. Погуляли". "Неудачно, а?" - спросил Лициний с деланным смешком, и в Квинте что-то чутко откликнулось. Похоже, Лициний имел в виду не то, что показалось на первый взгляд. Квинту мучительно хотелось говорить. Он испытывал то необыкновенное ощущение разверзнувшейся бездны под ногами, пустоты под легкими, когда словно волнующая кошачья шерстка проходит по нервам, и сам не знаешь, сделаешь что-нибудь или нет. И он сказал. Дрожащим голосом, глядя в вино, стараясь унять трясущиеся колени. Путано, ненавидя себя за косноязычие, он излагал Лицинию свою беду. Ему плохо. Он тяготится своей абсолютной свободой. Она хуже рабства. Видимо, над человеком обязательно должно что-то быть. Обязательно. Иначе человек не может быть спокоен и счастлив. Он стал как-то бояться людей, плохо спать. Он не может разобраться в своих чувствах, но ему плохо. Лучше бы Лициний не открывал ему истины. Тогда он был спокойнее! Он не знает, что делать богу. Ведь в мыслях своих он все равно человек. Лициний не перебивал и слушал чрезвычайно внимательно, сочувственно склонив голову. Наконец, Квинт замолчал. - Я скажу тебе, в чем твоя беда. Ты - человек сильных страстей. Разумеется, я не хочу этим сказать ничего плохого. Просто ты не знаешь оттенков. Ты можешь или страстно ненавидеть, или страстно любить, или оставаться совершенно-равнодушным. А все, что между этими тремя страстями, - тебе совершенно неизвестно. Отсюда - твои мучения. Успокойся, Квинт! Не терзай себя. Живи тихими чувствами. Получай от всего наслаждение. У нас с тобой есть свобода и власть. Ты же обязательно хочешь использовать и то и другое до конца, полностью и, в результате, ни тому, ни другому не находишь выражения. Остынь! Ты уже не солдат. Будем спокойны как боги! - Легко вам говорить. - Да. Мне легко говорить. И тем не менее, это еще не значит, что я говорю неверно. Пойми, Квинт, я желаю тебе мира и счастья. - Послушайте. Я давно хочу вас спросить, - Квинт замялся, выпрямился и поставил непригубленную чашу на низкий стол. - Я давно хотел вас спросить. Мы - смертны? Лициний едва заметно вздрогнул, и глаза его стали беспокойны. Он быстро отвернулся от Квинта будто бы для того, чтобы подлить себе вина, хотя чаша его была полна. Но вскоре он справился с внезапно нашедшим беспокойством и рассмеялся. - Согласись, что ответить на этот вопрос можно, только умерев. И то ответ будет непременно отрицательный. И после секундной паузы неестественно быстро сказал: - Ну, что ж. Мне, наверное, хватит. Я сегодня должен еще в порт. Квинт немедленно встал, но ничего не ответил. На него легкой взвихренной волной обрушилась радость. Значит, и Лициний не совсем спокоен! И у него есть свой страх, сколько бы он не проповедовал обратного. И у него есть бездна, в которую он боится заглядывать. И то, чего Квинт хотел добиться угрозой меча, появилось в глазах Лициния словно само собой. Квинт все так же молча развернулся, Лициний забежал ему вперед, так они дошли до двери, миновали ее и оказались в саду. Сад Лициния был всегда свеж и наполнен изумрудной знойной зеленью, неприятной Квинту, любившему в зеленом малахитовые тона. В разрезах зеленой дымки дрожал желтый солнечный свет. Прикосновение этого света к коже было неприятно. Нагретые листья спускались вниз, неохотно поддаваясь редким порывам ветерка. Квинт удивился, как жарко было в саду. Тем более что на листьях изредка дрожали мелкие бисерные капельки. Такие же капельки усеивали и траву. Вероятно, ее недавно поливали. Но мысль о прикосновении влаги к разогретой коже в этой жаре заставляла вздрогнуть. Боги шли через сад, и листья тянулись к ним, расправлялись, стряхивали с себя воду крохотным жемчужным дождем. Так они дошли до ворот, Лициний открыл их и, улыбнувшись, пропустил Квинта. Квинт вышел, но вдруг обернулся. Лициний вежливо встретился с ним глазами. - Одного я не понимаю, Лициний. Зачем тебе понадобилось открывать мне истину? Сказав это, Квинт повернулся и пошел прочь. А Лициний еще некоторое время, не очень долго, впрочем, смотрел ему вслед. Глаза его были серьезны, озабоченны и чуть-чуть грустны.
Несмотря на кажущуюся безрезультатность, эта, последняя, беседа с собратом по божественности оказала на Квинта самое благотворное действие. Домой он вернулся в приподнятом настроении. Это сразу почувствовало на себе единственное существо, которое жило вместе с Квинтом, - общительный белый котенок, очаровательный хулиган, умевший при случае быть неотразимо-ласковым. В тот момент он спал на полу, прикрыв, по частому кошачьему обыкновению, нос хвостом. Квинт сел на пол рядом с ним и открыл против него военные действия. Котенок мгновенно проснулся и, не выпуская коготков, в восторге принялся обороняться бархатными цепкими лапками. В Квинте все пело. Он сказал это Лицинию! Он сказал это! Еще и еще раз он переживал заново то необычайное ощущение, сладкую дрожь, которую он испытал, произнеся эти необычайные слова. Наконец-то. Он смог! Он это сделал! Теперь все изменится. Теперь все будет хорошо. Он уже не играл со зверьком, а спокойно гладил его по шелковой шерстке, чувствуя пальцами, как тот мурлычет. И никто, даже притихший котенок, не мог бы сказать, какие именно слова так восторженно вспоминал Квинт. Те ли, которые он, запинаясь и краснея, выговаривал, крепко стиснув так и не пригубленную чашу, или же те, которые он отчеканил за воротами, глядя в страшные глаза Лициния. Котенок перестал мурлыкать, заснул. Теплый, пушистый, мирный.
Позднее всего человек находит ответы на самые простые вопросы. Потому что позднее всего начинает эти ответы искать. Но теперь все в Квинте перевернулось. Мысли стали хрустально-чисты и плавны. Ему вдруг стало просто смешно, что он живет здесь, в одиночестве, скрывая от простых смертных свою истинную божественную сущность. Словно ему есть чего бояться. Зачем скрывать? Глупо! С этим покончено. Завтрашний день станет днем новой эры. Лициний прав в одном. Мир безумен, потому что им управляют в большинстве своем те, кто не осознает этого. Но довольно. Мир вступает в новый век. Век Истинного Бога, Квинта Великого и Единственного. Лициний не в счет. Старый идиот, превративший свою власть в источник мелких удовольствий. А остальные...Пусть и дальше ничего не знают. О, да. Его правление будет милостиво. Конечно, золотого века не будет, ибо люди его не заслужили. Эта серая масса, толпа, способная только любить и ненавидеть (тут Квинта кольнуло что-то, но тотчас пропало) недостойна счастья. Счастье - удел сильных! А толпа должна поклоняться. Поклоняться ему, Квинту. А он будет иногда дарить ей свою благосклонность.
Квинт встал рано, когда утренний, новорожденный мир еще целиком принадлежит тебе и никому больше, когда от утренней свежести дрожь пробегает по телу и хочется говорить тихо. В такое утро проснулся Квинт, осторожно слез с постели, стараясь не задеть посапывающего едва слышно котенка, и сразу вспомнил, что он сегодня сделает. Квинт начал действовать с размахом. Одним движением руки он окружил себя сияющей аурой и, не касаясь земли, понесся к Дворцу. Как хорошо! Не надо сдерживаться! Впереди него катился странный, вызванный неосознанной мыслью, будоражащий гул. Он будил людей, заставлял вскакивать и в страхе падать ниц. Яркое дрожащее марево растекалось от Квинта. Бог идет. И деревья, немногочисленные в Александрии, тянулись к нему кронами. И трава немыслимо быстро рвалась из земли, чтобы приветствовать его. Квинт поднялся выше и, сам не зная, как он это сделает, но совершенно уверенный, что ему удастся все, метнул молнию в солнце. Оно разошлось во всю ширь неба, застыло и лопнуло до обычных своих размеров, оставив по себе раскаленные брызги. Еще одна молния немедленно полетела с высоты в порт, взметнула зеленую воду, и сотни кораблей страшно ударились бортами. Крики ужаса потонули в грохоте. Часть кораблей невероятно быстро загорелась, и вмиг уже запылал весь рейд. Но Квинту Ненасытному этого было мало. Земля вздрогнула, когда он разнес вдребезги прославленный маяк. Три удара пришлись на ненавистнейший храм Сераписа. Квинт поднял храм в воздух и бросил вниз, на город, не разбираясь. Мраморная пыль встала облаком. Квинт ринулся вниз, пронесся по площади, в глаза ему почему-то бросились два лица: искаженное женское, немолодое, и курьезно-рассудительное мужское. К воронам Александрию! Exit! Sic transit...И, взметнув рваный ветер, Квинт понесся в море. Он мчался очень быстро, срезая послушно разбегающиеся тяжеловесные волны. Ах, если бы Велент видел его сейчас! Глаза Квинта светились фиолетовым огнем, он словно вырос, раздался, черный плащ его стелился за ним, утопая концом в преследовавшей буре, смешиваясь с ней "в шествии гневного бога; он шествовал, ночи подобный".
Тот день люди могли бы запомнить навсегда. Это был необычный день. Храмы пылали, море и реки бурлили, люди падали на землю, и смерть проносилась. Веселая Александрия и вечно-озабоченная коммерческая Антиохия, спящие Афины и яростный Рим, тоскующий в ожидании конца Карт-Хадашт, древние Сарды, разрастающаяся Селевкия, захиревшая Пелла и в очередной раз погружающийся в сон Вавилон, крошечный Лугдун, родина императоров, - все почувствовало на себе тяжелую руку демона. Тьма закрыла Италию, вползла в Капую и сдавила мягким душащим кольцом дом Квинта. Хрустнуло, и дом запылал, распадаясь на части. Взлетели какие-то доски, камни, раскололась пополам яблоня в саду, полыхнул фосфорически весь сад и тут же исчез, оставив по себе сильнейший дым. Болезненно-оранжевые языки пламени рвались с дерева вверх и, чего не бывает, отрываясь, уносились. На утихшее пожарище опустился Квинт. Мановением руки утишил он все, и буря вокруг него исчезла и превратилась в обычный темный плащ. - Кто?...Я... - голос Квинта оказался страшен. Люди бросились врассыпную, но Квинт в два прыжка настиг двоих. Они пытались вырваться, однако по силе мышц Квинт не знал себе равных. Оба пленника рухнули на землю. Им была дарована жизнь. Квинт сам не знал, зачем схватил их. Он взвился вверх, увлекая тьму за собой, и понесся куда-то. И вот, в Александрии, несколько успокоившись, Квинт медленно опустился на площади. Той самой, где когда-то было жертвоприношение. Как ему и хотелось, на площади была толпа. Сзади напирали, но передние боялись переступить за границу пустого круга, словно очерченного вокруг Квинта. Квинт вскинул руку, и все замерло.
Лициний пришел лишь к вечеру, а вечер несколько опоздал: Квинту хотелось солнца, и он приостановил его. Но даже несмотря на это, Лициний пришел только к вечеру. Квинт сидел на площади перед Дворцом и принимал жертвы. Как снег белые жрецы закалывали пятнистых красавцев быков. Толпа, которой воспрещено было расходиться, послушно стояла в звенящем зное. И вот вдруг от толпы отделилась коренастая фигура в белом и утиной походкой двинулась напрямик к Квинту, через всю площадь. Гимн стих. Взметнутый нож медленно опустился, минуя шею быка. Квинт нахмурился и хотел было сжечь дерзкого, но тут понял, что это Лициний, и ему стало неловко. Лициний же, закончив свой путь, подошел и сказал тихо: "Убери их".
Они были во Дворце. Квинт уселся, стараясь казаться спокойным, хотя голос готов был сорваться, а по телу пробегала темная дрожь. Но все это вполне компенсировалось тем, как вел себя Лициний. Крупная дрожь била его не переставая, а в глазах свободно плавал такой ужас, подобного которому еще не видел Квинт, хотя видел он многое. Лициний был положительно страшен. Лицо покрылось красными отвратительными жилками. Он метался из угла в угол. "Ах, Лициний, Лициний! Боги себя так не ведут". - Ты. Ты понимаешь, что ты натворил! "Ах, Лициний, Лициний! Боги так бы не сказали". - И что же я натворил? - Еще спрашиваешь! "Ах, Лициний, Лициний! Разве боги грубы? Они жестоки и нежны!" - Что тебе не нравится, Лициний? Скажи и перестань дрожать. И немедленно Лициний оперся руками о рукоятки кресла, в котором сидел Квинт, наклонился так, что он с неприязнью почувствовал горячий винный запах, и сипло прошептал: - А если им это не понравится? А? Им? - он выразительно бросил взгляд наверх. И тут Квинт расхохотался. - Ты боишься богов? Ты веришь? Так какой же ты бог! Нет, Лициний, ты чародей и ничего больше! Чего ты достиг? Хорошая погода, хорошее вино, хорошие женщины - и это все! Ты не веришь в свою божественность. Ну, так вот. А я верю в свою. А теперь - вон отсюда! О Квинт Торжествующий! Лициний, белее полотна, ринулся к дверям, опрокидывая какие-то статуэтки на высоких подставках, и в одно мгновение пропал. А сам Квинт остался сидеть в одиночестве, и в нем расцвело мрачное удовлетворение. Затем он повелел, - и седые жрецы представили пред его лик пять высоких, безупречно-красивых девушек. Квинт повел глазами, и старцы исчезли. Девушки быстро скинули с себя алые пеплосы, готовые отдаться богу. И Квинт медленно, сладко мучая себя, вознаграждая себя за всю свою горькую жизнь, лишенную плотских наслаждений, расстегнул застежку плаща...
Царство Квинта Истинного протянулось на шесть дней. И в день первый Квинт принял жертвы, в день же третий и все последующие царствование тяготило его. А что было в день второй, - этого не знает никто. Очень хотелось бы, чтобы и день седьмой остался никому неизвестен, но это не так. Квинт Судьбоносный приоткрыл завесу. Итак, в день седьмой погибло то, что протягивало единственную хрупкую нить между страшной душой Квинта и милосердием. Умер котенок Квинта. Но как же, спросим мы, произошла эта смерть, если она была неугодна Квинту Всеповелевающему? Ответ крайне прост. Она произошла по недосмотру. Квинт забыл о маленьком Аяксе, оставшемся дома в одиночестве. И теплый, пушистый комочек, проникнутый жизнью, упал в легкий смертный туман. Не удивительно ли это? Не странно ли, что и в таком крошечном теле горит дыхание жизни, горит и отсвечивается в глазах. Уже не горит. О, эта сила судьбы! Даже бог подвластен ей, невозможно иначе. И Зевс склоняется перед слепым древнейшим могуществом мойр. Склонился и Квинт. А в этот седьмой день Квинт проснулся необыкновенно поздно. Ему приснилось, что он вновь солдат. И что великий Марцелл награждает его венком. Легион же стоит молча, и тускло блестят под усталым солнцем нагрудники суровых воинов. Сделано. Пуниец отброшен от Нолы. И хотя крови еще будет много, победа теперь - вопрос времени. И это - заслуга и Квинта тоже. Потому-то и лежит на широких твердых марцелловых ладонях венок. Видно, крепко запомнилось Квинту чувство, которое заполнило его в то мгновение. Иначе не снился бы ему этот случай опять и опять. И торжествующий Клавдий, и небритые лица легионеров в строю, и глазеющая толпа предателей-ноланцев. "А, не то все это", - подумалось Квинту, но день уже покрылся налетом бессильной злобы. Затем этот налет исчез, чего Квинт, зная себя, совершенно не ожидал. А затем Квинт узнал об Аяксе... Но, не буду описывать то, что описать нельзя. Смерть Аякса не могла, как ни была горька, вычеркнуть из мира Квинта Непреклонного. О ней он узнал, как уже было сказано, утром, и смерть тысяч помчалась в погоню за ней. А чуть за полдень пришел Лициний. Квинт почувствовал его приближение еще тогда, когда мысль о встрече только появилась. Итак, вновь удалились смертные, и боги воссели друг напротив друга, враг напротив врага, и зал засиял, и мир затаился, сжался и пропал, и стало ясно, что он не существует вовсе, да и не существовал никогда, поскольку не было на то благоволения Квинта Ужасного и Лициния Прекрасного. Лициний был спокоен и умиротворен. Словом, самый обычный Лициний. Страх его пропал, и невозможно было поверить, что это он бежал к выходу, разбивая фигуры. Но лежал, лежал, лежал на полу мраморный Аполлон, лишенный руки, и один взгляд, брошенный на него, заставлял верить сильнее, чем вид Лициния - не верить. Тогда Квинт, решив почему-то говорить по-гречески и впервые вдумавшись в смысл привычного приветствия, произнес: - Радуйся, Лициний! - Радуйся, Квинт! - ответил гость, предупредительно склоняя лицо. - Ты уже успокоился, Лициний? - Вполне. Благодарю. - Значит, твой страх прошел. - Да. Прошел. - Доволен ли ты моим миром? - "о, как тонко выделено слово "моим"!", подумал Квинт. В действительности, он просто грубо надавил на него. - Нет, Квинт. - Нет? - Отчасти нет. - Отчасти? - Отчасти. А отчасти - да. - Что же тебе не нравится? - Мне не нравится, что ты - человек - возомнил себя богом. - Вот как. А что же тебе нравится? - А нравится то, что люди видят, кому поклоняются, и они видят бога именно таким, каким его представляли. - Прекрасно. Но почему же я - человек? - тут Квинт сделал над собой усилие. - Потому, что ты - не знал и не знаешь мир, ты - не знаешь природу своей власти. Она просто пришла к тебе. Потому, что ты подвержен чувствам, потому, что тебя тревожит смерть. - Тревожит... - Тревожит. И не тянись к мечу! Это только подтвердит мою правоту. Будь ты бог, - тебе бы не был нужен меч. И я еще не сказал главную причину. - Говори же. - Ты не можешь быть богом потому, что ты мыслишь. - Ты софист, Лициний. - А ты не видишь истины. Или не хочешь видеть. Выразить невыразимое... И Квинт окунулся в бесчувствие. А когда он вновь обрел способность мыслить и сжал лицо ладонями, и на обнаженном до пояса его бронзовом божественном теле выступил бисер пота, Лициний сказал: - Чтобы победить смерть - нужно умереть. И Квинт вторично окунулся в бесчувствие. Мышцы его напряглись, он стиснул меч, и сорвал его с бедра, и бросил куда-то вверх, но невероятным образом клинок вспыхнул, сбросил с себя мешавшие ножны, сверкнул и врезался в мраморную голову лежащего Аполлона, пронзив мрамор как дерево. А мощные руки Квинта стиснули одна другую, сплелись в борьбе, но не надолго. Появилось бессмертие. Бесконечно желанное, но еще более бесконечно страшное. Затем пропало. Сердце бешено застучало, грозя прорваться сквозь ребра и широкие мышцы, и заболели виски, и в горле появилось болезненное чувство, и Квинт ощутил полет, но единовременно проникся страхом высоты, падения, чего никогда с ним не было. Но пот исчез, и сердце успокоилось, и виски перестали давить, и меч погас, наконец, и взбугрившиеся мышцы расслабились. Квинт подавил все и очутился вновь в реальности. И тогда Лициний произнес: - Вечности нет! И сила этих двух слов была такова, что и в третий раз Квинт окунулся в бесчувствие. Но теперь он был расслаблен. И более того, он словно не мог пошевелиться; перед глазами возникло лицо Стелы, милое, любимое, нежное. Она была жива, она все простила. Тут ужас принял Квинта в свои мягкие руки, и это спасло его. Он вновь вырвался на поверхность, в реальность. Свинцовая глубина осталась только в прошлом. И Лициний заговорил. А Квинт слушал Лициния, не шевелясь, и готов был отдать все что угодно, лишь бы Лициний говорил и говорил без остановки. - ...нет. А ты хочешь жить. Этот инстинкт сильнее мысли. Ты человек, и ты можешь постичь только то, что видел. Поэтому ты всегда беспокоен, всесилен ли ты. И есть ли твоя власть - высшая, или над тобой что-то висит, и есть ли вообще высшая власть, и не будешь ли ты наказан, и безумен ли ты. Надменность переходит в страх. Страх - в надменность. Это естественно. Неестественно лишь, что ты пытаешься постичь то, что непостижимо. Ведь ты не можешь представить себе Высшее иначе, чем в образе человека. Не внешне, а по образу мыслей. О Стела! Слова твои... - ...Человек не может иначе, чем сознавать, что над ним что-то есть, пусть даже это что-то совершенно неопределенно. Но как только он пытается это определить, так сразу наталкивается на противоречие. Ведь если бог человек по мыслям и чувствам, то он не всемогущ и не всевластен. Над ним, в свою очередь, что-то есть. Следовательно, Высшее - это вообще не личность, не "я", для него лишены смысла все наши понятия. И уж конечно, чувства. Обида, месть, благодарность, любовь, ненависть, снисхождение, жалость, гнев, прощение... О Стела, сердце твое... Говори, Лициний, говори. Все что угодно, но только говори! - ...бог - это тот, кто устанавливает правила игры. Только тогда это истинный, высший бог. Но тогда он и не может быть чем-то определенным. Ведь согласись же, что если мы можем сказать что-то о нем самом или о его возможностях, тем самым мы пытаемся его самого подчинить каким-то правилам игры...Так как же мы с тобой можем быть богами в этом истинном, высшем смысле? - Послушай, Лициний. Мне не нужна власть высшая. Пусть я - всего лишь чародей. Какая разница. Скажи лишь: мы бессмертны? - Квинт... - Постой! Прошу тебя. Просто скажи: да или нет. Ну же. Да? Или... Нет. Скажи, и я поверю тебе... - Нет. - Я ждал именно этого. Но не верил до последнего мига. - Но позволь мне объяснить! Да! Мы не вечны! Но лишь потому, что вечности нет! - И мир не вечен? - Бессмыслица. Вечности нет. - И Рим не вечен? - Вечности нет. - Тогда что же вечно? - Вечности нет.
Вот что происходило в день седьмой. А в последующую за тем ночь Квинт восстановил разрушенное за дни своего царствования, и самую память об этом царствовании уничтожил в умах людей. Но остались мертвы погибшие. И дом Квинта остался пуст... Квинт вступил в третий круг. И я желаю ему мира и успокоения. Мира и успокоения - хладнокровному убийце, способному плакать. Мир тебе, Квинт!
Говорят, ненавидеть легко. Это неправда. Уверяю вас. Настоящая ненависть заполняет человека не хуже любви. Как и всякая сильная страсть. Она так же не дает отдыха, так же подчиняет себе все. Нет. Ненавидеть сложно. Очень сложно. Прокрадется этот огонь в душу, - и не узнать человека. Он уже весь подчиняется этому огню. Ему уже некогда думать о другом. Он стал рабом своей страсти. Он не осознает этого, но уже тяготится. Ему становится трудно смотреть в зеркало, его преследует дымный запах, и глаза болят по вечерам, а в зрачках окружающие привыкают видеть тоску и ночь. Нет, труднейшее дело - служить страсти вообще, а ненависти - так, пожалуй, вдвойне. Как изменился Квинт после тех Семи Дней, ах, как изменился. Ларами клянусь, не посмел бы Велент ударить его по плечу, увидь он сейчас квинтово лицо. Отступился бы наглый сын Самния, и усмешка сошла бы с кровавых губ. Может быть, впервые. Итак, полюбуйтесь на эту роковую путаницу - лицо Квинта. Его резкие прекрасные черты отражали непреклонность и силу, энергичный характер. Печать властности немного затеняла все, особенно - возле губ, словно очерченных свинцом. Но, конечно, глаза выделялись сильнее. Существует же в мире такое чудо, человеческие глаза. И нет пределов их разнообразию. Все что угодно они могут выразить, так что не нужны станут слова и жесты. У Квинта были мягко-карие, влажного блеска глаза. О таких глазах говорят демонические, но мы о них так не скажем. В обрамлении длинных ресниц, яркие, выразительные даже сверх обычного, они производили странное впечатление. Казалось, что они уже готовы ласково взглянуть на вас, но вместо ласки они остро и точно схватывали ваше лицо, ощупывали мгновенно и тотчас гасли под ресницами. А в самых их уголках, куда обычно никто не заглядывает, поместился темный, особый блеск. Может быть, именно так блестит вода Стикса. А может, и не так вовсе. Но беспокойство наплывало на того, кто случайно замечал этот блеск.
Каждая встреча с Лицинием, как вы, полагаю, заметили, меняла Квинта, и очень резко. Эти беседы служили словно точками поворота, и, видимо, Квинту это сравнение тоже приходило в голову, иначе чем же объяснить, что все чаще он видел во сне высокие белые конусы мет, усыпанные пылью, и огибающие их гибельные тетриппы. Слившиеся в дымку спицы, тлеющие концы осей... Одним словом, в точности такие, какими их воспел Гораций. И странное дело. Чем громче становился лошадиный топот и крики возниц, чем гуще расплывалась пыль из-под коней, чем чаще раздавался завершающийся коротким резким звуком свист бича, - тем теплее и спокойнее становилось Квинту. Сознание всплывало высоко вверх, суета и шум начинали звенеть и удалялись. Однако, хватит о снах. Они непонятны и могут значить все что угодно. В жизни же Квинт видел состязание колесниц всего однажды, в Италии, так что колесницы эти следовало бы назвать не тетриппами, но квадригами. Горация Квинт не читал и прочитать, естественно, не мог, ибо в будущее попасть нельзя. Хотя бы потому, что будущего - еще нет. Но мчащиеся колесницы, скажете вы, можно встретить не только у Горация. Есть они у Гомера, есть и у Пиндара. Да мало ли у кого они есть! И тут приходится раскрыть еще одну черту Квинта, о которой я еще не упоминал. Квинт совершенно не читал и не знал поэтов. Италийцы вообще прохладно относились к стихам, но Квинт в этом превзошел соотечественников. Так что, откуда Квинт мог так ярко запомнить несущихся лошадей у мет совершенно непонятно. Зато совершенно понятно, что Квинту осталось сделать немного. Ибо смысл жизни он утратил вновь, и на этот раз, похоже, окончательно. Жизнь прошла мимо него, или вернее, он сам отстранился от нее. Вначале из презрения, так как ждал своего взлета, затем из гордости, - так как думал, что дождался, а теперь, - теперь из чего? Видимо, из ненависти. Но к кому, позвольте спросить? Или, может быть, к чему? Оставим этот вопрос без ответа. Порой вопрос стоит больше, чем ответ.
Жизнь утекала. Это стало ясно. С болью Квинт думал о том, что он уже не юноша, и проклинал те два роковых маяка своей жизни, которые дали ему ее прожить так, как он ее прожил: Велента и Лициния. Зачем, зачем раскрывать тайны? Зачем обнажать истину? И что такое истина? Однако, в сторону истину. Ведь не она теперь занимала мысли Квинта больше всего. Его заботила иная сторона бытия, о которой невозможно не упомянуть в мало-мальски реалистичном изложении, так как никакой другой аспект, в отдельности, не значит для человека больше, чем этот. Это аспект половой. Недаром ни о чем не написано столько, сколько написано о любви, а любовь, хотя тут можно и спорить, всегда связана с сексуальностью. Квинт, как я уже несколько раз отмечал, был привлекателен, его мрачность и отпугивала и притягивала, но он никогда не был боек в разговоре, что неудивительно, если вспомнить о его детском комплексе неполноценности, отголоски которого не пропали и теперь. Говоря кратко, выше его сил было проявить первому интерес к женщине, непринужденно заговорить с нею. И если не брать в расчет тех, которые отдавались не человеку, а богу, а так же его капуанскую связь, о которой я охотно не упоминал бы вообще, кроме Стелы в его жизни не было ни одной женщины. Какой-то порог стоял между ним и веселым безумием пьяных поцелуев. Иногда, и довольно часто, ему казалось, что вот сейчас он переступит этот порог, но порог был неприступен, как раньше, и, хотя руку его никто не торопился снимать с теплого бедра, на большее у него самого не хватало решимости. Стела пронеслась через его жизнь веселой искоркой, с ней все было совсем не так, и порога никакого не было, и Квинт совсем еще не думал о любви, еще не успел осознать, что это ощущение - и есть любовь, когда горячие ладони легли на его шею и влажное прикосновение, кружа голову, запечатлелось на губах, а глаза Стелы, став окончательно бездонными, явились совсем рядом. Со Стелой все было просто. Она была лишена препятственного чувства стыда, ибо, где есть доверие, там не бывает условностей. Она могла кружиться перед ним по перестилю обнаженной и, хохоча, валить его на пол. Она могла, придя к нему в дом по своему обыкновению рано, мяуча залезть к нему в постель, по-кошачьи царапаясь, пока смех не одолевал окончательно. Она могла все. С остальными же все было иначе. О Стела! Голос твой...
Квинт вышел из дома под вечер. То, что выход этот необычен и является результатом долгих размышлений, видно было из того, что меча при нем не было. Не было и плаща. В противоположность всем своим привычкам, он был одет в короткий белый хитон, стянутый на поясе и подчеркивавший его сильную фигуру. Квинт позаботился, чтобы на улице никого не было, и вот, никто не увидел его. Он дошел до конца улочки, свернул в темноту и еще некоторое время стоял, прислушиваясь. Как странно. Совсем недавно он летел здесь во всем своем величии, и эти люди за стенами, хотя теперь и не помнят, поклонялись ему. А сейчас он вел себя как обычный человек, и даже находил в этом приятное. И тут, как бы между прочим, в голове его сложилась четкая мысль о том, что его положение в мире, его божественность - его тяготит и не доставляет ровно никакой радости. Однако, надолго эта мысль его не задержала, и он двинулся дальше и пропал. След его совершенно теряется, но не навсегда. Двое полицейских, воинов городской стражи, видели атлета с яростными глазами на Гончарной улице, и, как они рассказывали, что-то помешало им его остановить, хотя такое желание возникло, тоже совершенно непонятно почему. Таким образом, мы уже можем предположить путь Квинта от его дома на коротенькой Римской улице (ее, кстати, называли так из-за сравнительно большого числа римлян, живущих на ней) и до Гончарной. Судя по всему, Квинт, свернув с Римской в безымянный переулок, дошел до дома, окруженного садом с плющом, и вывернул на Верхнюю улицу. Далее, если уж он сюда вышел, ему не оставалось ровно ничего другого, как пройти ее всю, вплоть до печально прославившейся пьянством пожарной префектуры. Здесь перед ним вставал выбор. Можно было пройти через парк, напрямик. Можно же - свернуть на неприметную Корабельную улицу, дойти до ее пересечения с Царской и оказаться почти у самой Гончарной улицы. Первый путь был короче, второй - безлюднее. И что именно выбрал Квинт - мне неизвестно. Ну, а от Гончарной и вплоть до Нижней, упирающейся одним концом в порт, тянется тот веселый район, который и составил Александрии ее разгульную славу. Полицейские с воровскими глазами, жирные сутенеры, веселые владельцы кабачков, продавцы-лоточники, предсказатели всех мастей и красок, рабы-носильщики, играющие в кости, собаки, обезьянки, нищие фокусники, музыканты...И толпа, текущая вперед, скалящая в улыбке зубы, жаждущая раздать поскорее монеты и получить свою порцию острого грубого удовольствия. И жарко, жарко, и ногам трудно ступать, и острейшим лезвием врезается в мозг смесь близкого наслаждения и близкой опасности, запаха духов, вина и пота, разноголосая музыка, женский визг, топот, пьяные крики, шум драки, окруженной плотным кольцом зрителей. И звон золота. Самый тихий и самый заметный. Квинт был здесь впервые, но его военное прошлое не дало ему растеряться. Он уверенно свернул в распахнутую дверь, выбрав ее потому, что туда свернул рыжий юноша, шедший в толпе впереди него. Зайдя, он остановился и подождал, пока глаза привыкли к мраку. Тут перед ним оказалась лестница, ведущая вниз, и по этой лестнице Квинт сошел. Здесь ему опять пришлось остановиться, так как в лицо ему ударили запахи, разноголосый шум и яркие краски. В светильники, размещенные по стенам и на столах, явно был добавлен наркотик, потому что запах, разливавшийся от них, дурманил, и у некоторых сидящих в глазах стояли точки. Мелькнула рыжая голова. Квинт набрал в грудь воздуха, выдохнул и шагнул вперед. На него обращали внимание. Хитон на нем был из дорогой тонкой шерстяной ткани, что говорило о деньгах, а ладная фигура и обнаженные мышцы привлекали взгляды пьяных проституток. Багровый толстяк тел шестидесяти, видимо, хозяин, приветливо махнул ему рукой, указывая на незанятое место. Квинт послушно направился туда. Здесь он очутился между двумя: с одной стороны - молодой человек с красивым испитым лицом, спящий. Он протянул руки по столу и лежал всей верхней частью тела на руках. Рядом с ним была кружка в луже черного вина. Складка туники залезла в лужу, и от этого ткань пропиталась вином до самого плеча. Возможно, это мешало ему спать, поскольку он изредка вздрагивал и шепотом требовал расплатиться. С другой стороны сидела вполне еще трезвая девушка, совсем юная, с заученным томным выражением лица, с почти обнаженной грудью и такая накрашенная, что не оставалось никаких сомнений насчет ее профессии. "Прекрасно, - подумал Квинт, - ее-то мне и надо". Ему принесли вино. От остального он отказался. Отхлебнув, Квинт убедился, что вино лучше, чем можно было ожидать. Тут девушка перешла к решительным действиям. С притворной задумчивостью она провела пальцем по обнаженной руке Квинта, повторив контур мускулов. Квинт внутренне напрягся и предпочел не реагировать. Она повторила свой маневр с коротким смехом. Тогда Квинт, смотря мимо нее, положил руку на ее талию, ощутив всей длиной руки, не только ладонью, упругое тепло ее тела. Девушка приблизилась к нему вплотную, так, что он почувствовал ее грудь, и поцеловала его. Стела! Все произошло мгновенно. Пропал кабак, пропали люди, пропал дым, осталась лишь Стела. Квинт вдруг увидел ее, и так отчетливо, как не видел никогда. О Стела, поцелуи твои... Квинт рванулся так, что разбудил спящего пьяницу, одновременно высвободил одну руку, а второй отбросил от себя девушку и с размаху открытой ладонью ударил ее в лицо. Удар, как и следовало ожидать, вышел сильный. Ее легкое тело дернулось целиком от неожиданности, боли и обиды, она слетела со скамьи и оказалась лежащей на полу, глядя на Квинта изумленно. Прекратился шум, и от стен к Квинту двинулись четыре коренастые фигуры. Хозяин застыл. На лицо Квинта легла тень. Как бы ему хотелось вскочить и броситься на этих четверых! Он не сомневался в своей победе. Но это был самый легкий и ничего не дающий выход из положения. Не за этим он сюда пришел. Поэтому он вынул из-за пояса горсть золотых монет и бросил ее на стол, не вставая. И тотчас возобновился шум, хозяин замахал четверке руками, и они, хмуро кивнув, опять растворились в тени. За четыре глубоких вздоха Квинт вполне успокоился. Девушка, оглянувшись на толстяка, опять уселась рядом с ним, стараясь скрыть слезы. Квинт придал лицу самое ласковое выражение, на которое был способен, и обнял ее за плечи, притянул к себе. Она сначала уперлась ему в грудь руками, но Квинт был намного сильнее, и тогда она перестала сопротивляться, а затем взяла его за руку и повела куда-то из зала прочь, по какому-то темному коридору, от которого у Квинта впоследствии осталось только воспоминание о мяукнувшей под ногами кошке. Толстяк же хозяин быстро прошел к тому месту, где сидел Квинт и деловито ссыпал золото в кожаный кошель. О Стела! Слезы твои...
Домой он вернулся под утро. В доме было по-утреннему чисто. Ему подумалось, что ничто его здесь не держит. Аякс умер, Стела умерла, Лициний... Что Лициний? Сложнее его не встречал он еще никого в жизни. Квинт прогнал усталость, распустил пояс и сбросил с себя хитон. Тот упал на пол светлым комком и, подчиняясь воле Квинта, тотчас исчез. Приятное чувство обнаженности нахлынуло, и Квинт бросился в бассейн, пока оно не исчезло. Вода облекла его усталое тело и заставила уснуть. А когда он проснулся, а проснулся он почему-то он холода, ему вдруг стало так плохо, как, может быть, никогда еще не было. Такое отвращение ко всему овладело им, что он застонал, вылез из воды, быстро оделся и сел, закрыв лицо руками. По рукам текли слезы. Невыразимо сжимало горло, и он уже не просто плакал, как тогда, на Холмах. Он рыдал во весь голос и проклинал себя, вчерашний день, ни в чем не повинный хитон, Александрию, Ганнибала, родителей, Велента, всю свою безнадежную жизнь, которую он не смог даже закончить достойно. Он проклинал Рим, не давший ему никакого другого выбора, кроме армии. Наконец, он проклинал и богов, изобличая тем самым свою веру в них. Стела не отпускала его. Ее лицо в любой момент могло появиться перед глазами. Он не мог забыть ее. Стало ясно, что ничего не закончено, что он теперь всегда будет думать о ней, жить ей. Она подчинила себе его целиком, и он уже не мог освободиться, не мог с этим ничего поделать. Так как же жить? Воздвигнуть ей храмы? Заставить миллионы поклоняться ей? Назвать ее именем города? Сделать ее память бессмертной? Или наоборот, сделать ее могилу неприметной, лишь бы каждый год на ней распускались цветы? Тяжело любить, когда что-то разделяет. А что разделяет надежнее смерти? И вот, душат слезы, гнется в пальцах литое серебро чаши, мельчайшим бисером выступает пот на руках и груди, и становится неудобно сидеть, лежать, стоять, все что угодно. Дышать становится неудобно. И все чаще приходит мысль о смерти, причем она уже не пугает. Она манит своим покоем, обещает отдых и конец мучений. О, люди, люди, вы боитесь смерти, но почему? Что вы знаете о смерти, чтобы бояться ее? Вас пугает неизвестное только потому, что оно - неизвестное. "Умереть, уснуть, уснуть...Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?.." А почему бы и не приятные? Почему "боязнь страны, откуда ни один не возвращался" кажется вам естественной? Думайте же о том, хотите ли вы еще совершить что-то в жизни, и пусть ваше отношение к смерти определяется только этим...
Лициний заявился на пятый день. Он всегда чувствовал, когда Квинту плохо, и приходил как спаситель. Ненавистный, он неизменно приносил облегчение. - Тяжело? - спросил он. Квинт безразлично пожал плечами. - Тяжело, - констатировал Лициний, - Пойми. Боги не могут любить людей! - Боги? - тихонько переспросил Квинт, но Лициний пропустил это мимо ушей. - Она не для тебя. Увидала тебя в деле и сбежала. Ну, где у них логика? Лициний говорил о ней небрежно, как и обо всех людях вообще. И Квинт стал понемногу вскипать. В глазах заплескался гневный дурман. И откуда этот проклятый толстяк все знает? Как он смеет? Лициний почувствовал напряженность и сменил тон. Он заговорил чрезвычайно убедительно, как он это умел. Он, Лициний, и сам когда-то прошел через нечто похожее и знает, что это такое. Он нисколько не хочет касаться свежих ран, но хочет лишь уверить, что все это пройдет, все пройдет, все это вовсе не так важно, как Квинту кажется сейчас. Нисколько, естественно, не покушаясь на свободу выбора Квинта, он, Лициний, хочет только сказать, что он старше, опытнее и может давать советы. И вот сейчас он советует Квинту бросить все и отправиться путешествовать безо всяких забот. Надо развеяться, успокоиться, забыть боль и зажить, наконец, нормальной жизнью. Он сам собирается как раз в Рим и предлагает Квинту, к которому всегда относился как к сыну, плыть с ним. Глаза Лициния были теплы и благожелательны, но пальцы его тревожно душили рукоять трости. Нет, он, разумеется, не требует немедленного ответа. Он все понимает. У них еще есть недели две или три. Пусть Квинт все обдумает. Отечески потрепав твердое плечо Квинта, Лициний попрощался и ушел. А Квинт четко представил себе, что он сейчас сделает. Сейчас он пойдет в дом (разговор происходил в перестиле). Там он возьмет бутылку вина и грубо сломает горлышко. А затем он станет пить большими оглушающими вкус глотками вино, выпьет его без воды, только обязательно выпьет все, целиком. Почему-то это обстоятельство казалось ему самым важным. Ведь ничего в мире у него не осталось. Вдумайтесь в это страшное своей обыденностью слово. "Ничего". В три слога. "Ни", потом "че", а потом и "го". Надо ли говорить, что он никуда не пошел и ничего не выпил. Потому что знал, что и это ему не поможет. Ему вообще уже ничего не поможет.
В Рим Квинту ехать не хотелось. И даже не в Риме дело. Если бы ему предложили любое другое место, ему бы и туда не хотелось. Одиночество уже не жгло, оно стало привычной тупой болью. Бог всегда одинок. Лишив себя богов, хоть какой-то вышестоящей эмоциональной силы, он оставил над собой лишь судьбу. И вот теперь ему не к кому было обратиться. Уберите бога из сознания людей, и они почувствуют себя беспомощными и беззащитными перед миром. Идея богов - это защита. Пока есть боги, есть надежда, что они следят за вами и не дадут вам погибнуть. И эта надежда отгораживает вас от грозных сил окружающего благословенной стеной. Так вот. Квинт богов из своего сознания убрал. А в душе был он, что бы Лициний не говорил, всего лишь человеком.
Квинт согласился, когда Лициний пришел на следующий день. Решено. Они едут в Рим. Лициний ласково потрепал его по щеке, чего раньше себе не позволял, и сразу ушел. Понимал, прекрасно понимал, что Квинту надо быть одному. Так неужели он не чувствовал опасности, растекавшейся в воздухе от Квинта? Неужели не понимал, такой проницательный и самолюбивый, что Квинт попросту ненавидит его? А если он все это чувствовал, то зачем брал Квинта с собой? Почему даже не попытался отвести от себя беду? А может быть, действительно, считал, что все это у Квинта пройдет. А может быть, действительно, любил Квинта как сына... Не знаю.
День отъезда приближался. Оставалась неделя, когда Квинт попросил об одной услуге. Ему хотелось, прежде чем покинуть Африку, побывать в Корнелиевом лагере, с которым у него были связаны воспоминания. Лициний хотел плыть в Италию через адриатику, к Брундизию. Но если это так важно для Квинта...что ж. Он не против. В конце концов, чем Регий хуже Брундизия? Получив согласие, Квинт стал спокоен.
От Александрии до Меркуриева мыса они добрались всего за неделю. Ветер был великолепный. Боги путешествовали. Корабль остался у какого-то небольшого островка, видного с берега. Лициний сойти не пожелал, и Квинт отправился на материк в лодке с гребцом. Проводника, которого предлагал Лициний, он не взял. Когда лодка уткнулась в песок, Квинт соскочил на берег и, оставляя размывающиеся на глазах следы, выбрался на сухое место. Не оглядываясь на гребца, он лишь махнул ему рукой и двинулся в путь. Это было на рассвете. А ближе к полудню он был уже в лагере. Здесь он похоронил под землей единственный материальный предмет, связывавший его со Стелой: небольшое серебряное кольцо, которое хранил до сих пор. Это было, собственно, все, ради чего он сюда пришел. Потом он некоторое время колебался, не похоронить ли и меч, но решил не делать этого, а затем он вернулся к тому месту, где его ждала лодка и, как мы уже знаем, убил гребца. О Стела! Шея твоя нежнее ветерка...
Лодку качало на мелкой волне, весла неуклюже расходились, плавая лопастями на воде. Закат набирал силу. Солнце все быстрее катилось вниз, становясь огромным и красным, пересекаясь с перистыми облаками. И вот теперь, только теперь Квинт почувствовал, что знает, что ему сейчас надо сделать. Такой уверенности в действиях у него не было никогда... Корабль, на котором находился Лициний, четко вырисовывался вдалеке. Квинт сидел на корме лодки, чуть расставив ноги, удобно пристроив висящие на поясе ножны с мечом. Он отчужденно, словно был сторонним наблюдателем, а не виновником всего происходящего, смотрел, как над кораблем и островком собирается темная, с багровыми прожилками, туча. О Квинт Тучегонитель! Справедливости... Он видел, как из этой тучи метнулись вниз изломанные пальцы молний, сокрушающие все. О Квинт Громовержец! Милости... Корабль превратился в пылающую точку на воде, а молнии все неслись и неслись, чтобы не было надежды на спасение. И только когда Лициний погиб, а Квинт это почувствовал, стихия улеглась так же неожиданно, как и взволновалась. А теперь - конец. Квинт взял в руки меч лезвием к себе. И вдруг он подумал, что он - красив, что он еще совсем не стар. Ему тридцать восемь лет. У него правильное лицо и классически прекрасное тело. У него бронзовый загар и отличные, тренированные мышцы. Он нередко ловил на себе восхищенные взгляды женщин. Он слишком хорош, слишком прекрасен, чтобы умереть! И тогда Квинт взял меч иначе и с размаху ударил себя в лицо кованой рукоятью. Он бил еще и еще, уже истекая кровью, уже чувствую головокружение от разбитого носа и задетых глаз. Он остановился лишь тогда, когда жгучая боль превзошла все мыслимые пределы. И выбросил меч в воду. Видеть он почти не мог. Лица у него уже не было. И вот тогда-то в море начался тот самый страшный шквал, который люди помнили еще много лет. Волны грозно вспенились и помчались неудержимо. О Квинт Земли Колебатель! Вал накрыл лодку. Квинт слетел с кормы, его отнесло куда-то в сторону, и он вдохнул полной грудью соленую морскую воду, почти с наслаждением чувствуя, как мертвеют легкие, как судорога вцепляется жесткими ломающимися ногтями в ноги, как кровавое месиво смывается с изуродованного лица... И для него все кончилось.
1998-1999 гг.


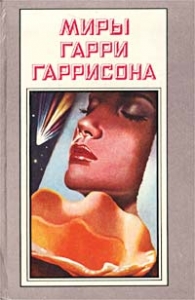
Комментарии к книге «Квинт», Илья Рушкин
Всего 0 комментариев