Константин Якименко АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ
Открывается дверь — ну, вы знаете, символ начала новой жизни: по ту сторону остаётся всё плохое, всё, от чего хочется избавиться, отделаться и не вспоминать о нём больше, а по эту… что? Ну, конечно же! — абсолютное счастье — так говорят. Сегодня моя дверь зелёная, как волны на поросшей водорослями реке поздним летом. Почему? Не всё ли равно? — может быть, мне просто так захотелось. И вот волны разбегаются в стороны, и в мой кабинет входит поэт.
На поэте — истрёпанные нестиранные джинсы и мятая бесцветная рубаха. Его волосы — цвета болотной грязи — длинные, непричёсанные; виноватые серые глаза уткнулись в пол. Вчера он читал своё последнее творение девушке в сиреневых очках, до тех пор пока она не спросила: неужели он серьёзно относится ко всей этой чепухе? Неужели, спросила она, ему нравится жить вот так, перебиваясь чем ни попадя от случая к случаю, вместо того чтобы (как все нормальные люди в наше время!) подумать о будущем, устроиться на приличную работу и зарабатывать деньги (опять эти банальные, навязшие в зубах нравоучения…), деньги, а не жалкие гроши — а он предпочитает писать свои стишки: да, это забавно (забавно! — сказала она), но разве так трудно понять, что Пушкина из него всё равно не выйдет, и даже Лермонтова, а в наше время (вот, снова!)… А потом он порвал перед её лицом листок с только что прочитанным, и она хихикнула: рукописи не горят, да? — а он повернулся и пошёл вон, уверенный: навсегда… И вот, день сегодняшний — и поэт здесь, в моём кабинете, явился за тем же, за чем приходили многие до него… за тем же, или?..
Он нерешительно шагает внутрь; отводит назад дверь и старательно прижимает её; делает ещё шаг, так и не поднимая глаз, будто его не интересует, кто перед ним — но тут я говорю:
— Проходи. Присаживайся.
Да, теперь поэт видит меня, зато я будто бы оставляю его без внимания: конечно же, я занят, как всегда, и разные мелкие людишки — они в некоторой степени интересуют меня, но чтобы тратить на них много времени… так должен думать он, и он думает, но не только об этом, а ещё и, например, о том, что, как обычно, забыл причесаться… Но всё-таки плавно опускается на стул, будто боится, что тот не выдержит его (его! это тщедушное вместилище беспокойных мыслей!), но глаза снова уткнулись в пол, в загадочный сумрак под столом, где изредка пробежит таракан — городской хозяин вечности. Однако время идёт, и, чтобы зря не терять его, традиционным вступлением я вырываю гостя из небытия:
— Я заберу твою жизнь, — так я говорю сегодня, и точно так же говорю всегда.
В этот миг всё и начинается — всегда, но не сегодня. Мы встречаемся, поэт и я; он полон усталости и тоскливой скуки: ну когда же, когда? — но не страха, его как раз и нет. Вчера здесь сидел крутой; в новом, отливающем синевой костюме, прилизанный — куда там поэту! — он занял тот же стул (вот вам и справедливость: некоторые так любят всюду её искать!). У пришедшего было множество вопросов: кто я такой, чем занимаюсь и по какому, собственно, праву нахожусь в данном помещении; где и как зарегистрирована моя фирма и кто, чёрта лысого, разрешил мне это и, кроме того… Но прежде, чем из нетерпеливой глотки вырвался хоть звук, я произнёс ту самую фразу — и крутой чуть вздрогнул: да, он привык обеими ногами ощущать под собой твёрдый камень реальности, однако сейчас камень дал трещину. Потом он попросил меня повторить — глупый, не в моих привычках озвучивать одну и ту же мысль дважды — и я сказал:
«Не надо объяснять мне, зачем — как тебе кажется — ты пришёл сюда. Ко мне приходят лишь за одним — ты знаешь, ведь ты читал объявления и видел вывеску».
Меня не интересуют твои желания, говорил я ещё, — вернее, то, что ты думаешь о них; меня не интересуют подробности — я знаю их сам; ты здесь: этого достаточно. Ты пришёл получить то, что хочешь — на самом деле хочешь и ты это получишь. Но взамен я заберу твою жизнь.
Крутой сказал, чтобы я прекратил издеваться, а его пальцы уже невольно нащупывали рукоять — и я улыбнулся. Подумай сам, произнёс я мягко, если ты сейчас это сделаешь, и если не промажешь, мои мозги будут на столе классное зрелище, тебе всегда такое нравилось, разве нет? Их можно собрать, выплеснуть на сковороду и тут же поджарить — о, уверяю, ты не ошибаешься, это действительно вкусно! А потом тебе останется лишь сидеть и ждать, пока сюда не войдут двое или трое; они сгребут тебя в охапку и уволокут сам знаешь куда, где никто не станет с тобой церемониться, потому что доказательства, как говорится, на лице!
Я держал его, как кобра мышь, но у крутого ещё были силы, много нерастраченной энергии — и вот он, резво вскочив, вырвал из кармана мобилу и стал в спешке набирать номер — три раза, потому что дважды ошибся в одной цифре. Только через десять секунд он всё понял и теперь, зачем-то продолжая вертеть пальцами бесполезный аппарат, глядел на меня широкими глазами, одинокими, как два острова посреди Тихого океана. И я, буравя острова аж до недр земных — но при этом само спокойствие! — сказал: «Ну, садись же», — но крутой бросился к двери, алой как насытившийся плотью адский костёр; схватил её за ручку, сжал, насилуя толстыми пальцами — разумеется, безуспешно: дверь, путь в один конец, этот символ… вы ещё помните, да? А потом он кричал, что когда уйдёт отсюда, то обратится в кое-какие органы, а я — ну просто журчание ручейка — проговорил:
«Ты наконец сядешь на место, чтобы я мог спокойно сделать дело?»
Мы снова встретились, и крутой — кстати или не совсем — вспомнил здорового азиата (которому так и не отомстил!), сломавшего ему ребро три года назад; а я сказал:
«Не сомневайся: ты выйдешь отсюда бесконечно счастливым», — и, когда он окончательно ощутил себя чужаком в чужой земле, добавил: — «Но ведь ничто в этой жизни не даётся даром, не так ли?»
Крутой орал; он матерился через слово и называл имена. Эти имена должны испугать меня, считал он — ну, они ведь испугали владельца банка (кстати, за два квартала отсюда) — а ведь кто такой банкир, и кто такой я? Да, правда, если подумать: кто такой я? А я только лишь глядел на него: вот ещё одна минута напрасно потраченного времени — из таких минут можно сложить годы полноценной жизни, но где же они теперь? Затем я осведомился, закончил ли он уже; но крутой будто не слышал. Я откровенно заскучал; встал и повернулся к нему спиной: ну, и что ты сделаешь? Он замолк на полуслове: блаженная тишина, наконец-то! Когда сядешь на стул, дай мне знать, сказал я, а крутой вдруг вежливо поинтересовался, кто у нас крыша и, если он конкретно не прав, то почему бы не сказать об этом прямо? И я ответил: ты можешь ещё час торчать здесь; можешь торчать два, и три, и больше; можешь грузить меня своей ерундой, одновременно трахая в мыслях новую молоденькую продавщицу из соседнего магазина; но пойми — не притворяйся глупее, чем ты есть, здесь всё равно нет зеркала — пойми, что, какой бы ты ни был крутой и сколько бы ни задолжал твоему боссу владелец той лавчонки, ты всё равно сядешь на этот стул. Нет, ты ни в чём не виноват, и вообще — какая, к япона матери, вина? Просто потому, что ты здесь. И больше никаких объяснений.
Может быть, его доконала именно «продавщица». Впрочем, какая разница? То, что должно случиться — случается; звучит банально, но как ещё об этом сказать?
За день до крутого здесь была трусиха — она воображала, что слишком толстая, и поэтому никто никогда её не полюбит. Трусиха носила узкие юбки, немилосердно затягивая талию; думала, что косметики обязательно должно быть много, и превращала себя в неправдоподобную подружку Барби. В понедельник она опять не пошла с однокурсниками в кафе, потому что (о, ужас!) они обязательно будут смеяться над ней. Глупые люди, которым не ведомо, что нет более жёсткого критика, чем внутренний — они, чтобы оправдать одну глупость, совершают следующую; а потом — ещё одну, чтобы оправдать эту; и так — до самого конца… И вот, одна из великого множества неудовлетворённых дур она была тут; она сидела на стуле и, когда я пообещал забрать у неё жизнь, мне показалось, что сейчас она так и упадёт — назад, вместе со стулом; чего доброго, помрёт от инфаркта — но тогда её жизнь, увы, достанется не мне.
Задавленное собственным страхом, истерзанное выдуманным совершенством создание — трусиха не упала, нет. Она сидела, здесь и не здесь, осторожно выглядывая из тесной одежды; её рот подёргивался, словно пытаясь озвучить вопрос, который она пока ещё не осознала: зачем? «Зачем я тут и зачем я живу так, как живу», — но это где-то в глубине, очень глубоко, а снаружи — лишь страх и желание — всё-таки — жить; и ещё (внутренний самоконтроль, куда же без него!): только бы не заплакать, иначе потечёт тушь. А потом я сказал, что она выйдет отсюда счастливой — её рот раскрылся и больше не закрывался, и ей уже было всё равно — не важно, что, лишь бы поскорее, и — ради всего святого! — без боли. Я заверил её, что больно не будет, и в ответ — на Марианской впадине души — слабо и лениво шевельнулась мысль: а что, если быть толстой — не самое худшее в жизни? Но — страх! — трусиха не могла произнести ни слова, не могла издать ни звука: стоит заговорить, и она не выдержит, слёзы рухнут водопадом, а тогда… нет, нельзя! И она молчала, ожидая моих приготовлений — а я только глядел в беспомощные карие глазёнки и вытряхивал из них последние остатки сопротивления, так и не нашедшего пути наружу.
Ещё раньше ко мне приходили двое: идиот и стерва. Стерва прочитала объявление в газете, а идиоту было всё равно — вернее, нет, не то чтобы всё равно, но он так привык убеждать себя в этом, что уже перестал понимать, чего хочет на самом деле. Конечно, он ненавидел её — всякий раз, когда она требовала от него признания в любви, а такое случалось не меньше десяти раз на день. И, конечно, ему было проще верить, что, отвечая «люблю, дорогая, ну что за вопрос?», он говорит правду; зачем напрягать мозги рассуждениями над такими сложными темами: она (факт!) его жена, вот и всё; она может ходить со своим красавчиком в оперу, ну и что: когда понадобятся деньги, никуда не денется — прибежит к мужу. Деньги — идиот так привык к ним, что уже давно не считал их наличие благом: они просто есть, их не может не быть, и ничего такого особенного, обычно думал он. Стерва была умна — достаточно умна для того, чтобы понимать всё и не спешить делиться выводами с другими. Была ли она счастлива? Наивный вопрос: а чего бы она вообще оказалась здесь?
Осино-жёлтая дверь; они вошли в неё друг за дружкой, но я сказал, что принимаю только по одному. Осталась, разумеется, стерва — могло ли быть иначе? Она важно прошествовала вглубь кабинета, развалилась на стуле, будто в дорогом кресле… о, да ведь она уже оценивала меня как потенциальный сексуальный объект! Не скажу, что я был против, но мне ведь нужно от людей совсем другое. Я сказал то, что говорю обычно: про жизнь, которую заберу у неё — и она заметила, что я, должно быть, оговорился (не она ослышалась, нет, ну что вы — я оговорился! только так).
«Ты уйдёшь отсюда счастливой, — сказал я, — но за это отдашь мне жизнь».
Проще простого, верно?
«То есть вы собираетесь меня убить?»
Не в том смысле, какой ты вкладываешь в это слово, объяснял я. Да, твоя жизнь останется у меня, но, когда ты выйдешь из кабинета, ты будешь счастлива. Всегда. До конца своих дней. Может показаться, что это парадокс, но ведь, если на то пошло, и сама жизнь человеческая, сам факт существования вашего на Земле — тоже парадокс, который так просто не объяснишь с научной точки зрения. Разве нет?
Стерва потребовала не держать её за дурочку: она не верит в мистику и всякое такое. Она настаивает, чтобы я сначала объяснил ей, что собираюсь сделать, а если ей это не понравится — она повернётся и уйдёт, и я ещё должен буду сказать ей огромное спасибо, если она не станет подавать на мою организацию в суд. О, я слушал терпеливо, я не перебивал этот неудержимый поток негодования. А когда он иссяк, сказал, что ей всего лишь надо никуда не двигаться с места. Если она будет спокойно сидеть на стуле, сказал я, то всё пройдёт быстро и безболезненно, она даже ничего не почувствует.
Ну, естественно, стерва вскочила. Она дёргала дверь и барабанила по ней — а ведь говорила, что не дурочка! — она орала, чтобы её выпустили, хотя я сказал, что за пределами комнаты никто ничего не услышит. Люди, они слишком часто не хотят принимать то, с чем можно только смириться… Принимать? — нет, она не думала об этом; она не думала вообще — лишь тратила силы и тратила время, своё и моё; эмоции расплёскивались вокруг, некоторые взрывались, вспыхивали как сверхновые — и гасились бесчувственной толщью стен. Но наконец стерва повернулась — и я сказал, что если у неё (почти наверняка, да, так объяснял когда-то врач с наполовину поседевшей бородой; хотя ведь на самом деле — ещё не факт) не будет детей — это, конечно, повод делать с жизнью окружающих всё, что захочется; но вот вопрос: почему от таких действий она не становится счастливее? И непонятная опустошённость, и дикие желания хватать, что попадётся под руку, бить стёкла и — даже подняться на крышу и швырнуть оттуда что-нибудь потяжелее, например, (вот если бы ещё кто-то его туда дотащил!) телевизор, и посмотреть, как он будет лететь с такой верхотуры, и… Мы встретились: так происходит с каждым, и каждый раз я думаю: что увижу внутри? Но там — уже почти ничего: вначале обычная усталость, а затем — падение вглубь себя, как можно глубже, только бы прочь от того, чего не может быть, потому что не может быть никогда.
И вот та, которая минуту назад готова была загрызть меня живьём, опёрлась о стену, чтобы не рухнуть на пол, и я сказал — шелест крыла голубки — что ей правда не будет больно. А она, чуть пошатываясь, всё стояла и стояла, не видя ни меня, ни моего скромного конторского стола, ни книжных полок справа — та, которая хотела меня растерзать; и всё же она знала, зачем (или даже так: за чем) пришла сюда. Я подошёл и взял её под руку; стерва безропотно дала отвести себя, усадить на стул — тот самый! — а потом…
Всего одна минута — и она вышла прочь: труп, который дышит. Идиот поспешил поинтересоваться: ну как? — и когда она, ну просто воплощённый ангел, ответила, что всё замечательно, спасибо, дорогой — то даже в его разжижившихся мозгах шевельнулось: так не бывает! Но — инерция: что бы он ни думал, однако тоже хотел (ну а кто, скажите мне, не хочет стать счастливым?) — и вошёл. С идиотом было проще — так ведь с ними всегда проще: нормальный человек по крайней мере старается воспринимать всё как есть, идиот же видит лишь то, что укладывается в его куцую модель мира; прочее проходит мимо с клеймом: «невозможно». Забрать жизнь? — невозможно, просто фигура речи; и потом, она ведь вышла отсюда!
«И я в самом деле буду счастлив, да?» — «Что там счастлив, ты будешь абсолютно счастлив — так же, как и твоя жена теперь, ты увидел и понял это, разве нет?» — и микробы сомнения, только-только зародившись, подыхают под натиском иммунитета, воспитанного исковерканной истиной «деньги есть — ума не надо». Уговоры и убеждения — всё лишнее: клиент готов, он жаждет, горит желанием — и сполна получает то, что хочет.
Они ушли, эти двое — бывший идиот и бывшая стерва, а ныне — ходячие мертвецы. Они вернулись домой, довольные собой и всем, что их окружает. Время идёт — и скоро знакомые заговорят: что-то изменилось. Вежливые скажут: ну надо же, просто идеальная пара!; кто не привык церемониться со словами, заявит, что они куда-то сдвинулись по фазе. А потом идиот, послушавшись случайного совета, снимет деньги со счёта и положит в другой банк; банк прогорит, неудачливый бизнесмен потеряет большую часть того, на что опиралось его самомнение — однако пожмёт плечами и скажет: подумаешь, велика беда! А после у них (вот и верь этим врачам!) будет ребёнок, даже двое. И когда старшее чадо научится говорить, ему будут покупать всё, что оно попросит; а ещё позже лучшая — в прошлом — подруга стервы скажет ей, что не стала бы разрешать своим детям гулять в «таких местах», но та только отмахнётся: нашим крошкам интересно, ну и пусть. И даже после того, как детки (о, разве можно их винить, ну что они могут понимать в таком возрасте?) наведут на дом грабителей, стерва, лишившаяся камешков и кучи зелёных, лениво откликнется: ну, подумаешь, с кем не случается? Потом идиот потеряет должность, а вслед за ней и работу; он примется искать новую — не очень-то старательно — а тем временем денежный запас будет неотвратимо иссякать, и они, снова по чьему-то не слишком мудрому совету, заложат квартиру. Конечно же, их надуют, они потеряют всё и окажутся на улице; младшая дочка подхватит грипп, затем воспаление лёгких, и умрёт за несколько дней; старший сын найдёт себе место в притоне среди наркоманов и будет потерян для родителей, для общества и для себя самого. Двое мертвецов — в прошлом состоятельные люди, ныне бомжи — скажут, что даже и в такой жизни можно найти хорошие стороны. Они будут ходить по городу, вяло прося милостыню и не жалуясь на то, что дают мало; они устроят себе лежбище под скамейкой в парке, где будут проводить ночи, упоённые друг другом и замечательнейшей штукой под названием «жизнь». И, наконец, отравившись какой-то дрянью на городской свалке, лёжа среди экскрементов цивилизации, эти двое поцелуются в последний раз, по-прежнему убеждённые: во всём мире нет никого счастливее их…
Толстая мёртвая трусиха; она покинула кабинет в слезах — конечно же, это были слёзы радости, и её нисколько не интересовало, что штукатурка на лице течёт вместе с ними. Она вернулась домой в восхитительном экстазе, и мама всерьёз задумалась: а не пристрастилась ли доченька к какой-нибудь травке? На следующий день трусиха пропустила институт и до самой ночи (невероятно!) бродила по улицам, наслаждаясь всей гаммой красок и звуков. Вскоре она перестанет учиться — нет, первое время она ещё будет заглядывать в книги, но все эти длинные сложносочинённые и сложноподчинённые предложения — их так долго читать и куда быстрее забыть! Она завалит сессию; её со скрипом протащат на второй курс, но через полгода она вылетит совсем радостная и свободная. Мать отчитает её по полной, отец добавит ремнём — и трусиха согласится с каждым их словом; она даст кучу обещаний быть отныне прилежной и порядочной — но не сдержит ни одного, забыв о них на следующий же день. Она будет часто наведываться к знакомым в общагу, где вскоре потеряет девственность — просто чтобы узнать, «как это»; и она найдёт, что «это» очень и очень здорово; чрезмерная полнота больше не будет её беспокоить, и в конце концов она перестанет следить за внешностью (и правда, зачем тратить время на такую ерунду, если и без того в жизни есть столько суперских вещей?) Глупая трусиха, она будет есть всё, что хочется, и спать с каждым, кому не покажется противной; скоро родители узнают о её похождениях, отец снова и снова будет бить её — но и от этого, кажется, неживая девушка получит только наслаждение. Отчаявшиеся предки найдут последний выход из столь запущенной ситуации — выдадут трусиху замуж; муж окажется алкоголиком и вдобавок садистом (ну а какому нормальному человеку нужна такая жена?) Каждый вечер он будет насиловать её под взвизги отечественной попсы — и, как вы думаете: кто испытает большее удовольствие? Он будет хлестать её плетью, а она — томно охать и рассказывать о том, как любит его. По пьяни он разобьёт ей лицо, и, сплёвывая кровь вместе с осколками зубов, сама захмелевшая — но вовсе не от алкоголя — мертвячка-трусиха исторгнет: «Мамочки мои, как я счастлива!» В конце концов муж расшибёт ей голову о ребро батареи; к слову, потом он попадёт под суд, где его признают невменяемым и отправят в психушку — но речь у нас совсем не об этом дуроломе, ведь так?
Крутой, который решил, что пришёл ко мне совсем по другому поводу — вот глупый! — его труп вышел отсюда, прибыл к боссу и радостно сообщил тому, что здесь всё схвачено до них и ничего поиметь с моей шарашки не удастся. Босс удивился, конечно, — но не стал заморачиваться на этом: были дела поважнее и актуальнее; крутой получил новое задание. Скоро он получит ещё несколько, одного плана: собрать дань с подконтрольных точек. Трижды он всё провалит: когда ему скажут, что денег сейчас нет, он мило улыбнётся: ладно, никаких проблем! — повернётся, и уйдёт. Босс сделает ему внушение: раскис ты что-то, нельзя так, надо быть жёстче, особенно в нынешние времена; крутой охотно и радостно выслушает всё, однако начальник, наблюдая за его дурновато-американоидной улыбочкой, сообразит: непорядок. Крутому предложат отдохнуть (на самом деле его решат отстранить совсем — но кто же ему об этом скажет?). Он выйдет на улицу, не зная, что уже выброшен за борт обрадованный и безгранично довольный мертвец; он будет проходить через скверик, когда десятилетний пацан случайно залепит ему в задницу шариком из игрушечного пистолета. Мальчик извинится, крутой скажет: «Пустяки», — а затем вытащит из кармана настоящую пушку и покажет молодому поколению, как надо стрелять. Когда бабка на скамейке напротив клюнет носом — будто задремала, ничего особенного на взгляд со стороны, — он переживёт адреналиновый оргазм куда посильнее, чем при сексе, и ему страшно понравится. Счастливый как никогда прежде, он успеет выстрелять две обоймы, прежде чем его возьмут; группа захвата проведёт его к машине по парковой тропе, которую отныне назовут Дорогой Смерти — а крутой, исходя слюнями, будет рассказывать им о своей любви ко всему миру. Ему дадут пожизненное, но счастье его не продлится долго: боссу не нужны лишние свидетели, тем более такие. Скоро в камере найдут тело, повешенное на клочках собственной одежды; разбираться не станут — разве что для видимости — но тот, кто это сделал, никогда не забудет два пронзительно глубоких, будто с иконы, глаза и последнее умиротворённое «спасибо…»
И так — изо дня в день: ко мне приходят люди, а уходят довольные трупы, продолжающие питаться и портить воздух. Вечером я спускаюсь в подвал; там темно и душно, потолок весь в паутине, а в углу, сразу за вторым шкафом, крысы прогрызли нору — мелкие глупости, в общем-то, но иногда эстетическое начало говорит во мне, что важно поддерживать правильный антураж. Здесь, в прозрачных сосудах, все те, кто решил с моей помощью осуществить мечты о счастье; кто верил, что счастье — в куче денег; в большой любви; во власти над другими; в новых впечатлениях; в том, чтобы стать лучше, чем ты есть; в том, чтобы сделать лучше мир; в том, чтобы доказать противникам, насколько они неправы — или ещё в какой-нибудь ерунде; те, кто не понимал, что в действительности всё куда проще. Я разговариваю с ними. От стервы пока ещё невозможно добиться ничего, кроме «пошёл на х… маньяк-садист!», «верни меня назад, сволочь!» и «я не собираюсь терпеть это паскудство!», но через несколько дней или, может быть, недель она успокоится; мне некуда спешить. Идиот застыл в ступоре, но когда-нибудь это неизбежно ему надоест, и я узнаю, скрывается ли за его внешней тупостью хотя бы пара-тройка стоящих мыслей. Трусиха пялится на всё глазами-линзами и старательно шарахается от каждого движения. Крутой требует объяснений — и получает их в виде сакраментального «здесь вопросы задаю я». Со временем они станут полноценными членами моего избранного общества, пока же я оставляю их без внимания. У меня есть собеседники поинтереснее — те, кто давно привык к такому существованию; я могу сразиться с кем-нибудь в шахматы — или выслушать сюжет невероятного авантюрного романа; могу обсудить предполагаемые судьбы мира, человечества и Вселенной — или судьбу вполне конкретного слесаря Лёни Пасечкина; всякая тема интересна по-своему — и потом, ведь в каждом человеке дремлет творческое начало, разве нет? Творчество, плодами которого пользуется лишь один — да, пускай это несправедливо, но с чего вдруг я должен быть справедливым?
И вот — поэт: он на стуле напротив, и, когда я сообщаю, что заберу его жизнь, он поднимает глаза — редкое сочетание робости с уверенностью — и спрашивает:
— Значит, абсолютное счастье — это смерть?
Он, конечно, далеко не Пушкин и отнюдь не Лермонтов; размер в его стихах хромает не на одну долю, ритм вечно норовит сделать шаг вперёд, а затем два назад. Такую поэзию не напечатают ни в одном журнале, и он не получит за неё ни копейки; исполнителям популярных песен, может быть, плевать на скачки размера, но разве им нужна подобная муть? — нет, они хотят тексты, навязчивая бессмысленность которых в своей простоте доступна каждому. Самое большее, на что может рассчитывать поэт — стать своим в рок-тусовке, где со временем подсядет на наркотики; в стихах прибавится иллюзорных глубин, в которые он, может быть, поверит и сам. Или — страничка в Интернете и сомнительная популярность в узких кругах; но для начала неплохо хотя бы научиться отличать компьютер от телевизора. О да, из него получится замечательный собеседник (ещё бы!) — мне даже не придётся ждать, как это бывает с большинством, пока поэт смирится с тем, что… Но он спросил меня, и я отвечаю:
— Нет, неверно. И всё же, когда ты выйдешь отсюда через минуту или две, ты будешь мёртв. И будешь счастлив.
— Лучше через минуту, — говорит он. — Хотелось бы побыстрее.
— И тебя не пугает смерть? — зачем-то спрашиваю я, будто ещё не понял.
И тогда поэт, чуть прищурившись (с лёгкой издёвкой — так ему кажется), выдаёт:
— А вы не могли бы сделать всё молча?
Пустота, думает он. Пустота жизни — вот что страшнее смерти. Пустота, когда вдруг понимаешь: ты устал просто оттого, что существуешь. Пустота, когда не ждёшь от жизни ничего, потому что всё новое кажется одинаково серым. Пустота, когда то, что нужно тебе, не нужно больше никому — а то, что нужно кому-то, совершенно не нужно тебе.
А я думаю: если у него, поэта — пустота, то что же тогда у всех прочих? И ещё: разве есть на Земле хоть один живой человек, который на самом деле знает, что такое пустота?
В бесконечность первый раз: встреча, и… Его мёртвое тело выйдет из кабинета, довольное и радостное, как все они. Нет, он не помирится с девушкой в сиреневых очках, но не станет печалиться из-за этого; да и вовсе не будет о ней вспоминать. Зато вскоре он познакомится с другой (нет, не совсем точно: она познакомится с ним, так правильнее), которая найдёт в нём свой идеал — плевать на душу, всё это глупые выдумки неудачников: идеал в смысле внешних данных, не более. Она — дизайнер интерьеров с именем; поэта она тоже подберёт под интерьер, по форме и цвету, и он займёт место в её комнате среди других предметов мебели. Она — независимая женщина, сделавшая карьеру, а он… кто? Никто, в сущности: на работу он так и не устроится и в конце концов оставит эти никчемные попытки… поэт? Разве что в прошлом: сам не живой более, за несколько месяцев он не родит ни одной новой строчки. И всё же по-своему она будет любить его. Часто выходя вместе в свет, они не раз услышат о том, как подходят друг другу — конечно же, в этом она будет видеть только свою заслугу. Любительница путешествий, она объездит весь мир: Мексика, Индия, Австралия, Центральная Африка — о Европе можно не говорить, там она посетит каждую страну и почти каждый более-менее известный город. Поэт — искренний глупыш, как наивный подросток всюду последует за ней (так захочет она — и разве он может поступить вопреки своему счастью?), получая массу впечатлений, одной пятой которых достаточно, чтобы воплотиться в шедевр. Его жена будет восхищаться местными красотами, а он — неизменно вторить ей; не раз он ощутит безумный телячий восторг — но ни одна из увиденных красот не откликнется в его душе (душе? полноте, о чём это я?) хоть какой-нибудь махонькой, плохонькой рифмой. Они будут вместе долго… так и хочется добавить: долго и счастливо, и умрут в один день! Последнее вряд ли верно — ведь он умрёт здесь и сейчас, — но остальное… да, пусть поэт будет для неё вещью — может, немного более дорогой, чем зеркальный столик или двуспальная кровать в очередных апартаментах («дорогой» — не то слово: кровать определённо обошлась ей в большую сумму), зато он — вещь незаменимая, выбранная единожды и всегда находящаяся на своём месте: всегда под рукой, всегда готовая помочь и, главное, ни на что не жалующаяся — хотя, как и всякая вещь, постепенно приходит в негодность, но разве бывает иначе? Кажется, со временем эта бизнес-леди полюбит его по-настоящему — или нет: скорее, просто привыкнет… а такая ли уж большая разница? Ведь они правда будут счастливы, он и она… она, разумеется, не настолько, как он — только куда уж ей понять? Счастье и любовь (любовь?) будут переполнять его, о да, но…
Такое странное маленькое «но»: поэт — юный старик, вообразивший, что уже открыл для себя смысл жизни и смерти — пришёл ко мне не за счастьем. Да, у него проблемы с рифмами и ритмами — пускай: это техника, которую можно развить и отточить, однако — мысли: сейчас они переполняют его безразмерный мозг, ищут выход и рождают вопросы — вопросы, на которые я не обязан отвечать, но которых не могу не слышать.
Я спрашиваю сам: что ты знаешь о пустоте? — но он молчит, а взгляд снова становится виноватым. И тогда я говорю… повышаю голос — и резко выплёвываю:
— Пошёл вон!
Удивлённый, поэт смотрит: ему не понять, почему тот, кому в силу положения надлежит завлекать людей, вдруг вот так, вроде бы без явных причин, даёт от ворот поворот… Он вспыхивает:
— А если я хочу умереть?!
— Тем более — убирайся, — произношу устало — и тут мы снова встречаемся, а я думаю: лучше бы ты ушёл поскорее, пока у меня не закончился приступ проклятой меланхолии… ну, или как это ещё назвать? И пока я не решил, что ради новой интересной личности в моём собрании могу стерпеть некоторые вещи.
Но я вижу, как поэт гаснет, глядя — не на меня даже — в меня. И, кажется (почему — кажется? так и есть), именно сейчас он узнаёт о жизни что-то, чего не мог знать раньше. Что-то по-настоящему новое; ответ на незаданный вопрос.
Потом я беру его за руку, стаскиваю со стула и волоку к двери; нет, он не сопротивляется — он просто обвис, как мешок тряпья; как бездыханный труп, которым чуть было не стал. Я открываю дверь и выталкиваю его, и поэт едва не падает на грязный линолеум; успевает опереться на безжизненно-серую стену; встаёт, поднимает глаза…
И я захлопываю дверь.
Вспоминаю — ну, вы знаете, это же классика: «тот, кто вечно хочет зла и вечно совершает благо». Теперь пойти бы вниз, в подвал… взять первый попавшийся сосуд, не важно, какой… и шандарахнуть со всей мочи о стену. Взять стерву, ещё кричащую, что я, этакая сволочь, не имею никакого права держать её здесь… приподнять немножко, ощутить в руках вес… подойти к идиоту, который провалился в сон и не ожидает никакого подвоха — и залепить с размаху! Осколки разлетятся по всему полу, и какая-нибудь задремавшая крыса с перепугу рванёт к норе; истоптать в порошок (крысу — тоже, если попадётся под ногу), потом прихватить крутого с его непрекращающимися расспросами — и размолотить о не успевшую ничего понять трусиху. Топтать, топтать и топтать!.. Потом взять ещё кого-нибудь — как же их много, этих идиотов и стерв, этих дур и подонков, этих гадов и мегер, этих сучек и козлов! Бить, давить — и наслаждаться многократно отдающимся в ушах звоном (тоже часть антуража)…
Ну, ладно — ясно ведь, что я этого не сделаю.
И я спускаюсь вниз — но вначале иду не туда, куда обычно. Подхожу к древней, поросшей мохом бочке, открываю кран, и тёмная как моё существование жидкость неспешно наполняет бутылку. А потом я сижу за столом — не за тем аккуратно-деловым, что в кабинете, а за старым, но всё ещё прочным дубовым столом в подвале: без искусов, зато — настоящим. Они все здесь, вокруг: идиот и стерва, трусиха и крутой, и многие другие — некоторые по привычке продолжают возмущаться, а другие любопытствуют, что такого особенного в сегодняшнем дне; кто мудрее и опытнее, просто ждёт продолжения. Напротив меня — пустой стул; беру два вместительных бокала и наливаю терпкое вино последние капли едва не выплёскиваются через край. Ставлю один перед собеседником, которого у меня никогда не будет; поднимаю свой и цокаюсь:
— За твоё счастье, поэт!
Вокруг что-то бормочут голоса, сливаясь в невразумительный гул — я не хочу их слышать, и не слушаю. Медленно, сосредоточив все чувства на одном вкусе, втягиваю в себя пьянящий напиток. Вспоминаю, о чём так и не спросил поэт, и думаю: неужели я не имею права хоть иногда почувствовать себя — ну, пускай не абсолютно — всего лишь немножко счастливым?
19 — 25.07.2003 Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
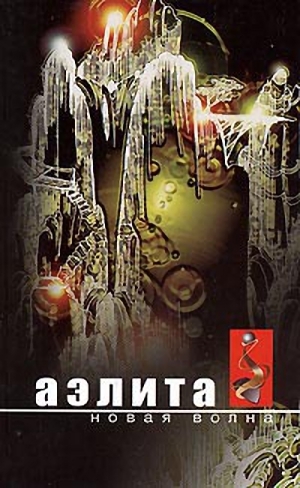

Комментарии к книге «Абсолютное счастье», Константин Николаевич Якименко
Всего 0 комментариев