Андрей Ракитин
Навь
Глава 1.
Туман был густой и синий, проколотый снопами солнечных лучей. Он оседал каплями на деревьях, траве, проводах. Туман был слоистый, как мам - Юлины пироги: зябкий снизу и теплый сверху.
Славка шел в школу кружным путем, через парк и мимо памятника героям войны - длиннее дороги просто не существовало. Но первыми уроками были математики, да еще контрольная, а он вчера целый вечер проносился с Женькой и, разумеется, ничего не выучил. Поэтому можно было не торопиться. Йоська, конечно, рассердится, ну и пускай.
Славка шел, шел, шел. Вообще-то он не очень долго шел - всего лишь от дома до парка, и остановился постоять у моста, потому что надо было как-то потянуть время. Славка стоял, перегнувшись через перила, и смотрел в воду. Над водой тумана не было, бутылочные волны тихо шлепали об опоры моста и заржавленные бока плавучего ресторанчика, из которого доносился шум утренней приборки. Это не мешало Славке думать о том, о чем люди думают, когда им двенадцать лет.
Всадники появились, как в сказке. Славка не сразу услышал их, туман глушил грохот подков. Просто земля легко качнулась под ногами, и Славка, обернувшись, увидел летящих вороных коней с растрепанными гривами, долгие плащи, тусклый блеск кольчуг... Он решил бы, что всадники ненастоящие, если бы капли тумана не блестели на их одежде и волосах.
- Как тебя звать, отроче?!
Славка ошалел. Его обдало брызгами, хлопаньем плащей, запахами конского пота, кожи, железа: всадники промчались, как щелканье бича: вроде и не тушил свечку, а она погасла.
- Славка меня зовут! - закричал он вслед, даже не надеясь, что его услышат, и не понимая, зачем он вообще кричит: этого же быть не может!
Он явился в школу к середине второго урока с таким лицом, что никто его ни о чем не спросил; плюхнул перед собой на стол сумку, вытащил первое, что попалось под руку, и стал рисовать. Его жалели и даже отпустили домой с последнего урока. Славка честно не понял, за что, но пошел.
Дома он швырнул под вешалку сумку, поел холодных макаронов и, не раздеваясь, улегся на тахту. Нужно было подумать насчет всадников. Славка думал так усиленно, что сам не заметил, как уснул.
Проснулся он от скрипа зубовного. Как будто голодный волк клацал над ухом вставной челюстью. Славка ухом не повел, но глаза раскрыл. Вместо волка над ним сидел братец: Дмитрий Сергеич - для соседки, а также Димка для него и Женьки и Димуля для Аллочки и прочих поклонниц, бывших у брата в изобилии. Дмитрий Сергеич был хорош собой, русоволос и сероглаз, спортивен и элегантен, весь в папу Сергея. Славка ему в этом завидовал. Правда, были у брата отрицательные черты, но девушки, взятые на обaяние, этого не замечали. Зато уж Славка знал его, как облупленого. Да-да, более вредного брата вообразить было трудно. Между прочим, Дмитрий тоже так считал. А его мнению доверяли не только сосунки, но и убеленные сединами преподаватели и прочили будущего инженера в аспирантуру. Иженер не сопротивлялся.
Итак, Дмитрий сидел на краю тахты и тихо, но внятно скрипел зубами. На нем был элегантные джинсы, джемпер и белая рубашка с галстуком, а над оными лицо вампира, у которого болит зуб. Дмитрий покачивал ногой в тапочке, а рукой похлопывал по вскрытому письму.
- Ты чего? - поинтересовался Славка.
- Нет, это ты чего?
- Я ничего, а ты чего?
- Спишь, значит?!
- А чего?
- Ты это у меня брось! - гаркнул Дмитрий.
- Вот зачем на ребенка орать?...
Дмитрий иронически прищурился:
- Это кто - ребенок? Это ты - ребенок? Лихо Одноглазое!
- Во, во, во, - пробормотал Славка. - Услышала бы тебя Томочка.
Димтрий слегка позеленел:
- Зато она тебя услышала. Зачем ты ей сказал, что я сказал, что у нее нос длинный?
- А что, неправда?
Дмитрий почесал затылок:
- Вообще-то правда... Но разве девушкам такие вещи говорят?
- А какие вещи им говорят?
- Ну, знаешь!.. И вообще, на, читай.
Славка вытащил из конверта письмо со школьной печатью и медленно прочел его сперва сверху вниз, потом снизу вверх и по диагонали. Тяжело вздохнул.
- Ну, что? - осведомился Дмитрий.
- Зануда она.
- Не понял?..
- А вот: "Проявляет грубость и неуважение к учителям, игнорирует замечания, отказывается принимать участие в пионерской жизни класса и выполнять поручения, сорвал внеклассное мероприятие, невнимателен на уроках..."
- Что, неправда?
- Пра-авда, - протянул Славка, - только ихняя. А я не гвоздь, чтоб не высовываться. Пристают со своим металлоломом, будто делать больше нечего, нам одно говорят, а в учительской другое, и вообще... - он горестно махнул рукой.
- Жалко тебе, что ли, металлолом собрать? Железок полный сарай...
Славка побледнел и подскочил:
- Не дам папин мотоцикл трогать! Лучше я тебя вместо мотоцикла сдам, чучело ты железное, совсем спятил, да?!
Дмитрий смутился. С одной стороны, следовало бы напомнить, как со старшими разговаривают, а с другой... У самого еще сердце болит, если вспомнит, хоть он уже взрослый, а Славка... Когда пришла телеграмма, что папа и мам-Юля в Крыму разбились с автобусом, дед сказал Дмитрию, а от Славки телеграмму спрятали. А тот все равно догадался. Зеркала завесили и цветы поставили рядом с фотографией, а он стал кричать со слезами, и деду пришлось рассказать. А он все равно не верил... Отцов мотоцикл в сарае стоит разобранный, и хорошо бы продать: деньги нужны, да Славка не дает... А дед умер через два года после родителей, и теперь они вдвоем. И как же трудно этого брата воспитывать...
- Ну ладно, - сказал Дмитрий. - Ну хорошо, - он потрепал Славку по голове, хотя тот и отстранялся. - Давай дневник и кончим на этом.
Но Славка сказал, что ему лень слезать с тахты, тут тепло и уютно, и пусть Димка идет себе сам, если ему так нужно. Димка сообщил, что он бармаглот, и пошел:
- Что эт-то?
- Дневник, - сказал Славка.
- Это я вижу. А в дневнике - что?
В дневнике не могло быть ничего угрожающего. Учебный год только начался и даже не по всем предметам спросить успели. А Йоськину запись о поведении Димка видел вчера.
- А что?
Тут Дмитрий сунул ему под нос раскрытый дневник.
- Ну, лошади вверх ногами, - пробормотал Славка.
- Где - лошади? Ты соображаешь хоть что?!
- В дневнике, - честно ответил он. - А откуда?
Димка сел на стул.
- Это я у тебя спрашиваю, откуда!
Славка сам ничего не понимал. С утра в голове, конечно, крутились какие-то всадники, но он думал, что это ему приснилось. И уж в дневнике он рисовать бы не стал, да и не он это рисовал, он так и не умел вовсе. Кони, скачущие наискось через страницу - тонконогие, с длинными, искрящимися гривами; и всадники с лицами, каких у нынешних людей не бывает, от них даже жутко делалось.
- Ух ты, - восхитился Славка. - Мне бы так...
В ответ Дмитрий пообещал поймать неизвестного художника и надрать ему уши.
- Ничего ты в искусстве не понимаешь, - вздохнул Славка.
- А ты понимаешь?! Вот и объясни, что это такое!
Дмитрий даже немного закашлялся от своего рычания.
А Славка неожиданно для себя произнес неизвестное гулкое слово. Он никогда его раньше не слышал, просто вот так взяло и качнулось в голове:
- Навь.
Глава 2.
Славка засунул руку под подушку и вытащил оттуда Лихо Одноглазое. У Лиха были проволочные ручки и ножки, пушистое тело с розовыми ушками и развесистый хвост. На его физиономии сверкал одинокий зеленый глаз, сделанный из пуговицы. На вид пуговица была вкусная, похожая на леденец. Вторую такую же Славка отгрыз, когда ему было лет около пяти: решил проверить свои ощущения. А мам-Юля стонала, что у нее растет не ребенок, а изверг, и что придется везти его к врачу вынимать пуговицу, и вообще, дед Вацак лучше бы подумал сначала, чем шить такое чудовище. "Что старый, что малый, " - заявила она в конце-концов и так хлопнула дверью кухни, что с потолка посыпалась штукатурка. Папа Сергей сгреб Славку и поволок в поликлинику на рентген, но пуговицы не обнаружили. Нашлась она через месяц, и дед объявил, что пришивать он не будет из принципа: а вдруг внучек вздумает откусить ее по новой. И Лихо осталось одноглазым и дожило до почтенного возраста, которого не достигли другие игрушки. Славка, однако, считал, что оно не игрушка, а друг, и обращался к нему в трудные минуты жизни, как, например, сегодня.
Славка лежал, тяжело вздыхая, с ногами на подушке - у кого угодно заболят ноги, если полтора часа простоять в углу - и жаловался Лиху, как трудно ему с братом живется, и нет у них взаимной любви. Одно Лихо его понимает и Женька, да и тот не всегда. Вот был бы жив дед...
- Несправедливо людей за правду в угол ставить, - сообщил Славка. Лихин глаз блеснул сочувственно. - И ископаемым обзывать. Мол, носится со своей историей, когда люди железные дороги проектируют и в космос летают. Космос, конечно, космосом, но одно другому не мешает. А если бы он узнал, что я с тобой вожусь, он бы смеялся сатанически: "Вот, детинушка вымахал, двенадцать лет, а все в игрушки играет, " - издевался бы. А я и не говорю, что ты игрушка. Ты - друг, - повторил Славка, гладя Лихо по тому месту, где должен был быть нос.
Последнею мыслью, с которой он засыпал, было: а были ли всадники?
Славка вначале вообще не сообразил, отчего он проснулся. Лихо мирно грелось у щеки, на потолке горел квадрат лампы: бедный Димыч делал в зале чертежи.
Цокот копыт был далеким и глухим, и оттого Славка решил, что все ему снится. Но тут громко постучали в окно. Славка подскочил на постели. Где-то заржала лошадь. И Славка бросился открывать - как был, в одних трусиках.
Дмитрий и вправду сидел за чертежами. На бегу Славка своротил табуретку, чашка, что стояла на ней, раскололась, а чай вылился на Димкины шлепанцы.
- Куда тебя черт несет? - хриплым шепотом заорал Дмитрий.
- Так стучат же...
- Брысь отсюда, - велел Дмитрий. - Сам открою.
Дмитрий был сонный и злой, и незваным гостям, пожалуй бы, здорово досталось. Вообще- то он думал, что на такие штучки способен только Женька: заявиться в три часа ночи, перебудить весь дом и с невинной улыбкой сообщить, что мама прислала его за солью. Хотя Женька жил на другом конце города. Но уж если навещал деда, то гостил у него прочно, со Славкой они были не разлей вода. Хотя непохоже, чтобы стучал мальчишка, уж больно громко и воинственно, но с Женьки станется: "Я так стучал, так стучал, думал, вы спите..."
С такими отнюдь не радужными мыслями Дмитрий распахнул дверь и, поежившись под курткой от ночного холода, двинулся к калитке.
Славка не дождался, чем кончились его переговоры с ночными гостями.
Проснулся Славка от надсадного трезвона будильника, прихлопнул его рукой. Проворчав: "Что за мода по воскресеньям часы накручивать?", сунул Лихо под подушку и поплелся на кухню. К его удивлению, Дмитрий сидел за столом и мрачно жевал бутерброд. В чашке дымился кофе. Славка втянул носом ароматный парок и осведомился:
- Ты чего тут делаешь?
- Сижу, - ответил Дмитрий, поддерживая лоб ладонью.
- А чего сидишь? Воскресенье же...
Дмитрий слегка подпрыгнул. Бутерброд шлепнулся на пол маслом вниз, хорошо, что не на джинсы. И тут Славка увидел синяк на братцевом лбу.
- Ой, - поразился Славка. - Ты где это так приложился?
- Я-а!? Это всаднички твои приложили!
Установилась тишина, в которой потрескивали электрические искры. Искры исходили от Дмитрия. Славка намочил кухонное полотенце и обмотал им брату лоб. Было это делом безнадежным, но Славка не мог покинуть Дмитрия в беде.
- Ой, Димка, - вздыхал он. - Хорошо, что тебе в институт сегодня не надо...
- Издеваешься, да?
Славкины глаза обиженно раскрылись:
- Пятница сегодня, - горестно произнес Дмитрий и утер полотенцем лицо.
- Не ври! Я же уроки не сделал!
Дмитрий вздохнул и сказал, что ему бы Славкины заботы. Подумаешь, уроки какие-то...
Славка сильно удивился и подумал, чем же Димыча так стукнули, что он вдруг поумнел и перестал считать уроки главным занятием.
- Дим, а Дим, - он потерся ухом о братнино плечо. - Ты только не злись, чем тебя звезданули, а?
Димтрий вскочил, отшвырнул полотенце, и, как раненный лев, заметался по кухне, выдавая на одном дыхании:
- Р-распускают киношников, чтоб они сгорели со своими копьями! Чтоб их...
Он поскользнулся на бутерброде, взмахнул руками и сел верхом на табуретку.
- Ну, ты талант, - оценил Славка, сияя восторгом. - Я бы точно на него грянулся.
- Сги-инь! - заорал брат.
Глава 3.
В низине чуть слышно пофыркивали кони, полз, собираясь, туман, и монотонно квакали лягушки. Вверху, над головами, плыли по звездному небу черные кроны сосен. Но и кроны, и звезды были видны, только если уйти в темноту от костра. Славка сидел скорчившись, поджав под себя ноги и хлопая ладонью по плечам и голым коленкам - комары угрызали, даже дым их не спугивал. Да и ветра тут, среди деревьев, почти не было.
Над костром в котле булькало варево. Есть хотелось страшно. Только Славка не уверен был, что накормят. Не потому, что не дали бы. Просто уж очень компания странная. "И комары их не едят," - прошептал он сердито, озираясь. Люди сидели поодаль, за кругом света, Славка все пытался сосчитать их и сбивался. Много, в одинаковых грубых плащах с капюшонами на лицо, а может, и лиц-то там не было. Только руки кое-где видны из-под плащей - тяжелые большие ладони на рукоятях кордов, на луках, рядом еще мечи, самострелы, непонятные круглые штуковины с шипами. (Когда шарик один - это кистень, а когда много? ) Из-за темноты Славка этого не видел, просто знал. И ему делалось неуютно.
На свету оставалась одна женщина - в холстинной сорочке с надетой поверх разрезной юбкой, щекастая и простоволосая. Две тяжелые косы на голове красно-золотой короной взблескивали в свете костра. Женщина наклонялась над котлом, помешивала в нем большой деревянной ложкой, пробовала, подсыпала что-то, то морщась, то улыбаясь. Поглядывала на Славку. Лицо у ней было широкое и доброе, и когда он смотрел на повариху, почему-то становилось легче. А попробуй она положить ему руку на затылок, сказать "Ну что ты, болестный...", Славка бы ткнулся ей в колени и расплакался. Но она только взглядывала искоса и опять повертывалась к костру. Воины в плащах сидели, словно каменные. Славка вздохнул. И вдруг почувствовал движение. Повариха тоже оглянулась. Тогда решил повернуться и он. И когда глаза привыкли к темноте, понял, что она не такая уж непроглядная. Сосны на холме высветил иззади месяц, и от них к костру протянулись тени, а трава между тенями серебрилась, и в ней мерцали какие-то цветы. И от сосен - совсем бесшумно и плавно шел человек, не шел, скользил на ходу, лишь крылья плаща приминали травы. А за его спиной небо было совсем голубое.
Человек подошел к кругу света и опустился на траву, точно надвое разделенный светом и тьмой. Застыл, подтянув к подбородку колени. Край плаща сполз случайно, и Славка разглядел худую босую ногу, по щиколотке перечеркнутую черным от запекшейся крови шрамом. И тут сзади что-то тихо стукнуло.
- О господи!
Это были первые живые слова, услышанные тут. Славка даже вздрогнул от неожиданности. Повариха стояла закаменев, уронив ложку.
- Да как же это они, по живому? - грудной теплый голос звучал испуганно.
- А как же иначе? - незнакомка отозвалась с усталой насмешкой, прикрывая рану плащом. - Только по живому и надо. Иначе разве почувствуешь?..
У Славки по спине пробежали мурашки. А повариха уже суетилась, позабыв, что вскипевшее варево вот-вот выльется в огонь. Вытащила откуда-то чистую тряпицу, склонилась над незнакомкой.
- Эй, поди воды принеси! Оглох, что ль? Збанок не забудь!
Славка вдруг понял, что это к нему. И обрадовался, и испугался...
Женщина безразлично смотрела, как повариха смывает с ее ноги кровь, обматывает тряпицей. Потом глянула на Славку. Глаза у нее были черные, совсем мертвые. Он не успел испугаться. Женщина протянула руку. Понял - за збанком. Там еще оставалась вода. Отпила немного, вернула збанок.
- Надия! Щи твои, гляди, убегут.
Повариха охнула, кинулась к котлу. А женщина без улыбки вновь обернулась к Славке:
- Ну, здравствуй, отрок. Говори.
- Чего говорить? - не понял он.
- К нам с пустяками не ходят, Лихослав.
Славка так поразился расшифровке своего имени, что не нашелся, что ответить. И вообще, по правде говоря, ему было страшно. Славка попытался припомнить свои беды. Ну, с Димкой разругался. Йоська в дневник записала. Все это были мелочи, внимания не достойные.
- Я сюда случайно попал, - честно сознался он.
Женщина глядела на него снизу вверх, откинув голову. Славка смутился под ее взглядом, уронил збанок и стал сосредоточенно тереть исцарапанный локоть. И пока тер, вдруг сообразил, где слышал ее голос. На мосту. И после...
- Это вы Димку копьем по голове шандарахнули?
Славка прикусил язык. Мамочки, что он несет? В траве вдруг блеснуло вороненое ложе самострела. Женщина задумчиво погладила его рукой.
- Странно ты выражаешь свои мысли, отроче. Но, по сути, ты прав.
Славка почти успокоился: если не убили за дерзость сразу, то уже не убьют, - и попросил:
- Не зовите меня отроком, пожалуйста.
У костра рассмеялись:
- Хороший мальчонка, зубастый!
Славка вдруг увидел вокруг себя лица - усатые и безусые, веселые и мрачные, но все славные, живые. От костра вкусно потянуло щами, Надия громко стукнула ложкой. Славка почувствовал себя здесь почти своим. И только у той, что с ним говорила, лицо было мертвое.
Надия налила Славке полную миску, и он глотал, обжигаясь, а повариха смотрела, подперев щеку ладонью, и сердобольно вздыхала. Другие тоже ели, подсмеивались, нахваливали щи, и Славка удивился, что навь ест, как люди. Только та отказалась, опять была не как все. Сидела на плаще, гладила самострел, а где-то высоко над ее головой висела острая звезда. Потом Славка, кажется, задремал. И сквозь сон пробилось к нему: Карна - как удар надтреснутого колокола. Он с трудом разлепил веки. Навье воинство седлало коней. Кто-то встав на колени, помогал женщине натянуть сапоги. Она вдруг застонала.
- Останешься? - спросил мужчина тихо, помогая ей встать.
- Нет.
Славке показалось, что он видит недозволенное. Он старательно прикрыл глаза.
Снилось ему кладбище - то, где похоронили деда. Старое, которых теперь и не осталось вовсе. Дорожка между бревенчатых, без окошек, стен, крытые тесом крыши, а за ними холм, высокие редкие сосны с черными кронами, и между сосен кресты. Обомшелые, почерневшие от непогоды, наклоненные, а то и вовсе поваленные. Даже не кресты, каплички(часовенки) - столбики под двускатными крышами, в нишах иконы. На перекладинах качаются выцветшие ручники, засохшие венки, пучки бессмертников. На земле под крестами слежавшаяся иглица, сквозь нее проклюнулась трава, в низинке темное озерцо воды. Иглица глушила шаги, и он почти не боялся, что идущая впереди женщина его услышит.
Взойдя на холм, она остановилась.
Полоска зари догорала справа, за частым лесом; небо там было светло-голубое, почти бесцветное, а левей, к востоку - густо-синее, и на нем проступали звезды. А одна, давно знакомая, огромная, стояла над ее головой. Мерный шорох сосен убаюкивал, а очнувшись, Славка вдруг заметил, что вместо крестов стоят на холме всадники - тени на высоких конях - и их тяжелые плащи опадают по обе стороны седел, и месяц блесит на копейных остриях. И тогда Славка услышал ее голос:
- Не могу. Вы мертвые, а я живая. Я даже не знаю, встретимся ли мы потом.
И наступило молчание.
- Не могу! Не могу без вас! Возьмите...
Где-то ударил надтреснутый колокол.
Ночь протечет, и мы уйдем
во тьму,
во тьму...
Сами ли собой сложились в голове у Славки эти слова или он услышал их сейчас?.. Всадник принял женщину на седло. И, на ходу выстраиваясь по трое в ряд, навьи двинулись мимо мальчишки по проселку, белому от месячного сияния. Славке почудилось, что они видят его, он застеснялся, попятился, запнулся о какой-то корень и, опрокидываясь на спину, услышал:
- Лихослав, чертушка! Ты в школу будешь собираться?
Вздрогнув, Славка распахнул глаза и полубессознательным голосом вопросил:
- Дмитрий, а что такое "Карна"?
По горькому опыту зная, что от Славки так просто не отвяжешься, брат стал нудно объяснять то, что он помнил из "Слова о полку Игоревом..." о славянской мифологии.
- Все. А теперь в ванную и завтракать. Марш, марш! - и подумал, что дите чересчур увлеклось этой самой мифологией, а Йоська, черт, Елена Иосифовна, опять намекала, что Дмитрий забросил воспитывать брата. Карна! Надо же! "Ох уз эти всадницки!.." - скопировал он интонации любимого мультика и расхохотался.
Глава 4.
Кричала, надсаживая горло, срывая голос. Коротко тренькали тетивы. Бухали конские копыта, расплескивая воду и грязь. Валились, надламываясь, измызганные кусты.
- Упредил кто-то... эх! - с горьким сожалением.
Сухо и страшно хряснуло под копытами.
Бежать, как заяц, петляя и волоча ногу... Бежать?!
Кони шли по ней с глухим чавканьем, сминали, били по рукам, заслоняющим грудь. Розовая пена лопалась на губах вместе с дыханием. Она все старалась отклонить голову от занесенного заляпанного грзью копыта, вжаться, втиснуться щекой в болотную жижу. Ударило вскользь, содрало кожу на виске. Серебряные гвоздики на подковах...
- Огневица прикинулась...
- Не жилица, нет.
Слова донеслись, как сквозь плотный ком тумана. Потом - смачное хряканье. Почудилось - конь вновь навис над ней. Попыталась уклониться.
- Лежи, лежи... - испуганное.
Смяли всю, истоптали. И бросили на что-то острое, но это почти не больно. Догадалась - сосновые лапки. Концы на них обрубили. Чтобы Чернобог не дотянулся. Все равно дотянется. Он и сверху, и снизу, всюду. И в ней самой.
- Жива, Живица, разрыв-травица... На росы утренние, на зори вечерние... отведи: отпусти... камень-Горюн на море стоит...
Слеза потекла по щеке. Даже стереть ее не может. Но слеза точно сожгла туман. И она увидела низкую столь, дымовую дыру, пучки травы, подвешенные к матице. Смолкой запахло. А на себя она не смотрела.
- Очнулась, дитятко, очнулась... - с таким ласковым, безмерным удивлением.
- Нет, - ответила глухо, прикрывая глаза. - Убили меня.
Убили.
Заговоры-наговоры, как паутинка пряжи на веретено. Боль тупая изнутри, отовсюду. Когда шевельнуться пыталась - резало, как ножом. От сосновых лапок шел смоляной запах. Мешался с духом высохших трав. Больше всего отчего-то пахло бессмертниками. Сухо и сладко. И отовсюду смотрели их желтые венчики.
- К осени идет...
- Вынесь на порожек, на солнышко. Солнышком прогреет, ветерком обдует...
- Войско княжье...
Она даже не прислушивалась - так это теперь было далеко.
- Жить должна хотеть, жить! Ну что ты говоришь, середешная моя! Выжила ведь!..
Болью накатывало на нее: болото, сломанный лук, всадники, вороные кони, воронье...
- Кто остался? Где я?!
- Вот, взвару выпей.
Повторила свое злым, настойчивым голосом.
- Мы тут живем, на отшибе. Старый на охоту пошел...
Прикрывшись ряской, поджидало черное "окно"... Кони бились, хрипели. Кричали, пытаясь вырвать ноги из стремян, кольчужные. Она удивилась, что еще помнит это...
Им пришлось своей кровью оплатить гордый ответ полоцкой княжны. Но те, что выжили в этой резне, позавидовали мертвым. Ибо им суждено было видеть, как пылают деревянные стены города, как, вздымая на копьях, швыряют в огонь младенцев, как сестер и матерей насилуют подле убитых мужей. И кровь, смешиваясь, не высыхала на деревянных мостовых, и Полота была кровавой...
Набат, треск огня, ржание коней, лязг оружия, крики, смех завоевателей, тяжелый ползущий по улицам горький дым и гнилой и сладкий запах крови - как над болотами в жару. Некуда от него деться...
Ее волокли по мостовой за косы, полуголую, в разодранной сорочке. Гогочущие дружинники в царьградских бронях - такие же, как и те, что надругались над ней. До сих пор слышатся их голоса...
Копыта зависают над головой, ладные подковы с княжьим титлом...
Рогнеда не видела пылающих стен, князь увез ее на юг...
Женщина кричала об этом разбитым искусанным ртом, а воины не слышали и смеялись. Снег падал в пожары и таял, не долетев...
Она помнит огороженный тыном терем. Луна на ущербе стояла над крышей. Луна была похожа на повисший на колу череп, и от нее шли морозные райдужные круги. Снег похрустывал под босыми ногами.
Ее переняли у леса, волосяная петля затянулась на лодыжках, дернули и поволокли.
Снег под костром протаял, набряк водой, а дальше был слежавшийся, грязный, перемешанный с навозом и соломой, густо и мелко забрызганный кровью. От тына хрипели, надрывались лаем псы, усиливая гвалт, стоящий над двором. Болезненно морщился воевода. Воздух пах жженым рогом и горячим железом, и снегом - свеже и морозно, и когда срывался ветер, запах зимы перебивал остальные запахи. Ей хотелось пить, и она схватила зубами снега - он царапал язык и не таял...
Подошел ее черед, и ее повалили на снег. Она вырывалась, и тогда двое придавили ее коленями и держали за руки, распяв на снегу, а третий подходил, неся в руках зажатое щпцами вишневое от жара железо. Но она еще не видела этого, а видела звезды над двором, а после - нетерпеливо переступающие черные с золотом сапоги. Потом над головой зависло раскаленное кольцо с черным рисунком внутри и стало опускаться... Так клеймили скот и холопов, не делая разницы между ними. Но она же вольная-а!
Она дернула головой, клейно скользнуло боком, опалив волосы, и впечаталось в висок.
... Копыта выбивали шальную дробь. Тучи клубились над головой. У конских ног вился туман, забрызганный звездами. Листья рождались из почек зеленым дымом, разворачивались, набрякая росой, темнели, потом ударяли в желтизну. Перун крутил над яром золотые усы. От костров стелился дым. Белые срубы поднимались над пепелищами. Над срубами на стропила стелили золотую свежую солому, стерня пахла дымом, по ночам осыпались яблоки. С неба падали заревские звезды.
Но не утихала Обида, и Месть бурлила, как жижа в болотах, вскипая пузырями и кругами расходясь по желтой воде. Ползла, как Жель, тайный огонь, что тлеет до поры в земных недрах, но когда вырывается из земли, то все сметает на своем пути. Копыта выбивали шальную дробь, вершники неслись, приникая к гривам, ощетинясь сулицами и чеканами, и то боярин повисал в петле, то валился в пыль разрубленный от плеча княжеский тиун. С холопов сбивали цепи, жгли долговые грамоты, и над боярскими подворьями лопотал крыльями красный петух.
Копыта выбивали шальную дробь. Гремели била. Надрывался вороний грай. Ка-ра, Кар-на... Кар-на...
Было ли это имя той беглой полочанки или имя Обиды, или имя земли, которая подняла на мщение своих детей? Кони летели, дробя копытами оранжевое солнце.
Был зарев с его золотыми туманами и тяжелыми житними снопами, когда княжьи дружинники выследили их. И шли по следу, как волки, когда они гонятся за добычей - приблизив нос к земле и вытянув хвосты. У беглецов устали кони, а лошади дружинников были свежими, и сзади вели поводных. Они скакали в призолоченном заревском лесу, кони были в пене и рты до крови разодраны удилами. А погоня была уже со всех сторон, и со всех сторон хрипло перекликались рога. Ошалелый русак порскнул из-под копыт. Карна натянула поводья:
- Добрич! Уходите тропой через палище!
Какое-то время она следила, как други сворачивают к тропе, и ветки колышутся, смыкаясь за конскими крупами, а потом пустила Чалого в намет.
Она не могла знать, что за палищем ждет засада. И что они не смогут пробиться через нее и повернут назад, к болоту. А когда поймут, что не уйти, честно встретят смерть.
Глава 5.
Каким наивным кажешься себе ты недавний, когда занятия, важные еще день назад, ну, пусть не важные, а хотя бы забавные - то, что считается нормальной жизнью - вдруг отступают перед единственными желаниями: рисовать и видеть сны. Ты не смеешься ни над собой, ни над другими, ты еще не успел осознать, что изменилось и изменилось ли вообще, но мир поражает красками, и ты спешишь, спешишь ухватить эту звенящую радугу, это...
- Зборовский! Я с тобой разговариваю!
Голос классной показался пронзительным. Славка вздохнул и повернулся к окну. У входа в школу сгружали новую мебель и директор, припадая на левую ногу, озабоченно прыгал вокруг. Памятник зенитчицам перед школой был на месте и елочки тоже. Тоска-а...
Усилием мысли Славка отодвинул звуки класса скрипучие и занудные, как осенний дождь, и так же мало замечаемые, и стал просто думать о том, что станет сегодня рисовать. Никогда еще он не рисовал так, как в этот сентябрь. То есть, конечно, рисовал, только это все чепуха была, самолеты, танки там всякие, мушкетеров иногда с такими вот усами ну и прочее, как все рисуют. А теперь - теперь было другое. Прибегал домой и сразу за краски, и внутри что-то так сосало, когда доканчивал; тревожно было. На альбомных страницах гремели колокола, било искрящееся пламя, пленник полз по темнице, волоча за собою цепи, Славка и звон этих цепей слышал, и треск подожженных стен, и видел сами стены, темные, деревянные, с пожелтевшим мохом в пазах. И невесть откуда появлялись на Славкиных рисунках воины в круглых шлемах, и кони, кони, кони, топчущие недоспелую рожь. Зеленой наклонной полосой ложилась она на лист, а над всем этим было синее до звона небо. Такое небо, которого сейчас не видит никто. Славка вчера сидел на полу, и вокруг рисунки разбросаны, и краски стоят, и вода в банке. Димка зашел, посмотрел и вопросил грозно, где он все это взял. Славка, конечно, обиделся. А Димка: "Ни в жизнь не поверю, что это ты рисуешь." А когда Славка тут же, на месте, предложил ему что-нибудь нарисовать, тот и слушать не стал. Пообедал - и за чертежи. А Славке велел заниматься уроками. До чего же все взрослые одинаковые...
Руки Славки механически скатали шарик из бумаги и сунули в рот. Он пожевал-пожевал и плюнул в затылок Светки Матюшевской. Светка развернулась, замахиваясь, и Славка поймал в ее глазах осколок неба.
... в глазах Карны. Расколотый лед. Если лед может быть коричневым, теплым, как янтарь. Если блеклое небо может быть живым. Если мертвые могут любить. Отчего же душу выворачивает наизнанку от желания прикоснуться к просыпавшейся пряди, когда женщина стоит вот тут, на холме, среди незримых мертвых, как слепая, поворачивая лицо и морща кожу на переносице, словно пробуя... услышать? Она знает, что мы тут есть. Как знает, что навалится сутонье, и мы уйдем - мы не можем не уходить. Я был на месте нашего последнего боя. Иней выгладил траву и ямки от подков затянула леденеющая вода. И уже ничего-ничего не осталось от нас, кроме нашей неверной памяти, которая гаснет в сумерки, совсем как тогда, когда на тебя, увязшего в бою, обрушилось гулкое небо. И погасло.
... тут кровавого вина упились и свои, и чужие; посеченные, пострелянные, повалились в едином объятии - смерти не разомкнуть. Ты смотрел, свесясь с коня, как лежит "пернач", растопыря напитанные кровью ржавые перья - вот он, такой же, висит у седла. И скалится, усмехается с неба конский череп. Глотает красное вино заката. Ты ладонью ощутил теплую шершавость плаща и рукояти корда. Рисунок одноглазого солнышка - нити истрепались и повылезли, ну и что? А тот, что лежал под копытами, изрубленный, добиваемый уже после смерти от злости, стыда, от слепой беспомощной ярости... тот был не ты. Ты признал по одежде - и не поверил. Но когда вынул корд добить бьющегося со вспоротым брюхом коня (он какое-то время полз, как человек - оставляя широкую красную полосу на траве), а рука прошла сквозь него - вот тогда ты умер.
Глава 6.
Как бы ни начинались Славкины сны, его всегда неминуемо выбрасывало к этой дороге. Это была заброшенная железнодорожная колея на окраине города, сразу за обрывом Подгорной. Трухлявые шпалы и рельсы, пахнущие ржавчиной, а вокруг болотца талой воды, сохраняющиеся до осени, зарастающие ряской и стрелолистом, со вполне живыми лягушками внутри. Когда Славку негостеприимно стряхивало с обрыва, перемазав глиной и выкачав в шариках чертополоха, они начинали недовольно орать на то, что он нарушает их уединение. Слушая их вопли, он очищал майку и старенькие шорты от грязи и щепок, выбирал колючки из волос, пушистых, как цветки этого самого чертополоха, когда они уже доцвели, и, перепрыгнув зеленеющие лужицы, вскакивал на пути. Поезда здесь не ходили и можно было прыгать со шпалы на шпалу или, раскинув руки, бежать по рельсу туда, где дорога пряталась в тумане среди отряхающих воду кустов и где всегда - дожидался игреневый конь. Или чалый. Честное слово, Славка не умел разобраться. Но всегда жалел, что во сне не оказывается в кармашке шорт куска сахара. Конь медленно переступал, звеня удилами, тепло дышал в ладонь и иногда позволял себя погладить. В последних снах на коне сидел всадник. Славке хотелось узнать, кто он, но он всегда медленно уезжал в сторону ракит, пустоши и бурьяна, а Славка торопился за ним в туман. И потом, скатившись с насыпи и вытряхнув щебенку из сандалий, знакомой тропкой бежал сквозь мокрые заросли, осыпая на себя водяную морось, спускался в ложбину и разжигал костер.
Время не имело значения. Времени не было. Не было вчера и завтра, и братание пращура с медведем и танковая атака под Прохоровкой были здесь и сейчас. И только от него зависело, какое "где" выбирать. Но были черные сосны над холмом, треск веток и рождающиеся в костре янтарные замки и города. И человек, в серебряном сееве сходящий с холма и вдруг перечеркнутый надвое светом и тьмой. Сладкий запах кипрея и головки ромашек, сбиваемые отяжелым от росы крылом плаща. Корзна.
- Ну здравствуй, отрок. Говори.
Могли иногда разниться детали: в котле оказаться кулеш вместо борща, потянуть внезапным холодным ветром или, наоборот, теплом, запахнуть пижмой и рябиной; звезды могла перечеркнуть вынырнувшая ниоткуда тень мохнатой кривой сосновой лапы, которой не было "вчера" и не будет "завтра", но был вечен рисунок созвездий над головой, тяжелое крыло плаща и лицо в лунном серебре. Всегда. Неизменно.
И янтарь костра осенял ночь.
Даже если дома было утро.
"Мне снился сон, короткий сон длиною в жизнь:
земля в дымах, земля в цветах, земля в тиши..."
Однажды он пришел раньше. Или позже. Потому что был ноябрь. Потому что Славка стоял в холодном осеннем лесу, чувствуя, как пропитываются леденящей моросью шорты и рубашка и зубы начинают выстукивать дробь. Потому что ветер остервенело рвал с кленов и осин последние листья, они разбегались по земле с шорохом вспугнутых зверей; и над лесом, почти задевая за ветки, неслись серые тучи. А в поле оказалось еще хуже, и не только потому, что ветер смешанный с дождем резко ударил в спину, а скользкая грязь разъехалась под ногами. И не потому, что сандалия утонула в мутно-желтой воде, а он выбрался жалкий и грязный, жалея, что не остался под деревьями. Случаются плохие сны.
Их можно проснуться.
Или переснить.
Но сон цепко держал его клетью измызганного кустовья, липкостью глины, волглостью опадающих листьев. И самое страшное в этом сне было, что сон чужой.
Хорошо дома прыгать через канавы, прокопанные нерадивыми газовщиками, оскальзываться, шлепаться, поднимая грязь и брызги, и опять нестись, расплескивая янтарь глинистых луж, а потом греться с Женькой у батареи, наперебой обсуждая, как было здорово. Не было ни Женьки, ни батареи, ни нормальной городской осени - только это поле и поднятые в немом проклятии руки сосен вдали. Над холмом. И бредущая вверх старуха в паутине осенней мороси. Черная от воды сорочка, худые лопатки, слипшиеся волосы... а что старуха и воин в лунном серебре, сходящий с холма - одно... Неправда! Неправда!! Не...
- Да-а, - сказал Женька и замолчал, потому что других слов у него не было.
Славка стыдливо переминался с ноги на ногу. С одежды текли на аккуратный коврик под дверью грязные ливни. Зубы Славки стучали громко и отчетливо.
- Раздевайся, - приказал Женька. - А то челюсти выпадут.
- Ш-швои... н-не вы-выпад-дут...
Прыгая на одной заледенелой ноге, Славка пробовал всунуть другую в тренировочные штаны, предложенные Женькой, а тот героически включал стиральную машину.
- Ну? - спросил он коротко, бросая Славке полотенце и ставя на газ чайник.
- Что?
- Солнышко.
- Где?
Женька покрутил пальцем у лба и показал на окна веранды.
- А еще Никодимовна деду рассказывала, как ты исчез посреди улицы.
Никодимовна была их общая соседка, ябеда и сплетница. Но в конце концов растворяться у нее на глазах это не повод. Было видно, что Женька не отступится. Спас Славку закипающий чайник. Женька забегал с ним в поисках подставки и временно отстал. А Славка подвернувшимся под руку огрызком карандаша стал корябать покрывающую стол газету.
- Здорово, - оценил неслышно подкравшийся Женька. (Вот интересно, а если бы он слышно подкрадывался?) Славка взглянул на свои художества. Газету украшал впечатляющего вида самострел. - Сделать можно. - Женька водрузил чайник на край стола.
- В школе много шуму было?
- А-а... -друг пожал плечами. - Звонок прозвенел. Но она грозилась брату сообщить. На варенье.
- Пусть. Она сообщала уже.
Славка задумчиво зачерпнул, не глядя, и тут же метнулся к раковине, жутко плюясь и хватая воздух открытым ртом.
Женька удивленно потянул себя за ухо. Оказалось - больно.
- Ты сдурел?
- Я-а? Это ты сдурел! На! - банка с вареньем очутилась у Женьки под носом. Женька осторожно принюхался.
- А, солидол. Это я велик смазывал. Так будешь рассказывать или нет?
Славка пришел домой, когда уже темнело. Полез за учебниками. Из тетрадки по математике выпал листок. "Навь. Надия." Силуэт всадника. "Карна. Димка сказал - страхолюдина. Димка дурак. Ночь протечет..." Какой он глупый был еще позавчера. С Олькой драться полез, потому что она на весь класс объявила, что он стихи пишет. Ну и что! Лицо Карны стояло перед ним. Славка единым движением сбросил со стола учебники, расправил альбомный лист и нацелил карандаш.
Глава 7.
- Сла-ва! - грозным тоном вопросил Дмитрий. - Куда ты девал анальгин из аптечки?
- Кончился, - невнятно буркнул Славка, дорисовывая хвост коня.
- Он не мог кончиться, там четыре пачки было.
- Ну, тогда я его съел.
- С упаковкой?! - брат сегодня явно не страдал чувством юмора.
- Не, упаковку я в унитаз выбросил.
Считая, что разговор окончен, Славка вновь уткнулся в рисунок. Дмитрий взял его за плечо:
- Владислав, я говорю совершенно серьезно! Я, конечно, не верю, что мой брат самоубийца...
- Угу, - Славка ткнул кисточкой в черную краску.
- Славка! Повернись ко мне немедленно! А то я тебя излуплю.
- Это непедагогично, - сообщил Славка, но все же повернулся.
- Куда ты дел таблетки?
- Правду говорить?
- Правду.
- Если я скажу правду, ты все равно не поверишь.
Дмитрий мысленно схватился за голову. И посочувствовал Елене Иосифовне, от души.
- Изверг, - сказал он мрачно. - Все равно говори.
- Это для Карны.
Дмитрий молча сел на стул. Анальгин и древнее божество у него в голове никак не вязались.
- Не пори чепуху, - сказал он уныло.
- Я же говорил, что не поверишь.
- В общем, так, - твердо объявил Дмитрий. - Или через полчаса анальгин лежит на месте, или ты от меня шагу не ступишь, ясно?
- А на твои свидания мы тоже вместе ходить будем? - невинно поинтересовался брат.
- На свидания я тебя запру! В ванной!
Славка тяжело вздохнул и вернулся к недокрашенной лошади. Вот и говори взрослым правду, думал он, себе же хуже. Из кухни донесся запах жарящейся картошки. Может, голодовку объявить?
- Эй, Лихослав! - весело крикнул оттуда Дмитрий. - Что за дама у тебя над кроватью? Я ее раньше не видел!
- Я же не интересуюсь, куда ты Аллочку свою вешаешь, - буркнул Славка.
Нахмуренный Дмитрий вырос на пороге:
- Алла - очень хорошая девушка. И, я оч-чень тебя прошу, отзывайся о ней уважительно.
- А ты - о Карне.
Дмитрий снова сел на стул.
- Еще раз услышу в доме это имя..!
- Услышишь, - пообещал Славка зловеще. Вспомнил, как братцу досталось древком сулицы по лбу, и решил, что это ненадолго помогло. И вздохнул.
Если бы еще Женька был в городе. Но Женьку услали в санаторий. Он только что успел вызвать Славку посреди ночи условным мяуканьем (вот не чужд был классики) и сунуть свернутую трубочкой тетрадь, страшным шепотом потребовав:"Только при мне туда не заглядывай!" Славка и не заглянул, честно продержался до утра - тем более, что спать очень хотелось. А утром уже было можно.
На первой странице Женька писал, что обязательно напишет. Положим, это просто вранье. Или времени не будет, или лень окажется, да и зачем переписываться, разъехавшись на какие-то двадцать четыре дня? Но все равно было приятно. А дальше Димка позвал завтракать. Даже не позвал - потребовал. Хотя какая там вермишель... ведь интересно. "Землетрясение в Сан-Франциско ... года. "Титаник" за два часа до столкновения. Всадник в кольчуге на заледенелой палубе. Списали на шок... И когда за Припятью вспухла малиновым заревом Звезда Полынь, припоздавшие давеча прохожие не связали это и проскакавших по ночному проспекту всадников - по тому проспекту, по которому через два дня пойдут автобусы с детьми... Не видят. Или не верят тем, кто замечал. Один единственный раз навьи упоминаются серьезно - в летописи. Похоже, тогда еще верили собственным глазам, а не авторитетному мнению. (Славка вспомнил, как выслушивал его Женька, завалясь на диван и закинув на поручень обутые в кроссовки ноги, как теребил многострадальное оттопыренное ухо, выдавая:
- Это же какой-то летучий отряд получается. Бери и используй. Только чем потом платить?
- Дурак.
- Да, я дурак, - покорно согласился Женька. И тут же выдал историю про прадеда, который ездил до войны на полуторке и к которому "голоснула" странная женщина, стояла и махала красным платком. Другие не подбирали, а он подобрал. И она сказала ему, когда начнется война. До минуты. Он поверил - и уцелел. Ну и что, что тогда все комсомолки в красных косынках бегали. Во-первых, платок, а не косынка. А во-вторых, из закрытой кабины так запросто не исчезают... ) "Навие полочан побияху." Двери и окна перед сумерками захлопывали так, что косяки вздрагивали. Считалось, что если кто-то выглянет на стук копыт - навь утащит с собой. А утром найдут мертвым. Теперь считается, что было моровое поветрие. Конечно, если не хоронить заразных мертвецов, они утащат кого угодно. А может, они пытались предупредить?" "Они" было тщательно подчеркнуто. Умный человек Женька. И основательный. Но когда Славка, запихнув в рот очередную ложку вермишели, перевернул страницу...
Ночь протечет, и мы уйдем
во тьму, во тьму.
Утро нас уже не застанет здесь.
Но все равно, все равно мы вернемся
к костру своему,
покуда его не задули,
покуда он есть.
Славка переглотнул. Слезы стали где-то очень близко к глазам. Потому что это было как его сны. Только словами. Потому что...
... резкий запах травяной и кровавый, и проходящая сквозь мир рука... как сквозь небо.
Время гладит волосы Карны и раздувает уголья в костре и черную хвою над головой. А смешной солдатик-француз, утонувший в Березине, теребит струну гитары. А ты рубишься с ратником, которого придавило бревном во взятой Батыем горящей Рязани. От сердца рубишься, щедрой рукой. Мертвым не болит. А твое "больно и страшно" тает сейчас в сухом дрожании клинка. И исходит мгновеньями ночь, у которой отобрали сумерки. И щербатый череп луны ухмыляется на закраине набрякшего кровью небосклона. Что думаешь ты, полочанин, беглый холоп, ночной тать, душегубец, когда видишь прижатые ко лбу ледяные руки Карны? Или не думаешь ничего, а просто, присев в повороте, рубишь с плеча, с хаканьем, всю силу тела вкладывая в удар, и меч опускается сверкающей полосой, от которой нет защиты? Каково тебе, мертвому? Болит?
А значит, живой.
Вы падаете в сумерки, как в темный омут, чтобы не помнить - и возвратиться. Сюда, к этому костру, всегда одному и тому же. И что за дело, коли трава по склону прихвачена зазимком, а глубже, под соснами, можно сыскать спелую землянику... и ландыши. Которые цветут! Ночь ваша - единственная, одна на всех, и без того куцая, как заячий хвостик, а ее еще располовинили... Ну пусть не половину, пусть треть... оторвали у без того мертвых, откусили край так волки откусывают край луны - щербатое блюдечко, конский череп на закраине небосклона... А ту, что пробует вспомнить - наградили болью. Воткнутый в землю меч захлебывается палой иглицей. Похмельные гнилые столбы с выжженными глазами - вот они мы. В замети листьев истлевают имена.
Но ведь что-то есть в сумерках, если они под запретом?!
Карна, не надо, не думай. Не надо, Карна.
***
Славка все старался выпутаться из длинных рукавов Димкиной пижамы, а тот не давал, заворачивал сверху, подтыкал одеяло, так что Славка оказался как бы в гнезде и наконец смог согреться. А за окном была ночная гроза, и то и дело вспыхивали, точно клинки, короткие молнии. Славка пил, обжигаясь, чай, поданный братом, а тот ворчал:
- Лихо мое! И в каком болоте ты извозился?
Славка кивал, а когда Дмитрий на минуту вышел, быстро слез с кровати и заглянул за дверь, где спрятал лук.
- Карну ранили, - бормотал он, засыпая.
- Ну что ты городишь...
- Она на то... капище... ходила-ходила. И они ночью, перед дорогой, ей являлись.
- Какое кладбище? Кто являлся?
- Навь, - хрипло выдохнул Славка.
Дмитрий пощупал ладонью его лоб - лоб был горячий.
Славка очнулся, когда кукушка в часах лениво пробормотала одинадцать. В комнате горела прикрытая рубашкой настольная лампа, Дмитрий похрапывал за стеной. Гроза давно окончилась, и только в отдалении ворчал запоздалый гром. Славка знал, что засыпать больше нельзя. Он встал и распахнул окно.
... в холодном осеннем лесу. Ветер остервенело рвал с кленов и осин последние листья, раздувал пламя костра. В костре свистели мокрые сучья, листья разбегались по земле с шорохом вспугнутых зверей. Над лесом, почти задевая за ветки, неслись облака.
Славка тряхнул головой, возвращаясь в знакомую комнату. Веки слипались, першило в горле. Сухая ладонь легла на его лоб, в губы ткнулся холодный край чашки. Славка проглотил (Горькое!..) и открыл глаза. Карна наклонялась над ним. Славке сделалось хорошо, даже горло болеть перестало.
- Тебя не ранили?
- Не ранили, пей, - она снова поднесла чашку к Славкиным губам.
- Горько, - проворчал он.
- Пей.
Сколько он ни вертелся, чашка все время оказывалась перед губами. Пришлось выпить. А Карна взглянула на портрет над постелью:
- Это ты рисовал? Красиво.
Славка, покраснев, ткнулся головой в подушку.
В комнате Дмитрия что-то стукнуло, Карна резко обернулась, и тогда Славка, холодея, увидел аккуратный шов на ее рубашке - там, куда в его сне ударила стрела.
Глава 8.
На стуле возле Славкиной кровати стоял стакан с водой и лежала полураскрытая яркая коробка. Дмитрий выругался:
- Уже до импортного снотворного добрался, изверг!
Потом перевел взгляд на кровать и окаменел. На кровати спал человек. Что это не Славка, брат понял сразу, хотя тот с головой был укрыт тяжелым плащом. Человек спал неспокойно, метался. Край плаща сполз на пол, Дмитрий наклонился, машинально поправляя, и тут же увидел торчащую из-под подушки рукоять меча. У Дмитрия отнялся язык. "Ну все! Душу вытрясу!" - взвыл он в сердце своем и кинулся искать "лихо." Лихо жевало на кухне холодные макароны.
- Владислав! - начал Дмитрий не предвещающим хорошего голосом.
- Димка? Я думал, ты только ночью вернешься.
- Как видишь, я вернулся сейчас, - Дмитрий зловеще усмехнулся. - И я все знаю.
- Ничего ты не знаешь.
- Это почему?
- А потому что Аннушка уже не только купила, но и разлила масло.
- Что? - опешил Дмитрий.
- Ничего. Классику читать надо.
- Ты, Славка, не шути и мне зубы не заговаривай. Кто у тебя в кровати?
- Карна.
Дмитрию на секунду показалось, что он сейчас брата ударит. Он на всякий случай спрятал руки за спину. И спросил очень спокойно:
- И как это понимать?
- Понимаешь, - опустив взгляд, Славка стал возить мыском по щели в половице. - Она простудилась. Нельзя же осенью в лесу... А я могу и на полу.
- А моим мнением ты поинтересоваться не хочешь?
Славка промолчал.
- Та-ак... - протянул после паузы Дмитрий. - И надолго это... гостеприимство?
- Не знаю, - честно сказал Славка.
Дмитрий нервно сдвинул табурет, из конца в конец прошелся по кухне:
- Влади-слав. Я честно обещаю, что тебе ничего не будет, только объясни: как ты устроил этот спектакль?
Славка подавился слюной.
- Это не спектакль.
- Владислав, мы же взрослые люди. А тут сначала хулиганы с копьями, а теперь божество с простудой. Хватит!
- Это не спектакль, - четко выговорил Славка. Он встал, вытянувшись во весь рост, с твердой точкой во взгляде, мучительно напомнив Дмитрию отца.
- Слава, этого не бывает. Сейчас конец двадцатого века. Ты это выдумал.
- Неправда.
Эхо раскатилось дробью подков, зазвенело в кухне шибами. Дмитрию стало вдруг понятно, что брат вырос, что не прижмешь к себе ощетиненного дошколеныша, согревая в руках. Брат вырос и уходил куда-то, куда ему, Дмитрию, не было дороги. Где сосны мучительно взметнулись в небо и куда идет по ноябрю женщина в паутине дождя.
- Карна, - произнес Дмитрий неловкими губами, и Славка обернулся за ним.
В саду, тяжелые, как ртуть, осыпались яблоки, падали в размокшую землю, золотыми елочными шарами светились на голых ветках, с черноты которых, как вспугнутые зверьки, с шорохом разбегались листья. Над домом, над садом плыло в тучном небе вечное яблоко полной луны; серой патиной на жесть холодающих крыш ложилось время. Оно сбегалось в"здесь" и "сейчас" холодной дребеденью капель, дребезжаньем водостоков, мокрым яблоневым листом, налипшим на оконное стекло. Одинадцать веков сумасшедшего времени, застывшего в глазах женщины яблоками и лунами. Раздробленного грохотом копыт в ледяные осколки. Не умеющего лгать.
... - Другие дети ведут себя, как дети, увлекаются машинами, футболистами, на худой конец, носятся с деревянными мечами. Но у вас-то мечи не деревянные! А вдруг я однажды узнаю, что он убит?!
- Нет, - сказала Карна.
- Ладно, - Дмитрий стиснул зубы. - Только все равно... это не для детей.
- Для людей.
- Он ребенок!
- Я знаю. Только судьба не смотрит, когда выбирает, ребенок или большой.
- Знаешь, - сказал Дмитрий раздраженно, - это вы там в своем глухом средневоковье рассуждайте о судьбе. А Славку оставьте. Ему в школе учиться. И все.
... Меч захлебнулся палой иглицей. Ты брела, как старуха, едва передвигая ноги, отбитое нутро болело. Ты не знала, решишься ли на следующий шаг. Седой закат туманом заволакивал глаза, сек лицо пыльной моросью. Иногда ты перегибалась пополам, заходясь кашлем, и стирала с губ кровь небрежно сорванным комком травы. Ты шла. Грязь расползалась под ногами. Дорога натужно взбиралась на холм, под черные шаты сосен.
Карна поднесла руку к горлу.
- Может... быть. Только когда к Полоцку подошло войско Владимира, у нас тоже не спрашивали, хотим мы этого или нет.
- Здесь не война!
Она отшатнулась. Закрыла руками лицо. Дмитрию сделалось неуютно. Хорошо, ладно, кричать не стоило. Но при чем тут Славка? Почему он?
- Славку оставьте. Оставьте, ясно?
Он встряхнул Карну за плечи. Почувствовал щекой и шеей ее мокрую щеку.
- О господи! Да что с тобой? Не смей, слышишь? Не умирай!
- Я не умру. Я не человек. Навь.
...Било. Растресканный воздух. И мальчик в твоем сне. Иногда впереди, иногда - догоняя, дрожа под осенним дождем в легкой рубашке и куцых гаштях, поджимающий и трущий одну о другую ноги. И однажды, когда ты не смогла идти и упала на колени, бросившийся к тебе с криком:
- Карна!
Это имя некому уже было знать. Тебя охватила мгновенная ярость и стаяла, уходя слезами.
Белые волосы мальчика темнели от дождя. И, кажется, он тоже плакал.
"Не плачьте обо мне..."
Карна медленно, не открывая глаз, качнула головой. Слезы просочились сквозь ресницы. Это было глупо, неправильно. Мертвые не плачут. Да что же это делается? Он - ее - целует?
Глава 9.
Славка проснулся от шороха. Громко цокали ходики, на раскладушке возился и постанывал Димка. Славка на цыпочках пробрался к двери в свою комнату. Дверь была приоткрыта, на пол перед нею ложился смутный свет. Карна стояла посреди комнаты, закалывая плащ на плече, почти готовая в дорогу. Под ногой у Славки скрипнула половица, и женщина вскинула голову.
- Славушка? Помоги мне.
Он почувствовал под пальцами ледяные кольца кольчуги и едва не отдернул руки, а ткань плаща была шершавая, теплая, и застежка у запоны очень тугая. А запона красивая - на овальной пластинке летящий олень. Славка бережно коснулся выпуклого рисунка. Олень казался живым.
- Все, - вздохнул Славка. - Ты уходишь?
- Пора.
- Но ведь нельзя же!
Карна взъерошила волосы у него на макушке.
В прихожей Славка быстро накинул на плечи куртку, сунул ноги в сапоги.
- Я провожу, до калитки, - буркнул он.
Ночь обожгла холодом, мокрые черные ветки глухо стучали на ветру, по небу неслись рваные тучи, тьма то внезапно густела, то рассеивалась блеклым светом луны и качающегося на столбе у ворот фонаря. Славка едва не потерял сапоги, бредя по вязкой грязи дорожки, и только у калитки поднял глаза.Всадники стояли слитно, темнее, чем ночь. Чалый Карны приветствовал ее радостным ржанием. Прежде, чем сесть в седло, она обернулась. Славка вцепился в протянутую руку пальцы были горячие и сухие. А край кольчужного рукава обжег стылым холодом. Славке сделалось страшно за Карну, хотелось упросить, чтобы она не ехала, но слова отчего-то застряли в горле, и он выдавил только:
- Ты вернись. Обе-щаешь?
- Обещаю.
Назавтра, возвращаясь из школы, он увидел, что трава у забора и дорожка истоптаны копытами, а на плоском столбике калитки лежит что-то блестящее. Это была запона с оленем. Славка задохнулся слезами. Он сжал запону в кулаке, исколов ладонь, размахнулся выбросить - и раздумал. Поплелся в дом.
- Оладыч! - оживленно приветствовал брат, высовывая голову из кухни. Обед счас будет.
- Не хочу.
Славка мрачно бросил под вешалку сумку, стащил куртку и ботинки.
- Двойку огреб?
- Отстань.
Он почувствовал, что сейчас расплачется всерьез. Кинулся к себе в комнату и замер на пороге.
Карна сидела в кресле, положив на колени толстую книгу, и сосредоточенно шевелила губами. На изумленное восклицание Славки она ответила:
- Читать по-вашему пробую, отроче. Трудно.
Славка, удивляясь безмерно, спросил, что она читает, а узнав, что "Слово о полку Игореве...", с тоской вздохнул.
- Я начинал. Только скучно.
Карна погладила книгу ладонью, откинулась на спинку кресла и начала мерным речитативом:
- Не лЕпо ны бяшетъ, братие,
начяти старыми словесы
трудных повЕстий о плъку ИгоревЕ,
Игоря Святославлича?..
Старый язык, казавшийся непонятным и смешным, вдруг зазвучал отчаянно и тревожно. В нем, как на Славкиных рисунках, летели всадники, пузырилась кровь на траве, лисы лаяли на красные щиты и раскидывала вещие синие крылья дева Обида.
... чръна земля подъ копыты костьми была посЕяна,
а кровию польяна:
тугою взыдоша по Руской земли.
Славка видел поле с росными травами и багровый солнечный свет, и два войска сходились по черной траве.
НЕмизЕ кръвави брезЕ
не бологомъ бяхутъ посЕяны
посЕяны костьми рускихъ сыновъ.
Карна едва дотянула строчку, тяжело закашлялась.
- Не надо! Не надо больше!
Точно возвращаясь из неведомых далей, она открыла глаза.
- Опять напугала тебя, Славушка? Прости.
Он принялся болтать про всякую чепуху - про школу, про мышь, которую грозились подсунуть вредной математичке, про то, как Никодимовна окаменела над следами копыт... А сердце отбивало шальную дробь. Поз-дно...
Тут на пороге появился Дмитрий.
- Здрасьте вам! Лихослав, ты что это творишь?
- А что? - растерялся Славка.
- Обормот.
Димка решительно вынул из его рук стакан молока и кусок батона, обильно политый медом. Причем изрядно отпитый и надкусанный.
- Если у тебя совести нет, - сообщил братец ядовито, - то давай, лопай дальше.
Славка покраснел. И вперед Димки вылетел из комнаты.
Старательно прикрыв кухонную дверь, они слегка пошипели друг на друга в воспитательных целях.
- Мое дело, конечно, сторона, - сообщил Дмитрий наконец. - Только знаешь, братец, если она по ночам будет летать невесть где и возвращаться насквозь мокрая, то проживет у нас до морковкина заговенья. Если от воспаления легких не помрет.
Славка только головой мотнул. Во-первых, унего молоко убегало. А во-вторых, знал он, что Димочка врет. То есть заливает. То есть лапшу на уши вешает. Славка его с рождения знал со всеми его закидонами. И без разницы было, что Дмитрий стоял спиной, упираясь лбом в стекло. Потому что даже эта спина светила и сияла. И Славка понимал, что Димка Карне рад. Очень.
В кухне повисло молчание.
- Да, кстати, - сказал Дмитрий не своим голосом, - я тут горчичники достал. Через ту Томочку, м-м...
Славка сел на табурет. Очевидно, предстоял очередной сеанс войны с Димкиными воздыхательницами. На тему: "Нет, одобрить такие уши определенно невозможно!"
- Так ты это... - продолжил Дмитрий.
Славка понял и порадовался, что сидит.
- Я не умею.
- Я тоже, - Дмитрий сверкнул глазами из-под насупленых бровей и скрестил руки на груди. Короче, самоустранился.
Славка привычно провел мыском по половице:
- Дим, а?
- Надо.
Под зловещим взглядом Дмитрия блюдечко вырвалось у Славки и разбилось, горячей водой укусив колени. Карна обернулась, приподнявшись на локте.
- Нет, нет, - заторопился он, собирая осколки. - Я так... выскользнуло. Он врал и знал, что и Карна, и Дмитрий это чувствуют, но ведь...
- Баклан, - сказал Дмитрий, отбирая у Славки новую порцию горячей воды. Иди уж.
Помог Карне поднять рубашку и наткнулся рукой на шрамы...
- ... так будет, так станет, когда задуют свечу...
Дмитрий прижал ладонью звенящие струны. Сейчас, щелкнув, соединятся контакты, ток побежит по проводам, и вспыхнувший в вакуумной колбе свет заставит тени сделаться тенями. Так проще. И так, пожалуй, честнее. Мертвым лучше оставаться мертвыми.
Глава 10.
- По-моему, ты с ним либеральничаешь, - Алла грациозно потянулась, прекрасно сознавая производимый эффект. - Эти рисунки, всадники...
- Самое странное, что они есть.
Алла взмахнула ресницами:
- Мало тебя на кафедре ругали? Дмитрий, ты же взрослый человек!
- Да, - сказал Дмитрий.
Яркий ноготь Аллочки брезгливо ткнулся в рисунки:
- Не знаю, как ты, но я в своем доме такое бы держать не стала.
Дмитрия слегка покоробило, но он смолчал. Любимым девушкам иногда стоит прощать ригоризм.
- Ну что, что ты в этом находишь? - завелась она. - Веришь в ерунду! Иногда мне кажется, что ты меня не любишь.
Она произнесла это патетическим шепотом - как в сериале, и осторожно, чтобы не размазать тушь, промакнула платочком глаза.
- Да, - сказал Дмитрий. И вдруг опомнился: - То есть, как это?!
Лицо у него в этот момент, по мнению Аллочки, было преглупое.
- Ну-у... - она капризно выпятила губы. - Вот когда-то любили. Эти самые... рыцари. Для дам были готовы на все. Ну там, со скалы прыгнуть...
- Ага! - по-военному рявкнул Дмитрий, лихорадочно соображая, есть ли в окрестностях Гомеля скала и не сойдет ли за нее труба в парке Луначарского.
Алла сморщилась.
- Дурак. Ты для меня даже эти рисунки сжечь не решишься.
- Зачем - сжечь? - удивился Дмитрий. - Славка...
- Ну да, конечно, - девушка всхлипнула. - Он тебе брат, а я никто. Тебе для меня даже этих бумажек жаль!
- Да не жаль! - с досадой выкрикнул Дмитрий, пробуя ее обнять. Алла отшатнулась.
- Да, конечно, брат и все такое. И Карна.
- Что?
- Что слышал! Думаешь, у меня глаз нет?!
Она рванула со стены портрет в тонкой деревянной рамочке.
- Я не стану жечь.
- Тогда я сама сожгу! - она сгребла рисунки в охапку и понесла к ласково подмигивающей в углу зала печке. Листы разлетались по дороге, Алла подбирала их, роняла следующие. Ломая ногти, обжигаясь, дергала дверцу. Швыряла листы в огонь. Их было много, они не вмещались, свернутые, не хотели гореть.
- Кочергу дай! - со злыми слезами в голосе крикнула она. Перемазанная сажей, с растрепанными волосами и размазанной косметикой, она походила на ведьму. Дмитрий машинально исполнил приказание.
Она разворошила рисунки кочергой, огонь разгорелся. И она бросила портрет Карны вслед за остальным. Славка вошел неслышно. Он увидел разбросанные по полу альбомные листы, злорадные глаза Аллы, жадно гудящий в печке огонь. Оттолкнув Аллу, метнулся к устью. Не чувствуя боли, выгребал рисунки из пламени. Скрученные, почерневшие, они лежали на полу. Словно в насмешку, проступали на уцелевших лоскутах цветок, морда лошади, осколок синего неба. Глянули из обожженной черноты глаза Карны. Славка хотел закричать - и не смог. Сердце вдруг замерло, потом упало куда-то вниз и забилось часто-часто. Он глянул на мертвое лицо Дмитрия, на ухмылку Аллочки: "... посмотри, как сходит с ума твой братец," - и сказал тихо:
- Ты их убила.
Там догорали сейчас деревянные стены Полоцка, и копье вонзалось Добричу в грудь, и несжатые колосья падали под копыта, потому что здесь, сейчас совершалась подлость. А он не успел помешать. И он увидел свой последний ненарисованный рисунок: поле, железнодорожная насыпь, комья земли на ней с торчащей желтой травой. А на ржавых рельсах, повернутых к горизонту, вороной длинногривый конь без седока.



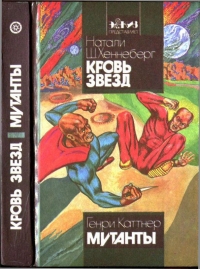

Комментарии к книге «Навь», Андрей Ракитин
Всего 0 комментариев