Ежи Жулавский Победитель. Лунная трилогия
На серебряной планете
Прошло уже около 50 лет со времени той двойной экспедиции, поистине самой безумной из всех, какие человек когда-либо предпринял и совершил. Все это почти забылось, когда вдруг в одном из журналов в К… появилась статья, подписанная ассистентом небольшой местной обсерватории, в которой снова пошел разговор о ней. Автор статьи утверждал, что в его руках находятся не вызывающие сомнений сведения, касающиеся безумцев, запущенных на Луну пятьдесят лет назад. Публикация наделала много шума, хотя вначале и не воспринималась слишком серьезно. Те, кто слышал или читал об этом необыкновенном предприятии, знали, что смелые авантюристы погибли; теперь они пожимали плечами при известии, что те, кого на Земле давно похоронили, не только живы, но даже присылают сообщения с Луны.
Ассистент же продолжал упрямо стоять на своем и показывал любопытным коническую металлическую капсулу высотой 40 см, в которой он обнаружил рукопись, написанную на Луне. Эту капсулу, пустую, искусно открывающуюся внутрь и покрытую толстым слоем ржавчины и гари, можно было осматривать и удивляться, рукопись же ассистент никому показывать не хотел. Он утверждал, что это обуглившиеся бумаги, содержание которых он с трудом читает при помощи специальных фотографических снимков, сделанных с большим трудом и огромной осторожностью. Эта таинственность возбуждала подозрения, тем более что ассистент ничего не говорил о том, как к нему попала эта капсула, но интерес продолжал возрастать. Обещанные объяснения ожидались с определенным недоверием, а тем временем современные печатные издания вновь обратились к истории экспедиции.
Всем стало казаться странным, что она была так быстро забыта… Ведь во время подготовки этой экспедиции не было издания, ежедневного, еженедельного или ежемесячного, которое бы в течение нескольких лет подряд не считало бы своим долгом посвятить несколько колонок этому неслыханному и неправдоподобному событию. Перед самым отправлением экспедиции публиковалось много всяких сведений, касающихся состояния подготовительных работ; описывался почти каждый болт в «вагоне», который должен был преодолеть межпланетное пространство и высадить смелых безумцев на поверхность Луны, известной до этого времени только по знаменитым фотографиям, выполняемым в течение ряда лет в «Лик-Обсерватори»[1]. Любые подробности, касающиеся этого предприятия, вызывали живой интерес; на первых полосах помещались портреты и подробные биографии путешественников. Много шума вызвало сообщение об отступлении одного из них почти в последнюю минуту, меньше чем за две недели до назначенного времени «отъезда». Те же самые люди, что еще недавно обрушивали громы и молнии на весь «нелепый и авантюристический» план экспедиции, а участников ее просто называли полоумными, заслуживающими пожизненного пребывания в сумасшедшем доме, теперь обижались на «трусость и отступничество» человека, который открыто заявил, что надеется умереть на родной земле, и гораздо позже, нежели его предполагаемые товарищи на Луне. Наибольший, однако, интерес вызвала фигура нового смельчака, занявшего освободившееся место. Все предполагали, что участники экспедиции не примут его в свой круг, так как оставалось уже слишком мало времени, чтобы новый товарищ мог пройти обязательные предварительные тренировки, которыми остальные участники занимались в течение нескольких лет, достигнув неслыханных результатов. Рассказывали, что они научились легко переносить сорокаградусный мороз и сорокаградусную жару, обходиться целыми днями без воды и дышать, без всякого вреда для здоровья, более разреженным воздухом, чем на вершинах высоких гор. Каково же было удивление, когда стало известно, что новый смельчак дополнил число «лунатиков», как их называли. Издателей всей печатной продукции доводило до отчаяния только то, что оказалось невозможным узнать какие-либо подробности об этом таинственном авантюристе. Он не только не допускал к себе репортеров, несмотря на их настойчивость, но даже не прислал ни одному изданию своей фотографии и не ответил на их письменные вопросы. Остальные участники экспедиции тоже хранили молчание обо всем, что касалось его особы. Только за два дня до отправления экспедиции появилось более подробное, хотя совершенно фантастическое сообщение. Одному из журналистов удалось после огромных трудов увидеть нового участника экспедиции, и он немедленно разнес весть о том, что это может быть женщина в мужской одежде. Это известие не вызвало большого доверия, впрочем, уже не было времени им заниматься. Наступал решающий момент. Нетерпеливое ожидание уже превратилось в настоящее безумие. Окрестности в устье Конго, откуда должна была «отправиться в путь» экспедиция, переполнились людьми, прибывшими туда со всех частей света.
Фантастический замысел Жюля Верна[2] мог наконец осуществиться — через сто с чем-то лет после смерти своего автора.
На побережье Африки, в двадцати с небольшим километрах от устья Конго, зияло отверстие большого, уже готового колодца из литой стали, из которой через несколько часов должны были выпустить первый снаряд с запертыми в нем пятью смельчаками. Особая комиссия еще раз поспешно проверила все сложные расчеты; была сделана ревизия всех продовольственных запасов и инструментов: все было в порядке, все готово.
На другой день, незадолго до восхода солнца, чудовищный взрыв оповестил на несколько сот километров вокруг, что путешествие началось…
В соответствии с точными и обстоятельными расчетами снаряд под действием силы взрыва должен был преодолеть притяжение Земли, описать в пространстве гигантскую параболу с запада на восток и, войдя в назначенном месте и назначенное время в зону притяжения Луны, упасть почти отвесно в середину ее диска, обращенного к нам, в окрестностях Синус Медии. Полет снаряда, наблюдаемый из разных точек Земли через сотни телескопов, оказался именно таким, как ожидалось. Для наблюдателей снаряд вначале двигался по небу с востока на запад, но значительно медленнее, чем Солнце, потом гораздо быстрее по мере того, как отдалялся от Земли. Это видимое движение было результатом вращения Земли, по отношению к которому снаряд оставался сзади.
Следили за ним долго, но в конце концов вблизи от Луны даже самые сильные телескопы не смогли уже его увидеть. Несмотря на это, связь между запертыми в снаряде авантюристами и Землей не прекращалась ни на минуту. Путешественники, вместе с множеством иных приборов, взяли с собой прекрасный аппарат для беспроволочного телеграфирования, который по расчетам должен был функционировать даже при отдаленности трехсот восьмидесяти четырех тысяч километров, отделяющих Луну от Земли. Расчеты, однако, в этом случае подвели; последнее сообщение было получено с расстояния в двести шестьдесят тысяч километров. Была ли причиной этого недостаточная сила распространения волн, или недостатки в конструкции аппарата, но телеграфное сообщение было прервано. Хотя последнее сообщение звучало вполне оптимистично: «Все хорошо, нет причин для опасений».
Через шесть недель, согласно уговору, была отправлена вторая экспедиция. На этот раз в снаряде разместились только двое; они везли с собой значительно большие запасы продовольствия и необходимых инструментов. Телеграфный аппарат у этой экспедиции тоже был значительно более сильный, не было никаких сомнений, что его мощности будет достаточно для передачи сообщений непосредственно с Луны. Однако с Луны никаких сообщений так и не поступило. Последняя телеграмма была отправлена путешественниками почти у самой цели экспедиции: перед спуском на лунную поверхность. Сообщение было неожиданным. Снаряд по невыясненной причине несколько изменил курс и в результате этого должен был упасть на Луну не отвесно, а под достаточно острым углом. Поскольку снаряд не был предназначен для такого спуска, путешественники опасались, что они могут разбиться при посадке. По-видимому, их опасения сбылись, потому что это было последнее сообщение.
В связи с этим дальнейшие экспедиции были отменены. Нельзя было заблуждаться относительно судьбы несчастных смельчаков, зачем же было умножать число жертв? Люди были охвачены стыдом и жалостью. Самые пылкие сторонники «межпланетных сообщений» теперь притихли, а об экспедициях писали уже только как о безумстве, граничащем с преступлением. Наконец, через несколько лет все это стало забываться и исчезло из человеческой памяти на долгий период времени.
Напомнила об этом, как уже говорилось, статья неизвестного до сих пор ассистента небольшой астрономической обсерватории. Каждый день приносил оттуда что-то новое. Ассистент медленно приоткрывал завесу над своей тайной, и хотя в сомневающихся недостатка не было, на все это стали смотреть гораздо серьезнее. Сенсационное сообщение вскоре разнеслось по всему цивилизованному миру. В конце концов ассистент рассказал, каким образом он оказался обладателем такой ценной рукописи и как ему удалось ее прочитать, и даже позволил специалистам осмотреть ее обуглившиеся остатки вместе с удивительными фотоснимками.
Вот что произошло с этой капсулой и рукописью:
«Однажды, после полудня, — рассказывал ассистент, — когда я занимался записью ежедневных метеорологических наблюдений, служащий нашего учреждения сказал мне, что какой-то молодой человек хочет со мной поговорить. Это был мой коллега и приятель, владелец близлежащей деревни. Мы виделись довольно редко, так как он, хоть и жил неподалеку, в город выбирался редко. Я попросил его подождать, закончил свою работу и вышел в соседнюю комнату, где он меня, как я заметил, в нетерпении ожидал. Сразу после приветствия он заявил, что принес мне сообщение, которое, несомненно, меня обрадует. Он знал, что я много лет занимаюсь исследованием метеоритов, поэтому пришел сказать мне, что в его деревне несколько дней назад упал метеорит довольно значительной величины. Самого метеорита не нашли, так как он упал в трясину и, по-видимому, ушел на значительную глубину, но если мне хочется его иметь, он готов дать мне несколько работников для того, чтобы его достать. Разумеется, я хотел его иметь и, на несколько дней освободившись от работы в обсерватории, поехал на место, чтобы начать поиски. Но несмотря на несомненные следы и усиленную работу, найти его мы не смогли. Мы достали только большой кусок обработанного металла в форме пушечного снаряда, присутствие которого в этом месте очень меня удивило. Я уже стал сомневаться в целесообразности дальнейших поисков и отдал распоряжение прекратить дальнейшие работы, когда приятель обратил мое внимание на этот снаряд. Действительно, он выглядел необычно. Поверхность его была покрыта гарью, какая образуется на железных метеоритах при прохождении через атмосферу Земли. Неужели именно он был тем упавшим метеоритом?
В этот момент, совершенно неожиданно, у меня мелькнула первая мысль. Она напомнила мне об экспедиции, отправившейся на Луну пятьдесят лет назад, история которой хорошо известна. Должен сказать, что я никогда не разделял уверенности о несомненной гибели путешественников, несмотря на безнадежное содержание последней телеграммы, которую получили на Земле. Однако догадки высказывать было рано, поэтому я только забрал снаряд и с большой осторожностью перевез его домой, почти уверенный в душе, что найду в нем ценные сведения об исчезнувших. По его весу я понял, что внутри он полый.
Дома, сохраняя все в глубочайшей тайне, я принялся за работу. Я нисколько не сомневался, что если в этой капсуле находились какие-то бумаги, то при прохождении через атмосферу они должны были обуглиться. Следовательно, нужно было так открыть эту капсулу, чтобы ни в коем случае не уничтожить остатков. При этом у меня сохранялась надежда, что, возможно, что-то удастся из них узнать.
Работа была исключительно тяжелой, тем более, что я не хотел никого приглашать на помощь. Мои предположения были слишком неопределенными, даже, возможно, фантастическими, чтобы можно было их преждевременно разглашать.
Я заметил, что верх капсулы представляет из себя винт, который следовало открутить. Я зажал эту капсулу в больших тисках, чтобы уберечь ее от сотрясений, которые могли повредить ее содержимое, и принялся за работу. Винт сильно заржавел и не хотел поддаваться. После долгих усилий мне наконец удалось сдвинуть его с места. Помню, что этот первый поворот откручиваемого винта наполнил меня радостью и беспокойством одновременно. Я вынужден был прервать на минуту работу, так у меня тряслись руки. Вернулся я к работе только через час, с сильно бьющимся сердцем.
Винт медленно поворачивался, когда я вдруг услышал странный свист. Сначала я не мог понять его причины. Почти неосознанно я повернул винт в обратном направлении, и свист сразу прекратился; стоило мне, однако, снова слегка отвернуть его, свист появлялся снова, хотя был гораздо слабее. Наконец я все понял! Внутри капсулы был вакуум! Свист создавал воздух, врывающийся в середину капсулы через создающиеся щели!
Это обстоятельство окончательно убедило меня, что если в капсуле содержатся бумаги, то они не были полностью уничтожены, так как отсутствие воздуха должно было уберечь их от сгорания, когда капсула раскалилась, проходя через земную атмосферу! И через несколько минут я убедился в правильности этих выводов. Отвернув винт, я нашел в капсуле, внутренность которой была выложена обожженной глиной, сверток бумаг, обуглившихся, но не сгоревших. Я боялся даже дышать, чтобы не повредить этих драгоценных документов. С большой осторожностью я вынул их и… впал в отчаяние. На обугленной бумаге буквы были еле видны, а сама она была такой хрупкой, что почти рассыпалась в руках.
Но будь что будет, а я решил довести работу до конца и прочитать рукопись. Несколько дней ушло у меня на размышления, как это сделать. В конце концов я решил прибегнуть к помощи рентгеновских лучей. Я предполагал, и впоследствии это оказалось правильным, что чернила, которые были использованы, содержали составные части минералов, значит, покрытые ими места будут оказывать большее сопротивление рентгеновским лучам, нежели сама обугленная бумага. Тогда я осторожно наклеил каждый листок рукописи на тонкую пленку, вставленную в рамку, и сделал рентгеновские фотоснимки. Таким образом я получил клише, которое после перенесения на бумагу дало мне своего рода палимпсест[3], где буквы, на обеих сторонах бумаги написанные, соединялись друг с другом. Читать это было трудно, но во всяком случае не невозможно.
Через несколько недель я уже так далеко продвинулся с чтением рукописи, что не видел необходимости дальше сохранять все это в тайне. Тогда я написал первую статью, говорящую о случившемся… Сегодня передо мной лежит вся рукопись, прочитанная, приведенная в порядок, переписанная, и у меня нет никаких сомнений, что она была написана на Луне рукой одного из пяти участников первой экспедиции и отправлена с Луны на Землю.
Что касается остального — содержание рукописи говорит само за себя».
К этому объяснению, которое предваряло оглашение текста рукописи, ассистент добавил краткую историю самой экспедиции.
Он напомнил, что первая мысль о ней возникла у ирландского астронома О’Тамора, а первым ее горячим и несомненным сторонником стал молодой, известный в то время в Бразилии, португальский инженер Петр Варадоль. Третьего товарища они обрели в поляке Яне Копецком, который отдал им в полное распоряжение все свое, достаточно большое, состояние. Эти люди и начали осуществлять меры по проведению в жизнь ясно очерченного плана. Прежде всего эскиз этого проекта был представлен академиям и научным обществам, потом последовало обращение за помощью к авторитетным специалистам для разработки его деталей. Эта идея встретила неожиданно полное признание и воодушевила всех, вскоре она была уже не просто делом нескольких человек, но всего цивилизованного мира, который жаждал выслать своих представителей на Луну, чтобы выяснить подробности, касающиеся этой планеты. По предложению академии и астрономических институтов правительства поспешили с оказанием денежной помощи, не было недостатка и в частных пожертвованиях, поэтому вскоре инициаторы имели в своем распоряжении капитал, с которым можно было снарядить не только одну, но и несколько экспедиций. Так и было решено. Как известно, однако, только две из них состоялись.
Экипаж первого снаряда состоял из пяти человек, в том числе из трех авторов проекта, четвертым был англичанин Томаш Вудбелл, пятым немец Браун, который в последний момент отказался от участия. На его место объявился неизвестный охотник.
В другом снаряде отправились два брата Реможнер, французы.
После этого короткого исторического экскурса ассистент поместил обширные размышления о технической стороне этого предприятия. Рассказывал об изготовлении гигантской пушки в форме стального колодца, говорил о создании снаряда, который после прибытия на безвоздушные просторы Луны можно было превратить в герметически закрытый автомобиль, который двигался благодаря специальному электромотору, описывал защитные устройства, которые должны были уберечь путешественников от гибели при старте и после падения на Луну, наконец, называл всевозможные предметы, из которых складывалось внутреннее устройство и оборудование «переносной комнаты»; Луна не очень гостеприимная планета. Астрономам об этом давно известно, хотя они знали ее издалека и только с одной стороны. Несмотря на неслыханные успехи в совершенствовании оптических приборов в двадцатом веке, Луна победно сопротивлялась попыткам с их помощью приблизить ее настолько, чтобы можно было изучить все особенности ее поверхности. Вращаясь вокруг Земли на расстоянии трехсот восьмидесяти четырех тысяч километров, в телескопах с тысячекратным увеличением она все равно предстает перед астрономами на расстоянии в 384 км, что тоже достаточно далеко. Более сильные же телескопы для ее изучения использовать нельзя, так как при значительном увеличении при небольшой прозрачности земной атмосферы получается столь туманное изображение, что на нем невозможно узнать даже гор, которые хорошо видны через более слабый телескоп.
К тому же изучению доступна только одна сторона планеты. Луна, проходя свой путь вокруг Земли за двадцать семь дней, семь часов, сорок три минуты и одиннадцать секунд, выполняет за этот период только один поворот вокруг своей оси, поэтому всегда повернута к Земле одной и той же стороной своей поверхности. И это не случайно. Луна не является шаром, формой она скорее приближается к яйцу. Сила притяжения Земли заставляет это «яйцо» все время поворачиваться к ней острым концом, так она и вращается, как на привязи, не имея сил повернуться.
Известная астрономам половина Луны, однако, позволила совершенно дискредитировать ее во мнении людей, мечтающих о поселении на других планетах. Эта поверхность нашего сателлита, по территории в два раза большая территории Европы, представляется в телескопах как безводная и пустынная возвышенность, усеянная бессчетным количеством кольцевых горных хребтов, похожих на гигантские кратеры, нередко стокилометрового диаметра, края которых поднимаются на высоту до семи тысяч метров в сравнении с окружающей поверхностью. В северной части обращенной к нам стороны тянется ряд кругообразных плоскостей, называемых селенографами «морями». Равнины эти с крутыми берегами, образуемыми высокими горными хребтами, испещрены в разных направлениях множеством трещин, происхождение которых всегда интересовало астрономов, так как на Земле ничего подобного не существует. Эти расселины иногда простираются более чем на сто километров и имеют ширину в несколько километров, глубина же их доходит до тысячи метров и более.
Если припомнить еще и то, что эта поверхность почти совсем лишена атмосферы, что «день» лунный длится четырнадцать наших и является там летом, во время которого жара доходит до неслыханной температуры, а четырнадцатидневная зимняя ночь гораздо холоднее, чем наши зимы, то перед нами возникает картина планеты, совершенно не располагающей к тому, чтобы избрать ее «местом постоянного жительства». Тем более следует удивляться самопожертвованию людей, которые с опасностью для собственной жизни отправились на эту планету только для того, чтобы увеличить человеческие знания об этом самом близком к Земле небесном теле не вызывающими сомнений сообщениями.
Путешественники, впрочем, собирались как можно быстрее покинуть эту негостеприимную сторону и попасть на другую, скрытую от Земли сторону поверхности Луны, где надеялись найти сносные условия для жизни. Большинство пишущих о Луне ученых утверждает, что на другой стороне атмосфера не такая разреженная, чтобы нельзя было дышать; О’Тамор также, опираясь на многолетние исследования и расчеты, сделал вывод, что там находится воздух достаточной плотности для того, чтобы поддерживать жизнь, а вместе с воздухом вода и растительность, которые можно употреблять в пищу. Впрочем, эти смелые люди были готовы даже на смерть, только чтобы перед этим вырвать у звездного неба одну из его тайн, которые оно ревниво укрывает перед человеком. Их отвагу поддерживала мысль, что их самопожертвование в любом случае не будет напрасным, так как они смогут свои впечатления передать оставшимся на земле людям при помощи взятого с собой телеграфного аппарата. А если, думали они иногда, упоенные величественностью своего начинания, если они найдут на той таинственной другой стороне Луны чудесный и удивительный рай, новый мир, отличающийся от земного, но гостеприимный ли? Тогда они мечтали, что вызовут новых товарищей, чтобы, преодолев сотни тысяч километров, они основали там, на этой планете, новое общество, новое человечество, более счастливое быть может…
Тем временем приходилось считаться с обязательным пребыванием на гористой, безвоздушной и безводной пустынной возвышенности, занимающей всю обращенную к Земле половину Луны. Это был не пустяк. Окружность Луны определяется примерно в одиннадцать тысяч километров, поэтому, если бы они упали, как надеялись, на середину повернутой к Земле стороны лунного диска, им пришлось бы преодолеть около трех, самое малое, тысяч километров, прежде чем достигли бы места, где надеялись иметь возможность дышать и жить. Снаряд, имеющий форму цилиндра, соответственно оборудованный, чтобы его можно было превратить в закрытый автомобиль, содержал запас сжатого воздуха, воды, продовольствия и топлива, которого должно было хватить на пять человек в течение целого года, то есть даже на более долгий срок, нежели требовалось для того, чтобы достичь обратной стороны Луны.
Кроме того, путешественники взяли с собой значительное количество всяких инструментов, маленькую библиотечку и… суку с двумя щенками. Это была красивая и большая английская легавая, принадлежавшая Томашу Вудбеллу, которую, перед отправлением в путь, переименовали в Селену.
Обо всем этом напоминала статья ассистента из К…, которая должна была служить пояснением к изданной вскоре рукописи.
Сама рукопись, написанная по-польски на Луне Яном Копецким, участником первой экспедиции, складывалась из трех частей, написанных в разное время, но связанных в единое целое, и содержала рассказ об удивительной судьбе и пережитых неудачах маленькой группы людей, заброшенных на планету, висящую на расстоянии в триста восемьдесят четыре миллиона метров над Землей.
А вот дословное изложение рукописи, впервые подготовленной к изданию ассистентом обсерватории в К…
Первая часть рукописи Путевой дневник
На Луне, день…
Боже мой, какую же дату я должен написать?! Этот ужасный взрыв, благодаря которому мы должны были оторваться от Земли, лишил нас того, что там считается самой банальной вещью из всего, что существует, он лишил нас времени. В сущности, это ужасно! Подумать только, что здесь, где мы находимся, нет ни лет, ни месяцев, ни дней, наших коротких, роскошных земных дней… Часы говорят мне, что прошло уже больше сорока часов с той минуты, когда мы упали сюда; мы упали ночью, но Солнце все еще не взошло. Мы рассчитываем увидеть его только через двадцать с чем-то часов. Оно взойдет и медленно отправится в путешествие по небу, в двадцать девять раз медленнее, чем там, на Земле. Триста пятьдесят четыре часа оно будет светить над нашими головами, а потом снова наступит ночь, длящаяся триста пятьдесят часов. После ночи снова день, точно такой же, как предыдущий, и снова ночь, и снова день — и так без конца, без изменений, без времен года, без лет, без месяцев…
Если мы доживем…
Мы сидим без движения в нашем снаряде и ждем солнца. О эта ужасная тоска по солнцу!
Ночь, правда, светлая, значительно светлее, чем у нас там — земных ночей в период полнолуния. Огромный полукруг Земли висит неподвижно в темном небе над нами и заливает белым светом эту страшную пустыню вокруг нас… В этом странном свете все выглядит таинственным и мертвым… И холод… Ох, какой страшный холод! — Солнца! Солнца!
О’Тамор с минуты падения еще не пришел в себя. Вудбелл, хотя сам покалечен, ни на шаг не отходит от него. Боится, что у него сотрясение мозга и почти не оставляет нам никакой надежды. На Земле, говорит он, я вылечил бы его. Но здесь, при этом ужасном холоде, здесь, где в качестве продуктов у нас есть только запас искусственного белка и сахара, где мы должны беречь воздух и воду… Это было бы ужасно: потерять О’Тамора, того, который всегда был душой нашей экспедиции!..
Я, Варадоль и Марта, и даже Селена с обоими щенками здоровы. Марта, по-моему, ничего не видит и не чувствует. Она только постоянно следит за Вудбеллом, обеспокоенная его ранами. Счастливый Томаш! Как его любит эта женщина!
Ах, этот холод! Кажется, будто наш закрытый снаряд превращается вместе с нами в глыбу льда. Перо выскальзывает из одеревеневших пальцев. О, когда наконец взойдет солнце!
Этой же ночью, на 27 часов позднее.
О’Тамору значительно хуже, можно не сомневаться — это уже агония. Томаш, ухаживая за ним, забыл о своих собственных ранах и сам теперь так ослаб, что вынужден был лечь. Марта заменила его у больного. Откуда в этой женщине столько сил? Почему, оправившись от первого ошеломления после падения, она оказалась самой деятельной среди нас? По-моему, она еще не ложилась спать.
Ах, этот холод…
Варадоль сидит безмолвный и сонный. На его руках свернулась в клубок Селена. Он говорит, что так им обоим теплее. Щенят мы положили в кровать, рядом с Томашем.
Я пытался уснуть, но не смог. Мне не дает спать холод и этот призрачный свет Земли над нашими головами. Видно уже чуть больше половины ее диска. Знак того, что Солнце скоро взойдет. Мы не можем точно рассчитать, когда это произойдет, так как не знаем, в какой части Луны мы находимся. О’Тамор легко мог бы выяснить это при помощи расположения звезд, но он лежит без сознания. Видимо, за эту работу придется взяться Варадолю. Не знаю, чего он тянет с этим.
По расчетам мы должны были упасть на Синус Медии, но один Бог знает, где мы теперь находимся. На Синус Медии в эти часы должно было уже светить Солнце. По-видимому, мы упали дальше к «востоку», как на Земле называют эту сторону Луны, где для нас Солнце будет заходить — не очень далеко, однако, от центра поверхности лунного диска, так как Земля над нами находится почти в зените.
Столько новых удивительных впечатлений мы получаем отовсюду, что их невозможно ни собрать, ни упорядочить. Прежде всего это неслыханное, просто пугающее чувство легкости…
Марта сказала минуту назад, что у нее такое впечатление, как будто она стала духом, лишенным тяжести собственного тела. Это очень удачное определение. В этом чувстве удивительной легкости есть что-то неловкое… Правда, можно поверить, что ты стал духом, особенно при виде Земли, светящей на небе, как Луна, только гораздо светлее, чем та, которая освещает небо на Земле. Я знаю, что все это правда, но мне постоянно кажется, что я сплю либо что нахожусь в оперном театре на какой-то удивительной феерии. В любую минуту — мне кажется — может опуститься занавес, и эти декорации исчезнут, как сон…
Ведь и об этом мы хорошо знали еще до того, как отправились в путь, что Земля будет светить нам, как огромная неподвижная лампа, висящая на темном небе. Я постоянно повторяю себе, что все очень просто: Луна проходит свой путь вокруг Земли повернувшись к ней только одной стороной, значит, Земля должна казаться неподвижной тем, кто смотрит на нее с Луны. Да, это совершенно естественная вещь, но меня пугает этот светящийся стеклянный призрак Земли, вглядывающейся в нас неподвижно и настойчиво в течение семидесяти часов!
Я вижу ее через стекло в верхней части нашего снаряда и невооруженным глазом различаю темнеющие пятна морей и более светлые очертания континентов. Перед моими глазами медленно проходят, по очереди появляясь из тени: Азия, Европа, Америка — они приближаются к краю этого освещенного глобуса и исчезают, чтобы через двадцать четыре часа появиться снова.
Да, мне кажется, что Земля превратилась в открытый глаз, безжалостный и внимательный, и настойчиво вглядывается в нас, удивляясь на тех, которые покинули ее — первые из всех ее детей.
Тремя часами позднее.
Меня отозвали к О’Тамору, и я прервал свои записи, которыми заполнял долгие часы вынужденного бездействия.
Мы никогда не принимали во внимание то страшное обстоятельство, что можем остаться одни, без него. Мы были готовы к смерти, но к собственной, а не к его! Надежды больше нет… Томаш тоже лежит в жару и вместо того, чтобы ухаживать за больным, сам требует заботы. Марта ни на минуту не отходит от них, поворачиваясь то к одному, то к другому, а мы с Петром совершенно беспомощны и не знаем, что делать.
О’Тамор не пришел в себя и уже не придет. Больше шестидесяти лет он прожил на Земле, чтобы здесь…
Нет, нет! Я не могу произнести этого слова! Это страшно! Он! И в самом начале!..
Мы так ужасно одиноки в этой длинной, окружившей нас жутким холодом ночи.
Несколько часов назад Марта, взволнованная этим чувством пустоты и бесконечного одиночества, бросилась к нам с криком:
— На Землю, на Землю! — и начала плакать.
А потом снова закричала:
— Почему вы не телеграфируете на Землю! Почему не даете туда знать! Посмотрите, Томаш совсем больной!
Бедная девушка! — что мы можем ей ответить?
Она так же хорошо, как и мы, знает, что уже за сто двадцать миллионов метров до Луны наш аппарат перестал действовать… В конце концов Петр напомнил ей об этом, но она, как будто послание этого сообщения могло спасти больных, стала требовать, чтобы мы установили пушку, которую взяли с Земли специально на случай поломки телеграфного аппарата.
Этот выстрел, — теперь это уже единственный способ сообщения с теми, кто остался там.
Мы с Варадолем покорились и отважились на выход из снаряда.
Признаюсь, что перед этим шагом меня охватил страх. Там, за защищающими нас стенами ядра была пустота, вакуум…
И теперь мы должны были выйти в этот вакуум, чтобы установить пушку. Надев наши «водолазные костюмы» и прикрепив на шею емкости со сжатым воздухом, мы встали в углублении стены. Марта закрыла за нами плотные внутренние двери, чтобы вместе с нами не улетел такой необходимый для нас воздух, только тогда мы смогли открыть наружный люк…
Мы коснулись стопами лунного грунта, и в ту же минуту нас охватила страшная глухота. Я видел сквозь стеклянную маску, что Петр шевелит губами, догадывался, что он что-то говорит, но не слышал ни одного слова. Воздух был слишком разреженным, чтобы в нем мог распространяться человеческий голос.
Я поднял осколок камня и бросил его под ноги. Он упал медленно, медленней, чем на Земле, и совершенно беззвучно. Я закачался, как пьяный, казалось, что теперь я в самом деле нахожусь в царстве духов.
Мы вынуждены были объясняться жестами. Земля, которая дала нам жизнь, теперь, освещая пространство, помогала нам понять друг друга.
Мы вынули пушку, размещенную в открываемом наружу укрытии в стене снаряда, а также ящик со взрывчатым веществом, специально приготовленным для нее. Эта работа прошла довольно легко, потому что пушка едва ли весила даже шестую часть того, что на Земле!
Оставалось только зарядить установленное орудие, поместив в середину специального снаряда сообщение; в связи с повышенной легкостью материалов на Луне силы взрыва будет вполне достаточно, чтобы донести его по прямой линии до Земли. Но этого мы уже не смогли сделать. Ужасный, отвратительный холод стянул нас железными обручами. Все-таки уже более трехсот часов здесь не появлялось солнце, а слишком разреженная атмосфера не могла столь долгое время удержать тепло в разогретых в течение длинного дня скалах…
Мы вернулись в снаряд, который показался нам роскошным, теплым раем, несмотря на то что мы экономили топливо!
До восхода Солнца, которое согреет этот мир, не стоит больше пытаться выходить. А этого Солнца нет как нет!
Но когда-нибудь оно появится и что-то нам принесет?
70 часов 46 минут после прибытия на Луну.
О’Тамор умер.
Первый лунный день, 3 часа после восхода Солнца.
Нас уже только четверо. Через минуту мы отправляемся в путь. Все готово: наш снаряд, после того как к нему приделали колеса и установили мотор, превратился в автомобиль, который повезет нас через эту пустыню к тому месту, где можно будет жить… О'Тамор останется здесь…
Мы улетели с Земли, но смерть, великая властительница земных народов, вместе с нами пересекла это пространство и вот сразу же напомнила о том, что находится среди нас — безжалостная, непобедимая, как всегда. Мы чувствовали ее присутствие и всемогущество так живо, как никогда на Земле. И невольно думали про себя: кто будет следующим?..
Еще была ночь, когда Селена вдруг сорвалась со своего места, где лежала несколько часов свернувшись в клубок, и, подняв морду к светящему в окно диску Земли, начала жутко выть. Мы подскочили, как будто подброшенные какой-то внутренней силой.
— Смерть идет! — закричала Марта.
А Вудбелл, который, почувствовав себя лучше, снова находился у кровати О’Тамора, медленно повернулся к нам:
— Она уже пришла, — тихо проговорил он.
Мы вынесли труп из снаряда. В этом скалистом грунте нельзя было выкопать могилу. Луна не собирается принимать наших мертвых, как же она примет нас, живых?
Тогда мы уложили покойника на твердой лунной скале лицом к небу и светящейся на нем Земле и начали нагромождать вокруг рассыпанные изредка по поверхности Луны камни, чтобы сложить из них подобие могилы. Окружив тело невысоким валом, мы, однако, не смогли найти достаточно большой каменной плиты, чтобы прикрыть ее. Тогда Петр через трубку, соединяющую наши головы и дающую возможность общаться, сказал:
— Оставим его так… Разве ты не видишь, что он смотрит на Землю?
Я посмотрел на мертвого. Он лежал навзничь и, казалось, действительно вглядывался широко открытыми, стеклянными глазами в светящееся око Земли, продолжающее жмуриться от блеска еще невидимого для нас Солнца, которое вскоре должно было взойти.
Пусть останется так…
Из двух металлических трубок, оставшихся от оборудования, которое помогло нам не разбиться при падении, мы сделали подобие креста и установили его над изголовьем О’Тамора.
И тогда, когда мы как раз закончили эту печальную работу и должны были возвращаться домой, произошло нечто удивительное. Вершины гор, виднеющиеся перед нами в мертвом свете Земли, вдруг, без всякого перехода, в одно мгновение стали кроваво-красными и сразу же потом засияли белым, ярким светом на фоне все еще черного неба. Подножия гор из-за резкого светового контраста еще больше почернели и стали почти невидимыми, только эти вершины, раскаленные добела, как сталь, висели над нами, медленно, но постоянно увеличиваясь в размерах. Из-за отсутствия воздушной перспективы, позволяющей на Земле оценить расстояние, эти светлые пятна, казалось, висят прямо над нашими головами на фоне черного неба, оторвавшись от основания гор, которое совершенно исчезло. Мы не смели протянуть руки, опасаясь наткнуться пальцами на эти куски живого огня.
А они все увеличивались перед нашими глазами, что создавало впечатление, как будто они приближаются к нам, медленно и неумолимо. Они все приближались и были уже здесь, прямо перед нами… Мы невольно отпрянули, забыв о том, что эти горы находятся за сотни, а может быть, даже за тысячи километров от нас.
Петр обернулся и закричал. Я последовал его примеру и — остолбенел, пораженный новым и неслыханным зрелищем на востоке.
Над черной пилой какого-то горного хребта искрился бледный серебристый столб небесного света. Мы смотрели на него, забыв в этот момент об умершем, когда затем в самом низу столба, сразу же над уровнем горизонта, начали сверкать мелкие, искрящиеся красные лучи, расходящиеся в разные стороны.
Это всходило Солнце! Солнце, ожидаемое с такой тоской, желанное, жизнетворящее, которого О’Тамор уже никогда не увидит!
Мы оба не смогли сдержать слез.
В эту минуту Солнце уже светит над горизонтом, яркое и белое. Эти, предваряющие его появление красные лучики были протуберанцы, гигантские вспышки горящих газов, распространяющиеся во все стороны от солнечного диска, на Земле, где атмосфера приглушает их сияние, они бывают видны только во время полных затмений солнца. Здесь же, благодаря отсутствию воздуха, они возвестили нам о приближении солнечного диска и будут делать это каждый день, бросая на минуту кровавый отблеск на горы, прежде чем растают в свете дня.
Через несколько десятков минут на месте движущегося венца красных лучей, когда свет сполз с вершин в долину, над горизонтом показался белый полукруг солнечного диска; целый час потребовался ему, чтобы полностью показаться из-за тех скал на востоке.
Все это время, несмотря на ужасный мороз, мы занимались подготовкой к путешествию. Дорога была каждая минута, не было времени ждать. Теперь все уже готово.
С восходом солнца стало теплее. Его лучи, хотя и падающие под большим углом, сильно грели, не ослабленные прохождением через охлаждающую атмосферу, как это происходит на Земле. Удивительная картина…
Солнце горит, как светлый яркий шар, лежащий на горах, как на огромной черной подушке. Только два контрастных цвета преобладают в этой картине: белый и черный. Небо — черное, и несмотря на то, что начался день, искрится бессчетным количеством звезд; пейзаж вокруг нас пустой, дикий, пугающий — без переходов света, без полутеней, он наполовину сверкающий от солнечного света, а наполовину черный в тени. Нет здесь атмосферы, которая там, на Земле, придает небу такой чудесный голубой цвет, а сама, пронизанная светом, растворяет в себе звезды перед восходом Солнца и сотворяет закаты и рассветы, розовеет от зари и застилается тучами, перепоясывается радугой и создает нежные переходы от света к тьме.
Нет! Видимо, наши глаза не созданы для этого света и этого пейзажа!
Варадоль, на основании поспешно сделанных замеров относительно высоты Земли на небе, делает вывод, что мы находимся именно на Синус Медии, куда по расчетам и должны были упасть. Мне так не кажется, так как вершины гор, окружающих с запада и севера эту плоскость, ни размером, ни своей высотой нисколько не напоминают те, которые мы знаем по карте: Мостинг, Соммеринг, Шротер, Боде и Паллас. Но, в конце концов, не все ли равно! Мы направляемся на запад, чтобы, двигаясь вдоль экватора, где, если судить по картам, должен быть самый ровный грунт, опоясать Луну и выйти на ту сторону.
Через минуту здесь ничто не будет напоминать о нас, кроме могилы и креста, навсегда обозначившего место, где приземлились первые люди на Луне.
Итак, прощай, могила товарища, первая постройка, которую мы сложили на новом месте! Прощай, мертвый друг, отец наш дорогой и недобрый, который вывез нас с Земли и оставил едва вступившими в новую жизнь! Крест, поставленный на твоей могиле, как будто флаг, свидетельствующий о том, что Смерть-победительница, прибыв сюда с нами, уже взяла в свои руки и этот мир… Мы убегаем от нее, а ты остаешься тут с ней, самый спокойный из нас, смотрящий на неподвижную Землю, которая тебя родила.
Первый лунный день, 197 часов после восхода Солнца.
Море Имбриум, 11° зап. долготы 17°21′ лунной широты.
Наконец-то я могу собрать мысли! Что за страшный, безжалостно долгий день, что за страшное Солнце, горящее огнем на этом черном небе уже в течение двухсот часов! Двадцать часов уже прошло с полудня, а оно все еще стоит в зените над нашими головами, окруженное непогасшими звездами, рядом с черным кругом Земли, обрамленным светящимся обручем атмосферы. Удивительное это небо над нами! Все вокруг нас изменилось, и только расположение звезд то же самое. Те же самые звезды, которые мы видели и на Земле, но здесь, где взгляду не мешает воздух, их видно несравненно больше. Весь небосклон засыпан ими, как песком. Звезды с удвоенной силой светятся зелеными, синими или красными точками, а не сливаются в белый цвет, как на Земле. При этом небо, лишенное цветной воздушной основы, совсем не выглядит гладким куполом; ощущается его безмерная глубина; не требуется расчетов, чтобы определить, какая звезда находится дальше, а какая ближе. Глядя на Большую Медведицу, я вижу, что некоторые звезды находятся значительно дальше остальных, тогда как с Земли все они выглядели, как семь гвоздиков, вбитых в небесный свод. Млечный Путь выглядит здесь не полосой, а сверкающим ужом, вьющимся в черной пучине. У меня такое впечатление, как будто я смотрю на небо через какой-то удивительный стереоскоп.
А самое удивительное — это солнце, окруженное звездами, огненное, страшное, но не затмевающее своим светом даже самого маленького из небесных светил…
Жара стоит ужасающая; скалы, кажется, скоро начнут таять и растапливаться, как лед на наших реках в прекрасные дни марта. Столько часов мы тосковали по солнцу и теплу, а теперь вынуждены скрываться от него, чтобы остаться в живых. Мы уже несколько часов находимся на дне глубокой расселины, которая тянется от подножия обрывистых скал Эратостенеса вдоль Апеннин в глубь Моря Дождей. Только здесь, в тысяче метров от поверхности, мы нашли тень и немного прохлады…
Укрывшись тут, обессиленные усталостью, мы спали в течение долгого времени без перерыва. Мне снилось, что я нахожусь на Земле, в каких-то зеленых и прохладных лесах, по свежей траве стремительно бежит прозрачный ручеек. По голубому небу плывут белые облака, я слышу пение птиц, жужжание оводов и голоса людей, возвращающихся с поля.
Разбудил меня лай Селены, требующей еды.
Когда я, разморенный сном, открыл глаза, то долго не мог понять, где я нахожусь, и что со мной происходит, и что означает эта закрытая машина, в которой мы находимся, что означают эти скалы вокруг, пустые и дикие? Наконец я все понял, и страшное сожаление охватило меня. Тем временем Селена, видя, что я уже не сплю, подошла ко мне и, положив морду мне на колени, начала всматриваться в меня своими умными глазами. Мне показалось, что в этом взгляде видится немой упрек… Я молча погладил ее по голове, и она начала жалостно скулить, оглядываясь на щенят, играющих в углу машины. Эти щенята, Заграй и Леда, единственные веселые существа здесь.
Правда, иногда и Марта бывает веселая, как маленький зверек, но это бывает только тогда, когда Вудбелл, все еще не поправившийся, протягивает руку, чтобы коснуться ее густых черных волос. Тогда ее смуглое лицо освещается улыбкой, а большие черные глаза с безграничной любовью всматриваются в лицо дорогого ей человека, еще недавно такое мужественное и красивое, а теперь увядшее и изнуренное горячкой.
Никогда не забуду тот день, когда я увидел ее в первый раз. Это было почти сразу же после того, как мы получили сообщение о том, что Браун отказывается лететь с нами. Мы сидели тогда вчетвером в Марселе в гостиничном номере, окна которого выходили на залив, и размышляли об этом отступлении товарища, которое не могло оставить нас равнодушными.
Тогда нам сказали, что какая-то женщина хочет немедленно встретиться с нами. Мы еще колебались, принимать ли ее, когда она вошла. Она была одета так, как в южных областях Индии одеваются дочери богатых местных жителей; лицо ее, необыкновенно красивое, выглядело испуганным, но решительным. Мы удивленно вскочили на ноги, а Томаш побледнел и, перегнувшись через стол, стал внимательно к ней присматриваться. Она остановилась у двери, наклонив голову.
— Марта! Ты здесь? — наконец крикнул Вудбелл.
Она сделала шаг вперед и подняла голову. В ее лице не было уже и следа колебания или неуверенности, вместо этого оно выражало одну только безграничную страстную любовь. Огненные черные глаза скрылись за полуопущенными ресницами, губы приоткрылись; она протянула руки к Томашу и сказала, глядя на него из-под ресниц:
— Я пришла сюда вслед за тобой и пойду за тобой даже на Луну!
Вудбелл побледнел, как мертвец. Он схватился руками за голову и скорее простонал, чем закричал:
— Это невозможно!
Тогда она посмотрела на нас и, поняв по возрасту, что О’Тамор самый главный из нас, кинулась к его ногам так быстро, что он не успел отпрянуть.
— Господин, — кричала она, хватаясь за его одежду, — господин, возьмите меня с собой! Я любовница этого вашего товарища, я люблю его, я всем для него пожертвовала, все бросила, пусть же он не бросает меня теперь! Я услышала, что у вас не хватает одного человека, и приехала сюда из Индии! Возьмите меня! Я не доставлю вам хлопот, буду служить вам! Я богата, очень богата, ядам вам золота и жемчуга сколько хотите — мой отец был раджой в Траванкоре[4] на Малабарском Побережье и оставил большое богатство! Я сильная, посмотрите!
Говоря это, она протянула к нему свои смуглые, округлые руки.
Варадоль возмутился:
— Но для такой экспедиции требуется подготовка! Это ведь не поездка на пароходе из Траванкора в Марсель!
Но она рассказала, что втайне от Томаша выполняла те же самые упражнения, что и мы, всегда рассчитывая на то, что в последний момент ей удастся умолить нас взять ее с собой. Теперь она просто воспользовалась возможностью, выполняя давно принятое намерение. Она знает от Томаша, что там, на Луне, нас может ждать смерть, но она не хочет жить без него. И снова умоляла нас взять ее с собой.
Тогда О’Тамор, до той минуты не произносивший ни слова, повернулся к Томашу с вопросом, хочет ли он взять ее с собой, а потом, когда Вудбелл, не в силах произнести ни одного слова, кивнул головой, положил руку на густые волосы девушки и сказал медленно и значительно:
— Поедешь с нами, дочка. Может быть, Бог выбрал тебя, чтобы ты стала Евой нового поколения, более счастливого, чем земное!
Эта сцена и теперь стоит у меня перед глазами…
Но вот Марта снова зовет меня. У Томаша снова жар, нужно дать ему хинин.
Двумя часами позднее.
Жара, вместо того чтобы ослабевать, становится еще сильнее. Мы спустились еще глубже, чтобы от нее спрятаться. Пока она не кончится, нельзя даже думать о продолжении путешествия. Меня охватывает страх при мысли, что нам надо преодолеть около трех тысяч километров, прежде чем мы достигнем цели… А кто поручится нам, что там, куда мы идем, можно будет жить?.. Один О’Тамор не сомневался в этом, но его уже нет среди нас.
Счетчик километров на нашем автомобиле показывает, что мы преодолели уже сто семьдесят семь километров, значит, учитывая время, продвигались со скоростью один километр в час. А ведь мы двигались как можно быстрее…
Мы отправились в путь через четыре часа после восхода солнца, направляясь к западу. Думая, что мы находимся на Синус Медии, мы собирались добраться до плоскости между горами Соммеринг и Шротер, а оттуда, обойдя Соммеринг с севера и запада, приблизиться к экватору и вдоль него продвигаться по направлению к горному кольцу Гамбарт и более высокому, расположенному дальше к западу Ландсбергу.
Прошло три часа, и мы проехали уже около тридцати километров, когда Варадоль, который в свою очередь стоял у руля, остановил машину. Перед нами возвышался невысокий продолговатый скалистый вал, тянущийся с юга на северо-запад. Вал можно было легко преодолеть, но нужно было определить направление, в котором нам следовало двигаться. В северо-западном направлении возвышались неровные, высокие скалы, которые мы принимали за горы кратера Соммеринг.
Теперь мы направили машину на север. Дорога стала гораздо более тяжелой. Грунт медленно поднимался в гору; тут и там встречались трещины, которые было необходимо объезжать, или целые участки, засыпанные обломками скал. Мы двигались теперь гораздо медленнее и с большим трудом.
Прошло уже двадцать четыре часа с восхода солнца, когда мы достигли гладкой поверхности скалы, по которой смогли двигаться быстрее. Здесь было решено остановиться на отдых. При этом странный вид окружающего нас пейзажа все больше начинал нас беспокоить.
Мы все были уже почти уверены, что находимся в какой-то иной части Луны, а не на Синус Медии. Следовало наконец сделать точные расчеты для определения долготы и широты того пункта, в котором мы находились.
Наскоро поев, мы приступили к работе. Петр установил астрономические приборы. Середина диска Земли отклонилась от зенита на 6° к востоку и на 2° к северу, следовательно, мы находились под 6° западной долготы и 2° южной широты, то есть на границе Синус Медии, рядом с кратером Мостинг. В этом не могло быть никаких сомнений, измерения были точными.
Тогда было решено двигаться дальше не изменяя направления.
Мы уже собирались отправиться в путь, когда вдруг Варадоль закричал:
— А наша пушка? Мы оставили пушку!
Действительно, только теперь мы вспомнили, что наша пушка, единственное и последнее средство сообщения с Землей, осталась вместе со снарядами у могилы О’Тамора. Его смерть и похороны так ошеломили нас, что мы забыли забрать с собой такую ценную для нас пушку.
Однако вернуться за ней было нелегко. Прежде всего из-за огромного пути, который мы должны еще пройти, каждый час для нас был дорог, так как в случае непредвиденных задержек запас продуктов и воздуха может иссякнуть, и тогда мы обречены на неминуемую гибель. Мы и так долго задержались в связи с болезнью О’Тамора и знали, что мороз или жара будут задерживать нас в дороге еще десятки раз.
Итак, мы двинулись в дальнейший путь.
От восхода Солнца прошли уже третьи земные сутки, за которые мы продвинулись едва ли на двадцать километров вперед. Жара становилась невыносимой. В душной и разогретой атмосфере автомобиля от постоянной тряски Вудбелл снова впал в горячку. Раны, полученные им в минуты падения на поверхность Луны, снова стали докучать ему. Какое счастье, что, по крайней мере, мы трое обошлись без царапин! Меня охватывает дрожь при одном только воспоминании об этом ужасном сотрясении!
Сначала, еще в пространстве, глухой взрыв мин, помещенных в нижней части снаряда, которые должны были смягчить жесткость падения, потом выдвинутое нажатием кнопки стальное защитное устройство и… Нет, этого мне описать не удастся! Я только видел в последнюю минуту, как Марта, приподнявшись в своем гамаке, прижала свои губы к губам Томаша. О’Тамор воскликнул: «Вот и приехали!»… и потерял сознание.
Когда я открыл глаза, О’Тамор лежал весь в крови, Вудбелл тоже в крови, Варадоль и Марта были без сознания… Из погнутых труб защитного устройства мы потом сделали крест на могиле О’Тамора…
Наши хронометры показывали девяносто восемь часов после восхода солнца, когда, падая с ног от усталости и жары, мы наконец заметили, что приближаемся к вершине той возвышенности, на которую с таким трудом взбирались. За эти четверо земных суток, занимающих чуть больше четвертой части лунного «дня», спать нам приходилось очень мало, поэтому было решено остановиться и отдохнуть. Вудбеллу тоже требовались сон и покой.
Машину мы остановили в тени скалы, которая оберегала нас от того, чтобы живьем не быть зажаренными в горячих солнечных лучах, после чего все легли спать. После двух часов я проснулся, отлично отдохнувший. Остальные еще спали. Мне не хотелось их будить, и я надел свой костюм и вышел из машины, чтобы осмотреть окрестности. Едва выйдя из тени, я почувствовал такую жару, как будто оказался внутри доменной печи. Уже не тепло, а жар лился с неба, обжигая мне стопы даже через грубые подошвы специального костюма. Мне пришлось собрать всю силу воли, чтобы не вернуться тут же назад в машину.
Мы находились в неглубокой скальной горловине, разделяющей два стогообразных возвышения из камня и заканчивающейся среди них своего рода переходом, который, насколько я мог заметить с того места, на котором стоял, переходил в плоскость, выходящую за оба холма по направлению к западу. Эти холмы закрывали мне вид на север и на юг. Только к востоку было открытое пространство, и можно было увидеть путь, по которому мы сюда прибыли. Я смотрел на каменные поля, испещренные котловинами, пропастями, расселинами и скалами — и просто не верил собственным глазам, что мы смогли пробраться через все это на нашем большом и тяжелом автомобиле.
На Земле, где сила тяжести в шесть раз больше, это было бы просто невозможно.
В эту минуту я почувствовал, что меня кто-то толкает. Я повернулся: за мной стоял Варадоль и делал какие-то отчаянные жесты. Я вышел из машины в костюме, но не взял с собой трубку для переговоров, поэтому ничего не мог понять. Я видел только, что он был очень бледным и чем-то страшно растерян. Я подумал, что Томашу стало нехорошо, и побежал к машине. Он пошел за мной.
Едва мы оказались в машине и сняли костюмы, Варадоль сказал, наклонившись ко мне:
— Не буди остальных и слушай: произошла страшная вещь, я ошибся.
— Что? — воскликнул я, еще не понимая, о чем речь.
— Мы упали не на Синус Медии.
— Где же мы находимся?
— Под Эратостенесом, на перевале, соединяющем этот кратер с лунными Апеннинами.
Перед глазами у меня потемнело. На фотоснимках поверхности Луны, сделанных на Земле, видно, что горный хребет, на котором мы находимся, обрывается почти отвесно к расположенной на западе гигантской равнине Море Имбриум.
— Как же мы отсюда спустимся! — в испуге вскричал я.
— Тихо. Один Бог знает. Это моя вина. Мы упали на Синус Эстуум. Смотри…
Он пододвинул мне карту и листки, исписанные столбиками цифр.
— А ты не ошибаешься? — спросил я.
— На этот раз, к сожалению, нет! И те измерения были точными, я только забыл, что тогда Земля не могла находиться в зените над центром лунного диска. Ты же знаешь, что Луна во время оборота вокруг своей оси подвержена небольшим колебаниям, так называемой либрации, в результате чего Земля не стоит неподвижно на небе, а описывает небольшой эллипс. И я забыл нанести поправки в связи с этим ее отклонением от зенита и поэтому определил неправильную долготу и широту точки, из которой мы производили расчеты. Теперь мы можем заплатить за это жизнью!
— Успокойся, — сказал я, хотя сам дрожал всем телом. — Может быть, еще удастся спастись.
Томаш и Марта вскоре проснулись. Нельзя было скрывать от них истинного положения вещей. Я, как можно осторожнее, рассказал им, как обстоят дела. Это не произвело на них слишком большого впечатления. Томаш только поморщился и прикусил губу, а Марта, насколько я мог понять по ее поведению, не очень хорошо отдавала себе отчет в опасности положения.
— Ну что ж, — сказала она, — как въехали, так и съедем, давайте вернемся.
Съедем, как въехали, Боже мой! Ведь то, что мы попали на дорогу, которая нас сюда привела, было чистой случайностью! А возвращаться? — столько сил и столько часов, напрасно потраченных!..
В конце концов мы решили подняться на этот перевал, чтобы посмотреть, удастся ли с него спуститься на равнину Моря Имбриум. Машина тронулась, и через несколько минут мы находились уже над пропастью.
Мы были совершенно ошеломлены тем видом, который открылся перед нами. Скала обрывалась у наших ног почти отвесно, а там, внизу, тысячей метров ниже, насколько можно было охватить глазом, простиралась безбрежная равнина Моря Имбриум, с изредка разбросанными по ней скалами. Отсутствие воздушной перспективы создавало такую видимость, что горы, даже весьма отдаленные, четко выделялись на фоне черного неба, сверкая невероятным светом. Картина поистине волшебная! На минуту мы даже забыли о нашем угрожающем положении.
Мы молча смотрели перед собой, не зная, какой избрать путь.
Оказавшись на плоскости Моря Дождей, мы имели бы перед собой пространство, по которому могли были передвигаться, но вся трудность заключалась в том, как на него попасть, как спуститься с этой, высотой в тысячу метров, отвесной скалы?
После короткого совета мы пешком отправились к югу, надеясь, что, возможно, там удастся найти дорогу вниз. Мы шли по узкой площадке, втиснутой между скалами и пропастью, обрывающейся в Море Имбриум. В одном месте проход был таким узким, что мы хотели вернуться, сомневаясь, что нам удастся проехать тут на машине. К счастью, Марта, которая была с нами, вспомнила, что у нас есть определенный запас мин, которыми можно легко взорвать небольшой, преграждающий нам путь скальный порог. Тогда мы обошли его, пройдя у края головокружительной пропасти, и пошли дальше. Теперь путь, ведущий по гребню горы, стал значительно более широким и плоским, он медленно поднимался вверх. Все же мы продолжали идти к югу; справа и слева громоздились ужасные вершины кольца Эратостенеса.
Примерно через полчаса после того, как мы обошли этот скальный порог, мы остановились перед новой пропастью, которая так неожиданно открылась перед нашими ногами, что Петр, который шел впереди и первым вступил на закрывающий ее от нас порог, отпрянул назад с испуганным возгласом. Действительно, трудно вообразить себе нечто более ужасное, чем картина, которая расстилалась теперь перед нами.
Двигаясь в южном направлении, мы, сами того не зная, оказались в глубокой расселине, находящейся уже в самом теле Эратостенеса. Вправо и влево были видны острые вершины скал, из которых одна сверкала в солнечном свете, другая — лежала в тени и была совершенно черной. А перед нами… нет! кто это сможет описать! — перед нами открылась бездна: бездонная и невероятная, что-то настолько ужасное, содержащее в себе столько угрозы, величия и мертвенности, что даже теперь меня парализует страх, когда я об этом вспоминаю!
Перед нами была внутренняя часть кратера Эратостенес.
Мощный вал, испещренный, как пила, зазубринами, замыкал здесь круг диаметром в несколько десятков километров, создавая большую котловину, наверное, самую страшную из тех, которые когда-либо видел человек. Острые вершины, поднимаясь почти на четыре тысячи метров над дном этой пропасти, спадали вниз почти отвесно. Это выглядело застывшим каменным каскадом, состоящим из огромного количества иглоподобных скал.
Мне невольно вспомнились слова Данте о Долине скорби. И в моем мозгу, ослабевшем от усталости и страха, начал возникать призрак Дантова ада, который, уж конечно, был не страшнее того, что мы видели перед собой! Клубящиеся на дне исполинского котла дымы казались хороводами осужденных на вечные муки душ, кружащих около чудовищной фигуры Люцифера, которую напоминал поднимающийся перед глазами один из вулканических конусов… Множество душ, страшная процессия осужденных. Распространяясь повсюду по скалистым склонам пропасти, они плыли огромными волнами, спускаясь в глубь ущелья, перекатываясь, клубясь, сталкиваясь. Некоторые пытались подняться вверх на свет, на солнце — они отрывались от дна целыми тучами и падали вновь, как свинцовый дым, на место вечной кары… И все это происходило в страшной, вызывающей дрожь тишине…
Мир закружился у меня перед глазами, я чувствовал, что близок к обмороку.
Вдруг до меня долетел плач. Я был так ошеломлен, что в первую минуту подумал, что действительно слышу голос осужденных на вечные муки… Но на этот раз это был не призрак. Плач слышался на самом деле через трубку, соединяющую шлемы наших воздухонепроницаемых костюмов.
Немного придя в себя, я огляделся. Вудбелл, оперевшись спиной о скалу, стоял бледный, с опущенной головой. Варадоль, подобно дикому зверю на привязи, нервно расхаживал, насколько позволял ему грунт и трубка, и оглядывался, как будто искал среди этих скал дорогу и выход. Марта сидела на камнях, опустив лицо на колени, и тряслась от рыданий, вызванных сильным нервным потрясением.
Охваченный жалостью, я подошел к ней и положил свободную руку ей на плечо. Тогда она, как-то по-детски жалобно закричала, как в ту памятную ночь, перед смертью О’Тамора:
— На Землю! На Землю!
Такое глубокое отчаяние слышалось в ее голосе, что я не мог найти слов, чтобы ее утешить. Впрочем, можно ли было это сделать? — положение наше было действительно отчаянным. Я повернулся к Варадолю:
— Что теперь будет?
Петр пожал плечами.
— Не знаю… смерть. Ведь отсюда невозможно спуститься.
— А если вернуться? — спросил я.
— О да! Вернуться, вернуться! — рыдала Марта.
Казалось, что Варадоль не слышит ее плача. С минуту он смотрел прямо перед собой, а потом ответил, повернувшись ко мне:
— Вернуться… разве только для того, чтобы, потеряв много драгоценного времени, опять встретить на своем пути подобную преграду. Смотри! — Он опять повернулся лицом к северу и окинул взглядом необозримую равнину Моря Имбриум, лежащую за нами. — Если бы мы могли туда попасть, перед нами была бы относительно ровная дорога, но мы туда не попадем… Разве что сломав шеи…
Я посмотрел в указанном направлении. Море Дождей, гладкое, освещенное солнцем, показалось мне раем, особенно в сравнении с жуткой внутренней частью Эратостенеса. Оно начиналась тут же, почти у наших ног, казалось так близко, что достаточно прыгнуть, чтобы там очутиться. Однако нас отделяла от желанной равнины тысяча метров отвесной скалы, не подходящей для спуска!
Мы сбились в кучу и уставились на это вожделенное пространство, которое могло нас спасти. Мы не чувствовали усталости и палящих лучей солнца, которое уже наполовину выглянуло из-за края скалы, нависшей над нами.
Через минуту Петр повторил:
— Мы туда не попадем…
Ответом ему было громкое рыдание Марты, которая не могла больше держать себя в руках.
Варадоль потерял терпение.
— Молчи, — крикнул он, хватая ее за плечи, — или я тебя отсюда сброшу! У нас и так достаточно хлопот!
Томаш вдруг выступил вперед:
— Успокойся… и ты не плачь, мы доберемся до Моря Имбриум. Возвращаемся к автомобилю.
В этих спокойно и решительно сказанных словах было столько уверенности, что все повернулись, чтобы исполнить приказ, не смея ни сопротивляться, ни задавать вопросов.
Вудбелл задержал нас еще немного.
— Посмотрите, — сказал он, указывая на обрывающиеся к Морю Дождей склоны Эратостенеса, — видите ту площадку, начинающуюся пятьюдесятью метрами ниже у подножия отвесной скалы? Насколько можно судить отсюда, она достаточно полого спускается к равнине. Оттуда мы могли бы съехать вниз.
— Но эта стена… — невольно прошептал я, взглянув на отвесно обрывающуюся скалу, которая отделяла нас от нее.
— Ерунда! У нас достаточно навыка лазанья по скалам. Мы с легкостью преодолеем эту преграду. А машину?.. Машину спустим, обвязав ее тросами. Не забывайте, что мы находимся на Луне, где сила тяжести в несколько раз меньше, и спуск с высоты в 50 метров значит то же самое, что на Земле спуститься с высоты в 8 метров.
Мы последовали совету Томаша.
Через сто девять часов после восхода Солнца мы начали спускаться по крутому склону Эратостенеса, чтобы достигнуть Моря Имбриум. Почти трое земных суток продолжался спуск в долину, лежащую почти у наших ног. Большую часть пути мы преодолели пешком, обжигаемые немилосердными, все более отвесными лучами солнца, падая от усталости и напряжения.
В течение этих трех суток, не знаю, удалось ли нам поспать хотя бы двенадцать часов, отыскивая каждый раз наиболее затененные места, чтобы укрыться от сжигающих заживо лучей солнца. Моментами зной лишал нас сознания.
Был уже лунный полдень, и солнце стояло над нашими головами рядом с темным шаром Земли, окруженным кровавой каймой насыщенной сиянием атмосферы, когда мы, измотанные до предела, оказались наконец на равнине.
Жара была такой чудовищной, что перехватывало дыхание, а кровь застилала глаза и стучала молотом в висках. Уже и тень не давала спасения! Раскаленные скалы дышали огнем, как жерло доменной печи. Селена тяжело дышала, высунув язык, щенята жалобно скулили, неподвижно растянувшись в углу автомобиля. Постоянно кто-то из нас падал в обморок, казалось, смерть ждет нас у входа в желанную равнину!
Необходимо было спасаться от солнца — но куда?
Тогда Марта вспомнила, что, спускаясь с горы, видела глубокую расщелину, которую, вероятно, заслоняли от нас сейчас неровности грунта. Двинувшись в указанном направлении, мы и в самом деле после часа быстрой езды, показавшегося нам годом, наткнулись на эту расщелину. Это было ущелье с отвесными стенами, образовавшееся благодаря трещине лунной коры, до тысячи метров глубиной и в несколько сотен метров шириной, совсем непохожее на земные овраги и ущелья.
Простиралось оно, насколько можно отсюда судить, на десятки километров параллельно цепи Апеннин, не помеченное на картах Луны, ускользнувшее, вероятно, от внимания астрономов по причине тени, в которой почти всегда должно было находиться, располагаясь вблизи высоких гор.
Для нас эта расщелина стала спасением. Достигнув места, где она начиналась, мы быстро съехали вглубь и только тут, тысячью метрами ниже поверхности Моря Имбриум, нашли немного прохлады…
После долгого размышления мы изменили маршрут путешествия. Вместо западного направления мы решили повернуть прямо на север, к полюсу Луны. Выигрыш при этом был двойной. Прежде всего перед нами более тысячи километров относительно ровной и хорошей дороги через равнину Моря Имбриум, что значительно убыстряло путешествие. Во-вторых, приближаясь к полюсу, мы попадаем в широты, где солнце днем не стоит так высоко над горизонтом, а глубокой ночью не заходит за горизонт; таким образом, можно найти там сносную температуру. Еще один такой полдень, как сегодня, и наша смерть станет неизбежной.
На Море Имбриум, 340 часов после восхода Солнца.
День клонился к вечеру. Вскоре, через четырнадцать с половиной часов, зайдет солнце, которое теперь стоит над далекими, закругленными холмами на западе, поднимаясь лишь на несколько градусов над горизонтом. Все неровности местности, каждый камень, каждое небольшое возвышение — бросали длинные, неподвижные тени, разрезающие в одном направлении гигантскую равнину, на которой они находились. Насколько мог охватывать взгляд — ничего, только пустыня, безбрежная, мертвая, распаханная длинными каменными грядами с юга на север, поперек которых чернели полосы теней… Далеко-далеко на горизонте торчали самые высокие иглы вершин, увиденные с Эратостенеса, а сейчас заслоненные от нас шарообразной поверхностью Луны.
Прошло шестьдесят часов с тех пор, как мы тронулись в путь. Автомобиль движется вперед. Мы поочередно спим во время его движения, а я еще и пишу. Останавливаемся только ненадолго, чтобы заново зарядить аккумуляторы нашего двигателя. Для того чтобы сберечь топливо, которого при ночном морозе будет потребляться довольно много, мы привели автомобиль в движение с помощью сжатого воздуха: А аккумуляторы приходится заряжать, потому что одних батарей при быстрой езде недостаточно.
Итак, мы быстро продвигаемся вперед, насколько позволяет окружающая нас территория. Значительные неровности грунта не позволили нам сразу направиться на север, после того как мы выбрались из Расщелины Спасения (так мы обозначили расщелину под Эратостенесом, которая своей прохладой спасла нас от смерти). Под 12° западной долготы мы попали в одну из световых полос, которые как лучи расходились от горы Коперника на сотни километров вокруг. Эти полосы, видные даже в самые слабые земные телескопы, всегда приводили в изумление астрономов. Как мы смогли убедиться воочию, эти полосы, шириной в несколько километров, образованы из как бы растаявших стекловидных скал. Я не могу объяснить происхождения этого удивительного явления…
До сих пор мы все еще движемся по светлой полосе, тянущейся от Коперника. Она представляет для нас удобную и ровную дорогу И направление ее на северо-восток нас полностью устраивает, так как она приведет нас прямо к плоскости между Архимедесом и Тимохарисом, которую нам надо пройти. Архимедеса пока совершенно не видно, так как мы находимся на равнине. В той стороне, где он должен находиться, виднелись только мелкие возвышенности, похожие на россыпь скал среди моря. По-видимому, это группа «кратеров», расположенная под 11° западной долготы и 19° северной широты. Мы надеемся проехать их еще до захода солнца. А потом — на север, все время на север, как можно дальше от той страшной широты, где рядом со зловещим серпом Земли прямо над головами стоит убийственное солнце. Да, совсем не похож на наше земное, животворящее солнце этот ленивый белый и раскаленный шар, — это какой-то алчный и язвительный бог, пожирающий и уничтожающий все вокруг! А мы четверо — единственные живые жертвы, которых он высмотрел себе в этой пустыне смерти! Мы должны уйти от него, прежде чем он снова выплывет на черный, вытканный золотом небосклон.
Я прерываю свои записи. Варадоль, занявший место Томаша, кричит мне, что теперь моя очередь встать у руля автомобиля. Другие уже спят. Марта, как обычно, лежа в своем гамаке, склонила голову на грудь Томаша, единственного среди нас счастливого человека!
Первый лунный день, 4 часа после захода Солнца,
на Море Имбриум, 10° з. д. 20°28’ с. ш.
Уже началась ночь, долгая ночь, для которой земные сутки являются частичками меньшими, чем часы для земной ночи. Земля, клонящаяся к югу, горит над нами, как огромный, светлый циферблат. По движению тени по ее диску мы легко можем определить время. Во время захода Солнца она была в первой четверти, в полночь диск будет полностью свободен от нее, а на восходе Солнца — она снова будет видна лишь на четверть. Роль минутной стрелки на этих небесных часах играли части света. По их уходу в тень мы можем определять часы, которые являются чем-то вроде минут в наших семидесятипятичасовых сутках.
После захода Солнца сразу стало так холодно, что у нас возникло ощущение, что из горячей ванны мы выскочили прямо в бассейн с ледяной водой. Заход Солнца приготовил нам и приятную неожиданность: мы ожидали после него немедленного наступления ночи, а тем временем еще довольно долго было светло. Это немного напоминало наши сумерки.
Когда мы выехали из тени мелких кратеров, о которых я вспоминал до этого, закончилась стекловидная полоса, по которой мы двигались последние сто километров. Мы уже приближались к двадцатой параллели, двигаясь прямо на север, когда солнечный диск, белый и блестящий, как днем, начал медленно опускаться за горизонт. Нас вдруг охватила тоска по этому исчезающему светилу, которое вновь предстанет перед нами только через четырнадцать дней. Мы все столпились около западного окна нашего автомобиля. Марта обратила плоские ладони в сторону уходящей дневной звезды и распевным и монотонным голосом запела индусский гимн, которым факиры на Земле прощаются с уходящим солнцем.
Вудбелл иногда вторил ей какими-то непонятными фразами из священных книг, видимо, припомнив время, проведенное в Траванкоре, и минуты, когда огненное солнце скрывалось в безбрежном океане.
Тем временем Солнце, углубившись частью своего диска за горизонт, как бы остановилось в ожидании. Его лучи освещали протянутые руки девушки и сверкали на ее белых зубах, виднеющихся между полуоткрытыми пурпурными губами. Я не мог избавиться от впечатления, что они разговаривают между собой — девушка и солнце.
Через полчаса был виден уже только краешек солнечного диска. Каменная пустыня по мере исчезновения этого белого источника света погружалась во тьму, как будто в море чернил. Только тут и там сверкали гладкие скалы, в которых отражался свет Земли. Марта уже закончила петь гимн и стояла, склонив голову на плечо Томашу и вглядываясь в темноту.
Нас охватила удивительная печаль, даже Петр, менее всех склонный к подобным чувствам, помрачнел и молча шевелил губами, как будто отвечая каким-то своим мыслям и воспоминаниям. А я… Перед моими глазами с невероятной быстротой промелькнула моя жизнь на Земле. Удивительный танец призраков и воспоминаний! Мне виделись равнины над Вислой и хмурые вершины Татр — и все это пространство заполнено бесчисленным количеством дорогих и близких мне людей, с которыми я навсегда простился… Навсегда!..
Грунт под колесами снова неровный, что вынуждает нас к постоянным объездам, отнимающим время. Впереди машины горит электрический прожектор, освещающий нам путь. Если бы не это, мы легко могли бы свалиться в какую-нибудь расщелину, слабо видимую при туманном свете Земли. Направление мы держим по звездам, так как с компасом никак не можем сладить в этом удивительном мире. К тому же металлические стены автомобиля также искажают его показания.
На Море Имбриум, 7°45‘ з. д., 24°1 с. ш.
В первые часы вторых лунных суток.
Полночь миновала, и мы уже забыли, как выглядит солнце; трудно даже представить, как могли мы жаловаться на его жар. В течение последних ста восьмидесяти часов, прошедших с захода солнца, мы подвергаемся воздействию такого неслыханного холода, что кажется, будто мысли замерзают в голове. Наши печи работают в полную силу, но мы, сгрудившись вокруг них, трясемся от холода.
Я пишу эти строки, прислонившись к печи. Кожа на спине у меня горит, но одновременно я чувствую, что кровь в моих жилах застывает от мороза. Собаки прижались к нашим ногам и воют без остановки, и мы чувствуем, что у нас мутится разум. Мы смотрим друг на друга в молчании, с какой-то странной ненавистью, как будто кто-то из нас виноват в том, что солнце здесь в течение трехсот пятидесяти четырех с половиной часов не светит и не греет…
Я хотел собрать все силы и записать некоторые впечатления от нашего путешествия после захода солнца, но вижу, что не могу собраться с мыслями. Мозг у меня какой-то замороженный и неподатливый, как машина изо льда. В голове мелькают картины и образы, которые я, при всем желании, не могу связать с собой. Иногда мне кажется, что я сплю наяву. Я вижу Марту, Томаша, собак, Петра — и не понимаю, что все это значит, кто я такой, откуда тут взялся и зачем…
Действительно, зачем?
Я хотел задуматься над этим, припомнить все, но не могу. Должна же быть какая-то причина, по которой я вместе с этими людьми покинул Землю… Не помню. Трудно даже думать.
У меня такое впечатление, что мы стоим. Я не слышу звука мотора. Нужно пойти и посмотреть, что произошло, но я знаю, что ни они, ни я — никто этого не сделает. Для этого нам пришлось бы отойти от печи.
Что за жуткий мороз!
Я вижу за окном какие-то скалы, которые освещает Земля. Наверное, потому мы и стоим, что находимся среди скал… Как все это странно и до такой степени безразлично мне…
Что я пишу? Неужели я в самом деле сошел с ума? Ужасно хочется спать, но я знаю, если усну, то замерзну и уже никогда не проснусь… Нужно встряхнуться, прийти в себя…
Удивительно, что в первую ночь на Синус Эстуум такого мороза не было. Видимо, под той плоскостью внутри тянутся какие-то вулканические жилы, которые немного обогревают грунт.
Пишу, пишу, чтобы не заснуть, иначе смерть!
Мороз, мороз, мороз… но нужно пересилить себя и не спать.
Только не спать, потому что это — смерть! Смерть должна быть здесь, поблизости. Там, на Земле, должны рисовать ее пребывающей на Луне, ведь здесь ее царство…
Почему мы стоим? Ах, правда! Какое это имеет значение!..
Палюс Петрудинес, на дне расщелины, 7°36′ з. д. 26° с. ш.
Вторые сутки, 62 часа после полуночи.
Итак, это произошло. Мы обречены на смерть, без всякой надежды на спасение. Мы знаем об этом уже около шестидесяти часов, достаточное количество времени, чтобы освоиться с этой мыслью. Итак — смерть…
Спокойно, спокойно, ведь это ничему не поможет. Нужно смириться с тем, что является неизбежным. Впрочем, для нас это не такая уж неожиданность, еще там, на Земле, отправляясь в экспедицию, мы знали, что подвергаемся смертельной опасности. Но почему же смерть не обрушилась на нас внезапно, как удар грома, почему она появилась в поле нашего зрения и приближается так медленно, что мы считаем каждый ее шаг и ждем, когда она начнет хватать нас холодной рукой за горло и душить…
Да, душить. Мы все задохнемся. Запаса сжатого воздуха нам при строжайшей экономии хватит только на триста часов. А потом…
На Луне, посреди бескрайнего простора Моря Имбриум, останутся четыре трупа в закрытом автомобиле.
А может быть, совсем иначе! В тот момент, когда у нас кончится кислород, мы откроем двери нашего автомобиля — настежь. Одна секунда — и мы окажемся в безвоздушном пространстве. Кровь брызнет изо рта, из ушей, из носа; несколько судорожных, отчаянных вдохов грудной клетки, несколько бешеных ударов сердца — и конец.
Зачем я пишу все это? Зачем я вообще пишу? Ведь это не имеет никакого смысла. Через триста часов я умру.
Часом позже.
Возвращаюсь к своему дневнику. Я должен заняться чем-то, иначе эта мысль о неизбежной смерти сведет меня с ума. Мы ходим по автомобилю и бессмысленно улыбаемся друг другу или разговариваем о чем-то незначительном. Минуту назад Варадоль рассказал, как в Португалии приготавливают некий соус из куриной печени с каперсами. А в это время все мы, не исключая и его, думали о том, что через двести девяносто девять часов мы умрем.
Собственно, смерть не так уж страшна — почему же мы так ее боимся? Ведь…
Ах, насколько жалко выглядит это философствование о смерти! Громче всех мудрецов, предписывающих соблюдать спокойствие перед лицом смерти, говорят мои часы в кармане. Я слышу тихое тиканье и знаю, что это шаги приближающейся смерти. Она будет здесь раньше, чем закончится наступающий долгий день. Не задержится ни на минуту.
Мы все еще находились среди подковообразных скал, одеревеневшие от мороза, когда Варадоль, взглянув случайно на стрелку манометра одного из резервуаров со сжатым воздухом, издал испуганный возглас. Все мы подскочили, как наэлектризованные, глядя в том направлении, куда указывала его дрожащая рука, так как от ужаса он не мог вымолвить ни слова.
В одну минуту мне сделалось жарко: манометр не показывал внутри никакого давления. Мне пришло в голову, что, возможно, от сильного мороза воздух в резервуаре, расположенном в стене, подвергается конденсации. Я открыл кран — резервуар был пуст. То же самое было со вторым, третьим, четвертым и пятым. Только в шестом, последнем, был воздух.
Всех нас охватило безумие. Не задумываясь ни над причиной загадочного для нас опустошения резервуаров, ни над тем, что мы делаем, что следует делать, и можно ли вообще что-либо изменить, мы все сразу бросились к двигателю, не чувствуя мороза, усталости, сонливости, ничего — охваченные только одной безумной мыслью: бежать, бежать, как будто от смерти можно убежать.
Через несколько минут автомобиль был уже в движении. Выехав из пространства, окруженного скалами, мы что было сил рванулись на север среди мелких холмов, покрывающих всю западную часть. Территория была малопригодной для езды и очень неровной. Автомобиль подпрыгивал, сотрясался, поднимался вверх и падал, немилосердно подбрасывая нас, мы даже не замечали этого, охваченные тревогой и отчаянием, в безумной надежде, что нам удастся добраться до другой стороны Луны, прежде чем кончится наш скудный запас воздуха!
Что за смешная мысль! Воздуха хватит нам только на триста часов, а от лунного полюса нас отделяет по прямой линии около двух тысяч километров дороги, половина которой приходится на гористые и неприступные места!
От мороза кровь стыла у нас в жилах и дыхание перехватывало в груди, но мы, ни на что не обращая внимания, двигались вперед через горы, серебрящиеся в свете Земли, через черные котловины, через осыпи — все дальше и дальше. Даже о сне, с которым еще недавно приходилось бороться, никто уже не вспоминал.
От этой дьявольской езды, безумной и совершенно бессмысленной, нас удержала только неожиданно возникшая преграда. Двигаясь почти вслепую, мы наткнулись на расщелину, подобную Расщелине Спасения под Эратостенесом, но значительно более широкую и глубокую. Мы заметили ее, когда она была уже совсем рядом, еще немного — и наш автомобиль рухнул бы туда вместе с нами.
Автомобиль остановился, и страшная апатия внезапно охватила нас всех. Энергия отчаяния, подгоняющая нас столько часов, исчезла так же быстро, как и появилась, уступив место чувству полного бессилия. Нам сразу все стало абсолютно безразлично. Зачем мучаться и напрягать силы, когда это не имеет никакого смысла. Мы должны умереть.
Мы молча уселись около печи. Мороз стал еще сильнее, но нас это уже не заботило. Ведь смерть совершенно одинакова, что от мороза, что от удушения. Прошло довольно много времени. И мы бы несомненно умерли, если бы не Вудбелл, который первым пришел в себя и стал убеждать нас серьезно обдумать наше положение.
— Давайте искать выход, возможность спасения, — говорил он, — даже если мы его не найдем, то по крайней мере займемся чем-то, что отвлечет наши мысли от смерти.
Совет действительно был хороший, но мы так устали и озябли, что восприняли его совершенно безразлично, даже не ответив на предложение Томаша.
Помню, что я смотрел на него и видел, что он говорит что-то еще, но ни слова не понимал из этого. Единственной мыслью, которая занимала меня в этот момент, было: как он будет выглядеть после смерти?
С упорством безумца я вглядывался в его двигающуюся челюсть и мысленно представлял ее лишенной всякой плоти, потом обнажил его череп, ребра, берцовые кости — и, глядя на человека, видел перед собой скелет, который, казалось, говорит мне со злорадной усмешкой: «Все станете такими — уже недолго осталось».
Томаш, увидев в конце концов, что не найдет у нас понимания, сам встал к рулю, и через несколько минут автомобиль двинулся вдоль края расщелины. Примерно через полчаса мы доехали до того места, где она кончалась. Варадоль заметил это, и вновь подброшенный энергией отчаяния, подскочил к Вудбеллу, крича, как сумасшедший:
— Мы можем объехать ее и двигаться дальше, на север, к полюсу, туда, где есть воздух!
Он смеялся и горячился, как будто в самом деле лишился разума, но когда он хотел схватиться за руль, Томаш легко отодвинул его и сказал коротко и решительно:
— Мы не будем объезжать ее, а въедем туда.
Петр тупо посмотрел на него, потом внезапно, охваченный каким-то безумием, бросился на Томаша и схватил его за горло.
— Убийца! — рычал он. — Душитель! Ты хочешь убить нас, а я хочу жить! Жить! Слышишь? На север, на север, к полюсу, там — воздух!
Он кричал и бушевал, и поскольку был сильнее Томаша, то прежде чем мы успели прибежать на помощь, опрокинул его и прижал коленями. Я подскочил к ним вместе с Мартой, чтобы утихомирить безумца, и началась борьба, сопровождающаяся лаем испуганных собак. Наконец нам удалось схватить его за плечи, но он вдруг напрягся в наших руках, вскрикнул и бессильно обмяк. Томаш поднялся с пола измученный и бледный.
Потом автомобиль накренился; я почувствовал толчок и потерял сознание.
Когда я снова пришел в себя, то заметил, что лежу в гамаке, а Томаш стоит надо мной и натирает мне виски эфиром. Марта и Варадоль сидели неподалеку, мрачные и молчаливые.
Томаш — человек поистине мужественный. Во время его борьбы с Петром автомобиль, лишенный управления, ударился передней частью о скалу. Брошенный этим толчком вперед, я ударился головой о стенку автомобиля и потерял сознание.
Томаш и Марта вышли из этой передряги невредимыми, как и Варадоль, который, будучи без сознания, лежал на полу, обессиленный нервным приступом. Тогда Томаш, заметив, что произошло, поручил Марте уложить нас на гамаках, а сам выровнял машину, повернул и съехал в глубь расщелины. Только на самом дне, где, как он правильно предполагал, было гораздо теплее, нежели на поверхности, он занялся приведением нас в чувство. Петр очнулся первый. Он ничего не помнил о своем приступе безумия, которым так напугал нас. Потом в себя пришел и я.
Пока смерть от холода нам не грозила, так как в этой глубокой расщелине мороз не был таким сильным. Видимо, внутренняя часть Луны, как и недра Земли, не лишены собственного тепла, хотя Луна, которая в 49 раз меньше Земли, должна была остыть значительно раньше.
Томаш предвидел это, поэтому и въехал с автомобилем в расщелину, желая, чтобы мы могли спокойно подумать о том, что будем делать, избавившись от непосредственной опасности, которая грозила со стороны парализующего наш мозг мороза.
Мы начали размышлять. Сначала нам пришло в голову, что, возможно, с помощью воздушной помпы нам удастся сгустить до нужной концентрации окружающую нас неслыханно разреженную атмосферу, чтобы таким путем освежать воздух в автомобиле. Эта мысль блеснула перед нами, как луч надежды и спасения, поэтому мы немедленно взялись за ее выполнение. Однако после часа тяжелой, изнуряющей работы убедились, что это осуществить не удастся. Лунная атмосфера здесь слишком разрежена. Мы пробовали сгустить ее с помощью помпы в одном из опустевших резервуаров, предварительно закрыв трещину, через которую улетучивался наш воздух, но все оказалось напрасным.
Измученные и обессиленные, мы прекратили эту бессмысленную работу. Томаш утешал нас, что, может быть, дальше, к северу, мы найдем менее разреженную атмосферу, которую удастся сгустить нашей помпой, но я знаю, что он сам в это не верил. На всем огромном пространстве Моря Имбриум атмосфера будет столь же разреженной, то есть непригодной для нас — а прежде чем мы преодолеем это пространство, наши скромные запасы воздуха закончатся и наступит то, что неизбежно должно будет наступить. Через двести девяносто часов мы все умрем.
Но несмотря на это, как только начнет приближаться день и станет теплее, мы выедем из этой расщелины и будем двигаться дальше, на север. Конечно, это ничего не изменит, но ведь и стояние на месте не может ничего изменить. А может быть… может быть… мы действительно найдем где-нибудь менее разреженную атмосферу…
На том же месте, 70 часов после полуночи.
Мы наконец обнаружили причину, которая привела к утрате наших запасов воздуха. Резервуары были повреждены во время спуска автомобиля со склонов Эратостенеса. Какой-то острый кусок скалы, находящийся на его пути, глубоко поцарапал стенку автомобиля, а внутреннее давление газа довершило работу. Только две вещи удивляют меня во всем этом: первая — как давление сжатого воздуха не разорвало поврежденные резервуары, и вторая — почему мы раньше не заметили этой потери. Я ломаю себе голову над этими загадками, как будто их решение могло бы хоть как-то изменить наше положение.
Я не могу ни о чем другом думать, постоянно перед моими глазами стоит призрак смерти. И самое страшное, зная, что умрешь, чувствовать себя совершенно здоровым. Это делает еще более ужасным то, что должно с нами произойти. Томаш — самый спокойный из всех нас, но я вижу, особенно по его отношению к Марте, что он тоже постоянно думает о том, что вскоре произойдет. Он нежно проводит ладонью по ее волосам и смотрит на нее так, как будто хочет попросить прощения. А она целует его руку, говоря ему улыбкой и глазами: «Не расстраивайся, Том, все хорошо, ведь мы же умрем вместе…»
Я не могу понять, почему мы не думаем о том, как быстрее покончить с этим ужасным положением? Ведь в наших силах укоротить эту жизнь, которая теперь является лишь смешной пародией на нее…
Часом позже.
Нет! Этого я сделать не могу! Не знаю, что меня удерживает, но не могу. Может быть, это ребяческая тоска по солнцу, доброй дневной звезде, которая вскоре появится над нашими головами, может быть, какая-то смешная, почти животная привязанность к жизни, какой бы короткой она не была, а может быть, остатки глупой, совершенно необоснованной надежды…
Я знаю, что ничто нас не спасет, но так хочется жить и так… страшно…
Не имеет значения!
Пусть все идет так, как должно быть.
Как мне все это надоело. Скорее бы наступило неизбежное! При каждом вдохе мне приходит в голову, что у меня на один вдох остается меньше. Все равно!..
На восходе Солнца.
Через час мы отправляемся в путь. Западная стена расщелины блестит над нами, освещенная солнечными лучами. Мы выедем на открытое пространство, чтобы еще раз увидеть солнце, увидеть звезды и Землю, спокойную, светящуюся и такую тихую на этом черном небе…
И будем двигаться на север. Зачем? — не знаю. Никто из нас не знает. Но будем двигаться. Смерть тихо будет двигаться вместе с нами через каменистые поля, через горы и долины, а когда стрелка манометра упадет до нуля, она войдет в наш автомобиль.
Мы не разговариваем друг с другом; нам не о чем разговаривать. Мы стараемся только занять себя чем-то, скорее, может быть, из фальшивого стыда перед остальными, нежели для собственного отвлечения. Потому что, какой работой можно занять человека, знающего, что все, что он делает — бессмысленно?
Что ж, пойдем наперекор своей судьбе!
Вторые лунные сутки, 14 часов после полудня. На Море Имбриум, 8°54′ з. д. 32°16′ с. ш., между кратерами С — Д.
Мы спасены! И спасение пришло так внезапно, так неожиданно и таким удивительным и… страшным способом, что я до сих пор не могу опомниться, хотя уже двадцать часов прошло с тех пор, как смерть, сопровождающая нас в течение двух земных недель, отвернулась от нас и ушла.
Ушла, но не без добычи… Смерть никогда не уходит без добычи. Если из жалости или по необходимости она позволяет остаться, в живых тем, кого уже держала в своих руках, то берет за это достаточный выкуп, где бы его не нашла, без выбора…
На восходе солнца мы пустились в дорогу, движимые скорее силой привычки, нежели какой-то разумной необходимостью. Мы были уверены, что не доживем до вечера этого долгого дня. Ехали молча, вместе с призраком смерти, которая сидела среди нас и спокойно ждала той минуты, когда сможет принять нас в свои ледяные, удушающие объятия. Мы так живо ощущали ее присутствие, как будто она была реальным существом, и временами осматривались, удивляясь, что не видим ее.
В эти минуты все это только воспоминания, но тогда это была страшная действительность. Не могу понять, как мы смогли выдержать эту жуткую, непереносимую тревогу в течение трехсот часов с призраком смерти перед глазами! Я не преувеличу, если скажу, что мы ежечасно умирали, думая, что неизбежно должны умереть. Потому что на спасение — особенно на такое — никто из нас не рассчитывал.
Теперь мне все кажется кошмарным сном, и я должен призвать на помощь все свои силы, чтобы поверить — это действительно было наяву.
Я уже не помню путь, который мы преодолели. Час тянулся за часом, автомобиль быстро двигался на север, а мы, как во сне, смотрели на мелькающий за окнами пейзаж. Теперь я понимаю, что все впечатления сливались у меня в одно: впечатление надвигающейся, неумолимой смерти. И я не могу теперь выбраться из этого хаоса. Все, что я помню из этого пути, — было страшно.
Вначале мы двигались по границе между Палюсом Петрудинес и Морем Имбриум, имея справа гористую и дикую местность. Слева, к западу, простиралась равнина, переходящая вдали в невысокие возвышенности, тянущиеся вдоль направления нашего пути. За возвышенностями светлели далекие вершины Тимохариса, освещенные падающими на них лучами солнца.
Еще в памяти у меня запечатлелась гроза и удивительное, связанное с ней, богатство красок этого пейзажа. Самые высокие вершины кратера были белыми, но от них спускались вниз полосы и круги, играющие всеми цветами радуги. Не знаю, чему это приписать; возможно, Тимохарис, горное кольцо размером подобное Эратостенесу, некогда был действующим, а теперь погасшим гигантским вулканом? И эти краски имеют отношение к некогда осевшим на его склонах разноцветных минералов, магмы? Не могу разгадать этой загадки, а тогда я даже и не задумывался над этим. Только смотрел на представшую передо мной картину, приводящую на ум сказки о колдовских странах и горах, построенных из драгоценных камней. Вглядываясь в эти искрящиеся на солнце вершины, похожие на горы топазов, рубинов, аметистов и алмазов, я одновременно ощущал их пронизанную холодом мертвость. Было что-то безжалостно суровое и неумолимое в этом резком блеске цветных камней, сверкании, не приглушенном ничем, даже воздухом… Какое-то сияние смерти исходило от этих гор.
Через несколько часов после восхода солнца мы въехали в тень невысокого кратера Беер. Миновав его, мы продвигались вдоль подножия еще более невысокого, расположенного рядом кратера Фоли и выехали на огромную, тянущуюся на шестьсот километров перед нами до северной границы Моря Имбриум равнину, которую невозможно было окинуть глазом. Повернув на север, мы оставили вершины Тимохариса несколько позади, зато на северо-востоке показалось на краю горизонта далекое, погруженное в тень кольцо Архимедеса.
Внезапно у меня возникло чувство, как будто мы проезжаем через гигантские ворота, открывающиеся в долину смерти. Безграничный, давящий страх снова охватил меня. Я невольно захотел остановить автомобиль, свернуть куда-нибудь в скалы, чтобы только не выезжать на эту протяженную равнину, которую — я знал это — мы не преодолеем живыми.
По-моему, не только я испытал это чувство, остальные также мрачно смотрели на открывшуюся перед нами каменную пустыню.
Вудбелл хмуро, со стиснутыми губами, долго мерил глазами обширную равнину, конца которой не было видно, потом медленно перевел взгляд на стрелку манометра, подключенного к последнему резервуару со сжатым воздухом. Я невольно последовал его примеру. Стрелка в маленьком медном приборчике медленно, но неустанно падала…
И тогда у меня блеснула страшная, чудовищная мысль; воздуха не хватит для четверых, но для одного может хватить. Один, с таким запасом воздуха, мог бы достичь таких мест, где атмосфера Луны не будет такой разреженной, и при помощи помпы ее можно будет использовать.
Я проклял эту чудовищную мысль, едва она появилась, пытался отогнать ее от себя, но она была сильнее и постоянно возвращалась. Я не мог отвести глаз от стрелки манометра, а в ушах у меня постоянно звучало: для четверых не хватит, но для одного…
Я украдкой, как преступник, взглянул на товарищей и — ужас! — в их горящих, неспокойных глазах прочитал ту же самую мысль. Мы поняли друг друга. Какое-то время среди нас царило угнетенное, подленькое молчание.
Наконец Томаш потер рукой лоб и сказал:
— Если мы хотим это сделать, то нужно действовать быстрее, пока запас еще больше не уменьшился…
Мы понимали, о чем он говорит. Варадоль молча кивнул головой, я почувствовал, что краснею, но тоже не стал возражать.
— Мы будем тянуть жребий? — снова спросил Томаш, явно принуждая себя произнести эти слова. — Но… — тут голос его дрогнул и сломался, став каким-то мягким, умоляющим, — но… я хотел бы… вас просить, чтобы… Марта осталась в живых… тоже…
Снова наступило глухое, давящее молчание. Потом Петр выпалил:
— Для двоих не хватит…
Томаш гордо вскинул голову:
— Ну что ж, пусть будет по-твоему. Тем лучше.
Говоря это, он взял четыре спички, обломил у одной из них головку и, спрятав их в ладони, так что только концы торчали наружу, протянул руку к нам.
Во время всего этого разговора Марта стояла в стороне и ничего не слышала. Она подошла к нам только в тот момент, когда мы все протягивали руки, чтобы тянуть свой жребий, и спросила совершенно спокойным голосом:
— Что вы делаете?
Потом повернулась к Томашу:
— Что у тебя в руке, покажи…
И вынула у него из ладони спички, которые могли стать смертным приговором для троих из нас, чтобы четвертый мог жить.
Это все произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели этому помешать. Краска стыда залила наши лица, когда мы поняли, что девушка поймала нас во время совершения отвратительного преступления эгоизма, подлости и трусости. Мы посмотрели друг на друга и внезапно кинулись друг другу в объятия, взорвавшись долго сдерживаемыми рыданиями.
О том, чтобы тянуть жребий, больше не было никаких разговоров. Благодаря этой реакции, порыву человеческой души взаимная зависть, вызванная близостью и неизбежностью смерти, висящей над нами, превратилась теперь в чувство тепла и сердечного взаимопонимания. На нас сошло удивительное, безграничное спокойствие. Мы сидели рядом — Марта прильнула гибким, изящным телом к груди Томаша — и разговаривали тихими, дружескими голосами о множестве мелочей, которые некогда были связаны с нашей жизнью на Земле. Каждое воспоминание, каждая деталь приобретали для нас сейчас огромное значение — мы чувствовали, что этот разговор — прощание с жизнью.
А автомобиль тем временем без устали продвигался вперед по безграничной смертельной пустыне.
Проходили часы и земные сутки, стрелка манометра постоянно опускалась, но мы уже были спокойны, смирившись с судьбой. Разговаривали, ели, даже спали, как будто ничего не произошло. Только в области сердца и в горле я ощущал какое-то давление, как человек, понесший большую утрату, который хочет забыть о ней, но не может.
Около полудня мы находились уже между 31 и 32 параллелью. Жара, хотя и очень сильная, уже не докучала нам в той степени, как накануне, так как под этой широтой лучи солнца уже не падают так отвесно, оно только на шестьдесят процентов поднималось над горизонтом. Внезапно мы заметили, как диск солнца, коснувшись пылающего ореола Земли, висящей на небе, начал медленно заходить за нее. Перед нами было затмение Солнца, продолжающееся здесь около двух часов и представлявшееся жителям Земли затмением Луны.
Светящийся ореол земной атмосферы, с той минуты, когда Солнце коснулось его, стал похож на кроваво-красный венец, окружающий огромное черное пятно, единственное на всем небосклоне, где не горели звезды. Около часа потребовалось солнечному диску, чтобы зайти за этот черный, окруженный пламенем диск. И в течение всего этого времени венец становился все более кровавым и широким. В ту минуту, когда солнце окончательно скрылось, он был настолько ярким, что при его свете можно было наблюдать окружающий пейзаж, залитый оранжевым светом. Черное пятно Земли выглядело теперь как зияющий зев какого-то колодца, вырытого прямо в звездистом небе. А из-за пламенного венца выступали на восток и на запад два снопа пламени, два фонтана светящейся золотистой пыли, подобные тому, какой мы видели при заходе солнца.
Освещение на Луне стало тем временем из оранжевого красным, было похоже на то, как будто кто-то залил кровью мрачную пустыню перед нами.
Нам пришлось остановиться, так как при этом кровавом и слабом освещении трудно было различать дорогу. Вместе с темнотой, после исчезновения солнца, на нас обрушился и пронизывающий холод. Закутавшись, мы сжались в кучу в надежде, что скоро Солнце вновь покажется. Над нами все так же сиял огненный венец из разноцветного пламени — когда собаки вдруг начали выть, сначала тихо, потом все громче и отчаянней. От этого воя у нас мороз пошел по коже, вспомнилась ночь перед смертью О’Тамора, когда Селена точно так же выла, приветствуя смерть, входящую в наш автомобиль. И внезапно перед нами во всем своем отчаянии предстала страшная безнадежность нашего положения; нам казалось, что эти огни и сияние разгорелись над нашими головами в насмешку над умирающими, на которых даже солнце уже не хочет смотреть…
В резервуаре оставался запас воздуха только на двадцать часов.
По прошествии двух часов край солнца начал выходить из-за западной части черного земного диска, а пламенный ореол медленно уменьшался и гас. При виде солнца я испытал неожиданное удивление, я уже привык к этой кровавой ночи, мне она казалась предвестницей той глубокой, вечной ночи, которая окутает нас в отсутствие солнца, и возвращающийся день был для меня чем-то невероятным. А потом, не знаю почему, у меня возникла надежда, как будто с появлением солнца какое-то чудо могло нас спасти.
— Мы будем жить! — воскликнул я неожиданно с такой уверенностью, что глаза моих спутников обратились ко мне с вопросом и надеждой.
Затем произошло нечто удивительное. Из ящика, в котором был закрыт бесполезный теперь телеграфный аппарат, до нас донесся стук. Сначала мы не поверили собственным ушам, но стук продолжался и становился более отчетливым. Мы бросились к ящику и после того как открыли его, обнаружили, что аппарат действительно отстукивает присланную откуда-то депешу. Однако мы напрасно старались понять ее содержание. Что-то, видимо, было испорчено, так как мы смогли уловить только несколько обрывистых слов:
«Луна… через час… в середину диска… под углом… не… Франция… то… а если… смерть…»
Нас охватило безмерное удивление. Варадоль подскочил к аппарату и протелеграфировал:
— Кто говорит с нами?
Мы ждали минуту — никакого ответа не последовало. Петр повторил вопрос во второй раз, в третий, но все было безрезультатно. Аппарат замолчал, и стук больше не повторялся.
Прошло еще полчаса полнейшей тишины, и мы уже стали предполагать, что все случившееся было какой-то странной галлюцинацией.
Солнце уже вышло из-за Земли и остановилось на небе рядом с ней. Жара начала усиливаться.
Затем что-то мелькнуло и сверкнуло перед нами в лучах солнца, и в ту же минуту грунт у нас под ногами затрясся, как стена, в которую ударяют пушечные ядра. Мы закричали от страха и удивления. Бросившись к окну, мы заметили какую-то массу с металлическим отблеском, которая, отскочив от поверхности Луны, совершила на наших глазах огромную дугу в пространстве, снова ударилась о поверхность и снова отскочила во второй, третий, четвертый раз, продвигаясь этими страшными прыжками на северо-запад.
Мы молчали, удивленные, не понимая, что это может означать, но вдруг Петр закричал:
— Это братья Реможнеры!
Теперь все стало нам ясно! Ведь прошло как раз шесть земных недель с того времени, когда около полуночи мы опустились на Луну — это как раз то время, через которое за нами должна была последовать следующая экспедиция. Наш телеграфный аппарат заработал, по-видимому, принимая депешу, посылаемую братьями Реможнерами на Землю поблизости от Луны. Он мог и до этого подавать слабые признаки жизни, но его стук в закрытом ящике ускользнул от нашего внимания. Также и братья Реможнеры не заметили, по-видимому, нашей депеши, занятые в последнюю минуту приготовлениями к спуску.
Все эти мысли молниеносно пронеслись у меня в голове, когда мы поспешно бросились запускать мотор, чтобы тронуться с места. Через несколько минут мы уже неслись на всех парах в том направлении, где снаряд исчез с наших глаз, охваченные единственной, самой важной сейчас для нас мыслью: у братьев Реможнеров есть с собой запас воздуха!
Нам потребовалось меньше получаса, чтобы добраться до того места, где снаряд упал после того, как несколько раз отскочил от поверхности. Перед нашими глазами предстала страшная картина: среди обломков развалившегося снаряда лежали два окровавленных и изуродованных трупа.
Мы быстро переоделись в наши костюмы, наполнив их остатка ми нашего запаса воздуха, и вышли из автомобиля, дрожа от волнения, вызванного (зачем скрывать!) не столько страшной гибелью товарищей, сколько опасениями, что их резервуары со сжатым воздухом были повреждены при падении.
Два из них действительно лопнули и валялись среди обломков, но четыре других остались целыми.
Мы были спасены!
На мгновение нас охватило какое-то радостное безумие, плохо согласующееся с тем, что находилось вокруг нас. Но ведь в течение трехсот пятидесяти часов мы готовились к смерти, а теперь обнаружили, что останемся жить!
Определившись относительно своей судьбы, мы могли теперь задуматься над тем, что случилось с братьями Реможнерами. Обстоятельство, которое спасло нас, стало причиной их смерти. Чистая случайность, вызванная какой-то ошибкой в расчетах, привела к тому, что они упали здесь, прямо перед нами, вместо того, чтобы упасть на середину лунного диска, удаленную от нас в эти минуты на расстояние около тысячи километров. Это обстоятельство дало нам возможность пополнить свои запасы воздуха, а их убило. Спускаясь в этой точке, они упали не отвесно, а под углом, поэтому снаряд ударился о твердый грунт поверхности Луны боком, где не был защищен от подобного удара, и, отскочив несколько раз от поверхности, окончательно развалился. Мороз прошел у нас по коже при мысли, что то же самое могло случиться и с нами…
Старательно похоронив трупы под обломками камней, мы занялись наследством, оставшимся после них. Среди обломков мы выбрали все, что могло нам пригодиться, но прежде всего перенесли в автомобиль столь драгоценные для нас резервуары со сжатым воздухом. За ними последовали продукты питания, запасы воды, некоторые, не очень сильно поврежденные орудия труда. Затаив дыхание, искали мы их телеграфный аппарат в надежде, что он окажется достаточно сильным, чтобы с его помощью связаться с жителями Земли. Но эта надежда оказалась призрачной, потому что при падении аппарат был полностью уничтожен. Та же самая судьба постигла большинство астрономических приборов. Двигатель мы забрали с собой, хотя он был сильно поврежден.
Какое счастье, что медные резервуары со сжатым воздухом оказались неповрежденными в этой катастрофе.
Забрав имущество несчастных братьев Реможнеров, мы без задержки пустились в дальнейшую дорогу на север…
На Море Имбриум, 9° з. д. 37° с. ш.,
вторые сутки, 152 часа после полудня.
Вот уже около ста часов, почти четверо земных суток, мы тащимся через равнину, которая, кажется, не имеет конца! Ни одной возвышенности, ни единой вершины, на которой мог бы остановиться взгляд. Страшное однообразие пейзажа подавляет и утомляет нас. Еще на Земле я однажды путешествовал через Сахару, но поистине Сахара — это прекрасная, разнообразная земля по сравнению с тем, что нас сейчас окружает. В Сахаре постоянно встречаются какие-то цепочки скал, волнистые барханы, за которыми иногда можно заметить зеленые верхушки пальм, растущих в роскошных оазисах; над Сахарой голубое небо, которое временами расцвечивается румянцем утренней или вечерней зари или покрывается звездами; по Сахаре гуляет ветер и приводит в движение море песка, это движение говорит о жизни, здесь же нет ничего подобного. Каменистый грунт, изрытый глубокими бороздами, образовавшимися на поверхности от солнечного жара, однообразный, страшный, как и небо над нами, которое совершенно не меняется вот уже на протяжении трехсот с чем-то часов! Ветер, голубизна, зелень, вода, жизнь — все это представляется нам какой-то милой, очаровательной, но неправдоподобной сказкой, услышанной или пережитой когда-то в молодости, давно, очень давно…
Для развлечения, чтобы не сойти с ума в этой пустыне, мы рассказываем друг другу длинные истории или читаем взятые с Земли книги. У нас есть с собой несколько естественнонаучных книг, подробная история цивилизации, несколько сборников самых знаменитых поэтов и Библия. Ее мы читаем особенно часто. Обычно Вудбелл раскрывает книгу и удивительным, выразительным голосом читает разделы из Генезиса или Евангелия…
Мы слушаем, как Бог создал Землю для человека, чтобы он по ней ходил, и Луну, чтобы освещала Землю в ночное время, как велел ночи наступать после дня, как изгнал Адама из цветущего рая в край пустынный и скудный, как появился на свет Спаситель, чтобы искупить человеческие грехи, как ходил он со своими верными учениками по душистым лугам и зеленым холмам Галилеи, как страдал и умер; мы слушаем все это, глядя на Землю, похожую на серебряный серп на черном бархате неба, тащась по пустыне, обжигаемой солнцем…
Марта всей душой погружается в эти повествования, и когда Томаш заканчивает чтение, задает ему различные, иногда странно наивные вопросы… Она все услышанное переносит на наше теперешнее положение… Недавно заявила Томашу: «Мы здесь с тобой как Адам и Ева». Действительно, они здесь, как первая пара людей, изгнанная с Земли в пустыню, как те, другие, были изгнаны из рая — но мы с Петром, кем мы являемся? Есть что-то бесчеловечное в нашем нынешнем положении: Томаш и Марта в самих себе находят оправдание своего существовании, но мы — зачем мы живем?
Меня снедает какая-то страшная лихорадка, когда я смотрю или думаю о них. Прожив на земле до тридцати шести лет, я относился к тем безумцам, для которых существует только одна любовь — знания, и только одно стремление — к истине. Теперь я начинаю осознавать, какую великую тайну вечной жизни таит в себе женщина, и тосковать по тому, что приоткрывает эту тайну — по любви…
Ха, ха! Как смешно выглядят эти слова на бумаге! Я одинок и буду одинок до самой смерти, которая придет и заберет меня вместе с невостребованной жаждой продолжения жизни…
Под Тремя Головами, 7°40′ з. д. 43°6′ с. ш.,
около полуночи на вторые сутки.
Мы находимся у подножия горы, возвышающейся в северной части Моря Имбриум, отличающейся от всех возвышенностей, которые мы до сих пор встречали по дороге. Свет Земли, только на сорок градусов поднимающейся здесь над горизонтом, наклонно падает на скалы, похожие на гигантский готический храм или на сказочный замок великанов.
Ночной свет здесь значительно слабее, нежели там, где Земля находилась в зените, однако и при нем можно увидеть общие очертания. Это первая гора, которая не имеет вида кольцевого кратера. Она скорее похожа на остаток такого кольца, уничтоженного каким-то страшным природным катаклизмом или длительным воздействием воды.
Да, мы уже говорим в о з де й с т в и е м воды, и хотя это только слабое предположение, ощущаем радостную дрожь, как будто бы это было правдой… Потому что, если тут была вода, можно надеяться, что на той стороне вода есть, а если есть вода, то может быть и воздух, пригодный для дыхания.
После короткой остановки мы пустились в дальнейший путь. Мне приходится прервать свое писание, так как нельзя и думать об этом во время движения. Из-за неровности грунта и многочисленных теней, которые отбрасывают скалы в свете стоящей у горизонта Земли, мы все постоянно должны быть настороже. Мы установили также такой порядок сна, что пока один спит, трое бодрствуют, чтобы не останавливать автомобиль. В эту минуту спит Марта. Я слышу ее ровное, спокойное дыхание, вижу при тусклом свете лампы ее лицо, выглядывающее из-под меха. Губы у нее чуть приоткрыты, как для улыбки или поцелуя… Что ей сейчас снится?
Какие глупости я пишу! Отправляемся в путь.
Третьи сутки, 30 часов после полуночи,
на Море Имбриум, 9°14′ з. д. 43°58’ с. ш.
Удивительно, удивительно то, что вижу…
На протяжении тридцати часов мы преодолели едва только сорок два километра. И в конце концов добрались до странной серой полосы, похожей на песчаный пласт. Она простирается на значительное расстояние в северо-западном направлении в виде слегка изогнутого лука, выделяясь своим цветом на фоне темной каменистой пустыни. Насколько я могу рассмотреть при свете Земли, она заканчивается у группы скал, похожих издали на фантастические развалины какого-то замка или города. Города?..
Мы отправились вдоль этой полосы, которая была для нас гораздо более удобной дорогой, нежели загроможденная камнями пустыня, тем более, что она не слишком уводит нас от выбранного направления. Продвигаемся достаточно быстро, тем временем группа скал, видная издали, вырисовывается перед нами значительно четче. Теперь уже можно рассмотреть отдельные камни, фантастически нагроможденные и напоминающие руины башен и домов.
Не знаю, что и думать обо всем этом. Стараюсь размышлять трезво… Нет, нет! Это все слишком странно! Какая-то почти суеверная тревога закрадывается мне в душу…
Неужели это…
Третьи сутки, 36 часов после полуночи, на Море Имбриум.
Проклятие! Проклятие! Если мы потеряем Томаша… Он и так страшно обессилел после первой болезни, а теперь снова… О Боже! Спаси его, потому что мы уже… Это город мертвых…
59 часов после полуночи, на Море Имбриум, под Пико,
9°12′ з. д. 45°27′ с. ш.
Собираюсь с мыслями… Нужно, наконец, все записать.
Помню, как я поднялся от этих бумаг и, глядя на странные руины или нагроможденные камни, невольно воскликнул:
— Но это действительно похоже на город!
Томаш, который все время стоял у окна и с растущим вниманием смотрел на приближающиеся скалы, быстро обернулся, услышав мои слова. Лицо у него было взволнованное.
— По-моему, ты прав, — серьезно сказал он слегка дрожащим голосом. — Это и в самом деле может быть город…
— Что?!
Все подскочили к окнам, хватаясь за подзорные трубы.
Даже Петр отошел от руля, остановив машину, чтобы посмотреть на это чудо. Томаш протянул руку:
— Смотрите, — сказал он, — там, справа. Похоже, что это развалины каменных ворот. Сохранились оба столба, и наверху еще остался кусочек перекладины… Или тут, в глубине, разве это не башня, развалившаяся до половины? А там, смотрите, какое-то большое здание с невысокой колоннадой впереди и двумя пирамидами по бокам. Ручаюсь, что это ущелье, засыпанное множеством камней, некогда было улицей… Теперь это все разрушено и мертво… Мертвый город.
Не могу описать чувство, которое меня охватило.
Чем дольше я смотрел, тем больше склонен был верить, что Томаш прав. Перед моими глазами поднимались новые башни, арки и колонны, куски осыпавшихся стен, улицы, засыпанные обломками зданий. Свет Земли серебрил эти фантастические руины; из черного озера теней они поднимались таинственно, как призраки. По телу пробежала дрожь. Какие-то лунные Помпеи, но не засыпанные песком, а в песок превращающиеся — страшные, огромные, еще более мертвые в этой чудовищной пустоте и при странном освещении…
Варадоль пожал плечами и проворчал:
— Да, эти скалы действительно напоминают развалины… Но ведь здесь никогда не было ни одной живой души.
— Кто знает, — ответил Томаш. — Сегодня на этой стороне Луны нет ни воздуха, ни воды, но все это могло быть здесь много веков назад, тысячи веков назад, когда лунная планета вращалась быстрее и Земля всходила и заходила на ее небе…
— Это возможно, — прошептал я задумчиво.
— Мы не встречали нигде следов эрозии, а это доказывает, что тут никогда не было воды; это же говорит об отсутствии воздуха и жизни, — возразил Петр.
Вудбелл усмехнулся и вытянул руку, показывая на грунт под колесами нашего автомобиля.
— А этот песок? А Три Головы, которые мы недавно миновали? Они выглядели, как остатки размытой водой горы. Нельзя утверждать, что воды никогда тут не было. Может быть, постоянное воздействие мороза и солнца уничтожило то, что от нее осталось…
Мы помолчали, потом Вудбелл неожиданно сказал:
— По-моему, перед нами самая интересная загадка, какую мы могли встретить на Луне. Нужно ее разгадать.
— Как ты собираешься это сделать? — спросил я.
— Ну, нужно пойти к этим развалинам и осмотреть их…
Не знаю почему, но у меня мороз прошел по спине. Это был не страх, но что-то очень похожее на него. Эти развалины — зданий или просто скал — выглядели как белые трупы в необъятной пустыне.
Петр снова неохотно пожал плечами:
— Странные фантазии! Жалко терять время на осмотр скал, которые при свете Земли действительно немного похожи на здания, но не так уж сильно.
Несмотря на это, мы повернули автомобиль к руинам. Марта напряженно и с явным беспокойством вглядывалась в них.
— А если это город мертвых, построенный мертвыми? — прошептала она, когда едва ли несколько километров отделяли нас от аркады, стоящей у входа в это странное место.
— Город мертвых… наверное, — усмехнувшись, сказал Томаш, — но поверь мне, его когда-то построили живые.
— Или природа, — добавил Петр и в ту же минуту внезапно остановил автомобиль.
Мы подскочили к нему посмотреть, что произошло. Полоса песка кончилась, и перед нами лежало поле, настолько засыпанное большими камнями, что и речи не могло быть о том, чтобы подъехать на автомобиле ближе к городу. Томаш, заметив это, поколебался, потом сказал:
— Пойду пешком!
Мы все начали отговаривать его от этого намерения, даже не отдавая себе отчет в том, зачем это делаем.
Может быть, это было предчувствием того, что должно было произойти? Но в конце концов, он настоял на своем. Петр выругался себе в усы и сказал, что нужно быть законченным идиотом, чтобы терять время и выходить на такой страшный мороз ради какой-то иллюзии. Я предложил сопровождать его, но когда он отказался, сказав, что пойдет один, не настаивал. До сих пор не знаю, что меня тогда удержало: боязнь холода или странное, необъяснимое предчувствие чего-то страшного, возникшее при виде этого мертвого города… Достаточно того, что я остался в автомобиле — и зло свершилось.
Томаш, выйдя из автомобиля, пошел прямо в направлении громоздящихся фантастических развалин. Мы, стоя у окна, видели его при свете Земли, как на ладони. Он двигался медленно, часто нагибаясь, видимо, в целях осмотра грунта. На минуту он исчез с наших глаз в тени небольшой скалы, потом мы снова увидели его; но уже значительно дальше. Потом произошло что-то странное. Вудбелл, прошедший, может быть, только третью часть дороги, выпрямился, встал как вкопанный и, внезапно повернувшись, сумасшедшими прыжками кинулся бежать по направлению к автомобилю.
Мы смотрели на его движения, не в состоянии объяснить их себе. В нескольких десятках шагов от автомобиля он споткнулся и упал. Видя, что он не встает, мы оба кинулись ему на помощь, охваченные тревогой. Прежде чем нам удалось выйти, прошло какое-то время, так как потребовалось надеть наши костюмы. Справившись с ними, мы выбежали наружу. Вудбелл лежал без сознания. Не было времени выяснять, что произошло с ним — мы схватили его на руки и быстро занесли в машину.
Когда мы сняли с него шлем, нашим глазам предстала страшная картина. Опухшее и синее лицо было залито кровью, текущей изо рта, носа, глаз. На набрякших руках и на шее виднелись большие капли крови, хотя мы нигде не могли найти раны.
Марта при виде этой жуткой картины закричала, и ее едва удалось успокоить и не дать ей броситься на тело. Тем временем я занялся приведением несчастного в чувство. Сначала мы решили, что с ним приключился апоплексический удар, однако, когда Петр осмотрел снятый костюм, обнаружилась истинная причина происшедшего. Стекло в маске, чего мы не заметили сразу, было разбито. Оно, видимо, лопнуло, когда Томаш споткнулся и упал, и запас воздуха стал улетучиваться. Прежде чем мы смогли прибежать на помощь, почти весь его запас кончился. Это вызвало кровотечение и потерю сознания, но почему он так бежал, осталось пока тайной.
После довольно длительного времени нам наконец удалось привести его в чувство общими силами. Первым признаком возвращающейся жизни был глубокий, судорожный вдох, после которого у него снова изо рта пошла кровь. Потом он открыл глаза, и судорожно, с трудом дыша, безумным взглядом уставился на нас, видимо, не понимая, что с ним происходит. Потом испуганно вскрикнул, протянул руки, как будто что-то отталкивал, и снова потерял сознание. Мы снова постарались привести его в чувство, но он не только не пришел в себя, но впал в горячку, которая вряд ли будет способствовать скорейшему выздоровлению.
Заботливо уложив больного в гамак, мы отправились в дальнейший путь. О фантастических скалах или таинственном городе никто из нас уже не думал, так мы были обеспокоены несчастным случаем, и хотели как можно быстрее выбраться из этих враждебных мест.
Через двадцать часов мы достигли наконец склонов Пико, где в настоящий момент стоим. Здесь мы останемся до утра.
Под Пико, 148 часов после полуночи.
Мы наконец вздохнули спокойнее; кажется, нам удастся сохранить Томаша. Теперь он спит, это знак, что кризис болезни уже миновал. Мы стараемся вести себя как можно тише, разговариваем только шепотом, чтобы его не разбудить. Может быть, этот сон его спасет.
Боимся только, как бы собаки не наделали шума своим лаем, потому что сейчас разбудить Томаша значило бы убить его. Поэтому кто-нибудь из нас неустанно дежурит около собак: если бы кто-то из них залаял — мы немедленно выкинули бы ее из автомобиля. Но, к счастью, собаки ведут себя спокойно. Селена, его любимая сука, неподвижно сидит возле его гамака, как бы на страже, и не спускает глаз со своего больного хозяина. Я уверен, что это умное животное полностью отдает себе отчет в состоянии хозяина. В ее глазах столько жалости и тревоги… Когда кто-либо из нас приближается к больному, она тихо рычит, как бы предостерегая, что она охраняет хозяина и не даст сделать ему ничего плохого, а потом начинает слегка помахивать хвостом, давая понять, что верит в наши добрые намерения и радуется проявлению заботы о нем.
По другую сторону гамака сидит Марта. Уже около ста часов она почти не разговаривает, только в тех случаях, когда должна посоветоваться с нами относительно больного. Я не могу вообразить себе больших страданий.
Под Пико, перед восходом Солнца на третий день.
Самая высокая вершина Пико уже блестит на солнце; через три или четыре часа и здесь, внизу, наступит день. Всю ночь мы видели перед собой серебряную от света Земли стену огромной горы, теперь эта стена посерела и потемнела по контрасту с сияющей на солнце вершиной.
Подобно Трем Головам Пико не является кратером, скорее гигантским обломком разрушенного горного кольца. Мы стоим у подножия его самой большой вершины, торчащей в северо-западном направлении. Она в этом месте почти отвесно обрывается к долине. Голова может закружиться при виде ее огромной высоты, тем более заметной, что вокруг простирается гладкая равнина.
Трудно понять, что могло вызвать разрушение этого кольца, от которого осталась только эта вершина. Может быть, гора, образованная из мягкого камня, разрушилась под воздействием смены температур, а возможно, ее размыла вода?
Уже во второй раз за время путешествия мы высказываем такое предположение. В этом случае за это говорит и то обстоятельство, что нигде нет вала скалистых обломков, который должен был бы остаться, если бы горы были разрушены морозом и солнцем. Там, где когда-то, видимо, поднималась вершина горного кольца, находится почти гладкое, невысокое возвышение, смутно виднеющееся перед нами в свете Земли. Петр, несмотря на страшный холод, выбрался из автомобиля на минуту, чтобы исследовать грунт. Он не мог выдержать там долго, но принес с собой камень, очень напоминающий кусок скалы, разрушившейся от воздействия воды…
Когда взойдет Солнце и осветит окрестности, мы сможем узнать что-нибудь более определенное.
Томаш спит уже около тринадцати часов. По этой причине мы чувствуем себя более свободными, но, с другой стороны, такой долгий сон начинает нас беспокоить. Страшно смотреть на это мертвенно-бледное лицо. Глаза у него закрыты, щеки запали, обескровленные губы потрескались. Он лежит без движения, только ребра слегка приподнимаются при слабом дыхании. Иногда мне кажется, что передо мной не живой человек, а труп. Скорее бы он проснулся.
Марта, все еще молчащая, ни на шаг не отходит от больного. Устав от постоянного бодрствования, она даже засыпает так, сидя. Однако это продолжается недолго, она сразу просыпается и снова смотрит широко открытыми глазами на больного, как будто хочет его оздоровить взглядом. Я начинаю опасаться относительно ее здоровья. Не хватало еще, чтобы и она заболела. Но все возражения с нашей стороны не имеют никакого влияния. Мы только с трудом можем заставить ее поесть.
Я очень обеспокоен тем, что будет, если Вудбелл не проснется до наступления дня. Мы хотели бы сразу продолжить наш путь, но боимся прервать его сон. Сначала мы хотели свернуть от Пико на восток, чтобы обойти горную цепь Альп, создающую северо-восточную границу Моря Имбриум, но, в конце концов, решили направиться прямо на север к гигантскому горному кольцу Платона.
Петр, после тщательного изучения карт, пришел к выводу, что нам удастся попасть через это кольцо прямо на Море Фригорис, за которым находится гористая местность, тянущаяся до самого полюса. Это значительно сократит нам дорогу.
На Море Имбриум, 10° з. д. 47° с. ш.,
20 часов после восхода Солнца третьего дня.
Наконец мы достигли границ огромного Моря Дождей, для чего нам потребовалось около двух месяцев. Здесь — это всего лишь два дня, но там, на Земле, за это время Луна уже два раза обновилась.
Уже несколько часов мы видим перед собой мощный вал кольца Платона. Его восточная часть сверкает на солнце, как огромная белая стена на черном небе, в западной части еще ночь, только вершины горят подобно факелам.
Томаш проснулся на восходе солнца. Какое-то время он удивленно смотрел на нас, а потом попытался подняться из гамака, но не смог. Он бессильно упал на подушку, тогда Марта помогла ему подняться и сесть. Я быстро подбежал к нему, чтобы узнать, не хочет ли он чего-нибудь. Петр тем временем стоял у руля.
Томаш очень удивился, что наступил день. Он ничего не помнил со времени своей болезни, забыл даже о несчастном случае, который с ним произошел. Я напомнил о нем, он задумался на минуту, видимо, роясь в памяти, потом внезапно побледнел — если можно говорить о еще большей бледности и так мертвенно-белого лица — и, закрыв лицо руками, начал повторять в тревоге:
— Это было ужасно, ужасно!
По его телу пробежала дрожь.
Когда он немного успокоился, я попытался осторожно узнать, что его так испугало и вызвало эту фатальную ситуацию, но все мои попытки окончились ничем. Он упорно молчал, либо давал какие-то бессвязные ответы, так что, в конце концов, я прекратил свои бесполезные вопросы из опасения, что только мучаю и утомляю его. Зато я со всеми подробностями рассказал, в каком состоянии мы нашли его и о течении его болезни. Он слушал меня внимательно, иногда вставляя латинские медицинские термины, расспрашивал обо всех деталях и, выслушав все, повернулся ко мне и сказал удивительно спокойно, даже с улыбкой:
— Знаешь, мне кажется, что я умру.
Я сразу же решительно запротестовал, но он только покачал головой:
— Я врач, и сейчас, когда нахожусь в полном разуме, могу реально оценить собственное состояние. Меня удивляет, что я еще жив. Когда я упал, как ты говоришь, в маске моего костюма разбилось стекло. Если я не умер сразу, то только благодаря тому, что вы достаточно быстро прибежали на помощь, и воздух, находящийся у меня в резервуаре, не успел вытечь полностью. Однако из того, что ты рассказал мне о состоянии, в каком вы нашли меня, я делаю вывод, что атмосфера в моем костюме была уже достаточно разреженной, это вызвало прилив в крови, которая результате высокого внутреннего давления начала сочиться не только изо рта и носа, но даже сквозь поры кожи. Если бы вы задержались еще на нисколько секунд, то нашли бы только обескровленный труп. Меня удивляет, как, после такой потери крови, я выдержал столько дней горячки… Хотя она не могла быть сильной… при такой потере крови и слабой деятельности сердца. В конце концов, я вы; держал горячку и жив, но это не значит, что я буду жить. Я потерял много крови. Посмотри, пульс едва слышен, коснись моей груди — чувствуешь, как бьется сердце? Его удары так слабы… На Земле, возможно, я вышел бы из этого состояния, но здесь при отсутствии условий…
Он устало замолчал и закрыл глаза. Мне показалось, что он вновь засыпает, но он, облокотившись на подушку, из-под полуприкрытых век наблюдал за Мартой, занимающейся приготовлением лекарства, которое он сам себе прописал. Невиданная, безграничная печаль была в этом взгляде. Он пошевелил губами, потом, подняв глаза, тихо сказал, глядя мне прямо в лицо:
— Вы будете добры к ней, правда?
Сердце мое болезненно сжалось, но в то же время я чувствовал, что какой-то жестокий, гнусный голос шепчет мне прямо в ухо: «Когда он умрет, Марта достанется одному из вас, может быть, тебе…»
Я опустил глаза от стыда перед самим собой, но, по-моему, он прочитал эту мысль на моем лице, хотя, клянусь Богом, она длилась короче, чем самое быстрое мгновение!
Он усмехнулся, хотя в глазах его была боль, и, протянув ко мне слабую руку с сетью мелких голубых жилок под бледно-желтой кожей, добавил:
— Не ссорьтесь из-за нее. Дайте ей возможность… уважайте ее…
Он не смог закончить фразу. Только через минуту, зачерпнув дыхание, он неожиданно изменившимся голосом резко сказал:
— Впрочем, возможно, я останусь жить. Совсем не обязательно, что я должен умереть.
Я торопливо стал уверять его, что, конечно, так и будет, но сам сомневался в этом.
Со времени этого разговора прошло несколько часов, но его состояние нисколько не стало лучше, казалось, даже ухудшилось. Постоянно возникают приступы удушья, сердцебиение, потеря сознания. Не знаю, как все будет дальше. При этом он стал страшно раздражительным и капризным. Марта не может ни на шаг отойти от него; на нас он вообще смотрит, как на врагов.
Я попытался еще несколько раз расспросить о причинах его таинственного побега, но каждый раз, как только я заводил этот разговор, он немедленно замолкал, а в глазах его появлялось такое беспокойство, что мне становилось жаль мучить его вопросами. В конце концов, какое мне до этого дело? Достаточно того, что случилось несчастье. Если бы все кончилось только этим!
Третьи сутки, 66 часов после восхода Солнца,
под Платоном, по дороге на восток..
Предположения Варадоля оказались полностью ошибочными. Пробраться вместе с автомобилем через центр горного кольца Платона — вещь совершенно нереальная. Нам приходится обходить цепь Альп, что значительно увеличивает наш путь. Но другого выхода нет.
Несмотря на то, что прошло уже больше 30 часов от восхода Солнца, когда мы стояли у подножия Платона, мы за это время преодолели путь только в сто километров, правда, по исключительно гладкому грунту.
Гигантское, диаметром около девяноста километров, кольцо Платона находится в северной части Моря Дождей. К юго-востоку от него тянется цепь лунных Альп до самого Палюс Небуларум, которым Море Имбриум соединяется с Морем Серенитатис.
Эта цепь только в одном месте прерывается широкой поперечной долиной, едва ли не единственной на этой стороне Луны, ведущей к Морю Фригорис, которое предстоит преодолеть по дороге к полюсу. К западу от Платона, насколько видит глаз, простирается высокая и обрывистая скала, изогнутая полукругом, окружающим обширную Бухту Радуг. Само кольцо Платона образовано гористым валом, окружающим внутреннее пространство площадью около 7500 квадратных километров.
Изучив это все очень подробно по карте, мы заметили, что в южной части Платона, рядом с торчащим там кратером, хребет снижается и образует нечто вроде широкого перевала.
Поэтому, по плану Петра, для того, чтобы сократить путь, мы хотим попасть через этот перевал на срединную равнину и, преодолев ее в северном направлении, найти выход к Морю Фригорис.
Приблизившись к подножию Платона, мы сразу же нашли место, обозначенное на карте. В этом нам помог торчащий вблизи перевала кратер. Дорога к перевалу не выглядела слишком трудной, она медленно поднималась вверх, и какие-либо неровности грунта отсутствовали. Несмотря на это, мы не отважились пуститься сразу в путь вместе с автомобилем. Нужно было сначала убедиться, действительно ли мы сможем туда попасть.
Оставив Вудбелла под опекой Марты, мы с Петром отправились вперед пешком. Автомобиль должен был ждать нашего возвращения.
Мы обошли кратер в основании Платона с восточной стороны и начали подъем. Дорога не была такой легкой, как нам казалось снизу. Встречались каменистые участки и обрывы, которые нужно было объезжать. Несмотря на это, мы были уверены, что автомобиль справится с этой дорогой. Мы оба были в самом хорошем расположении духа. Солнце, стоящее невысоко над горизонтом, грело в меру, нам было тепло и легко, вокруг нас был великолепный вид! Стороны скал, испещренные черными, как смола, тенями, искрились в ослепительном свете солнца, создавая целую симфонию разноцветных радуг. Мы ступали по сокровищам, за которые на земле можно было купить целые королевства: между разрушающимися камнями кровавым цветом горели рубины, жилы малахитов блестели, как зеленая трава, на которой россыпи ониксов и топазов сверкали, как цветы, а иногда из какой-либо щели вдруг вырывался луч солнца, отраженный в куске горного хрусталя.
Это неслыханное богатство, собранное по какому-то капризу природы в одном месте, ослепило и ошеломило нас, но вскоре мы так привыкли к этой картине и к этим бесполезным для нас сокровищам, что шли по ним, как по простым камням.
Однако волшебные картины окружающего оказали на нас прекрасное воздействие: нам было весело. Мы забыли обо всех заботах и неприятностях, о болезни Томаша, о преодоленных трудностях и несчастьях, об опасностях, которые нам еще грозили, даже о неизвестном будущем! Мы как дети радовались прекрасному утру и прекрасным видам. К неудобным воздухонепроницаемым костюмам мы уже привыкли, и мысль об опасности, которая угрожает нам со стороны окружающего безвоздушного пространства, несмотря на недавнее происшествие с Томашем, не приходила нам в голову. Пользуясь легкостью наших тел на Луне, при прежней силе мышц, мы легко преодолевали огромные глыбы или перескакивали через трещины.
Эти вспышки хорошего настроения сдерживались только сознанием того, что нужно спешить. Воздуха и питания, что мы взяли с собой, должно было хватить на сорок часов; это было совсем немного, особенно если принять во внимание то, что могли встретиться какие-то непредвиденные обстоятельства, вынуждающие нас задержаться в дороге.
Через неполных десять часов мы уже стояли на перевале.
Перед нами открылся вид на таинственное нутро Платона. Северная часть кольца, отдаленная от нас примерно на сто километров, виднелась вдали, как огромная выщербленная пила, ощетинившаяся многочисленными зубьями. До самых ее границ тянулась гладкая равнина, темно-серого цвета, похожая на застывшее и тихое море. Только изредка на ней встречались более светлые широкие полосы с рассыпанными на них невысокими кратерами. У наших ног скала обрывалась внутрь необыкновенно резко, не было и речи о том, чтоб спуститься здесь на автомобиле.
Безнадежной грустью повеяло на нас из этого моря смерти. Невозможно вообразить себе пейзажа, где было бы больше покоя и мертвенности. Даже скалы медленно и как бы лениво спускаются вниз, вершины возвышаются сонные, огромные и такие мрачные в свете солнца, как будто поднялись с трудом и неохотно только потому, что им приказано стоять на страже и огородить эту ужасную пустую и серую равнину.
Вся наша прежняя веселость исчезла без следа.
Удивительно, как пейзаж влияет на человеческое сердце! Я долго стоял в молчании, не в силах оторвать глаз от этой пустоты, и сердце у меня сжималось от страшной тоски — не знаю, по какой причине… Мне все вдруг показалось безразличным и утомительным, не стоящим наших усилий, зато смерть-избавительница, которая еще недавно наполняла меня таким ужасом, стала близкой и понятной.
Я чувствовал, что этот вид плохо действует на меня и был не в состоянии его выносить, но все же потребовалось значительное усилие воли, чтобы от него оторваться.
Я повернулся лицом к югу и светящемуся на небе серпу Земли. Над вершиной кратера, который при подъеме служил нам путеводителем, а теперь остался далеко внизу, я увидел перед собой Море Дождей. Огромное, огромное преодоленное пространство! Я смотрел на него, как некогда с перевала под Эратостенесом, только тогда оно еще лежало передо мной, как незнакомая дорога в незнакомый, но желанный мир — теперь оно было уже позади…
Оно было серым, мертвым и огромным, как тогда, только вместо сверкающих на солнце вершин Тимохариса и Ламберта перед глазами чернели, окутанные тенью, шпили Пико и, дальше, к востоку — Питон.
Серп Земли висел над этим морем, гораздо ближе к горизонту, нежели к зениту. И вся эта равнина показалась мне широкой дорогой, ведущей к Земле. Такая страшная, такая тяжелая и такая длинная! И все же мы преодолели ее: два раза прошло над нами солнце, разящее огнем, два раза окутывали нас холодные, долгие ночи. А сколько трудов, сколько приключений и страданий! Спуск с Эратостенеса, смертельная полуденная жара, а потом ужасающий мороз, и снова — призрак Земли, сопровождающий нас в течение всех этих часов! Затем — смерть братьев Реможнеров, несчастный случай и болезнь Томаша… Смертью О’Тамора начался наш путь — но он еще не закончен.
Я был погружен в эти мрачные мысли, когда из задумчивости меня вырвал крик Варадоля. Я быстро повернулся, уверенный, что снова случилось какое-то несчастье, но Петр, живой и здоровый, стоял около меня и только показывал рукой в сторону далекого северного хребта Платона. Я посмотрел в том направлении и увидел нечто похожее на легкое облако, нет, скорее на тень облака, окутавшего подножия гор, еще минуту назад прекрасно видимые.
Я вздрогнул, увидев эту картину, как будто это не облако летело, а сами горы сдвинулись со своих мест и шли перед нами. А Петр тем временем кричал мне в трубку:
— Облако! Значит, там есть атмосфера, есть воздух, там можно будет дышать!
Безумная радость звучала в этих словах. И в самом деле, над этой равниной смерти, как я назвал ее, перед нами появился первый признак жизни. Это облако, правда, еще не свидетельствовало о том, что той атмосферой можно будет дышать человеку, но, во всяком случае, не подлежало сомнению, что воздух там менее разреженный, чем в тех местах, где мы до сих пор находились, раз там могли образовываться облака и подниматься, пусть даже невысоко над поверхностью. Дым из кратеров внутри Эратостенеса немедленно падал на землю, как песок.
Воодушевленные этим событием, утвердившим нас в надежде, что на той стороне Луны, а может быть, и раньше, мы найдем менее разреженный воздух, мы начали спускаться назад к Морю Имбриум, снова в хорошем настроении, хотя, собственно, цель нашего путешествия не была достигнута: мы не нашли дороги через кольцо Платона. Спускаясь, мы разговаривали о том, что следует делать дальше. Может быть, к западу от Платона мы и нашли бы место, где можно было бы выбраться на обрывистый склон возвышенности, но не стоило рисковать. Если бы нам не удалось это, пришлось бы преодолеть тысячу километров, прежде чем мы обошли бы Море Имбриум с запада. Значительно надежней будет повернуть сразу на восток. Может быть, удастся пройти по уже упомянутой поперечной долине в цепи Альп, а даже если это окажется невозможным, то и обходя всю цепь, мы удлинили бы свой путь относительно немного.
С таким решением мы спустились в долину. Каков же был наш ужас, когда мы не обнаружили нашего автомобиля в том месте, где он должен был находиться! Сначала мы подумали, что просто заблудились, но нет, окрестности были те же самые, прекрасно были видны камни, за которыми мы оставили автомобиль. Несмотря на усталость, мы бегом кинулись к ним, не доверяя собственным глазам. Автомобиля не было. Мы старались найти следы его колес, чтобы выяснить, в какой стороне его искать, но на скалистом грунте не смогли обнаружить ничего. Нас охватило отчаяние. Продукты, которые мы взяли с собой, были уже съедены, воды осталось совсем немного, а запасов воздуха могло хватить едва на несколько часов. Варадоль начал кричать, забыв, что единственным существом, которое могло бы услышать его крик — это я, соединенный с ним трубкой для переговоров!
Мы отправились на поиски. Исходили все окрестности, потратив на это шесть часов, но автомобиля не было и следа. Вернувшись на старое место после бесплодных поисков, мы почувствовали, как нам начинает досаждать голод, вода уже закончилась, а запасы воздуха были на исходе. Мы бессильно опустились на землю в ожидании смерти. Варадоль громко ругался, а я в отчаянии ломал себе голову над тем, что могло заставить их уехать до нашего возвращения. Внезапно у меня блеснула мысль, что Томаш сбежал от нас сознательно, чтобы обречь нас на гибель, движимый болезненной ревностью, проблеск которой я уже однажды заметил у него, когда он говорил о своей смерти и о Марте. Бешенство охватило меня. Я вскочил на ноги, чтобы бежать, догнать его, отомстить, убить — чтобы…
И вдруг в нескольких десятках шагов от себя я увидел Марту. Она медленно шла к нам, улыбаясь сквозь стеклянную маску своей обычной печальной улыбкой. Мы оба подскочили к ней и начали кричать попеременно, радуясь и возмущаясь. Марта какое-то время спокойно наблюдала за нами, а когда мы успокоились, охрипшие и оглушившие друг друга своим криком, начала подавать знаки, что ничего не слышит! Мы совсем забыли о том, что в такой разреженной атмосфере она не может нас услышать! Злость неожиданно покинула нас, и мы начали хохотать, одновременно показывая ей, что мы хотим вернуться в автомобиль. Она повела нас — автомобиль стоял неподалеку за камнем, который полностью его закрывал.
Только теперь все разъяснилось. Через какое-то время после нашего ухода, Солнце, совершая свой путь, описывая на горизонте невысокую дугу, зашло за камень, поэтому автомобиль оказался в тени. Вудбелл стал трястись от холода. Тогда Марта завела автомобиль и, объехав камень, остановилась с его южной стороны, где солнце достаточно согревало больного. Мы, вернувшись, испуганные исчезновением автомобиля, искали его где угодно, но ни одному из нас не пришло в голову заглянуть за скалу, находящуюся рядом с нами. Марта видела нас из автомобиля, но думала, что мы уходим для того, чтобы исследовать другую сторону окрестностей, и терпеливо ждала нашего возвращения. Только увидев, что, вернувшись во второй раз, мы не подходим к автомобилю, вышла узнать, что это значит, даже не предполагая, что мы не можем найти автомобиля! Какое счастье, что все это закончилось для нас веселым смехом, хотя могло иметь весьма опасные последствия.
Вудбелла мы нашли в достаточно хорошем, на первый взгляд, состоянии. За время нашего отсутствия он только четыре раза терял сознание. Теперь он выглядел спокойным и говорил, что чувствует себя лучше. Правда, по его мертвенно-бледному и исхудавшему лицу этого не видно, но дай Бог, чтобы так было. Хватит уж нам жертв.
Мы отправились в путь согласно нашему плану. К этому времени мы двигаемся к востоку все еще вдоль возвышающихся вершин Платона. Но вскоре доберемся до цепи Альп.
Принимая во внимание состояние Томаша, нам нужно спешить. Чем быстрее мы окажемся там, где он сможет выйти из замкнутого автомобиля, свободно передвигаясь и дыша, тем правдоподобнее будет его выздоровление. Мы будем двигаться день и ночь, чтобы быть как можно дальше от этой пустыни и как можно ближе к полюсу, где, по всей вероятности, начнутся места, не лишенные воды и воздуха.
Под Альпами, 3° з. д. 47°30′ с. ш.,
161 час после восхода Солнца на третьи сутки.
Все меньше остается у нас надежд, что нам удастся сохранить жизнь Томашу. Мы гоним без памяти, насколько позволяет территория, но полюс все еще далеко, а Томаш тем временем угасает на глазах. От беспокойства и нетерпения нас охватывает дрожь, а вдобавок ко всему цепь Альп, преграждающая нам путь, вынуждает нас держаться юго-восточного направления, так что вместо того, чтобы приближаться к желанному полюсу, мы пока отдаляемся от него. Вскоре через несколько часов мы доберемся до устья Поперечной Долины, может быть, там нам удастся повернуть к северу! До этого времени слева от нас тянутся отвесные скалы Альп, по сравнению с которыми наш автомобиль выглядит, как крошечная муха под стеной отвесной крепости. Мы с тоской ожидаем минуты, когда перед нами откроются ворота в этой стране, а за ним стопятидесятикилометровый скальный коридор, ведущий на Море Фригорис.
Вудбелл постоянно допытывается, далеко ли еще. Ему хотелось бы как можно скорее оказаться на полюсе, а тем временем от Синус Эстуум мы не проделали еще и половины пути. Ужас охватывает меня, когда я об этом подумаю! По-моему, он уже забыл об отдаленности полюса. Постоянно с тоской говорит о полюсе, о воздухе и воде, как о вещах, которые мы найдем уже завтра — тем временем не вызывает сомнений, что завтрашнее утро, хоть и весьма отдаленное, не принесет нам больших перемен. Томаш по мере того, как силы у него убывают, все сильнее верит в свое выздоровление. Строит планы на будущее, обсуждает свою жизнь с Мартой… Я очень боюсь этой его веры: на Земле говорят, что это плохой знак у больного.
Марта терпеливо выслушивает его со своей обычной грустной улыбкой. Как она должна страдать! Ведь не может же она не знать, что он умирает.
В Поперечной Долине, 82 часа после полудня.
Какой-то внутренний голос говорит мне, что все напрасно. Отчаяние охватывает меня, потому что я хочу, чтобы он жил, тем более, что чувствую у себя в мозгу мерзкую, отвратительную змею, которая, против моей воли, нашептывает мне: «Если он умрет, Марта достанется одному из нас, может быть, тебе…» Нет, нет! Он должен жить, должен а если умрет, я знаю, что и Марта последует за ним. И что тогда? Что тогда? Зачем мы останемся здесь? С какой целью?.. Я когда-то жаловался, что мы двое находимся здесь, чтобы служить Марте и Томашу, а теперь чувствую, что эта служба — единственное оправдание нашего существования здесь. С их смертью начнется и наше умирание, потому что мы ничего не сможем воспроизвести, образовать новую жизнь, и наша жизнь и работа никому не будут нужны, даже нам самим…
Вот если бы после смерти Томаша Марта осталась бы в живых, если бы одного из нас, может быть, меня, обвила руками за шею, прильнула к губам, как теперь к Томашу… Я чувствую, как будто горячая волна разливается у меня в груди, перехватывая дыхание и разливая огонь по всем жилам…
Прочь, прочь все эти мысли! Впрочем, этим единственным мог стать Варадоль… Нет, лучше бы этой женщины никогда не было с нами! Я чувствую, что невольно начинаю желать смерти Томаша и ненавидеть Варадоля… А она сидит спокойная, всматривающаяся в лицо умирающего любимого…
Вудбелл не хочет умирать, так отчаянно он борется со смертью. Каждую минуту, наперекор собственным мыслям, он говорит, что будет жить, и требует от нас подтверждения. Мы неискренне делаем это, одна только Марта кивает головой с глубоким убеждением и повторяет низким певучим голосом: «Ты будешь жить… ты мой…» При этом глаза у нее туманятся от блаженства и упоения… Неужели она и в самом деле верит, что этот высохший труп без сил, без капли крови в жилах будет жить?
Однако чего бы я ни дал за то, чтобы он жил!
В полдень мы не останавливались. Прежде всего, жара уже не была такой сильной, как в предыдущие дни, по причине нашего продвижения к полюсу, а потом — состояние Томаша вынуждает нас спешить. Мы проделали уже большой отрезок пути от склонов Платона и находимся на середине Поперечной Долины, а до захода солнца надеемся достичь Моря Морозов.
Около полудня, миновав мелкие, рассыпанные по плоскости скалистые возвышения, мы неожиданно оказались у широкого входа в долину. Отвесная стена Альп обрывается тут к востоку, прерванная огромным ущельем. Плоскость Моря Имбриум заходит сюда широким полукругом, сужающимся к долине, заваленной у входа огромными скалистыми обломками, выступающими вперед гигантским нагромождением высотой в несколько сот метров. По другую сторону этого полукруга возвышается лунный Монблан высотой около четырех тысяч метров.
Мы немного поколебались, прежде чем въехали в долину. Нас испугало это нагромождение скал. Если такие нагромождения будут еще попадаться на нашем пути, путешествие наше вместо того, чтобы стать короче, только удлинится, так как придется каждый раз подниматься по крутым склонам.
Варадоль снова вынул фотографические снимки поверхности Луны. Они уже много раз подводили нас, последний раз на Платоне, но не было иного способа ориентации на месте. В конце концов, после короткого размышления, мы отважились углубиться в долину. К этому решению был причастен и Томаш. С упрямством больного, который не терпит возражений, он настаивал на том, чтобы мы повернули на север, так как он знает, что увеличение пути за счет огибания Альп через Палюс Небуларум убьет его несомненно.
Что с этим человеком сделала болезнь! Когда-то решительный, мужественный, спокойный, полный самообладания, он превратился в капризного и упрямого ребенка. То ругается на нас ни за что ни про что, то просит прощения и умоляет, чтобы спасли его… Но мы предпочитаем это состояние, нежели полный упадок сил, когда он целыми часами лежит навзничь, похожий скорее на мертвеца, нежели на живого человека.
Разговаривает он достаточно бодро, как будто хочет при звуке собственного голоса убедиться, что еще жив. Только, когда кто-либо из нас случайно упомянет о его несчастном случае, он немедленно замолкает и дрожь пробегает по его телу, а в глазах застывает тревога. Напрасно я пытаюсь разгадать, что за тайна содержится во всем этом…
Полдень уже прошел, когда мы остановились перед нагромождением, закрывающим вход в долину. С большим трудом нашли дорогу, которая позволила нам взобраться наверх. Остановившись на возвышении, мы обернулись, чтобы еще раз взглянуть на Море Имбриум, которое через минуту должно было навсегда исчезнуть с наших глаз. Что касается меня, то признаюсь, не без сожаления прощался с этой равниной, хотя мы ничего не нашли на ней, кроме трудов, страданий и отчаяния… Удивительно все-таки человеческое сердце! Мы двигались по этой равнине целых два месяца, от полудня до полудня с одним только желанием, как можно быстрее ее преодолеть, а теперь оглядываемся на нее почти с тоской.
По долине мы двигаемся достаточно быстро и относительно легко. Больших нагромождений нам уже не встречается, а меньшие возвышенности не занимают всей широты долины и их удается объехать. Теперь солнце стоит на небе в таком положении, что освещает обе ее стороны. С каждой из сторон возвышается мощный горный вал высотой до четырех тысяч метров. Долина, шириной в несколько километров в самом начале, к северо-востоку сужается. Это выглядит так, как будто эти две мощные стены сближаются, все теснее сжимая нас. У меня такое впечатление, что мы движемся по огромному, вырубленному в стене коридору. Смотря перед собой, мы видим далекий выход из этого коридора, похожий на глубокую щель между белыми стенами, сквозь которую проглядывает небо. Не знаю, может быть, меня подводят глаза, но мне кажется, что это небо не такое черное, а звезды на нем менее многочисленные и блестящие. Это свидетельствовало бы о существовании менее разреженной атмосферы над Морем Фригорис… Барометр наш тоже медленно поднимается. Только бы довезти Томаша живым до такого места, где будет достаточно воздуха для его груди.
В Поперечной Долине, 168 часов после полудня,
третьи лунные сутки.
С восхода солнца мы уже проделали около пятисот километров и приближаемся к выходу из долины. Просторное скалистое горло сужается все больше, и валы по обе стороны становятся гораздо ниже. Выход из ущелья на Море Фригорис виден уже гораздо явственней, и кажется, расширяется по мере того, как мы к нему приближаемся, и скалы, сотворившие эти ворота, растут у нас на глазах. На закате солнца мы снова будем на равнине, только бы все туда добрались…
Какой страшный путь прошли мы сегодня! Уже несколько долгих часов мы вздрагиваем от любого шороха, взглядывая на гамак Вудбелла — неужели все?.. Он умирает, в этом нет никаких сомнений. Теперь он лежит тихий и спокойный и только смотрит на нас умоляющими глазами, в которых видно, как он хочет, как сильно хочет жить! А мы ничем не можем ему помочь.
Последнее потрясение, пережитое во время переправы через расщелину, повредило ему еще больше. Мы преодолели уже почти две трети пути, когда под 3° в. д. встретили препятствие, которое чуть было не заставило нас вернуться обратно на Море Имбриум. Солнце уже низко стояло над горизонтом, и вся западная сторона долины тонула в непроницаемой темноте, едва нарушаемой тут и там слабым светом Земли. Нам приходилось держаться подножия восточного вала, чтобы не заблудиться в темноте. Вал достигал здесь наибольшей высоты и возвышался над нами, подобно отвесной скале Альп, под которой мы двигались до полудня.
И вот в этом месте мы неожиданно заметили в нескольких сотнях шагов перед собой черную полосу, преграждающую нам путь по всей ширине. До этого мы не видели ее из-за легкого возвышения грунта. Приблизившись к ней, мы увидели, что это расщелина, прорезающая поперек оба скалистых вала и дно долины. Она до самых краев утопала в темноте, поэтому о ее глубине нельзя было догадаться. Тысячеметровые высокие стены гор были прорезаны ею до самого основания.
Мы остановились, бессильные перед этой новой и непреодолимой преградой.
На карте мы видели эту расщелину, прорезающую возвышенность, которая отделяет Море Имбриум от Моря Фригорис в юго-восточном направлении, но не предполагали, что она может быть настолько глубокой, чтобы углубиться в дно Поперечной Долины, лежащее в двух-трех тысячах метров ниже уровня окружающих возвышенностей, простирающихся за горными валами. Пот выступил у меня на лбу, когда я увидел эту пропасть перед нами. Петр тихо выругался.
Тем временем Томаш, обеспокоенный как нашим поведением, так и тем, что автомобиль остановился, начал допытываться, что произошло. Мы боялись сказать ему правду, однако он, не доверяя, видимо, нашим ответам, собрав последние остатки сил, поднялся и посмотрел в окно. Через минуту он снова лег спокойно и на вид безразлично. Единственное, что он сказал, было:
— Они не хотят, чтобы я жил…
— Кто? — удивленно спросил я.
— Братья Реможнеры, — ответил больной и замолчал, закрыв глаза, как бы в ожидании смерти.
Я не разговаривал больше с ним и не имел времени задуматься над значением этих странных слов, так как нужно было посоветоваться с Петром, что теперь делать. Мы думали даже о возвращении на Море Имбриум, когда Петру пришла в голову счастливая мысль: с помощью сильного прожектора осветить дно расщелины и посмотреть, насколько она глубока. Приблизившись к самому краю, мы пустили туда луч света. Расщелина, достаточно узкая в этом месте, не была особенно глубокой. Наоборот, дно ее было засыпано щебнем, в котором торчали огромные обломки скал. Это было похоже на высохшее русло мощного горного потока. И кто знает, не текла ли здесь некогда вода, воспользовавшись дорогой, образованной для нее иными силами?
Свет прожектора скользил по черным, беспорядочно нагроможденным камням и исчезал в глубоких трещинах, а мы все смотрели туда, не в состоянии ничего решить. Тогда к нам приблизилась Марта.
— Почему вы не пускаетесь в дорогу? — спросила она таким голосом, как будто отдавала нам приказ. И добавила, кивнув головой в сторону Томаша: — Я должна жить ради него… со мной теперь можете ничего не бояться…
Мы удивленно смотрели на нее. Что с ней произошло? Никогда еще она так не разговаривала с нами. Глаза у нее странно блестели, а во всем облике, в словах и в движениях чувствовалось нечто новое, необъяснимая уверенность в себе. Ох, как же красива эта женщина! Варадоль уставился на нее пылающими глазами, и меня охватило бешенство по отношению к нему. Я резко схватил его за плечо и закричал зло:
— Ты не знаешь, что у нас нет времени?! Говори, куда ехать: вперед или назад?
Петр быстро повернулся ко мне, и мы мерили друг друга взглядом, готовые в любой момент кинуться друг на друга.
И тогда зазвучал тихий, насмешливый и пронзительный смех Марты. Сотня игл как будто впилась мне в сердце. Мы оба, устыдившись, опустили глаза, а она отошла, слегка пожав плечами. Я почувствовал, что начинаю ее ненавидеть.
В конце концов мы решили спуститься в расщелину и проехать ее по устилающим дно камням. Но это легче было сказать, чем выполнить. В одном месте, здесь же у восточной стены, мы нашли относительно пологий спуск и начали осторожно спускать по нему автомобиль. Однако самое худшее ожидало нас на дне расщелины. Сюда не доходил ни свет Солнца, ни свет Земли, поэтому мы оказались в полной темноте. Я не могу передать словами все трудности этого пути в несколько сот метров. Прожектор освещал только небольшое пространство перед нами, ориентироваться в темноте было невозможно. Поочередно один из нас шел пешком впереди, а другой оставался у руля. Автомобиль постоянно кренился, подскакивал, ударялся о камни или падал, один раз он даже увяз так, что мы сомневались, сможем ли его вытянуть. Наконец мы добрались до противоположной стороны расщелины. К счастью, грунт тут когда-то обвалился, поэтому создалось возвышение, по которому мы с помощью «лап» взобрались наверх.
На половине подъема мы уже оказались в солнечном свете. Переход от полной темноты к свету при одном движении автомобиля был настолько быстр, что мне пришлось зажмурить глаза перед этой заливающей нас волной света. Когда я снова открыл их и оглянулся назад, мне показалось, что весь этот путь был сном. В нескольких сотнях шагов позади себя я видел край внезапно обрывающегося грунта, между нами и этим краем был пояс абсолютной темноты. У меня только возникло какое-то неясное воспоминание, что несколько минут назад мы были там, на дне этой, казалось, бездонной расщелины, в полной тьме, пробирались по черным ужасным камням, возникающих перед нами в электрическом свете — но не мог поверить в реальность этой жуткой переправы.
Поднявшись на уровень Поперечной Долины, мы остановились на минутку, чтобы снять «лапы» и осмотреть автомобиль, не пострадал ли он. Все было в порядке, и мы могли продолжать свой путь. Все было в порядке — за исключением здоровья Томаша. Пережитое потрясение так подействовало на него, что он уже несколько часов лежал, как мертвый, только постанывая иногда.
Мы проехали уже порядочный кусок дороги, когда вдруг Томаш поднялся и сел в своем гамаке. В его широко открытых глазах снова пылала лихорадка. Петр был занят ведением автомобиля, но мы с Мартой немедленно подбежали к нему. Он посмотрел на нас безумными глазами, а потом воскликнул:
— Марта! Я умру!
Марта побледнела и склонилась к нему:
— Нет. Ты будешь жить, — тихо сказала она, и яркий румянец неожиданно окрасил ее лицо.
Томаш тихо покачал головой, а она, еще больше склонившись к нему, начала вполголоса говорить что-то по-малабарски. Я не понимал слов, но видел, что они произвели огромное впечатление на Томаша. Сначала лицо его прояснилось, потом по нему пробежала печальная улыбка, а затем в глазах заблестели слезы и, тихо застонав, он начал целовать волосы склонившейся к нему на грудь девушки.
С этой минуты какое-то время он лежал спокойно, держа руку Марты в своих высохших и потных ладонях. Но вскоре снова начал подниматься, видимо, ему не хватало дыхания.
— Марта, я умру, — каждую минуту тревожно повторял он, а она неизменно отвечала:
— Ты будешь жить.
Обычно после ее ответа он затихал, как маленький плачущий ребенок, когда мать положит руку ему на голову. Но в очередной раз услыша эти слова, он ответил:
— Что мне до этого, если я не доживу…
Потом добавил:
— Они не позволят мне жить… Реможнеры…
Я не мог сдержать любопытства и, в конце концов, спросил его, какое отношение к его болезни имеют братья Реможнеры.
Он с минуту поколебался, но потом сказал:
— Теперь уже все равно… теперь я могу вам рассказать…
И начал медленно говорить тихим голосом, останавливаясь из-за сильного сердцебиения и удушья.
— Помните, — сказал он, — тот мертвый город в пустыне за Тремя Головами? Он даже сегодня стоит у меня перед глазами со своими башнями в развалинах и с этими наполовину разрушенными воротами… Я знаю, что умираю, но мне и сейчас жаль, что я туда не попал. Но все было так… Когда я вышел из автомобиля, мне пришлось взбираться по разным нагромождениям камней, похожих на разрушенную мостовую старой римской дороги где-нибудь в Швейцарии или в Италии… Потом, наконец, я выбрался на более ровное место. Теперь город был передо мной, как на ладони. Я уже хорошо видел его огромные ворота с мощными колоннами, когда вдруг, вдруг…
Он схватил нас за руки и чуть приподнялся на постели. Глаза у него были широко открыты, мертвенно-бледное лицо стало какого-то зеленого цвета.
— Я знаю, — сказал он, — вам кажется, и мне тоже казалось… когда-то… Что истиной являются только знания… опирающиеся на опыт, и в математике укладывающиеся в формулы, однако существуют вещи непонятные и удивительные… Вы можете смеяться надо мной, но это ничего не изменит… Мы слишком мало знаем до сих пор, слишком, слишком мало.
Он замолчал и посмотрел на нас, как будто проверяя, не смеемся ли мы в душе над его словами, но мы сидели притихшие и задумчивые. Он набрал в грудь воздуха и продолжил:
— Тогда… вдруг… я увидел… две тени — нет! — двух людей, двух трупов или призраков — они вышли из ворот и направились ко мне… Ноги у меня подогнулись. Я закрыл глаза, надеясь отогнать этот призрак, но когда я через минуту снова открыл их, увидел в четырех шагах перед собой — обоих братьев Реможнеров! Они стояли вдвоем, держась за руки, ужасные, опухшие, окровавленные, такие, какими мы нашли их — и оба страшно смотрели на меня… Вы знаете меня, я совсем не такой пугливый и не, склонен к галлюцинациям, но я говорю вам, что они стояли там, а я со страха превратился в глыбу льда. Я не мог двинуться, пошевелиться, обернуться… Тогда они начали говорить! И я слышал их голоса, хотя там не было воздуха, так, как слышу вас здесь…
— И что они говорили? — невольно спросил я.
— Зачем вам это знать, — ответил он. — Достаточно, что я это слышал… Они сказали мне, как я умру и как умрете все вы… Назначили день и час. И еще сказали, что нельзя безнаказанно покидать Землю и безнаказанно заглядывать в тайны, скрытые от человеческих глаз. Лучше было бы нам, — говорили они, — умереть там, на Море Имбриум, чем у них, мертвых, воровать воздух, продолжая свою жизнь на муки, только на муки… «Мы отправились за вами, — сказали они, — и вы виноваты в нашей смерти, но и вы…» Говоря это, они завистливо поблескивали побелевшими глазами и оба злорадно усмехались страшными опухшими губами.
В эту минуту я заметил, что за ними стоит О’Тамор, бледный, белый, высохший… Он не усмехался и ничего не говорил, только был печален и смотрел на меня как бы с жалостью… Я закричал от страха и, собрав все свои силы, оторвал окаменевшие ноги от земли и побежал. Я забыл уже о городе, обо всем. Споткнулся, хотел подняться, но вдруг почувствовал, что мне не хватает воздуха, и потерял сознание.
Он замолчал, обессилев, а нас охватило мрачное уныние. Я в глубине души был уверен, что все это было просто галлюцинацией, как и этот город сегодня кажется мне просто странным нагромождением скал, но я не смел этого сказать ему. Впрочем… откуда я знаю? Есть разные загадки и тайны. На эту застывшую планету уже пришли люди, и пришла Смерть, может быть, с людьми и их неотступной спутницей, Смертью, пришло сюда и Нечто неизведанное, которое в течение многих столетий опровергает на Земле все знания, опыт и ожидания?
После этого рассказа Томаш заснул на полчаса.
Проснувшись, он начал спрашивать, где мы находимся. Я сказал ему, что мы приближаемся к концу Поперечной Долины и скоро попадем на Море Фригорис. Он слушал, как бы не понимая того, что я говорю.
— Да, — сказал он наконец, — да, да… мне снилось, что я был на Земле.
Потом повернулся к Марте.
— Марта! Расскажи, как там на Земле.
И Марта начала рассказывать:
— На Земле воздух голубой, голубое небо, по нему плывут облака. На Земле много, много воды, огромные океаны. На побережье — песок и разноцветные раковины, а дальше лежат луга, на которых цветут душистые, прекрасные цветы… За лугами простираются леса, полные разных зверей и поющих птиц. Когда подует ветер, море глухо шумит, леса тоже шумят, и шелестит трава.
Так она рассказывала с детской простотой, а мы слушали ее слова, как прекрасную, волшебную сказку… Больной слегка пошевелил губами, как бы повторяя за ней: «леса шумят, а травы шелестят…»
— Мы туда уже не попадем, — наконец произнес он.
В ответ ему раздались рыдания Марты. Она не могла больше сдерживаться. Прислонившись головой к краю гамака, она вся содрогалась в отчаянном, страшном рыдании.
— Тихо, тихо, — сказал Томаш, слегка прикоснувшись ладонью к ее волосам. Но и его начал охватывать страх.
Он повернулся к нам и снова заговорил прерывистым голосом, с трудом вырывающимся из груди:
— Спасите меня! Сжальтесь надо мной! Спасите! Я не хочу умирать! Не хочу умирать здесь! Здесь так страшно! Спасите меня! Я хочу… жить… еще… жить… Марта…
Он расплакался, как женщина, умоляюще протягивая к нам худые руки. Что мы могли ему ответить? Как спасти его?
Мы приближаемся к выходу из долины, и равнина Моря Морозов уже видна впереди. Но мне почему-то кажется, как это ни прискорбно, что мы преодолеем ее одни — без Томаша!
На Море Фригорис, третьи лунные сутки,
23 часа после захода Солнца.
Я бросаю взгляд на последние слова, написанные мной: они оправдались. На равнину Моря Фригорис мы выехали одни. Томаш Вудбелл умер сегодня на заходе солнца.
Такая страшная пустота! Наша группа становится все меньше, уже осталось только три человека…
Я не могу думать ни о чем ином, как только о тихой, но такой страшной смерти Томаша.
Солнечный диск уже коснулся нижним краем горизонта, когда мы, наконец, после недельного пути, выехали из скалистого коридора. Перед нами простиралась гладкая, позолоченная последними лучами солнца равнина. Говорю: позолоченная, так как солнце, чего раньше не наблюдалось, склонившись к горизонту, приобрело некоторый золотой оттенок и слегка окрасило круг черного неба вокруг себя. Это несомненный признак того, что атмосфера здесь более густая. Мы заметили и другое невероятное явление: Море Фригорис полностью застлано песком. По-видимому, эта равнина когда-то была дном настоящего моря.
Наши сердца наполнились надеждой, тем более что Томаш, по крайней мере с виду, чувствовал себя лучше. Настроение у нас стало подниматься, нам уже казалось, что мы птицей перелетим эту равнину, и прежде чем солнце взойдет, вместе с Томашем окажемся в Стране Жизни, почувствуем дыхание ветра, услышим шум воды, увидим зелень…
Все произошло совсем иначе!
Едва мы проехали несколько метров по долине, Томаш обратился к нам с просьбой остановить автомобиль. Малейшее движение причиняло ему страшные муки…
— Я хочу отдохнуть, — сказал он слабеющим голосом, — и посмотреть на солнце, прежде чем оно зайдет.
Мы остановились, и он стал смотреть на солнце, проливающее на его лицо потоки последних золотых лучей. Он неподвижно смотрел на него, потом обратился к Марте:
— Марта, как там: «Солнце, ты светлый Бог…» Как дальше?
И Марта в ответ на его слова, как при первом на Луне заходе Солнца, встала в блеске лучей, протянула руки и, подняв к исчезающему светилу полные слез глаза, начала нараспев произносить слова древнего индусского гимна.
Вудбелл слушал и, казалось, засыпал. Потом вдруг открыл глаза:
— Марта! О’Тамор умер?
— Умер.
— Реможнеры умерли?
— Умерли.
— Я тоже умру… И они… и они… — Он показал глазами на нас.
— Они умрут. А ты будешь жить, — ответила она снова с той же глубокой, удивительной уверенностью.
— А, да… — прошептал больной, — но что мне от этого…
На минуту воцарилось молчание. Селена встала передними лапами на гамак и начала лизать его свесившуюся руку. Он посмотрел на нее и сделал такой жест, как будто хотел погладить верное животное, но, видимо, у него уже не было сил…
— Собачка моя, собачка… — только прошептал он.
Потом сказал, что хочет увидеть Землю. Мы повернули его так, чтобы он мог ее увидеть. Он смотрел долго, с тоской простирая руки к этому светящемуся на небе полукругу, по которому как раз медленно скользила тень Индийского океана, со светлым, углубляющимся в него треугольником Индии.
— Смотри, смотри, там Траванкор! — воскликнул больной.
— Да, там Траванкор, — повторила Марта, как эхо.
— Там мы были счастливы…
— Да, счастливы…
Больной снова стал беспокоиться.
— Марта, после смерти я отправлюсь туда?.. Я не хочу… блуждать здесь… по этой пустыне… в этом городе мертвых… Марта, я пойду туда после смерти?..
Марта молчала, наклонив голову, а Томаш снова стал настаивать…
— Марта, скажи! Я отправлюсь туда… после смерти? На Землю?
Судорога боли исказила лицо девушки, но она преодолела себя и сказала тихо, голосом, полным слез…
— Отправишься ненадолго… на короткое время… А потом вернешься ко мне.
Смерть уже застилала его глаза, бессильные руки посинели и похолодели. Он содрогнулся и чуть слышно прошептал:
— Марта! Как там на Земле?
Марта снова начала рассказывать о морях, о лугах, о цветах, а у него на губах оседала какая-то болезненная, но спокойная улыбка, и глаза медленно закрывались.
Он открыл их еще на мгновение, посмотрел на Землю, на солнце, лишь краешком светлеющее над пустыней, едва слышно, вздохнул и скончался с последним лучом угасающего дня.
Отчаянный, безумный плач Марты раздался в наступающей темноте.
Уже в темноте мы выкопали могилу и засыпали ее песком.
И снова мы в дороге уже около двадцати часов.
Наш путь лежит по ровной песчаной пустыне. Мы уже прошли, при выходе из Поперечной Долины, 50 широту. Земля поднимается здесь только на 40° на горизонте, но, к счастью, на этой равнине нет возвышенностей, которые отбрасывали бы тень. Если удастся, будем двигаться всю ночь без перерыва…
Настроение у всех подавленное. Марта сидит совершенно обессиленная, обезумевшая от горя, а у ног ее Селена воет по своему умершему хозяину. Мы пытаемся ее покормить, чтобы успокоить, но она не хочет есть. Привыкла брать пищу только из рук Томаша.
На Море Фригорис, 0°6′ в. д. 55° с. ш.,
после полуночи, в начале четвертых суток.
Мы повернули прямо на север, к полюсу. В течение ста семидесяти часов, то есть со смерти Томаша, мы двигались в северо-западном направлении. Теперь уже его могила осталась далеко, далеко Позади… На земле прошла уже неделя с тех пор, как мы его похоронили.
Всю эту неделю песок сыплется под колесами нашего автомобиля, и только звук двигателя нарушает тишину, постоянно царящую среди нас. Марта уже не плачет, она сидит молча со стиснутыми губами и широко распахнутыми глазами, в которых высохли слезы. Селена мертва.
После смерти Томаша она не хотела есть, только выла целыми часами и бегала по автомобилю, обнюхивая все предметы, которые принадлежали ему или которых он касался своей рукой. Потом легла в углу, ослабела и только грозно ворчала, если кто-то из нас хотел к ней приблизиться. Мы опасались, как бы она не впала в бешенство и поэтому, к большому сожалению, вынуждены были ее убить. Впрочем, я уверен, что и так она не долго жила бы.
Страшная тишина стояла в нашем автомобиле, потому что нам с Петром нечего было сказать друг другу. То, что произошло, было ужасно. Смерть Томаша — это не только смерть человека, не только потеря мужественного, верного и дорогого друга — это страшное несчастье, чудовищная ирония судьбы, бросившая между нами двоими эту женщину, которую мы оба желаем. Я не могу смотреть на нее, по телу моему проходит дрожь, а одновременно я явственно осознаю всю омерзительность этого… святотатства по отношению к еще свежей могиле друга. Мне кажется, что дух Томаша находится еще совсем рядом, что он плюет мне в сердце, видя там такие мысли, но не могу перебороть себя, не могу, не могу! Лихорадка сжигает меня, кровь бешено струится в жилах, и весь я так переполнен ей, что даже, закрыв глаза, вижу ее перед собой с ужасающей четкостью.
Я силой удерживаю свои мысли, как свору взбесившихся собак, но они вырываются из-под моего контроля, бросаются на нее, безжалостно срывают с нее одежду, ласкаются и трутся о каждый клочок ее тела, вьются около нее и пачкают ее своими грязными мордами, а, видя, что несмотря на это, она остается все такой же неподвижной и холодной, начинают лаять и рвать ее зубами, грызть… Ах, эти омерзительные мысли, как же они мучают меня!
С Варадолем происходит то же самое, я знаю, чувствую, вижу это. Он в свою очередь знает, что творится со мной. Отсюда эта глухая, ожесточенная ненависть между нами. Что скрывать, зачем придумывать красивые названия для того, что происходит! Мы оба отвратительны, потому что между нами стоит она. Нас только двое в этом жутком мире, и в глубине наших душ что-то говорит нам, что один из нас лишний. Мы не разговариваем друг с другом и не смотрим друг другу в лицо. Иногда я улавливаю сбоку взгляд Варадоля, страшный взгляд, в котором проглядывает смерть, как пожар из окон пылающего внутри дома.
Боюсь ли я его? Нет! Нет, сто раз нет! Хотя знаю, что в любую минуту, даже не отдавая себе отчета в том, что он делает, он может ударить меня сзади и убить, — вот, например, сейчас, когда я пишу, а он стоит за мной и видит мою голую шею… Дрожь пробегает у меня по спине, но я не поворачиваюсь, не хочу поймать один из тех взглядов, в которых я, как в зеркале, вижу собственную подлость. Впрочем, я и в самом деле не боюсь этой внезапной, неожиданной смерти, которая может встретить меня, смерть только тогда страшна, когда приближается медленно и неотступно — я знаю это по своему опыту. Я боюсь только одного, боюсь думать, что он может завладеть этой женщиной, на которую имеет не больше прав, чем я. Что сможет поцелуями воспламенить ее все еще бледное от слез лицо, взволновать ее грудь, которая еще недавно вздымалась от рыданий… нет, я не могу об этом думать!
Мы следим друг за другом так, что пока мы оба живы, она поистине находится в безопасности среди нас!
Но временами меня охватывает бешенство. Мне хочется плюнуть себе в лицо, а потом встать перед ним и сказать вслух: «Пойдем, будем биться за нее, как два бешеных волка за волчицу — мы, неуверенные в завтрашнем дне, неуверенные в возможности жизни, изгнанные в этот мир, будем биться за эту презрительно равнодушную к нам любовницу нашего недавно умершего друга! Прежде чем завтра нам придется умереть, пойдем! Будем биться сегодня!»
Но я слишком лицемерен и труслив, чтобы это сделать… Ох, как я презираю себя!
И ее презираю, и ее ненавижу! Бывают минуты, когда я готов броситься на нее, вырвать из ее молчаливых, печальных губ крик, и в следующую минуту оборвать его вместе с ее жизнью. Может быть, так было бы лучше… Мы остались бы одни, без цели, без желания жить, может быть, тогда мы даже добровольно расстались бы с жизнью, но между нами, по крайней мере, не было бы…
Зачем она живет? Что удерживает ее на этом свете? Как может она жить, если так любила этого человека, если он в самом деле был для нее всем, и вместе с его смертью все для нее кончилось? Мы омерзительны, но и она, она тоже омерзительна! Собака — неразумное животное — выказало больше привязанности, потому что не смогла пережить смерти хозяина, который ее выкормил! А ведь эта собака не получила и сотой доли той любви и нежности, которая была направлена к женщине! Но женщина живет… И кто знает, кто знает, может, эти глаза, с виду застывшие и погасшие от горя, бросают украдкой взгляды в нашу сторону, может быть, в ее голове, еще полной воспоминаний об ушедшем, уже рождается тихая мысль: которого из этих двоих, живых, выбрать, чтобы исполнить извечный долг женщины?..
Возможно, во всем этом есть нечто первобытное, жизнеутверждающее, самой природой вложенное в человеческую натуру, но для меня, в эту минуту, это так отвратительно, так чудовищно и жутко!
Ах, зачем живет эта женщина!
Однако чувствую, что ее смерти я не перенес бы.
На Море Фригорис, 0°30′ в. д. 61° с. ш., четвертые сутки,
172 часа после полуночи.
Марта была права, говоря Томашу: «Ты будешь жить!» Как же я тогда этого сразу не понял!
Прошло уже почти три четверти ночи, когда, находясь у руля, я заметил, что Петр крутится вокруг меня с таким выражением, как будто хочет завести разговор. До сих пор мы ограничивались только несколькими, вызываемыми необходимостью словами, поэтому меня это удивило и обрадовало. Я чувствовал, что пора уже наконец сбросить с себя это несносное мучительное наваждение и выяснить наши отношения.
Поэтому я как можно непринужденней спросил у него:
— Тебе что-то нужно от меня?
— Да, разумеется, — подхватил он поспешно, садясь рядом со мной, — я хотел с тобой поговорить.
Я заметил, что он пытается улыбнуться, но лицо у него лишь судорожно скривилось. Я невольно посмотрел на его руки. Он, видимо, понял мой мимолетный взгляд, поэтому покраснел и, вынув руки из карманов, положил их на колени. Через минуту он заговорил, чуть заикаясь:
— Да, да, видишь ли, я хотел с тобой… Потому что, мне кажется, что этой ночью не стоит останавливаться, так как нет сильного мороза, а дорога ровная и достаточно светло, хотя Земля стоит низко над горизонтом, впрочем, ты же понимаешь, что нам надо спешить, потому что…
Я не спускал с него глаз, а он все больше и больше смущался.
Внезапно, изменив тон, он решительно крикнул:
— Так без остановок едем на север, решено?
— Да… — подтвердил я, стараясь говорить спокойно.
Снова наступила тревожная тишина. Варадоль сорвался с места и начал нервно ходить по автомобилю. Я полностью отдавал себе отчет в том, что с ним происходит, знал, о чем он хотел со мной поговорить, и зачем плел всякую ерунду, не имеющую никакого значения. Он не мог заставить себя произнести слова, которые поставили бы нас лицом к лицу перед проблемой, которую раньше или позже все равно пришлось бы решать. Через минуту я почувствовал даже злорадную радость, наблюдая за его мучениями, а потом мне неожиданно стало жаль его. Было одно мгновение, когда я готов был броситься ему на шею и — заклинать его нашей дружбой уступить мне эту женщину или просить его, чтобы он согласился на ее смерть — не знаю. Но я взял себя в руки, потому что это не могло привести ни к чему. Зато мне стало ясно, что не следует откладывать решающего разговора.
— Ты хотел мне сказать только это? — спросил я его как бы невзначай.
Он остановился, видимо, ошеломленный моим доброжелательным тоном, и испытующе посмотрел мне в глаза. Потом печально усмехнулся и провел ладонью по лбу. Я видел, что рука у него дрожит.
— Да, действительно, я хотел еще…
Он замолчал и взглянул на Марту. Поколебался еще немного, но потом нахмурился и отрывистым сухим голосом сказал по-немецки, чтобы Марта не могла его понять:
— Что мы будем делать с этой женщиной?
Я ждал этих слов, но тем не менее они подействовали на меня, как удар молотом по голове. Я резко затормозил автомобиль, потому что кровь ударила мне в голову и глаза застлала темнота. Сердце бешено забилось в груди, а во рту все пересохло. Наступил решающий миг.
Я взглянул на Варадоля. Он стоял передо мной бледный, как труп, и упорно смотрел мне в глаза. Этого взгляда я не забуду до самой смерти! В нем были беспокойство и подлая, почти собачья мольба, смешанная с угрозой.
Я молча отодвинул его в сторону и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, подошел к Марте, которая сидела над каким-то шитьем. Он пошел за мной.
— Почему ты живешь, женщина? — спросил я неожиданно с неслыханным и, как я теперь вижу, смешным трагизмом, хотя тогда, Бог свидетель, мне было совсем не до смеха!
Марта удивленно посмотрела на нас, а потом, залившись румянцем, медленно сказала слегка дрожащим голосом:
— Я жду возвращения Томаша…
Меня охватила злость.
— Хватит этой глупой болтовни! — закричал я, вырывая у нее из рук работу, над которой она склонилась.
Не зная, что случилось бы потом, но в этот момент я бросил взгляд на вырванный кусочек полотна: это была детская рубашечка.
Я сразу все понял. Будучи не в состоянии произнести ни слова, я только протянул руку и показал рубашечку Петру. Он тихо вскрикнул и быстро отошел к рулю.
Так вот почему она говорила умирающему Томашу с такой убежденностью: «Ты будешь жить!» — поэтому она не отправилась вслед за ним!
Ведь согласно верованиям ее народа в ребенка, рожденного после смерти отца, вселяется душа умершего. Значит, она ждет, в уверенности, что Томаш вернется к ней в ребенке, побывав на Земле, о которой так тосковал перед смертью? Она должна была сообщить ему эту радостную весть и то, как будет его ждать. Может быть, именно об этом она говорила ему тогда по-малабарски?
Все это пронеслось передо мной с быстротой молнии.
Я посмотрел на Марту: она тихо плакала, уткнувшись лицом в крошечную рубашечку, выкроенную из белья умершего. И внезапно со мной произошло что-то странное. Я почувствовал, как у меня на сердце потеплело и одновременно упала какая-то пелена. Марта показалась мне совершенно иным существом. Я с удивлением смотрел на нее, как будто видел ее впервые. Это уже была не женщина, за которую несколько минут назад я был готов биться со своим другом и единственным соратником в этом мире, а мать нового поколения, победившая смерть благодаря великой тайне жизни.
Невыразимая признательность наполнила мою душу, признательность за то, что благодаря ей мы не будем здесь одни, и за то, что она защитилась этим нимбом материнства от нас, которые видели в ней только драгоценное наследство после умершего. Я бессознательно склонился к ней и поцеловал ее руку.
Она вздрогнула, но, видимо, поняла значение моего поцелуя, потому что в этот момент подняла заплаканное лицо с новым, гордым достоинством.
Удивительна все же человеческая природа! Ведь то, что произошло, совершенно не решило наших проблем, всего лишь отодвинуло их на какое-то время, но несмотря на это мы оба успокоились, как будто все уже было решено. У нас сохраняется уверенность, что эта женщина не принадлежит никому из нас, живущих, а только тому, который умер, и мы храним к ней уважение, не задумываясь, что придет время, когда, возможно, снова…
Ах, нет, нет! Даже думать об этом не хочу!
Теперь только на север, все время на север!
Под Тимэусом, после восхода Солнца
на четвертые лунные сутки.
Ни один восход еще не пробуждал в нас такой радости и такой надежды, как последний. Ему предшествовала заря — явление, которого мы еще не наблюдали на Луне.
Ночь как раз заканчивалась, и мы ждали, что в любой момент вершина горы, возвышающейся перед нами в свете Земли и свидетельствующей о том, что мы уже добрались до северной границы Моря Фригорис, окрасится первыми лучами восходящего Солнца. Однако прежде чем это произошло, мы заметили, что черное небо на востоке становится чуть светлее, как бы слегка окрасившись опалово-молочной мглой. Сначала мы подумали, что это новое необъяснимое явление, связанное с той значительной широтой, на которой мы находимся, мы миновали уже 60 параллель, возможно, какой-то зодиакальный свет, видимый поблизости от экватора перед восходом Солнца. Но нет, это был не зодиакальный свет, небо слегка засеребрилось по всей ширине над горизонтом, и звезды потускнели в этом белесом свете. Вскоре и вершины Тимэуса — это был кратер, к которому мы приближались, осветились Солнцем, но что за чудо! Они чуть порозовели на фоне неба. Невозможно было больше сомневаться, этот розовый свет говорил нам о том, что воздух должен был быть здесь уже менее разреженный, чтобы окрасить пронизывающие его лучи Солнца.
Меня охватила тихая радость, я улыбнулся Петру, поглощенному этим удивительным явлением, потом повернулся к Марте.
— Смотри, — воскликнул я, — твой ребенок появится на свет там, где можно будет дышать, как на Земле!
Она подняла голову и посмотрела на восток, который окрашивался золотым светом, разливающимся на горизонте, как по нашим сердцам разливалась надежда на новую жизнь.
Солнце медленно поднималось, еще медленнее, чем в предыдущие дни, потому что не шло сразу вверх, а двигалось по дуге, низко склонившейся над горизонтом. Наконец оно вышло целиком и остановилось на небе, окруженное беловатым ореолом, переходящим в голубизну, исчезающую на фоне черного неба вокруг. Поблизости от Солнца звезды были уже не видны. Они еще сверкают в отдаленных частях небосклона, но уже исчезает их разноцветие, и теперь они гораздо более похожи на те мигающие звезды, которые украшают ночной небосклон на Земле.
Еще одни, самое большее двое лунных суток, и мы сможем выйти из автомобиля и вздохнуть полной грудью, в первый раз вдохнуть в себя лунный воздух.
За последнюю ночь мы проехали огромный отрезок пути.
Ночной мороз здесь, поблизости от полюса, значительно слабее, так как Солнце не уходит здесь глубоко за горизонт, поэтому мы ни на минуту не останавливались в дороге. На заходе Солнца мы выехали на Море Фригорис, а теперь эта равнина уже позади.
На западе уже начинается гористая местность. Тимэус, мимо которого мы проезжаем, это только ее пограничный столб.
Перед нами, к северу, простирается равнина, широкой затокой углубляющаяся в гористую местность и достигающая, если судить по картам, 68 параллели. Она не такая ровная, как Море Морозов, на ней вздыбливаются невысокие возвышенности, которые, однако, вряд ли затруднят нам путь, так как имеют достаточно пологие склоны. Это пространство мы должны преодолеть до наступления ночи, поэтому она застанет нас уже в горах. И тогда нас будет отделять от полюса еще около шестисот километров…
Но что значат шестьсот километров, если мы уже столько их прошли? Мы полны воодушевления и надежды, все недоразумения между нами исчезли, исчезли страшные наваждения, которые мучили нас в ночи, как туман, рассеялись в свете восходящего Солнца. Нас поддерживает мысль, что к желанной цели нашего тяжелого путешествия мы везем зародыш новой жизни — и нам становится так хорошо, так спокойно, что иногда кажется, будто мы не жалеем о том, что покинули Землю.
Почему с нами нет Томаша? Он делил с нами наши горести, чего бы я не дал за то, чтобы он смог разделить и нашу радость!
Четвертые лунные сутки,
78 часов после восхода Солнца, 0°2′ в. д. 65° с. м.
Странная тоска меня томит. Не знаю, откуда она взялась и чего хочет от меня? Путешествие продолжается, небо над нами постепенно становится темно-голубого цвета, звезды начинают мигать, все говорит о том, что приближается «Земля Обетованная», где, наконец, мы сможем отдохнуть после нечеловеческих трудов, продолжающихся уже четвертый месяц, а я вместо того, чтобы радоваться, становлюсь все печальнее и грустнее.
Что этому виной? Может быть, Земля, склоняющаяся к горизонту, которую через несколько сот часов мы окончательно потеряем из виду, а может быть, эти могилы, обозначившие наш путь через жуткую безвоздушную лунную пустыню, и, возможно, те душевные терзания, от которых я еще не успел остыть, а может быть, мысль о ребенке умершего друга, который должен будет появиться на свет в этом неизведанном краю.
Сам я совершенно спокоен, только эта несносная тоска и эти мучения! Глаза у меня почти ослепли от яркого света Солнца, мне наскучили виды диких, обрывистых гор, бесцветных пустынь… О, хоть бы маленькое озерцо воды, клочок зелени!..
Окрестности выглядят здесь как огромное кладбище. Мы движемся по дну высохшего моря. Что стало с этим морем, которое некогда шумело здесь, протягивая волны к Земле, виднеющейся тогда, как золотой диск между облаками, плывущими над водой? Только берег остался возвышаться над сухой котловиной, обрывистый, огромный, источенный ударами волн, уже не существующих ныне… Ветер развеял в пыль его обломки; а теперь и ветров здесь уже нет. Пустота и смерть…
Так хочется наконец добраться до мест, где мы сможем увидеть жизнь! Хоть бы это скорее произошло, а то силы уже на исходе.
Из нас троих самой терпеливой является Марта, что ж, ее мир теперь находится в ней самой! И кажется, она о нем думает больше, чем об умершем любовнике. Я часто вижу, как сидя над работой, она вдруг опускает руки и смотрит куда-то в будущее, улыбаясь своим мыслям. Я уверен, что внутренним взглядом она уже видит маленького, розового младенца, протягивающего к ней руки. Только иногда глубокий вздох прогоняет с ее лица эту блаженную улыбку и глаза у нее наполняются слезами. Она вспоминает о Томаше, который не увидит своего ребенка, но потом улыбается снова, зная, что если бы он не умер, его душа не смогла бы вернуться к ней в облике ребенка.
Марта, постоянно углубленная в свои мысли, мало разговаривает с нами, но однажды сказала мне: «Хорошо, что я отправилась сюда за Томашем, потому что теперь я дам ему новую жизнь…»
Как же ей не быть счастливой, если она может так о себе сказать?
Четвертые сутки, 17 часов после полудня,
на возвышении перед Голдшмидтом, 1° З' в. д. 69°3′ с. ш.
Равнина закончилась, мы уже находимся в горах, тянущихся до самого полюса. Наш путь лежит через возвышенность, усеянную многочисленными холмами, среди которых торчат и высокие горные кольца, как, например, огромный Голдшмидт перед нами и смыкающийся с ним с востока еще более высокий Барроу. Мне сейчас пришло в голову, как странно, что мы встречаем здесь горы и моря, куда еще не ступала человеческая нога, но уже имеющие наименования, данные им людьми… Смешная мысль!
Полдень застал нас сегодня на вершине вала, окружающего эту возвышенность. Оглянувшись назад, мы увидели низко над горизонтом пустыни Землю, окутанную легким облаком. Светлый ореол ее атмосферы выглядел через эту дымку еще более кровавым, нежели в предыдущие дни. Там же, над ней, почти прикасаясь к ее огромному черному диску, стояло Солнце, окруженное радужным пламенем.
У меня такое впечатление, что в течение этих четырех месяцев Земля упала с небосклона от зенита почти к горизонту, а это всего лишь мы убегаем от нее, приближаясь к полюсу. Климат здесь уже совершенно иной. Полуденное Солнце, незначительно поднявшееся над горизонтом, не разит нас огнем, не ослепляет лучами. Каким-то грустным и усталым выглядит это Солнце, совсем как мы… Вокруг нас на возвышенности масса длинных теней. Небо на севере значительно поголубело, звезд уже в той стороне не видно, хотя с юга они еще светят своим туманным, светлым блеском, широким кругом разбросанные вокруг Земли и Солнца.
От всего этого я устал невозможно. Несмотря на легкость наших тел на Луне, мне иногда кажется, что моя голова, руки и ноги налиты свинцом. Боюсь, как бы не расхвораться. Таким бесконечно долгим кажется мне наше путешествие, что, несмотря на признаки приближающегося конца пути, я начинаю сомневаться, что мы когда-нибудь достигнем цели… Впрочем — какой цели? Где она? Все грустно и утомительно.
Марта необычайно добра. Мне кажется, что если бы не она, я не пошевелил бы рукой, чтобы повернуть руль в сторону полюса, к которому мы стремимся с таким упорством… Но она видит мою страшную усталость и умеет каким-либо теплым, добрым словом прибавить мне надежды, поддержать мои убывающие силы. Чем я заслужил столько доброты с ее стороны? Неужели тем злом, которое хотел ей причинить? Сейчас я так устал, что мне все полностью безразлично за исключением счастья этой женщины. Я хотел бы остаться жить, чтобы пригодиться ей на что-нибудь… А кто знает, останусь ли я жить…
Перед нами горы, огромные, обрывистые горы. Нужно пройти через них. Через эти, потом через другие, и снова через другие, потому что до полюса еще далеко… Но у меня уже нет сил. Даже писать больше не могу. Фразы не клеятся, я все время забываю, о чем хотел написать. Мне хотелось бы вытянуться в гамаке и из-под полуопущенных век смотреть на Марту, улыбающуюся при мысли о своем ребенке.
Счастливая она!
На перевале между Голдшмидтом и Барроу,
161 час после полудня четвертых лунных суток.
Остатками сил я борюсь против обуревающей меня усталости. Чувствую, что я болен, и боюсь этого. Как они вдвоем справятся без меня? Дорога очень трудная, а ночь, долгая ночь приближается. Дождусь ли я ее конца? Может быть, после О’Тамора и Вудбелла наступила моя очередь? Ведь они же предсказывали…
Мне было бы жалко умирать. Я хотел бы еще увидеть ребенка, который родится, хотел бы, хоть раз, вздохнуть полной грудью.
Когда же наконец окончится эта дорога. Судя по карте, эти горы, которые мы сейчас преодолеваем, последнее серьезное препятствие на нашем пути к полюсу. Спустившись с перевала, на котором сейчас находимся, мы повернем по широкому ущелью к западу вдоль южных склонов Голдшмидта, потом, снова повернув на север, минуем горные кольца Халиис и Мейн, обойдем с востока кратер Джой, преодолеем его невысокое ответвление, простирающееся вдоль параллели, и попадем на равнину, отделяемую от полюса только одной узкой цепью гор.
Так выглядит наш путь согласно картам. Но карты этих окрестностей, плохо видимых с Земли, не слишком точны. Нужно добавить, что большую часть этого пути нам придется пройти ночью, которая даже не будет разъясняться светом Земли, заслоняемой от нас горами.
С этой высоты виден свет прямо перед нами, но это всего лишь вершины гор, зарумянившиеся от солнечного света. Внизу же простирается море темноты. Когда мы съедем туда, единственными нашими проводниками будут звезды.
В моей голове что-то испортилось или смешалось. Только благодаря огромному усилию воли я могу трезво размышлять. Каждую минуту передо мной мелькают какие-то призраки, какие-то полусонные видения и страхи. Неужели у меня горячка? Я кусаю себя за пальцы, чтобы прийти в себя. Но и это мне не помогает. Все картины мешаются перед глазами, я вижу темные моря с плывущими над ними кровавыми вершинами гор, наш автомобиль представляется мне кораблем, который в любую минуту может рухнуть в пучину… Как я устал. Куда мы плывем по этому черному океану? Может быть, к Земле?.. Ах, правда! Земля осталась далеко-далеко, в небесных просторах; мы уже никогда не вернемся туда. Никогда.
В голове у меня шумит, по-моему, у меня жар.
После захода Солнца, в ущелье между горами.
Еле-еле я поднялся с гамака. Марта велела мне лежать, но что она понимает! Я должен был еще что-то сделать или написать — не помню, но надо вспомнить. Я уверен, что мы утонем в темноте, если я этого не сделаю… Но что же я должен был сделать?
Почему здесь так темно? Видимо, какая-то бомба разорвалась у меня в голове, должна была взорваться, потому что голова у меня раздувается, пухнет, растет, она уже почти такая же огромная, как Луна…
Как забавно, что мы находимся на Луне! А может быть, мне это только снится? Потому что откуда здесь взялись собаки? Где Вудбелл?.. Что-то с ним произошло, но не помню… Его звали Томаш…
Кто-то стоит около меня и велит мне лечь, потому что у меня жар. Какое это имеет значение! Почему я не могу… разве мне нельзя…
Ручка становится страшно тяжелой… но и пальцы у меня отяжелели… Не знаю, что все это значит — слышу какие-то два голоса около себя, но уже не могу…
Вторая часть рукописи На другой стороне
I
Никогда не забуду того ощущения, которое возникло у меня, когда я впервые открыл глаза после долгого беспамятства во время болезни, свалившей меня под конец нашего страшного путешествия через безводную и безвоздушную лунную пустыню. Сегодня, когда я собираюсь продолжить описание наших приключений на этой планете, эта минута так живо стоит у меня перед глазами, как будто с того времени прошло всего несколько часов. А между тем, подсчитав лунные дни, я вижу, что доходит уже одиннадцатый год с того времени, как мы упали на поверхность Луны, и десять лет с тех пор, как мы покинули наш автомобиль после почти полугодового заключения в нем. Теперь мы уже дышим полной грудью под небом, таким же голубым, как и на Земле, на берегу настоящего моря, и смотрим на заросли растительности, удивительной и ни на что не похожей, но зеленой и полной жизни. Сто тридцать четыре раза Солнца сделало обход вокруг этого мира на наших глазах, и мы к нему почти привыкли. Волосы у нас седеют, а рядом с нами подрастает новое поколение — поколение людей, которые будут считать мифом историю о прибытии своих предков с Земли, выглядывающей из-за небосклона и предстающей перед ними в облике огромного светящегося шара, когда мы иногда отправляемся к границе безвоздушной пустыни. Для них это интересное, редко наблюдаемое ими небесное светило, а для нас — это мать, которую мы покинули навсегда, но не можем порвать последней нити, связывающей ее с нами — нашей тоски.
Пройдет еще несколько десятков или даже больше лунных дней, и мы, рожденные на Земле, все умрем, а новое поколение, читая когда-нибудь мой дневник, будет, наверное, считать его некой священной книгой, прежде чем появится здесь «скептик» и убедительно докажет, что история о земном происхождении людей есть не что иное, как сказка, возникшая в незапамятные времена.
Я думаю об этом, как о чем-то совершенно естественном, ведь мне самому многое из того, что я пережил, кажется фантастическим сном. Тем более что болезнь, во время которой я целые лунные сутки лежал без сознания, создала в моей жизни такой странный провал во времени, что мне трудно было сразу связать происходящее со мной до этого, с тем, что я увидел, придя в себя, трудно отделить действительность от горячечных видений. И действительно, мое пробуждение было на редкость необычным.
Когда я открыл глаза, то сразу не мог понять, что происходит. Посмотрев вокруг, я увидел, что нахожусь на обширном лугу, покрытом удивительно свежей, пышной растительностью. Все окрестности были залиты мягким светом, похожим на тот, который на Земле бывает перед рассветом, когда Солнце еще только поднимается из-за горизонта. Только голые вершины высоких гор, окружавших равнину, утопали в красноватом блеске Солнца. Над ними было бледно-голубое небо, чуть подернутое дымкой. Я долго смотрел на него, не в состоянии понять, где я нахожусь. И тогда увидел на лугу двоих людей, медленно идущих по траве и ежеминутно нагибающихся, как будто в поисках чего-то. Вокруг них радостно скакали две собаки.
Мне показалось, что я нахожусь на Земле, в какой-то незнакомой мне местности, и я начал размышлять, как я туда попал, но затем мне вспомнилась наша лунная экспедиция и долгое путешествие в закрытом автомобиле через мертвую пустыню. Я снова огляделся вокруг, насколько мог сделать это, не поднимая головы, которая была тяжелой, как будто до краев была налита оловом. Куда же делся автомобиль? Где эти дикие пейзажи, которые все еще стояли у меня перед глазами? Я хотел окликнуть людей, находящихся неподалеку, но меня охватила такая усталость, что я не смог произнести ни звука. Впрочем, мне стало казаться, что все эти неслыханные приключения были только сном. Я собирался отправиться в экспедицию на Луну, заснул где-то на лугу — кто знает, сколько времени я спал — и мне приснилось, что я уже был там, что боролся с ужасными трудностями, терял товарищей, рисковал жизнью… Странно только, что эта местность незнакома мне…
Неясное осознание перенесенной тяжелой болезни стало пробуждаться в моем мозгу. Да, наверное, у меня была горячка, и в горячечных видениях я странствовал по Луне. В конце концов, хорошо, что этот кошмар уже кончился. Я ощутил огромное облегчение при мысли, что все это было только сном, что я нахожусь на Земле и никогда не буду должен ее покинуть. Мне стало так хорошо, спокойно, и через минуту я почувствовал, что снова засыпаю.
Проснувшись во второй раз, я увидел, что неподалеку от меня стоят двое несомненно ранее виденных мною людей и вполголоса разговаривают. Мне показалось, что я услышал слово: «Спит», на что другой голос ответил: «Будет жить». Это удивило меня, но я не хотел обнаружить, что уже проснулся, и, лежа без движения, из-под полуприкрытых век стал присматриваться к стоящим около меня людям. Хотя мне показалось, что я спал достаточно долго, в освещении окрестностей ничего не изменилось, поэтому мне было трудно в неясном свете узнать склонившиеся надо мной лица. Через некоторое время, когда мои глаза уже привыкли к слабому свету, эти люди показались мне знакомыми, но я не мог вспомнить их имен. Я медленно перевел взгляд на горы, виднеющиеся на горизонте и все так же освещенные у вершин красным светом, хотя, я заметил, свет падал на них теперь с другой стороны.
В эту минуту я заметил между ними нечто, что сразу приковало мое внимание. Над глубокой пропастью между двумя вершинами стоял огромный серо-белый шар, до половины выглядывающий из-за горизонта. Я долго смотрел на него, и вдруг все стало мне ясно: это была Земля, светящаяся там, на небе!
Сознание того, что я нахожусь на Луне, полностью вернулось ко мне и заставило содрогнуться. Я громко закричал и сорвался с постели. Петр и Марта — это их я минуту назад видел около себя — подбежали ко мне с радостными восклицаниями, но голова у меня закружилась, и я снова потерял сознание.
Это было последнее беспамятство во время моей долгой болезни. Придя в себя, я стал медленно поправляться. Прошло еще сто с лишним часов, прежде чем я смог подняться и ходить самостоятельно. Петр и Марта с истинно родительской заботливостью ухаживали за мной, а я, слишком слабый, чтобы разговаривать и задавать вопросы, только размышлял над тем, что меня окружало. Я уже знал, что за время моей болезни мы достигли наконец того места, где достаточно воздуха и растительности, но долго не мог освоиться с мыслью, что это произошло таким естественным способом. Мне также трудно было поверить в то, что я лежал без сознания в течение целого земного месяца, а автомобиль, продолжая двигаться на север, достиг наконец полюса, находившегося от нас в нескольких сотнях километров в тот момент, когда меня свалила болезнь.
Мы действительно находились на северном полюсе Луны. Удивительная страна! Страна вечного света и темноты в одно и то же время. Место, где нет сторон света, нет ни востока, ни запада, ни севера, ни юга. Здесь Солнце не уходило за горизонт и не поднималось на небе, только кружило вокруг линии горизонта. Если подняться на одну из гор, которых много поблизости, можно увидеть, что Солнце, как красный пламенный шар, лениво ползет у края небосклона. Вершины гор постоянно розовеют в его отблесках, которые падают на них то с одной, то с другой стороны; с самого сотворения мира эти горы не видели ночи. Зато зеленые долины у их подножия никогда не видели Солнца. Они постоянно находятся в тени гор, здесь царит вечный полумрак или сумерки. На свежую, темную зелень их падают только отблески голых, освещенных Солнцем вершин, похожих на гигантский венок из белых роз, брошенный на траву. Только иногда, раз в несколько земных месяцев, Солнце, чуть приподнявшись над горизонтом, блеснет в какой-нибудь глубокой расщелине между скалами огненным, румяным лицом и как бы замрет на мгновение. Тогда через ущелье наплывает огромная река света, каскадами обрушивается она со скал и образовывает на темной равнине широкую полосу цвета червонного золота. Но уже через несколько часов Солнце снова прячется за скалы, и снова мягкий полумрак заливает тихую долину.
Есть что-то удивительно таинственное в этом слабом полярном свете. Я помню, как при виде его у меня создавалось впечатление, что я оказался во сне на какой-то зачарованной земле, в стране вечной весны, где, по преданиям греков, после смерти пребывали души умерших. Легкий призрачный туман клубится среди зелени, ни один голос не прерывает упоительной тишины. Здесь как будто вечно царит холодная, но безоблачная весна. Мы прожили в этом краю больше полугода, но за все это время небо лишь однажды было затянуто тучами. Дождя там не бывает почти никогда, и поэтому там нет вод, родников, ручьев. Воздух, однако, так насыщен водными парами, что этой влажности вполне достаточно для развития растительности. Наши травы, деревья и цветы тут несомненно высохли бы, но здешняя растительность приспособлена к условиям жизни на Луне.
Здешние луга поросли удивительно сочной растительностью, похожей на наши мхи, и так же, как они, приспособленной к тому, чтобы всасывать в себя влагу прямо из воздуха, только в еще большей степени. Она содержит в себе столько влаги, что выжимая вручную растения, мы могли получить несколько литров этой необходимой жидкости. Поэтому проблемы с питьем у нас не было, гораздо хуже было с продовольствием. Мы нашли несколько видов сочной зелени, годной к пище, и большое количество любопытных микроорганизмов, похожих на улиток без ракушек, но нам не на чем было их приготовить. Взятые с Земли запасы топлива вскоре закончились, а здесь мы не могли найти ничего, что могло бы его заменить. Даже толстые, одеревеневшие стебли мхов были так насыщены влагой, что из них невозможно было разжечь огонь, а о том, чтобы высушить их в таком насыщенном водными парами воздухе не могло быть и речи. Торф, который мы обнаружили здесь в большом количестве, также был пропитан водой.
Я был уже совсем здоров и выходил из наскоро установленной палатки на прогулки по равнине, когда мы оказались под угрозой полного отсутствия топлива. На этот счет мы вели долгие советы и проводили различные испытания, которые всегда оканчивались ничем. Петр подал идею: выносить толстые стебли и отжатый торф на гору, где светит Солнце, в надежде, что там они скорее высохнут, чем в темной долине. Но и наверху солнечные лучи были слишком слабыми. Через несколько десятков часов торф, предварительно отжатый от воды, вновь набрал столько влажности из воздуха, что вся работа оказалась напрасной.
Итак, использовав все деревянные предметы, без которых мы могли обойтись, мы разожгли последний большой костер, надеясь высушить на нем весь собранный в окрестностях горючий материал. Если бы нам это удалось, мы могли бы поддерживать постоянный огонь, подсыпая туда все новое и новое сухое топливо. Но, к сожалению, и эта надежда не оправдалась. Мы сожгли все, что только могло гореть, а получили только маленькую горстку сухих веток и торфа. Это помогло нам понять, что для того, чтобы получить достаточное количество топлива, нужно было сжечь втрое больше. Наш «вечный огонь» погас через несколько часов. Мы использовали его только для того, чтобы запустить в действие машину, заряжающую аккумуляторы нашего автомобиля.
Следовательно, нам пришлось обходиться без огня. Воздух, насыщенный большим количеством водяных паров, всегда прогревается равномерно и прекрасно сохраняет солнечное тепло, поэтому холод не особенно нам досаждал. Однако нам было очень трудно привыкать к сырой пище Остатки запасов искусственного белка, эквивалентного настоящему, и сахара мы старательно укрыли на тот случай, если во время дальнейшего путешествия не нашли бы в окрестностях достаточно пропитания. Мы по-прежнему ни на минуту не отказывались от намерения приблизиться к центру скрытой от Земли части Луны. Но пока от продолжения путешествия нас удерживали три обстоятельства. Прежде всего, я еще не настолько окреп после перенесенной болезни, для того чтобы перенести тяготы пути, к тому же Марта в скором времени ожидала появления на свет ребенка Томаша… К этому, при отсутствии топлива, присоединялся страх перед долгими морозными ночами, которые должны были ждать нас, как только мы отдалимся от этой страны вечных сумерек.
Но несмотря на все недостатки и страхи, месяцы, проведенные на полюсе, принадлежат к самым приятным воспоминаниям моей жизни на Луне. Полотняную палатку, привезенную с Земли, мы поставили точно на полюсе, где прямо над нашими головами светила полярная звезда Луны. Правда, мы видели эту звезду, которая долго была нашим путеводителем, в зените только один раз, во время затмения Солнца, когда уже собирались продолжать путь. Звезды, видимые в безвоздушной пустыне день и ночь, тут не показываются никогда, кроме того времени, когда Солнце заходит за земной диск и короткая ночь опускается на эту страну вечного света.
В палатке мы только спали, а большую часть дня проводили под открытым небом, наслаждаясь пейзажем, который, несмотря на то, что мы с ним вполне освоились, не утратил для нас своей мягкой красоты. Все здесь удивительно гармонично и вписывается в общий, необыкновенно спокойный тон: зелень и розовые горы, бледное небо над ними и свежий, прохладный аромат растений. И на наши души опускается покой… Теплота и сердечность царили в нашем маленьком кружке. Все обиды, страсти и недоразумения были так далеки от нас, как эта страшная пройденная пустыня, воспоминания о которой все еще бросали нас в дрожь.
Время проходило незаметно в разговорах то о Земле, краешек которой еще иногда показывался над горизонтом, то о наших дорогих товарищах, спящих в своих тихих могилах посредине пустыни, то о неизвестном будущем, которое ждало нас. Говорили о ребенке, который должен появиться на свет, о краях, которые еще увидим, обо всем, за исключением одного… Мы никогда не затрагивали тему, которая уже один раз чуть не вызвала столкновение между мной и Петром, а именно: кому из нас в будущем будет принадлежать Марта. Удивительно, но, по-моему, в то время мы даже не думали об этом. По крайней мере я не думал. Ведь, в конце концов, сегодня, когда прошло уже много лет с тех пор, я могу признаться перед собой… Я любил эту женщину, любил даже больше, чем в состоянии выразить, но любовь эта была какой-то странной…
Когда я смотрел на нее, на ее нежное и похудевшее лицо, с которого никогда не сходила полупечальная, полумечтательная улыбка, на ее маленькие и белые руки, постоянно занятые работой, она казалась мне совсем непохожей на ту Марту, которую я знал когда-то, красивую, страстную, уверенную в себе, я чувствовал, как мою душу заливает море тепла к этой, такой хорошей и такой несчастной женщине. Мне хотелось медленно погладить ее по голове и сказать, что я готов сделать все, что в моих силах, отказаться от, всего, чего мог желать, только бы она была хоть чуточку счастливее — только из благодарности за то, что я могу на нее смотреть.
На Земле такая любовь вызывала бы смех. А я, когда сегодня думаю об этом, тоскую и печалюсь, потому что вижу я ничем не могу ей помочь, даже если бы сделал все, что в моих силах.
И все же, если я жив, то этим обязан только ей. Когда я впал в лихорадку на перевале под Барроу, только ее забота вернула мне жизнь, и сегодня только мысль о ней удерживает меня в жизни. Мысль эта горькая, но там, на полюсе, я еще не подозревал, как все сложится, поэтому, говорю, это было самое счастливое время за период моей жизни на Луне. Марта постоянно была рядом со мной. Пока я был болен, она заботилась обо мне, а когда уже выздоровел, мы вместе гуляли по долине, ища улиток на обед или собирая душистые травы, которыми она потом украшала внутренность палатки.
Когда силы полностью вернулись ко мне, я поднялся с Петром наверх, на гору, чтобы увидеть Солнце и огромный белый круг Земли на небосклоне и чтобы любопытным взглядом окинуть незнакомые и таинственные места, которые никто из людей никогда не видел, и в которые мы должны были вскоре углубиться. Марта тогда осталась в палатке, в это время такие значительные усилия могли принести ей вред.
Во время одной из таких прогулок Петр показал мне путь, по которому мы пришли в эту долину, и рассказал о неслыханных трудностях, с какими вынужден был столкнуться в гористой местности во мраке ночи, имея за спиной меня, находящегося в бессознательном состоянии, и Марту, все еще не оправившуюся после смерти Томаша.
— Мне все пришлось делать одному, — рассказывал он мне, — и были минуты, когда меня охватывало отчаяние. Несколько раз я терял дорогу среди скал и попадал в ущелья, из которых не было выхода. Я думал, что нам придется все-таки расстаться с жизнью.
И в эти минуты сомнений меня поддерживал вид барометра, стрелка которого неуклонно поднималась. Но определенная надежда появилась у меня только тогда, когда мы оказались на равнине за Джой. Земные астрономы, называя эту гору таким именем, даже не предполагали, что оно будет иметь для нас буквальный смысл — что после всех трудов и неописуемых страданий, тут мы наконец почувствуем радость.
Ночь уже посветлела. Мы находились так близко от полюса, что рассеянный в довольно густой атмосфере свет Солнца, скрывающегося неглубоко за горизонтом, создавал нечто вроде серого полумрака, позволяющего различать предметы. Там я впервые отважился выйти из автомобиля без костюма. В первый момент я почувствовал головокружение; атмосфера была еще достаточно разреженной, и нужно было делать глубокие вдохи, но дышать было можно. Никогда не забуду радостного чувства, которое охватило меня, когда я наконец глотнул лунного воздуха.
Потом он рассказал мне, какие гигантские усилия потребовались для преодоления последней горной цепи, отделяющей равнину под Джой от Полярной Страны. На помощь Марты он не мог рассчитывать, тем более что я, все еще находящийся между жизнью и смертью, требовал ее постоянного внимания, поэтому ему пришлось самому вести автомобиль при слабом освещении по крутому склону, засыпанному раскрошившимися камнями.
Примерно через восемьдесят часов после полуночи он остановился на перевале. Оттуда уже простирался вид на Полярную Страну.
— Мне показалось, — рассказывал он, — что я увидел Землю Обетованную; перед моими глазами, уже привыкшими к виду диких скал и пустынь, лежала огромная, зеленая равнина. От радости у меня перехватило дыхание, из глаз потекли слезы. Сквозь них я смотрел на темные луга, на огненное Солнце, видное с горы, хотя было еще далеко до того времени, когда оно должно было взойти.
Когда он говорил это, мы невольно оба повернулись к Солнцу. Оно лежало на горизонте в той стороне, которая до сих пор была для нас севером, а отсюда, видимо, считалось югом. На этой стороне Луны был день.
Тогда, в первый раз, меня охватила непреодолимая жажда увидеть таинственные места, над которыми стояло Солнце. Спускаясь с горы, я только об этом и думал, а после возвращения в палатку начал строить планы дальнейшего путешествия.
Петр тоже придерживался мнения, что нам следует углубиться на юг, к центру неизведанного полушария.
— Здесь нам хорошо, — говорил он, — и мы могли бы провести тут всю жизнь, но еще лучше мы могли бы жить на Земле. Мы прибыли на Луну, чтобы познать ее тайны, значит, это и следует делать.
Итак, продолжение путешествия было делом решенным, единственное, что пока удерживало нас — было состояние Марты. В ожидании того времени, когда она сможет двинуться в путь, мы занимались подготовкой, делали запасы.
Прежде всего мы перестроили автомобиль. Не было смысла тащить с собой такую тяжелую машину. Вначале мы собирались отделить от него верхнюю часть, после чего он стал бы похож на глубокую лодку на колесах, но нас удержала от этого мысль, что мы можем оказаться в таких местах, где достаточно морозные ночи, тогда автомобиль, тщательно закрытый и отапливаемый, будет представлять для нас неоценимое убежище. Поэтому мы только отделили от него заднюю часть, где раньше хранились запасы. Для того, чтобы закрыть образовавшееся отверстие, мы использовали имеющуюся у нас алюминиевую плиту, которая до этого времени отделяла склад от помещения автомобиля. Кроме этого, мы сняли все тяжелые металлические части, служащие для укрепления его стенок, теперь ненужные. Двигатель, созданный некогда несчастным Реможнером, мы как могли исправили и поместили в автомобиль на тот случай, если наш придет в негодность.
Все эти приготовления, а также создание запасов продовольствия и воды, которую терпеливо нужно было выжимать из мхов, отняли у нас более трех месяцев. Наконец все было готово.
В пятый раз Земля достигла полной фазы за время нашего пребывания на полюсе, когда, возвращаясь с далекой, одинокой прогулки, я услышал в палатке плач ребенка. Ни один голос в жизни не производил на меня такого впечатления, как этот слабый плач существа, которое явилось на свет, чтобы увеличить наше число и внести радость в нашу одинокую жизнь. Услышав его, я бросил охапку собранных съедобных мхов и бегом кинулся в палатку. На постели лежала Марта, бледная и обессиленная, но светящаяся радостью. Казалось, она даже не замечает моего появления. Все ее внимание поглощало маленькое существо, завернутое в белые простынки, которые она страстно прижимала к набухшей груди.
— Мой Том! Мой Том! Мой красивый, любимый сын! — шептала она слабым голосом и смеялась сквозь слезы.
У постели крутились обе собаки и, вытягивая любопытные морды, обнюхивали это неизвестное им, кричащее существо.
Я повернулся к Петру, и меня удивило его поведение. Он сидел в углу палатки, задумчивый и мрачный. Но пока я не стал об этом задумываться. Я подбежал к Марте, чтобы сказать ей, как я радуюсь появлению ее ребенка, что я благодарю ее за подаренную нам новую жизнь, но не смог произнести ни звука.
Я только схватил ее маленькую, худую руку и пробормотал что-то невразумительное. Она взглянула на меня, как будто только сейчас увидела. Я почувствовал неприятный укол в сердце, потому что ее взгляд сказал мне, что я настолько безразличен ей, насколько вообще человек может быть безразличным для другого человека. Настроение у меня упало, и она, видимо, заметила это, потому что улыбнулась мне, как будто хотела загладить невольно причиненную обиду и сказала, показав на ребенка:
— Смотри, Томаш вернулся, мой, мой Томаш…
В эту минуту я понял, что ни один из нас никогда не займет значительного места в сердце этой женщины, потому что оно всегда будет отдано этому ребенку, в котором она любит не только собственную кровь и собственное тело, но также душу умершего любимого.
Молча я принялся готовить еду и питье для Марты. Петр вышел со мной из палатки.
— Что ты обо всем этом думаешь? — спросил он меня, когда мы были снаружи.
Я не знал, что ему ответить.
— Ну что ж, сын Томаша пришел на свет… — пробормотал я через минуту.
— Да, сын Томаша, — повторил Петр и задумался.
Мне не хотелось ни о чем его расспрашивать, я знал, о чем он думает.
Видимо, из опасения коснуться этой щекотливой темы, мы с тех пор разговаривали друг с другом исключительно о предстоящем вскоре путешествии Марта быстро набиралась сил, здоровье маленького Тома тоже не вызывало опасений, поэтому мы решили, что когда Земля в очередной раз войдет в первую четверть, отправиться в путь Это было самое подходящее время, так как в средней части этого лунного полушария именно в это время начинается день И двинувшись в путь в это время, мы располагали бы временем в две земные недели, чтобы, не найдя подходящих условий для жизни, смогли вернуться в Полярную Страну еще до наступления ночи.
Вскоре после рождения Тома Земля пришла в новую фазу, и тогда наступило солнечное затмение, которое мы уже однажды наблюдали на Луне. Первого, там над пустыней, придавленные мыслью о висящей над нами смерти, мы совершенно не изучали, поэтому теперь решили воспользоваться представившейся новой возможностью Взяв с собой астрономические приборы, уложенные на небольшую тележку, которую тянули за собой собаки, мы поднялись на вершину горы, расположенной поблизости от полюса, откуда можно было увидеть Землю и Солнце.
Зрелище было великолепное, но наши исследования, к сожалению, не удались. Низкое положение Земли на горизонте при атмосфере, насыщенной водными испарениями, не позволяли сделать точные измерения и мешали наблюдениям, так что через несколько минут после захода Солнца за земной диск, мы оставили измерительные приборы в покое, чтобы невооруженным глазом любоваться волшебной игрой света на небосклоне. Земля предстала перед нами на фоне кроваво-желтого зарева в виде огромного черного круга Вокруг нее небо потемнело и засияло звездами. Было похоже на то, что на ночном небосклоне появилось зарево какого-то огромного пожара или северное сияние, которое бывает на Земле поблизости от полюсов.
До сих пор это необыкновенное зрелище стоит у меня перед глазами Тогда мне показалось, что передо мной предстал в огне почерневший труп Земли. В этом было что-то жуткое и захватывающее Еще сегодня, когда я думаю о Земле, она видится мне в том ужасном, черном облике, в каком я ее видел тогда, и я должен призывать на помощь все свое воображение, чтобы представить ее светящимся серебряным диском.
Я не мог долго переносить эту необыкновенную, но какую-то болезненную картину, поэтому обратил свой взгляд к звездам, которых не видел уже несколько месяцев. Все они блистали у меня над головой, искрящиеся, как иногда у нас, на Земле, в морозную ночь. Я смотрел на них с любовью, как на старых добрых знакомых, искал знакомые с детства созвездия и мысленно спрашивал у них, что слышно там, на моей родной планете, лежащей теперь перед нами, как груда шлака на пылающем зареве.
Внезапно я почувствовал, что звезды как бы затуманиваются у меня перед глазами. Я протер глаза, думая, что это слезы, вызванные воспоминаниями, туманят мне взгляд, но это не помогло звезды были видны все слабее Это заметил и Петр. Мы забеспокоились, не в силах объяснить это явление. Тем временем звезды полностью погасли, и даже зарево в той стороне, где Солнце зашло за Землю, становилось менее ярким, оно как бы стиралось Через несколько минут нас охватила полная темнота, только в южной стороне неба еще виднелся легкий красноватый отблеск Одновременно мы почувствовали сильный порыв ветра, явление совершенно непривычное для нас в этих местах. Охваченные удивлением и беспокойством, мы не смели двинуться с места.
Наконец затмение окончилось и Солнце выглянуло из-за края Земли. Мы догадались об этом скорее по возвращающемуся дню, так как несмотря на свет, ни Солнца, ни окрестностей мы не могли разглядеть. Все тонуло в густом молочно-белом тумане.
Только теперь мы поняли все. В Полярной Стране не образуются облака и не идет дождь только потому, что воздух равномерно прогревается, и отсутствует причина, по которой из него выделялись бы водные пары.
Так было при обычных обстоятельствах, однако во время затмения наступило внезапное похолодание, в результате чего возник ветер, а водные пары в похолодавшем воздухе преобразовались в туман.
Это естественное объяснение неожиданного явления успокоило нас, но в то же время наше положение было достаточно прискорбным. Пронизывающий холод весьма досаждал нам, а в этой мгле невозможно было найти дорогу вниз, в долину, где стояла наша палатка. Кроме того, меня беспокоила мысль о Марте. Однако делать было нечего, нужно было сидеть и ждать до тех пор, пока не прояснится.
И действительно, вскоре туман стал подниматься, Через полчаса перед нами открылся вид на долину, уже только вершины гор были окутаны облаками, густеющими с каждой минутой Было видно, что вскоре будет дождь, поэтому, не теряя времени, мы начали спускаться с горы. Однако не успели мы пройти и половины пути, как над нами сверкнуло и, почти одновременно с глухим рокотом грома, на нас хлынул настоящий потоп Через несколько секунд мы промокли до нитки Через потоки льющейся с небес воды невозможно было ничего увидеть, громы и молнии ни на минуту не прекращались.
Это продолжалось часа два, в это время мы, вымокшие и продрогшие, вместе с собаками прятались под каким-то выступом скалы, который, впрочем, представлял довольно слабую защиту Как только дождь прекратился, мы немедленно вышли из своего укрытия, чтобы пуститься в дорогу, но едва мы вышли из-за скалы, как перед нами предстала картина, заставившая нас остановиться в ужасе На месте зеленой котловины у наших ног лежало широко разлившееся озеро.
Моей первой мыслью было: что стало с Мартой и ребенком? Место, где стояла наша палатка, теперь должно было быть затоплено. Я бегом кинулся к озеру, не обращая внимания на крики Петра, который хотел остановить меня. Добежав до воды, я пошел дальше вброд. Сначала было неглубоко, но вскоре мне пришлось идти по пояс в воде. Я заколебался, сомневаясь, идти дальше или вернуться, тем временем Петр, прыгнув за мной в воду, схватил меня за руку и заставил вернуться на берег.
Наше положение было ужасным. Страшная тревога о судьбе Марты покрыла мой лоб крупными каплями пота, но я вынужден был признать правоту Петра: бредя через залив, я только подвергаю опасности свою жизнь, а ей ничем помочь не могу.
— Если Марта вовремя заметила наводнение, — говорил он, — и укрылась на взгорье, наша помощь ей пока не нужна, у нас будет время найти ее, когда вода спадет. А если она не успела уйти, мы уже ничем ей не сможем помочь.
Он говорил это спокойно, даже с какой-то жестокостью, которая дрожью отозвалась во мне. Я посмотрел ему в глаза, и мне показалось, что я прочел в них чудовищную, завистливую мысль: «Пусть лучше погибнет, чем когда-нибудь будет твоей…»
— Я все равно пойду им на помощь, — крикнул я.
— Иди, — ответил он и спокойно уселся на берегу.
Я действительно хотел идти, но это было легче сказать, чем сделать. А впрочем, куда я должен был идти, в середину этого озера? Искать их под водой?
Я уселся рядом с Петром, злой и расстроенный, и стал упрямо вглядывался в воду. По ее поверхности плавали тут и там оторванные стебли мхов, впрочем, она была ровной и гладкой, никакой порыв ветра не нарушал ее. Я как раз размышлял о том, как за такое короткое время столько воды могло выпасть из атмосферы и сколько времени должно пройти, чтобы это море высохло, и мы могли найти трупы нашей подруги и ее ребенка (я уже не сомневался, что они погибли), когда вдруг заметил, что все стебельки мха быстро плывут в одну сторону. Видимо, их несло течением, это свидетельствовало о том, что вода нашла где-то выход их котловины. Это наблюдение чрезвычайно обрадовало меня, так как позволяло надеяться, что падения уровня воды не придется ждать слишком долго. Чтобы проверить, не ошибся ли я в своем предположении, я поднялся и пошел по берегу в ту сторону, куда, казалось, течет вода.
Пройдя несколько километров, я напал на затоку, которую перешел вброд. За ней я убедился в существовании отлива: на поверхности уже были видны более возвышенные места долины, которые появлялись из воды плоскими зелеными островками.
Все это вместе выглядело весьма любопытно и красиво, тем более что в гладком зеркале воды, между зелеными островками, отражались вершины прибрежных гор, уже снова освещенных розовым светом. Но теперь я мало обращал внимания на окружающий пейзаж, захваченный только одной мыслью: о Марте. Едва ли не впервые тогда я осознал, насколько мне дорога эта женщина и каким страшным ударом для меня была бы ее смерть… С этой чудовищной мыслью я не мог примириться. Я не мог себе представить, каким способом я мог бы ее спасти, но в глубине моей души все же таилась какая-то отчаянная надежда, что она жива, и я все быстрее бежал вперед, как будто от того, насколько быстро я доберусь до места, куда течет заполнившая долину вода, зависело ее спасение!
Но я был слишком взволнован, чтобы мыслить логически, все, что я сознавал сейчас, — это то, что без этой чужой для меня женщины и ее ребенка я ничего не стою, и что готов отказаться от всяких притязаний на нее, если могу этим ее спасти… Кто знает, не судьба ли подслушивает иногда тихие обеты людей…
Прошло уже около двенадцати часов с минуты, когда я расстался с Петром, когда меня остановил шум воды, широким потоком уплывающей по ущелью, до сих пор не замеченному нами, которое представляло своего рода ворота, ведущие из полярной котловины в неизвестную нам часть Луны. Усталый и голодный, я уселся на берегу, не зная, что делать.
Бессмысленность моей погони теперь полностью была мне ясна. В высшей степени расстроенный, я устало растянулся на мху и уставился в небо, такое же спокойное и бледное, как перед этим злосчастным затмением Солнца.
Затем мне вдруг послышалось, что кто-то окликнул меня по имени. Я вскочил на ноги, прислушался. Через минуту до меня вновь донесся крик, но уже гораздо более явственный. Оглядываясь по сторонам, я обнаружил по другую сторону обратившегося в реку потока Марту с ребенком на руках, которая махала мне рукой. От радости я чуть не потерял рассудок. Не обращая внимания на опасность, я кинулся вброд и через несколько минут уже стоял около нее. От радости я не мог ничего вымолвить, только покрывал поцелуями ее руки, которых она, тоже взволнованная, не отнимала.
— Друг мой, мой дорогой, добрый друг, — повторяла она еще бледными, но уже улыбающимися губами.
Когда мы оба немного успокоились, она начала рассказывать мне, как во время катастрофы, обнаружив воду, поднимающую палатку, успела вместе с ребенком и наиболее ценными для нас вещами спрятаться в автомобиль, который стоял поодаль. Это ее спасло. Автомобиль, герметически закрытый, после наших переделок стал достаточно легким, чтобы удержаться на поверхности воды. Под раскаты грома и непрестанное сверкание молний он поднимался на волнах, как Ноев ковчег, тем более похожий на него, что спас от гибели род человеческий на этой планете.
Положению Марты трудно было позавидовать. Лишенная возможности управлять своим импровизированным кораблем, она была отдана на волю волн и ветров, которые швыряли его, как скорлупу. Кроме страха из-за разразившейся катастрофы, ее мучило беспокойство о нашей судьбе и полная неопределенность в том, как это все закончится После окончания ливня, когда вода перестала подниматься, Марта заметила, что автомобиль плывет в определенном направлении Она догадалась, что его несет течение уплывающей куда-то воды, но это только усилило ее опасения. Автомобиль мог вместе с водой упасть в какую-нибудь расщелину или в лучшем случае оказаться так далеко, что нам потом было бы трудно его обнаружить.
Она облегченно вздохнула только тогда, когда через несколько часов заметила, что из опадающей воды начинают подниматься верхушки возвышенностей. Однако все ее усилия направить автомобиль на один из таких пригорков потерпели неудачу. Она уже слышала шум воды, уходящей тем ущельем, около которого я ее встретил, и была готова к тому, что автомобиль поплывет с ней в какие-то незнакомые края, когда он, по счастливой случайности, задержался у маленького островка, образованного выступающей из воды скалой. Мужественная женщина воспользовалась мгновением и забросила трос на торчащий из воды обломок через открытое окно автомобиля, тем самым обезопасив себя от течения, которое снова могло понести автомобиль. В то время, когда пришел я, опасность уже миновала, так как вода опала уже до такой степени, что автомобиль стоял на сухом месте.
Через несколько часов в котловине остались уже только небольшие лужи, выглядящие, как маленькие зеркала среди зеленых зарослей.
Петра мы ждали еще довольно много времени. К нам его привели собаки, бегущие по моему следу. Придя, он смерил нас подозрительным взглядом и, не говоря ни слова, принялся просматривать спасенные орудия и продукты, находившиеся в автомобиле. Все-таки странный он человек! Я живу здесь с ним уже около одиннадцати лет, и все-таки бывают обстоятельства, в которых он ведет себя так, что я не могу разобраться в его характере, в котором перемешаны отвага, решительность, самоотверженность, а также страстность, склонность к самолюбованию, зависти, скрытости и разочарованию. Только одно я знаю о нем: он способен на все.
Катастрофа причинила нам значительный ущерб. Мы лишились окончательно многих необходимых нам предметов, а другие нам пришлось терпеливо искать по всей протяженности котловины. Палатку, унесенную потоком, мы пока найти так и не сумели. К счастью, большинство из приготовленного в дорогу находилось во время ливня в автомобиле. Однако это наводнение помогло нам сделать важный вывод, а именно: мы нашли путь, по которому можем отправиться на юг.
Размышления наши были очень просты, если вода смогла так быстро уйти, следовательно, ущелье ведет к местам, расположенным ниже, где скорее всего мы найдем значительный водный резервуар, большое озеро или море, и все, что за этим следует: побережье, поливаемое дождем, а следовательно, не лишенное жизни.
Прежде чем наступило время отъезда, мы уже были готовы. Автомобиль стоял у самого устья ущелья, открывающегося перед нами, как ворота в новый мир, нам следовало только запустить мотор с помощью аккумуляторов, заряженных еще в то время, когда у нас был огонь. Большой кусок дороги уже был заранее нами обследован при пеших походах. Это не была мощеная мостовая, тем более, что последний поток воды местами глубоко изрыл грунт, но все же это была дорога, по которой можно было двигаться без особых трудностей. Мы ждали только подходящего времени, чтобы отправиться вслед за той водой, которая утекла в сторону юга, в неизвестный нам край удивительных чудес природы, который в течение долгих ночей никогда не освещает серебряный диск Земли, сияющей над пустынями.
II
За сорок часов перед вступлением Земли в первую четверть мы отправились в путь. На неизвестной нам половине Луны еще была ночь, но вскоре Солнце должно было осветить те места.
Не без сожаления, и даже тревоги, мы покидали Полярную Страну. Мы уже познакомились с ней и знали, что она может нам дать, тогда как все, что ждало нас впереди, было тайной и основывалось лишь на предположениях. Мы снова должны были оказаться под палящим Солнцем долгих дней и холодом ночей, которые, казалось, никогда не закончатся, снова должны были преодолевать ущелья, горы, а может быть, и пустыни в путешествии в края, о которых ничего не знали. Особенно нас беспокоило отсутствие топлива. Что будет, думали мы, если заряд наших аккумуляторов закончится раньше, чем мы найдем материл для разведения огня и запуска в движение автомобиля, чтобы зарядить их заново! Сможем ли тогда мы вернуться до ночи пешком в Полярную Страну, чтобы спастись от надвигающегося холода, тем более опасного для нас, что мы не имели огня. Была минута в самом начале нашего пути, когда мы из-за этих опасений чуть было не вернулись назад, на поросшую мхами полярную равнину, чтобы провести на ней всю жизнь, греясь при слабом тепле косых лучей Солнца и питаясь, как земные животные, сырыми улитками и травой. Но колебания длились недолго, любопытство и надежда взяли верх. Запаса продуктов нам должно было хватить на достаточный период времени, мы также взяли с собой немного высушенного от воды торфа, надеясь, что на Солнце нам удастся настолько высушить его, чтобы можно было разжечь огонь. Впрочем, мы решили, что в самом худшем случае, после того как используем половину мощности аккумуляторов, вернемся в Полярную Страну.
В первые несколько часов пути нам не встретилось ничего достойного внимания. Ущелье закончилось, и мы оказались на равнине, похожей на полярную, только значительно более обширную. Видимо, на ней тоже еще недавно была вода, в лучах восходящего Солнца тут и там блестели маленькие лужи. Здесь наше внимание привлекла растительность, совершенно отличная от той, какую мы наблюдали на полюсе, хотя от него нас отделяло едва ли несколько десятков километров Среди уже знакомых нам растений, но значительно более низких, чем на полюсе, из земли торчали какие-то сухие стебли, скрученные, как у нас, молодые листья папоротника. Холод давал себя знать после прошедшей ночи, которая бывает в этих местах. Но поскольку Солнце только слегка скрывается за горизонтом, ночь здесь скорее похожа на сумерки. Мы грелись, хлопая руками, как делали на Земле извозчики, пока Марте не пришло в голову наломать немного этих стеблей и попытаться развести костер.
Мы сразу же принялись за работу, но каково же было мое удивление, когда первый стебель, за который я схватился, начал скручиваться и раскручиваться, как живое существо. Невольно вскрикнув, я оставил его в покое. Остыв от первого впечатления, я стал внимательно изучать это удивительное растение. Я срезал одно из них ножом и убедился, что это большие, продолговатые и мясистые листья, свернутые у стебля в трубку, как рулоны английского табака. С внутренней стороны они были светло-зеленые, с многочисленными розовыми жилками. Все растение, пока было живо, обладало способностью двигаться. Больше всего меня, однако, удивило то, что все эти свернутые листья были значительно теплее окружающего воздуха — видимо, организм этих растений путем каких-то химико-биологических процессов сам в большом количестве производил тепло, которого ему недоставало во время долгих ночей.
Все это было очень любопытно, но наша надежда разжечь костер снова кончилась ничем. Поэтому мы с тоской обращали глаза к красному Солнцу, ожидая, пока его лучи обогреют окрестности.
К холоду добавилась и другая проблема — мы не знали, какую избрать дорогу. Мы должны были двигаться в том направлении, куда утекла вода, но его трудно было определить на равнине, которая была полностью залита водой во время наводнения. Когда мы еще продолжали осматривать окрестности, Петр заметил в нескольких сотнях метров какой-то большой белый предмет. Мы с интересом отправились в ту сторону и нашли унесенную потоком нашу палатку, которая задержалась здесь на небольшом пригорке. Мы обрадовались, найдя свою потерю, во-первых потому, что эта палатка была единственной, какой мы располагали, а во-вторых, что это помогло нам определить направление, в котором утекла вода. Палатка попала на равнину через ущелье, по которому сюда попали и мы, следовательно, проведя линию между устьем ущелья и местом нахождения палатки, мы будем иметь примерное представление о направлении потока. Линия эта тянулась через равнину к югу с небольшим отклонением к западу.
Направившись в ту сторону, мы прошли через узкое, крутое ущелье, а затем после еще одной маленькой котловины попали в широкую, зеленую долину, тянущуюся прямо на юг.
По обеим сторонам поднимались высокие цепи гор с многочисленными, торчащими кратерами, похожими на те, которыми изобиловала безвоздушная половина Луны. Вершины гор были покрыты снегом; снег, видимо выпадавший здесь ночью, также еще лежал местами в долине, тая в лучах слегка поднявшегося над горизонтом Солнца.
В этой долине мы решили сделать короткую остановку, убедившись, что дорога на юг в такое раннее время дня заставила бы нас страдать от холода в тех местах, где существует значительная разница между средней температурой дня и ночи.
Когда мы снова отправились в дорогу, Солнце прошло уже почти треть своего дневного пути. Было тепло и светло. Снег в долине совершенно исчез, а свернутые стебли под действием солнечного тепла стали расправляться и превратились в огромные, разными оттенками зелени окрашенные листья. Форма их была различной, одни были похожи на гигантские веера, отороченные нежной бахромой, другие, среди которых преобладали красные и темно-голубые цвета, напоминали какие-то сказочные павлиньи перья. Были там и такие, у которых края были вырезаны наподобие листьев аканта, и другие, свернутые внизу, которые напоминали воронки; а также — гладкие, блестящие или покрытые длинными желто-зелеными волосами, спадающими по обе стороны до самой земли — словом, огромное разнообразие красок и форм, и все живые, движущиеся, вьющиеся при любом прикосновении.
По берегам ручья, наполовину погрузившись в его прозрачную воду, тянулись длинные водоросли, похожие на ржаво-зеленых ужей, как цветами, украшенные белоснежными кругами и распространяющие сильный аромат. В других местах, где вода разливалась шире и течение замедлялось, из шаров, в которых она переносила ночные холода, выползала нежная ряска, покрывая воду легкой, дрожащей сеткой, похожей на кружево из фиолетового и зеленого шелка.
Мы были совершенно очарованы роскошью здешнего растительного мира, на каждом шагу мы замечали что-нибудь новое и любопытное. Из зарослей стали выходить на свет удивительные создания, похожие на длинных ящериц с одним глазом и несколькими парами ног. Они с любопытством приглядывались к нам и разбегались при приближении автомобиля. Собаки кинулись за одной из них и поймали ее. Мы отобрали у них добычу, но ящерка была уже мертва, поэтому мы смогли осмотреть ее труп и подивиться ее любопытному строению, совершенно иному, нежели у подобных созданий на Земле. Туловище ее представляло из себя продолговатый панцирь, состоящий из подвижных колец, выступающих из-под кожи. Голова состояла только из одних сильных челюстей, мозг размещался под гребнем, внутри панциря. То, что мы приняли за ноги, было двумя рядами пружинистых, бескостных щупалец, с помощью которых животное с большой скоростью передвигалось по земле.
Значительно позднее мы нашли на Луне еще много иных созданий, но ни одно из них не заинтересовало нас так, как это первое, наиболее типичное для здешней фауны.
Вообще, все наше путешествие через эту долину было похоже на какой-то волшебный сон, полный фантастических и неожиданных картин. Часы шли за часами, а перед нашими глазами все время менялись пейзажи. Иногда долина сужалась, создавая скалистые перешейки, через которые мы с трудом пробирались по берегу потока, превратившегося в быструю шумящую речку, то снова наш автомобиль выезжал на равнину, где вода разливалась в широкие озера с песчаными или покрытыми растительностью берегами. Животные встречались нам все чаще. Вода кишела самыми разнообразными уродцами, на поверхность поднимались какие-то летающие ящерки, похожие издали на птиц с толстой шеей и длинным хвостом. Но, что интересно — все животные на Луне — немы. Здесь очень не хватает тех многочисленных голосов, которыми наполнены земные луга и леса, только когда проносится порыв ветра — шелестят огромные листья здешних растений, вместе с журчанием потока нарушая вечную тишину.
Буйная растительность сильно затрудняла наше движение вперед. Постоянно приходилось останавливаться и очищать колеса от обвившихся вокруг осей стеблей, иногда нам приходилось пробиваться через такие густые заросли, что автомобиль буквально останавливался. Эти остановки нам очень не нравились, потому что и так путешествие шло очень медленно, поскольку нам часто приходилось останавливаться для поисков пищи или для осмотра окрестностей. Пищи здесь было сколько угодно. Неоценимую услугу в ее поисках нам оказывали наши собаки своим звериным инстинктом: кружась по зарослям, они находили съедобные мясистые растения или вкусных улиток. Значительно хуже было с топливом. Правда, торф, который мы привезли из Полярной Страны, высох и хорошо горел, но мы вынуждены были экономить его, так как запас был небольшой, а вокруг мы не находили ничего, чем бы после его окончания можно было бы разжечь огонь. Деревьев, таких как на Земле, здесь не было вообще, а большие листья растений были настолько сочными, что на огне скорее варились, чем горели. Отсутствие топлива нас очень беспокоило, тем более что залежи торфа, покрывающего почти все пространство Полярной Страны, остались далеко позади.
Тем временем приближался полдень, и нужно было решать, ехать нам дальше или ввиду отсутствия топлива возвращаться на ночь в Полярную Страну? Вначале мы так и хотели сделать, особенно за это выступала Марта, опасаясь ночного мороза с мыслью о Томе, она уговаривала нас вернуться. Я тоже склонялся к этой мысли, но Петр был решительно против.
— Вернуться теперь, — заявил он, — значит, обречь себя на вечное поселение в Полярной Стране. Тем более что сейчас наши аккумуляторы заряжены, этого заряда хватит только на то, чтобы вернуться по этой дороге назад, но что будет дальше? Если мы еще когда-нибудь захотим выбраться за пределы полярной равнины, как мы зарядим аккумуляторы, если там невозможно разжечь огонь?
— Но путешествие на юг тоже ничего нам не даст, — заметил я, — зато мы подвергнемся воздействию ночного мороза, которого без огня не сможем перенести…
— До ночи мы сможем найти какое-нибудь топливо…
— Но можем также ничего не найти.
— Да, но это всего лишь допущение, тогда как мы точно знаем, что на полюсе не найдем его никогда. Впрочем, у нас есть еще немного торфа. При этом запасе мы, в конце концов, сможем как-нибудь перенести ночь, a следующий день посвятим поискам.
Мы не могли не признать правоту слов Петра, поэтому отправились дальше на юг.
Через несколько часов после полудня небо затянулось тучами и начался сильный дождь. Он был для нас весьма долгожданным гостем, так как освежил жаркий и душный воздух. Но едва прекратились потоки воды и Солнце выглянуло из-за туч, мы услышали необычно сильный шум.
Вначале мы подумали, что так шумит взбурлившийся поток, но вскоре убедились, что было настоящей причиной этого шума. Мы находились в том месте, где равнина как бы сламывалась к западу, образуя колено, поэтому дальнейшая ее часть была скрыта от наших глаз. И когда мы оказались на повороте, перед нами открылась великолепная картина.
В нескольких сотнях метров перед нами долина обрывалась, спадая широкими уступами к необъятной равнине, тянущейся до самого горизонта. Поток пенными каскадами сплывал по этим террасам, создавая на них череду озер, и, достигнув наконец уровня равнины, образовывал на ней извилистую серебряную ленту, исчезающую где-то вдали. Насколько мог охватить глаз, окрестности были заняты равниной, только вначале кое-где вздымались кольцеобразные возвышенности, наполненные водой. Такие маленькие и круглые озерца, только с берегами менее высокими, были видны на всей плоскости равнины. Ближние были похожи на большие павлиньи глаза, дальние выглядели как жемчуг, густо нашитый на сине-зеленом бархате. Между ними, как серебряные нити разной толщины, вились потоки, быть может, даже большие реки.
Мы вышли из автомобиля и, остановившись на краю террасы, долго смотрели в глубоком молчании на эту удивительную страну перед собой. Первой отозвалась Марта.
— Спустимся туда, — сказала она, — там так красиво!..
Действительно, там было красиво, но будет ли там и хорошо?
Невольно мы задавали себе этот вопрос, готовясь к спуску по крутым склонам на равнину.
После довольно сложного спуска мы остановили автомобиль на берегу потока и сразу же принялись за поиски какого-либо горючего материала. Мы обошли все окрестности вдоль и поперек, копали глубокие ямы в надежде наткнуться на торф или на жилу каменного угля, срывали различные растения, пробуя, не годятся ли они в качестве топлива, но все было напрасно. Через несколько часов Солнце должно было уже зайти, когда, усталые и недовольные, мы прекратили наконец бесплодные поиски.
Положение наше было достаточно сложным, и мы уже стали жалеть, что так легкомысленно покинули Полярную Страну. Страх охватывал нас при мысли о том, что станет с нами ночью.
Торфа осталось очень немного, нужно было экономить его, чтобы хватило на целую ночь. Когда мы проверили свои запасы, оказалось, что на двадцать четыре часа приходилась небольшая кучка торфа, едва наполняющая маленькую переносную печь.
— Но мы же замерзнем, если будем так мало топить, — воскликнула Марта, когда мы показали ей готовые порции.
Петр пожал плечами.
— Если будем жечь больше — замерзнем еще быстрее, когда торф кончится! Будем теплее укрываться.
— Зачем мы уехали из Полярной Страны! — причитала Марта. — Том не перенесет холода, он такой маленький и слабый.
— Ах, Том! — пренебрежительно бросил Петр сквозь зубы.
Уже тогда я заметил, что каждое упоминание о ребенке невероятно его раздражало. Меня это задевало вдвойне: во-первых, я сам полюбил прелестного малыша, а во-вторых, речь шла о Марте. Страстно привязанная к сыну, она болезненно ощущала неприязнь Петра, и я не раз видел, как она бросала на него взгляд, в котором упрек соединялся с инстинктивным страхом. Я заметил также, что она никогда не оставляла ребенка на попечение Петра, хотя мне доверяла его часто, когда сама была занята делом.
— Том — не самая значительная персона здесь, — проворчал Петр немного погодя, — и даже если он умрет…
Обычно Марта молча сносила подобные высказывания, но теперь внезапно вскочила на ноги и подошла к Петру с горящими глазами.
— Слушай, ты, — сказала она приглушенным голосом. — Том — самая значительная персона, и он не замерзнет, потому что сначала я убью тебя и твоими костями буду топить печь!
Сказав это, она сверкнула перед ним маленьким индусским стилетом, острия которых обычно бывают отравлены. До этого времени мы даже не подозревали, что это страшное оружие все время находилось при ней.
Петр невольно отпрянул. Он попытался усмехнуться, но в голосе и во взгляде малабарки была такая страшная, неумолимая угроза, что он побледнел и напрасно попытался скрыть свое замешательство.
Я громко, хотя немного принужденно, рассмеялся, чтобы смягчить конфликт.
— Да, Марта заботится о сыне, ничего не скажешь! — воскликнул я. — Пойдем, Петр, поразмыслим, как нам спастись от ночного мороза, чтобы не пришлось сжигать наши кости!
План мой был достаточно прост. Мы выкопали совместными усилиями большую яму, в которую можно было уместить автомобиль, а поместив его туда, укрыть сверху землей и листьями. Таким образом, мы могли быть уверены, что автомобиль не будет терять много тепла и его легче будет отогревать.
Солнце уже почти зашло, когда мы наконец окончили работу Однако в автомобиль еще не заходили — после долгого дня воздух был теплым и приятным; широкая красная вечерняя заря освещала медленно погружающуюся в сумрак равнину, на которой сверкали только ближние озера, как кубки, наполненные живым серебром или, когда на них попадал свет зари, кровью.
Мы вместе уселись на пригорке неподалеку от автомобиля, но разговор не клеился. Последний инцидент произвел на нас всех сильное впечатление. Поэтому после нескольких брошенных фраз мы замолкали, и вновь наступала тишина, которую прерывал только шум водопада и сливающийся с ним голос Марты, которая напевала сыну какие-то трогательные, протяжные индусские мелодии.
Слушая этот напев и задумчиво наблюдая за гаснущим в темноте зеркалом озера, я вдруг услышал, как Петр тихо вскрикнул. Это вырвало меня из задумчивости, и я вопросительно посмотрел на него. Он вытянул руку в сторону равнины:
— Смотри, смотри!
На равнине происходило нечто необычное. По мере того как небо темнело, земля становилась все светлее. Сразу же как будто горсть мелких голубых искр рассыпалась по берегам реки. Потом этих искр стало гораздо больше, они сверкали и справа, и слева, и перед нами — везде. Через полчаса уже вся равнина сверкала, как будто затянутая звездным туманом. Озера выглядели на ней как черные пятна.
Марта перестала напевать и смотрела вместе с нами на это волшебное зрелище.
Только через некоторое время я понял, что это была фосфоресценция тех странных растений с большими листьями, которые покрывали здесь обширную территорию. Внутренняя их поверхность сверкала, как гнилушки в наших лесах.
Это длилось недолго. Едва только час мы смогли наслаждаться этой необыкновенной картиной, как огоньки стали гаснуть один за другим. Листья закрывались и сворачивались под действием холода на двухнедельный сон.
Начала выпадать обильная роса — и наступило время укрыться в нашем автомобиле.
Ночь была морозной, но мы неплохо перенесли ее с нашим небольшим запасом топлива благодаря предпринятым действиям. Из автомобиля мы не выходили ни на минуту, чтобы не терять тепла. Через окна мы тоже не могли видеть, что творится снаружи, так как весь автомобиль, как я уже упоминал, был полностью укрыт листьями растений и землей. На эти две недели мы были совершенно отрезаны от мира.
Только когда наши календарные часы показали время восхода Солнца, я отважился выйти на поверхность. Чтобы обезопасить себя от мороза, я надел свой костюм, толстая поверхность которого создавала прекрасную защиту. Выйдя из автомобиля, я убедился, что моя осторожность не была излишней.
Остановившись на равнине в первых лучах восходящего Солнца, я не смог сразу узнать ее. Все вокруг покрывал толстый слой искрящегося от мороза снега. Гладь озер частично исчезла под снегом или сверкала матовыми стеклами льда. Казалось, я внезапно оказался перенесенным в какие-то арктические края.
Я быстрей вернулся в автомобиль с известием, что пока выходить из него нельзя. Эта зима наверху привела нас в не слишком веселое настроение, так как запас торфа был уже на исходе. И действительно, за целую ночь мы так не страдали от холода, как с наступлением дня, прежде чем наступила «весна». Еще трое земных суток пришлось нам ждать, обходясь, как ни прискорбно, без огня. Но после семидесятичасовой борьбы с морозом Солнце наконец победило. Растаявший снег уплывал потоками воды, озера вышли из берегов, вода в реках поднялась, а когда мы наконец вышли наружу, на истекающей водой равнине уже распускались под солнцем огромные разнообразные листья, и только вершины гор еще окутывал белый покров.
Чтобы отправиться в дальнейшую дорогу, о которой мы все еще размышляли, нужно было подождать, пока окрестности немного подсохнут. Тем временем мы снова отправились на поиски топлива. Во время одной из таких экспедиций, которые мы предпринимали во всех направлениях, мы случайно наткнулись на глубокую яму, выкопанную нами накануне в надежде обнаружить торф или уголь. Яма была до краев наполнена водой. Я безразлично прошел мимо нее, но Петр, видимо заметив что-то необычное, остановился и начал внимательно вглядываться туда. Я прошел уже большой отрезок пути, когда он меня окликнул:
— Ян, — кричал он, подзывая меня рукой, — подойди! Иди быстрее сюда и посмотри!
Я застал его стоящим на коленях, одной рукой он опирался о края ямы, другой давал мне знак подойти. Лицо, склоненное над ямой, пылало от возбуждений.
— Что случилось? — спросил я.
Вместо ответа он зачерпнул рукой воды, непривычного грязно-желтого цвета, и сунул мне ее под нос.
— Нефть! — радостно вскрикнул я, почувствовав знакомый, резкий запах.
Петр с триумфальной улыбкой кивнул головой. Но чтобы проверить, не обманывают ли нас внешние признаки, я намочил в жидкости носовой платок и поджег его. Он вспыхнул ярким, красным пламенем, на который мы оба смотрели, как на радугу, возвещающую нам новую жизнь.
Не теряя времени, мы поспешили поделиться с Мартой хорошей новостью.
Находка нефтяного источника имела для нас огромное значение. Теперь мы могли отправиться дальше, на юг, или остаться на месте, не опасаясь уже ни морозных ночей, ни отсутствия возможности готовить пищу. Несколько десятков часов мы посвятили созданию как можно большего запаса этой благословенной жидкости. С этой целью мы выкопали еще несколько глубоких ям и собирали накапливающуюся в них нефть. Еще до того как наступил полдень, все резервуары уже были полны. Тогда мы устроили совет, размышляя, что будем делать дальше. Самое разумное, наверное, было бы остаться на месте, поблизости от нефтяных источников, но мы не могли побороть искушения отправиться дальше, к морю, которое, судя по всему, не должно было быть очень далеко. Кроме простой любознательности, за дальнейшее путешествие говорило и то обстоятельство, что на побережье мы найдем значительно более мягкий климат, на который безусловно оказывает влияние большое скопление воды и меньшие колебания ночных и дневных температур. Впрочем, у нас был такой значительный Запас топлива, что могли бы с ним отправиться даже в пробное путешествие, и мы были уверены, что при неблагоприятных обстоятельствах мы сможем вернуться к источникам, которые нам будет нетрудно найти, двигаясь вдоль реки.
Этот день и ближайшую ночь мы провели еще в том же самом месте, на границе Равнины Озер, как мы назвали эту огромную площадь, отложив начало путешествия до следующего дня, принимая во внимание, что нам будет значительно удобнее иметь в своем распоряжении около трехсот солнечных часов, во время которых нам не придется прерывать пути по причине наступившей ночи и мороза. Но зато сразу же, как только первый свет окрасил розовым цветом покрывший землю снег, даже не дожидаясь восхода Солнца, мы отправились в путь, хотя мороз давал о себе знать.
Утреннее или, скорее бы следовало сказать весеннее, половодье застало нас за сто километров от места, где мы стояли, считая поземному целых шесть недель. Наступившая оттепель причинила нам много неудобств: грунт размяк до такой степени, что дальнейшее путешествие стало невозможным. Однако мы достаточно быстро вспомнили, что при внесении некоторых изменений в конструкцию автомобиля его можно легко превратить в судно, благодаря которому нам не только не придется опасаться половодья, мы сможем воспользоваться им, пустившись по волнам выбранного потока. Мысль эта была необыкновенно удачной, тем более что поток и так был для нас путеводной нитью, которая должна была привести нас к морю. Мы сберегли бы при этом много топлива, так как сильное течение несло бы нас так быстро, что не пришлось бы прибегать к помощи двигателя.
Весь долгий лунный день мы провели так, на волнах, изредка только приставая к берегу либо для отдыха, либо для того, чтобы осмотреть какие-то любопытные места.
Прежде чем половодье спало, мы продвинулись уже так далеко по течению, что поток успел превратиться в большую реку, русло которой было даже слишком глубоко для нашей маленькой скорлупки.
Виды и характер пейзажа по дороге изменялись постоянно. Какое-то время мы плыли среди огромной и, казалось, достаточно сухой степи, покрытой мелкой растительностью. Было что-то невыразимо грустное в однообразии этого пейзажа.
Кольцевые возвышенности, до краев заполненные водой, и круглые озерца со скалистыми берегами мы оставили уже далеко за собой; теперь справа и слева простиралась ржаво-зеленая равнина, на которой выделялись только фиолетовые лужайки, покрытые какими-то мелкими цветами, либо россыпи желтого песка, застилающего небольшие возвышения. Река здесь разлилась широко и плыла так лениво, что нам пришлось запустить мотор, приводящий в движение колеса, чтобы увеличить скорость.
Было уже за полдень, когда мы приблизились к цепи скалистых взгорий, замыкающих эту степь с юга. Здесь, на протяжении нескольких километров, река была с обеих сторон сжата скалами так, что плавание становилось небезопасным. Течение каждую минуту бросало нас из стороны в сторону и ударяло о рифы. Только прочной конструкции нашего автомобиля, превращенного теперь в лодку, мы обязаны тем, что вышли из этого приключения целыми и невредимыми.
Сразу же за этими воротами река разливалась в большое озеро, берега которого, образованные из небольших пригорков, покрытых необычайно буйной растительностью и испещренные многочисленными затоками, представляли один из самых очаровательных видов, которые попались нам на Луне.
Мы еще не переплыли озера, когда небо, до сих пор все время чистое, внезапно затянулось темными тучами. Сначала мы были даже рады этому, так как ужасная жара сильно докучала нам, но вскоре стали беспокоиться, чувствуя, что приближается гроза. Были уже слышны далекие мощные раскаты грома, а небо с южной стороны поминутно вспыхивало кровавыми молниями. Нам едва хватило времени, чтобы свернуть в сторону и укрыться в маленькой затоке, когда гроза разразилась во всю силу.
Я встречался на Земле со страшными грозами в тропиках, но даже не мог вообразить себе чего-то более чудовищного. Оглушающие раскаты грома сливались в один непрекращающийся гул, перед глазами постоянно сверкали молнии, как струны какой-то огненной арфы, часто натянутые между небом и землей. Дождь… нет! Это был уже не дождь! Потоки льющейся с небес воды превратили всю атмосферу в висящее в воздухе, колышущееся от ветра озеро.
Временами гроза утихала, тучи, как раздергивающийся в обе стороны занавес, открывали вид на голубое небо и Солнце, но едва мы успевали вздохнуть, как небо чернело снова, снова начинал рычать гром и из туч изливались струи дождя.
Все это длилось с перерывами около сорока часов. Усталые, озябшие и ошеломленные, мы смотрели на эти чудовищные запасы огня, воды и привязали наш автомобиль тросами к торчащим из берега корням, опасаясь, как бы затока, пляшущая под нами, не выбросила нас в озеро, на волю вихря и волн.
Наконец все утихло, и небо разъяснилось — и только вздыбившиеся потоки шумели среди холмов, волнуя еще не успокоившуюся поверхность озера.
Вода поднялась очень сильно. Нам пришлось ждать еще около двадцати часов, прежде чем она упала до такого уровня, что можно было отправиться в дальнейшую дорогу. Теперь мы плыли значительно быстрее, так как течение реки убыстрилось. По дороге мы встречали везде следы страшного опустошения: целые пласты земли, огромные растения, образовывающие здесь уже целые леса, и длинные, толстые и мясистые стебли валялись разодранные вихрем в клочья. В каждой расщелине клокотали каскады мутной воды, на равнинах виднелись лужи, в которых громоздилось громадное множество различных, преимущественно похожих на пресмыкающихся, существ.
Сегодня, когда мы уже акклиматизировались на Луне, мы знаем, что эти страшные бури здесь неизбежная принадлежность каждого дня. Они возникают по причине слишком большой полуденной жары, и для этих краев, несмотря на свою чудовищность, весьма полезное явление, так как освещают атмосферу и пересыхающий грунт. Если бы не они, жизнь здесь была бы невозможной.
Не буду описывать нашего послеполуденного путешествия — оно прошло без осложнений. Только пейзаж постоянно менялся перед нашими глазами, а с ним и растительность, хотя следует заметить, что флора на этой планете, не имеющей явно выраженных природных зон, значительно более однообразная, чем на Земле.
Приближался вечер, когда мы добрались до места, где река, замедлив бег, начала широко разливаться и создавать многочисленные отмели, затрудняя плавание. Нам пришло на мысль, что мы находимся недалеко от устья.
— Скоро увидим море, — говорили мы себе, поднимая глаза к Солнцу, как бы желая убедиться, что еще хватит дня, чтобы добраться до желанной цели путешествия.
Тем временем плавание становилось все труднее. Несколько раз мы застревали на отмелях, поэтому мы решили снова переоборудовать наш автомобиль и пуститься дальше посуху.
Заход Солнца застал нас у подножия невысоких, изредка поросших какой-то травой песчаных холмов. Мы предчувствовали, что за ними найдем море, нам даже казалось, что мы слышим его мощный, приглушенный ропот и ощущаем распространяющийся в воздухе запах морской воды. Поэтому, гонимые нетерпением, несмотря на наступающие сумерки, мы не остановились.
Темнота уже стала сгущаться, когда мы наконец добрались до вершины этих песчаных холмов. Мы изо всех сил напрягали зрение, стараясь увидеть море, но ничего нельзя было рассмотреть. Перед нами сверкала, покрытая фосфоресцирующими растениями равнина, с востока доносился какой-то шум, напоминающий плеск воды, там поднимались какие-то густые белые облака или пар, напоминающий духов, блуждающих по светящимся лугам. Мы не знали, что делать, остаться на ночь на этом холме или спуститься вниз, когда внезапно налетевший ветер развеял клубящийся белый пар и открыл нам небольшой поток, протекающий в нескольких десятках шагов от нас по каменистым порогам и сливающийся в небольшие природные бассейны, каскадами спускающиеся вниз. Эта картина предстала перед нами только на одно мгновение, так как сразу же густой пар снова закрыл воду, и только плеск и бормотанье ее достигали наших ушей. Нас удивила необычная густота пара, и мы направились в направлении бассейнов. Через минуту мы оказались в густой теплой мгле. Колеса автомобиля передвигались теперь по каменному грунту.
Когда ветер снова разогнал мглу, мы заметили, что находимся уже на берегу одного из бассейнов. Теплое, влажное дуновение коснулось наших лиц.
— Горячий источник! — воскликнули мы одновременно с Варадолем.
Действительно, где-то поблизости должен был находиться горячий источник, так как вода, текущая потоком и сливающаяся в бассейны, имела температуру в 20 °C. Не время было блуждать в темноте по окрестностям, поэтому мы решили воспользоваться счастливой случайностью и провести холодную ночь над этой водой, отдающей нам значительное количество тепла.
Ночь была достаточно беспокойной. Через четверо земных суток выпал снег и ледяной ветер подул так, что для того чтобы обеспечить себя теплом, мы вынуждены были опустить автомобиль в теплую воду бассейна. Темнота была непроницаемой. Иногда только, когда ветер на короткое время рассеивал поднимающийся от воды пар, мы видели сверкающие в небе звезды. Тогда перед нами представала широкая светлая полоса, простирающаяся до границ горизонта. Нас очень удивляло это явление, так как оно не исчезало в течение долгого времени, хотя фосфоресцирующие растения, которым мы приписали его сначала, уже давно закрылись. Этот любопытный блеск погас только далеко за полночь, когда мороз вдали от горячих источников набрал уже достаточную силу.
Однако прежде чем это наступило, другое явление вызвало наше беспокойство. Около полуночи началось сильное волнение воды, которому сопутствовал глухой подземный гул. Почти одновременно мы заметили сквозь туман на востоке кровавое, столбом поднимающееся вверх пламя. Через несколько часов оно погасло, но вскоре появилось снова и держалось на небе с перерывами в течение четырех земных суток, похожее на страшное, адское чудовище, появляющееся в тумане и ночи над снежной пустыней.
Температура воды в бассейне, колышущейся от постоянных сотрясений грунта, немного поднялась, так что мы скорее страдали от избытка тепла, чем от его нехватки.
Уже ночью, заметив столб пламени, который нас сначала обеспокоил, а потом испугал, мы догадались, что где-то поблизости находится вулкан, извержение которого мы как раз наблюдаем. Об этом говорил и сам факт существования сильных горячих источников, появляющихся чаще всего в окрестностях вулканов.
Наступающий день подтвердил наши предположения. Вначале, несмотря на свет, мы ничего не видели, так как из-за мороза не покидали бассейна, а туман заслонял нам окрестности. Только через сорок часов после восхода Солнца мы вышли из автомобиля, пристав к южной части каменного берега. Несколько шагов мы еще прошли в густом тумане, но вдруг, как при поднятии волшебного занавеса, перед нами открылась полная картина.
Мы остановились как вкопанные, охваченные удивлением и радостью.
Несколькими метрами ниже, на расстоянии двух-трех километров от места, где мы стояли, находилось море.
Это его фосфоресцирующие от мелкой живности волны блестели в ночи сквозь туман и темноту.
Теперь мы ясно видели его. Неподвижная, у берега еще скованная льдом, но дальше уже волнующаяся и двигающаяся, позолоченная солнцем водная гладь тянулась до самого края горизонта.
В первый момент мы были так захвачены этим долгожданным видом, что долго не могли оторвать от него глаз. Однако через некоторое время, насытившись этим, давно не виданным великолепием, мы начали осматривать окрестности. С запада, среди протяженной равнины, поблескивало широко разлившееся устье реки, по волнам которой мы проделали большую часть своего путешествия в последний день. С востока пейзаж был невероятно дикий и разнообразный. Прежде всего взгляд останавливался там на убеленной снегом вершине вулкана, величественно возвышающегося в отдалении нескольких десятков километров над окружающими скалистыми образованиями. Южные склоны этих гор, спадающие к морю, темнели от густых зарослей необычной, с большими пятнистыми листьями кустов, как раз в этот момент распускающихся и пробуждающихся к жизни от ночного сна. Невдалеке от нас среди фантастически нагроможденных камней и маленьких озер поднимались многочисленные облака белого пара, клубящегося вокруг гейзеров. Плывущий от них поток спускался по террасам, останавливался в бассейнах и стекал, журча по камням ниже, где терялся среди зарослей, торопясь к морю.
Тут должна закончиться наша одиссея.
III
Десять земных лет прошло с тех пор, как мы прибыли на берег моря, где живем и доныне. Мало что изменилось здесь за это время. Море все так же шумит, и все так же каждую ночь долго искрятся его волны; временами случаются и извержения вулкана, который мы в память о нашем дорогом друге назвали Отамором; точно так же бьют гейзеры и ручей журчит по камням — только над одним из прудов возвышается на сваях зимний домик, и ниже — на берегу моря расположен шалаш, служащий нам летним жильем: только на песчаном берегу, либо на лугу резвятся четверо детей, собирая раковины или играя с собаками, родившимися уже на Луне.
И мы уже привыкли к этому миру. Не удивляют нас ни долгие морозные ночи, ни дни, во время которых лениво ползущее Солнце пышет огнем; послеполуденные страшные бури, регулярно проносящиеся над нашими головами через каждые семьдесят девять часов, перестали вызывать у нас тревогу; на дикий, фантастический пейзаж, на растительность, отличающуюся от земной, на уродливых лунных животных мы смотрим, как на нечто хорошо знакомое и естественное… Зато Земля в наших воспоминаниях становится чем-то похожим на сон, который прошел и оставил после себя только неуловимый, окрашенный тоской, след в памяти.
Мы часто сидим на берегу моря и долго, долго говорим о ней… Рассказываем друг другу о коротких земных днях, о лугах, о птицах, о людях и странах, в которых они живут, и о множестве других известных вещей, как о чем-то невероятно интересном и существующем только в сказках. Том уже достаточно большой и разумный, он действительно слушает все это, как сказки. Он никогда не был на Земле…
В конце концов, мы создали здесь для себя сносную жизнь. У подножия Отамора, на разрушенных вулканических склонах мы обнаружили вьющиеся растения, толстые и длинные корни которых могут служить подходящим строительным материалом, заменяющим земное дерево. Высушенные и очищенные от одеревеневшей оболочки огромные листья, необыкновенно крепкие и прочные, заменяют нам кожу, а из волокон других мы ткем себе нечто вроде толстого и мягкого полотна. На равнине за рекой, после долгих поисков, мы нашли залежи каменного угля, а также обнаружили значительно более близкие нефтяные источники. Железо, серебро, медь, сера и известь имеются здесь в достаточном количестве; море дает нам множество раковин и янтаря, отличающегося от земного только своим огненно-красным цветом.
Море также дает нам много пищи. Здесь имеется достаточно разнообразных живых существ: и съедобные ящерицы, и нечто среднее между рыбами и ящерицами, очень вкусные и годные для еды. Кроме того, на песке либо в зарослях мы собираем яйца — ни одно из здешних созданий не появляется на свет живым, все несут яйца, невероятно устойчивые против мороза и необычно быстро развивающиеся в солнечном тепле.
Вначале нам было трудно без мясной пищи, но теперь мы уже привыкли. Мясо всех здешних животных очень волокнистое и дурно пахнущее, так что есть его невозможно. Только собаки не брезгуют им.
Прошло несколько лунных дней, прежде чем мы смогли обосноваться здесь по приезде. Сначала мы приступили к поискам строительного материала и топлива, после чего начали возводить на сваях, вырубленных из толстых корней, зимний дом над одним из прудов, где провели в автомобиле первую ночь. После окончания этой важной работы начались долгие походы по окрестностям, которые мы совершили пешком, взяв с собой тележку с запасами и орудиями, которые тащили собаки. Собаки здесь служат нам единственными рабочими животными, так как из здешних крупных животных мы видели только больших крылатых ящериц, несущих большие и вкусные яйца.
Иногда мы пускаемся в плавание по морю вдоль берега; к западу берег был пологий и песчаный, зато к востоку на побережье возвышаются скалы, изрезанные многочисленными затоками. Почти каждая такая прогулка, пешая или водная, приносила какую-то пользу, мы постоянно обнаруживали что-либо новое, то, что могло нам пригодиться или, по крайней мере, знакомились с тайнами той местности, в которой, видимо, будем жить до самой смерти.
Через тринадцать лунных дней, то есть после зимнего года нашего пребывания здесь, мы знали окрестности уже довольно хорошо и, кроме дома, в котором жили, имели мастерские, небольшую печь для выплавки металла, склады, загоны для собак, словом, все, что было необходимо для жизни здесь. Кончился период напряженной лихорадочной работы, и на смену ей медленно приходила скука и еще более тяжелая тоска по оставленной Земле. Это было тяжелое для нас время; никто не мог нам помочь в этом. Если днем мы еще как-то находили себе занятие; бродили по горам, создавали запас провизии, то в долгие ночи отчаяние охватывало нас Закрытые в маленьком доме над поверхностью теплого пруда, разленившиеся, не имеющие никаких занятий, мы старались как можно больше спать.
Но и это не всегда удавалось. Тогда мы сидели молча, обессилевшие от скуки и тоски и недовольные друг другом. Пожалуй, одна из самых непререкаемых истин это то, что ничего не приводит человека в такое уныние, как страдания и скука. Я, к сожалению, многократно имел возможность убедиться в этом.
Правда, можно было заняться и тем, и другим, произвести какие-то усовершенствования, подумать о будущем, но мысль о том, что мы обречены здесь на вымирание, отнимала у нас все силы. Люди на Земле даже не подозревают, что большей частью своей энергии обязаны сознанию, что работают не только для себя, но и для тех, которые придут после них. Человек хочет жить — в этом все дело. И тем, что он создает, он продолжает свое существование, потому что если ему приходит в голову мысль о том времени, когда его уже не будет, он утешается тем, что останутся какие-то следы его труда, поэтому в собственных мыслях он становится как бы причастным к тому будущему, которое уже не увидит собственными глазами. Но для этого ему необходимо знать, что после него будут существовать люди, которые если и не вспомнят его имени, то, по крайней мере, будут пользоваться плодами его трудов. Это обязательное условие осуществления каких-либо действий.
Находясь здесь, я не раз думал: было бы неплохо найти границы этого моря, проехать эти места вдоль и поперек, познакомиться с его горами и реками, составить подробные карты, описать растительный и животный мир — но в ту же минуту я как будто слышал чей-то издевательский вопрос: и кому все это нужно? Действительно, кому все это нужно, думал я, кому я расскажу обо всем, что узнал, кому оставлю то, что пишу? Тому? Но Том умрет так же, как и я, только позднее. И это ничего не изменит, он будет последним человеком в этом мире, в котором мы — первые. С его смертью все кончится…
Это сознание парализовало все мои поступки и намерения, когда я думал об исследовании этого края или о постройке нового, более прочного дома.
Поэтому мы с Петром почувствовали необходимость положить здесь начало новому человеческому обществу, и наши глаза вновь обратились к Марте. Я стараюсь сейчас найти для себя какие-то оправдания, потому что знаю, что это было преступным самолюбованием. И тогда я тоже это знал, но… но… Человек хочет жить любой ценой, жить во что бы то ни стало — и это главное!
Было что-то страшное в нашем решении, тем более, что оно было принято трезво и холодно. По крайней мере, что касается меня…
К Марте привязывала меня большая любовь, тихая и заботливая, но то время, когда я желал ее для себя, для своего счастья, уже давно прошло… Иногда мне кажется, что только потому, что полюбив ее в самом деле, я сразу же убедился, что она меня не любит и никогда любить не будет, целиком поглощенная мыслями о том, умершем, и о рожденном от него ребенке.
Не о Марте думал я тогда, а о детях, о маленьких веселых девочках, на которых подросший Том мог бы жениться, положив начало новому человечеству. Я мечтал об этом, как о самом большом счастье, ведь тогда наша работа не была бы бессмысленной, всем, что мы создали или открыли, из поколения в поколение пользовались бы те, кому суждено прожить на этой планете многие века.
Не хочу сказать, что мои мечты не носили личного характера. Разумеется, мечтая о детях, я невольно представлял себе, что это мои дети, и за их веселыми, улыбающимися личиками передо мной вставал образ тихой, доброй, красивой матери — Марты, моей Марты… Это были какие-то мучительные мечты, потому что были так непохожи на существующую реальность…
Потом я вновь ощущал угрызения совести, глядя на негостеприимный и не для нас созданный лунный мир. Какой будет, думал я, судьба людей, легкомысленно рожденных здесь для оправдания нашего существования? Я уже достаточно хорошо знал эту планету и понимал, что человечество никогда не сможет обжиться здесь, как на Земле. Человек всегда будет здесь пришельцем и наглецом, который пришел незваный — к тому же слишком поздно. Да, слишком поздно. Несмотря ни на что, все-таки Луна — умирающая планета.
Наблюдая здешний растительный и животный мир, занимающий неслыханно маленькую часть поверхности планеты, глядя на вроде бы великолепную и буйную, но менее жизнеспособную, чем на Земле, растительность, на удивительных, но необычно маленьких и неуклюжих животных, я не могу отделаться от впечатления, что я наблюдаю за роскошным закатом солнца. Жизнь здесь уже перестала развиваться, все ее формы уже достигли своей зрелости, и даже перезрели в ожидании конца. И природа, работая здесь много веков, несравнимо больше, чем на Земле (Луна, как маленькая планета, раньше остыла, но и раньше стала «миром»), не смогла создать здесь разумных существ, а если даже и создала, то это время бесповоротно ушло. Это наилучшее доказательство того, что лунная планета, особенно сейчас, непригодна для таких существ.
Человеку всегда будет здесь тесно и тоскливо.
Но несмотря на это, я всем сердцем желал, чтобы здесь после нас были люди. Иногда я обманывал сам себя и, чтобы оправдать свое самовлюбленное желание, говорил себе, что это прежде всего нужно Тому, чтобы спасти его от самой страшной судьбы: быть последним и одиноким человеком. Но это неправда; новое поколение я хотел иметь для себя.
Не знаю, о чем думал Петр, но думаю, что подобное желание не давало покоя и ему. Прошло достаточно долгое время, прежде чем мы начали говорить об этом между собой. Помню, это случилось впервые на заходе солнца; Марта с Томом на руках отправилась к горячим источникам, а мы сидели вдвоем на берегу моря и молчали.
Петр долго смотрел вслед уходящей, потом начал вполголоса считать лунные дни, которые мы уже прожили здесь.
— Двадцать третий заход солнца, — наконец вслух сказал он.
— Да, — отозвался я, — двадцать третий, если будем считать и дни, проведенные на полюсе, где, правда, никаких заходов не было.
— И что будет дальше? — спросил Петр.
Я пожал плечами.
— Ничего. Еще несколько заходов, может быть, несколько десятков или сотен и все. Том останется один.
— Не о Томе идет речь, — сказал он. И добавил через минуту: — В любом случае это плохо.
Мы надолго замолчали, потом Петр начал снова:
— Марта…
— Да, Марта, — повторил я.
— Надо что-то решать?
Мне показалось, что в его голосе я вновь услышал те ноты, которые запомнились еще с того ужасного путешествия через Море Фригорис после смерти Вудбелла. Во мне вспыхнуло глухое возмущение. Я посмотрел ему прямо в глаза и значительно сказал:
— Надо.
Он как-то странно усмехнулся, но ничего не сказал.
В этот день мы больше не говорили об этом.
Долгая ночь прошла в молчании и тоске. Том был немного нездоров, и Марта, обеспокоенная этим, постоянно была занята с ним. Мы наблюдали за проявлениями ее безграничной материнской любви и, кто знает, возможно, именно тогда у нас бессознательно родился отвратительный план использовать ее любовь, чтобы склонить к исполнению наших желаний. Во всяком случае, эта ночь убедила нас, что действительно «надо что-то решать».
Утром следующего дня мы отправились с Петром в лес на склонах Отамора. Во время этой экспедиции мы обговорили вопрос окончательно: один из нас должен жениться на Марте, а другой обязуется никогда не переходить ему дорогу.
«Один из нас!» — мысленно повторял я эти слова с каким-то тоскливым беспокойством.
В устах Петра, когда он их произнес, эти слова прозвучали как угроза. Не знаю, может быть, мне просто показалось, но впечатление было именно таким. Выбор между нами двумя мы должны были предоставить Марте, а в случае, если она откажется его сделать, мы будем тянуть жребий. Петр, правда, настаивал, чтобы сразу решить вопрос путем жребия, твердя, что Марта не захочет выбирать, но я решительно воспротивился этому и убедил его настолько, что он даже согласился поставить перед Мартой этот вопрос. Он сделал это весьма неохотно и когда сказал наконец «да», на губах его играла загадочная усмешка, а в глазах был недобрый блеск.
Придя домой, мы еще долго оттягивали решающий разговор, так были уверены в недоброжелательном отношении Марты к тому, с чем мы собирались к ней обратиться. Все время Петр ходил задумчивый и мрачный, делая вид, что чем-то занимается, а я бродил по берегу моря, ощущая необъяснимую тоску. В этот день должна была решиться наша судьба.
Уже приближался полдень, жаркий и душный. Солнце, стоявшее на небе уже в течении ста с небольшим часов, заливало все окрестности жаром, и увядающие растения с нетерпением ждали освежающего дождя. Над морем, на юго-востоке, там, где Солнце уже прошло над экватором, собирались густые темные тучи.
Из летнего домика на берегу моря мы перешли в пещеру, находившуюся в окрестностях гейзеров, которая служила нам обычно укрытием во время грозы. Мы все трое сидели перед ее входом, а маленький Том, цепляясь за колени матери, пытался передвигаться на собственных ножках вокруг этой опоры, когда Петр бросил на меня значительный взгляд, а потом решительно повернулся к Марте.
Сердце у меня заколотилось так, что я почувствовал удушье. Находящая гроза всегда действовала на меня возбуждающе, а в этот день к этому присоединилось и волнение, вызванное мыслью о приближающемся решительном разговоре с Мартой. Петр тоже выглядел не так, как обычно: расширенные зрачки неспокойно блестели, грудь вздымалась от неровного дыхания, на скулах появились красные пятна. Я затаил дыхание, а он без всяких вступлений обратился к ней:
— Марта, которого из нас ты предпочитаешь?
Марта, ошеломленная этим неожиданным вопросом, казалось, сразу не поняла, о чем идет речь. Она с удивлением посмотрела на меня, на него, потом снова на меня и презрительно пожала плечами.
Петр повторил:
— Марта, которого из нас ты предпочитаешь?
Его взгляд, упершийся в нее, должен был сказать ей больше, нежели вопрос, так как внезапно все поняв, она побледнела и с легким восклицанием вскочила на ноги. В руке ее снова сверкнул стилет, которым она когда-то угрожала Петру.
— Из вас? Никого! — крикнула она.
Петр сделал к ней еще один шаг.
— Однако тебе придется выбирать и… выбрать, — настойчиво сказал он.
Ее глаза замерли в немом отчаянии. На секунду мне показалось, что на одно короткое мгновение они остановились на моем лице с какой-то мольбой, — но нет! это только показалось мне, это была просто иллюзия, потому что в ту же секунду она подняла руку со стилетом и твердо сказала:
— Не выберу. И мне интересно, кто из вас осмелится ко мне приблизиться! Мне не нужен ни один из вас!
И снова мне показалось, что в последних ее словах прозвучала странная неуверенность, а взгляд снова встретился с моим — но, несомненно, это была лишь иллюзия. Я был тогда так взволнован… Бог мой, как мне хочется верить, что это была просто иллюзия!
Маленький Том, когда мать встала, уселся на землю и с любопытством наблюдал за происходящим. Петр коснулся его головы рукой. Марта заметила это.
— Прочь! — с тревогой закричала она. — Не прикасайся к нему! Он мой!
Петр не двинулся с места. Все еще касаясь головы ребенка, он упорно смотрел на Марту с насмешливой улыбкой на губах.
— А что будет с Томом? — спросил он наконец.
Марта оторопела.
— С Томом? Что будет с Томом? — бессмысленно повторила она.
— Да, когда мы умрем, а он останется один…
Эти слова ударили ее, как бичом. Она широко открыла глаза, как будто вдруг увидела пропасть, о которой до сих пор не думала, судорожно вздохнула и села, видимо, чувствуя, что ей не хватает сил.
— Да, что будет с Томом… — прошептала она, глядя на ребенка в бессильном отчаянии.
Тогда Петр стал объяснять ей и убеждать, что ради любви к Тому она должна выбрать одного из нас. Не захочет же она обречь любимого сына на страшную, одинокую смерть, а до этого на еще более страшную одинокую жизнь? Что он будет делать после нашей смерти? Брошенный, грустный, одичавший, будет он блуждать по этим горам и по берегу моря, последний человек единственный человек на этой планете, думая только о смерти.
Наступит минута, когда он проклянет мать, которая дала ему жизнь. Не имея возможности ни с кем разговаривать, он забудет человеческую речь. Когда ему будет плохо, никто не утешит, никто не поможет ни в чем. А если он заболеет, то у его постели будет стоять издевательский призрак голодной смерти. Тогда даже собаки, более счастливые, чем он, потому что смогут плодиться и добывать пропитание, оставят своего хозяина, неспособного отдавать им приказания. Может быть, только один пес, который будет ему постоянным спутником и другом за неимением человека, останется дольше других до тех пор, пока, испуганный полными последней тоски глазами мертвого человека, не начнет выть, отчаянно и страшно. Другие, уже одичавшие псы, сбегутся на этот вой и… устроят себе трапезу из еще теплого трупа последнего человека на Луне.
Он еще долго говорил, рисуя всевозможные ужасные картины несчастий, на которые Том обречен после нашей смерти, и я — прости меня, Боже! — помогал ему мучить несчастную женщину и убеждать ее, что ради Тома она должна выбрать одного из нас…
Марта слушала все это, не отвечая ни словом. Только на ее лице, вначале задумчивом, поочередно менялись страх, отчаяние, подавленность, смирение.
С юга уже слышались первые, далекие раскаты грома надвигающейся грозы… Марта сидела молча.
Наконец мы закончили, и Петр снова спросил ее, согласна ли она выйти замуж за одного из нас, но она, казалось, ничего не слышит. Только когда он повторил вопрос, она вздрогнула и подняла голову, как будто пробудившись ото сна. Она посмотрела на нас, а потом глухо сказала, с трудом выдавливая из себя слова:
— Я знаю, не о Томе вы заботитесь, но это все равно… Вы правы… Для Тома… ради него… я сделаю… все…
Она судорожно вздохнула и замолчала.
— Браво! — воскликнул Петр. — Это разумно! Так что ж, — добавил он, наклоняясь над ней, — которого из нас ты предпочитаешь?
Я стоял в стороне и смотрел на Марту. Она отпрянула, как бы охваченная внезапным отвращением, но взяла себя в руки в ту же минуту и посмотрела на нас. И снова, снова, уже в который раз, мне показалось, что ее взгляд на секунду остановился на мне, взгляд бедной, жалкой, молящей о спасении лани.
Вся кровь, отхлынув от сердца, ударила мне в голову.
Петр тоже, видимо, заметил ее взгляд, потому что внезапно побледнел и повернулся ко мне со страшно напряженным видом.
В эту минуту у Марты вырвался громкий, долго сдерживаемый плач. Она бросилась на землю, рыдая и отчаянно взывая:
— Томаш мой! Томаш! Дорогой мой, любимый Томаш!
Она звала умершего, как будто он мог спасти ее от живых.
Петр стал терять терпение.
— Все, больше ждать нечего, — заявил он. — Будем тянуть жребий.
Я еще пытался сопротивляться. Мне было душно и жутко. Тучи уже заволокли полнеба, над морем сверкали ослепляющие молнии. Маленький Том, видя, что мать плачет, заплакал тоже.
Я сделал шаг к Марте.
— Марта… Марта, — повторил я, коснувшись ее плеча.
— Убирайся прочь! — закричала она. — Вы противны мне оба!..
— Давай тянуть жребий, — налегал Петр.
Я обернулся. Он стоял за мной, держа в стиснутой руке два конца носового платка.
— Кто вытянет узелок, тот возьмет ее, — он кивнул головой в сторону лежащей на земле женщины.
Со мной происходило что-то страшное. В голове была удивительная ясность, я был даже спокоен, только не хватало дыхания, как будто мне на грудь навалили гору камней. Я смотрел на два угла платка, торчащих из ладони Петра, и вначале мой взгляд остановился на том, который был чуть порван в одном месте… Но потом мне вспомнилась другая сцена, на Море Имбриум, где мы так же собирались тянуть жребий — о смерти… как теперь —…о любви!
Петр терял терпение.
— Тяни! — закричал он.
Я посмотрел на него. Лицо у него судорожно скривилось, глаза настойчиво смотрели на меня. Внезапно я понял все. Если жребий вытяну я, мне придется немедленно убить этого человека, так как в противном случае он убьет меня. Невольно я сунул руку в карман, ища оружие. Но потом мне пришло в голову, что с таким же успехом жребий может достаться Петру. И что тогда? Достаточно ли у меня сил, чтобы отказаться от любимой женщины, зная, что все решил простой случай? Не взбунтуюсь ли я когда-нибудь против этого?
Капли пота выступили у меня на лбу.
Если бы я знал, что Марта предпочитает меня, что она расположена ко мне хоть чуточку больше, чем к Петру, я не стал бы тянуть жребий…
Но как же…
Ведь она же сказала минуту назад: противны оба… Оба!..
Должен ли я совершить насилие и убить этого человека… или надо смириться с судьбой?..
Я взглянул на Марту. Она уже перестала плакать и сидела теперь тихо, глядя в далекое море, как будто забыв о том, что мы находимся в нескольких шагах от нее…
Страшную, бездонную, болезненную любовь ощутил я вдруг к этой женщине.
Все это длилось едва ли одно мгновение, а потом я снова невольно сунул руку в карман и, коснувшись рукояти револьвера, сумасшедшим взглядом искал, кого я должен убить: Петра, Марту, себя или Тома, которого мы сделали невольным орудием воздействия на нее…
И, наконец, после этого неслыханного нервного напряжения для меня все стало ясным. Осталось только безразличие и… гордость. Я разжал руку, стиснутую около револьвера.
— Тяни! — сдавленным голосом сказал Петр.
— Нет! — ответил я с внезапной решительностью.
— Что?!
— Мы не будем тянуть жребий.
Он еще не мог ничего понять. Он быстро сунул руку в карман, и я услышал звук взводимого курка револьвера. Значит, и он был наготове, я не ошибся. Быстрым движением я схватил егоза обе руки. Он дернулся и обмяк в железных объятиях, в глазах застыл страх.
Я услышал испуганный крик Марты. В первый момент мне показалось, что в нем послышалось что-то похожее на радость, но потом я подумал, что, возможно, она испугалась за Петра. Я взглянул на него: он смотрел мне прямо в глаза с бессильным бешенством. Мне показалось, что он ждет смерти. Я усмехнулся и покачал головой.
— Нет! Это не то… Бери ее себе, — сказал я и отпустил его.
В первый момент Петр онемел от изумления. Он посмотрел на меня безумным взором, потом принужденно улыбнулся:
— Ты благородный человек, да, благодарю тебя… Конечно, я моложе тебя, поэтому будет правильнее… Но, — тут он понизил голос, — ты поклянешься, что никогда… никогда…
Он кивнул головой в сторону Марты.
Я посмотрел ему в глаза.
— Да, понимаю, этого не нужно… Благодарю тебя, ты… — быстро сказал он.
Меня охватило необоримое отвращение. Он на мгновение заколебался, потом быстро повернулся и подошел к Марте. Я взглянул на нее, и наши глаза снова встретились, но теперь в ее взгляде я прочел лишь безграничное презрение или ненависть. Она сразу же отвернулась, как только заметила, что я смотрю на нее.
— Марта, я буду твоим мужем, — сказал Петр.
— Я знаю, — безразлично сказала она.
— Марта…
— Что?
— Приближается гроза…
— Вижу…
Петр судорожно вздохнул.
— Пойдем, спрячемся в пещере.
В его глазах таилась жуткая, звериная страсть, из судорожно стиснутых губ с трудом вырывались слова, по телу пробегала дрожь.
Я не смел смотреть в сторону Марты. Услышал только ее голос, приглушенный, безразличный;
— Хорошо. Я иду.
Петр еще поколебался:
— Марта, только сначала отдай стилет.
Она бросила его на землю, только лезвие звякнуло на камнях, и, не оглядываясь, вошла в пещеру. Петр, схватив Тома на руки, ринулся туда за ней.
В ту же минуту сверкнула ослепительная молния и глухой, продолженный эхом громовой раскат заявил о начале грозы. На сухую, спекшуюся землю начали падать первые капли дождя.
В голове у меня все завертелось, и я упал на камни, сотрясаясь от страшных рыданий. Надо мной беспрестанно громыхал гром, с небес лились потоки воды.
Так сложилась наша жизнь на Луне.
IV
После этого для меня началась одинокая жизнь. Мои отношения с Петром никогда не были слишком сердечными, к Марте я был не в состоянии относиться так же, как до сих пор. Что-то встало между нами, какая-то взаимная жалость и стыд… не знаю… И она неузнаваемо изменилась. Похудела, побледнела, даже подурнела; всегда замкнутая и неразговорчивая, она, казалось, избегает меня. Почти все время она проводила с Томом. Только вид этого ребенка мог совершить чудо; ее мрачное лицо прояснялось на минуту счастливой улыбкой. Сын был для нее всем, только о нем она думала, часто брала его на руки, долго и страстно ласкала или рассказывала ему разные удивительные истории, которых он еще не мог понять: о Земле, оставленной далеко, далеко, об отце, лежащем в могиле посреди страшной пустыни, о себе…
Петр был ревнив. Всегда неприязненно относившийся к ребенку, теперь он иногда смотрел на него таким взглядом, что, зная его характер, я опасался, как бы он не причинил мальчику какой-либо вред. Впрочем, он ревновал и ко мне, хотя я избегал малейшей возможности дать ему повод для этого. С Мартой я никогда не оставался один на один, да и в его присутствии мало разговаривал с ней. Но каждый раз, когда мне случалось сказать ей хоть слово, я чувствовал на себе его беспокойный и хищный взгляд.
Тяжелой была моя жизнь и жизнь Марты, но, пожалуй, он был самым несчастным из нас троих. Марта, по крайней мере, имела утешение в ребенке, меня поддерживало гордое сознание добровольно принесенной жертвы, тогда как Петр, мучимый ревностью рядом с любимой, но безразличной и холодной к нему женщиной, ни в чем не имел опоры. Я невольно отдалился от него, а Марта хотя была покорна и послушна всем его желаниям, на каждом шагу давала ему понять, что считает его только орудием, с помощью которого хочет дать общество людей своему сыну. Я никогда не видел, чтобы она хоть раз обратилась к нему с теплым, ласковым словом; когда он покрывал ее руки или лицо поцелуями, она не защищалась, но сидела неподвижно, напряженная и безразличная, только в глазах ее вспыхивало иногда выражение тоски и… отвращения.
А ведь он по-своему любил ее, этот человек, и делал все возможное, чтобы завоевать ее взаимность — как будто тут можно было что-то сделать! Были минуты, когда он угрожал ей и старался показать свою власть, но она безразлично и спокойно смотрела на него, непокоренная, но и не имеющая охоты возражать. То, что он приказывал, она выполняла без промедления, но и без улыбки, точно так же, как то, о чем он просил. Это приводило его в отчаяние. Я видел, что иногда ему хотелось вызвать у нее даже бунт и ненависть, лишь бы только вырвать из этого страшного безразличия. При этом он прибегал даже к такому способу: преследовал Тома. При мне он не смел прикасаться к ребенку, я как-то сказал ему, что если он причинит мальчику даже маленькое зло, я пущу ему пулю в лоб, а он знал, что с того памятного полудня я всегда ношу револьвер при себе. Но во время моего отсутствия он бил Тома. Я узнал об этом значительно позднее и случайно… Марта, не говоря ни слова, погрозила ему тогда стилетом, который я отдал ей, подняв его, когда, входя в грот, она бросила его на землю.
И снова, впадая из крайности в крайность, Петр бросался к ее ногам, рыдал и просил прощения.
Однажды я был случайным свидетелем такой сцены. Я возвращался из одинокой прогулки к довольно далеко расположенным нефтяным источникам, когда, приблизившись к дому, услышал взволнованный голос, а потом и плач Петра. Марта сидела на лавке в садике, разбитом на берегу, откуда открывался очень красивый вид на горы и море, а у ног ее на песке лежал Петр.
— Марта, — говорил он, — Марта, сжалься надо мной! Неужели ты не видишь, что со мной делается! Ведь это ужасно… Я схожу с ума из-за тебя, я теряю рассудок, а ты… ты…
Какое-то спазматическое рыдание вырвалось у него из груди.
Марта даже не дрогнула.
— Чего ты хочешь от меня, Петр? — спросила она через минуту.
— Я хочу твоей любви!
— Ты мой муж…
— Люби меня!
— Хорошо. Я люблю тебя.
Все это она говорила медленно, спокойно и так безразлично что даже у меня мороз прошел по коже.
Петр вскочил на ноги:
— Женщина! Не раздражай меня! — крикнул он.
— Хорошо. Я не буду тебя раздражать.
Петр обеими руками схватил ее за плечи, лицо у него было искажено от бессильного гнева. Я невольно вынул револьвер, и хотя меня била дрожь, я знал, что не промахнусь.
— Ты хочешь бить меня, Петр? — спросила Марта таким тоном, как будто говорила: хочешь ли ты попить воды?
— Да, я хочу бить тебя, колотить, убивать, чтобы… чтобы…
— Хорошо, бей меня, Петр…
Он застонал и зашатался, как пьяный.
Я подошел, чтобы своим присутствием прервать эту страшную сцену.
Смотреть на постоянную угнетающую печаль Марты и страшную внутреннюю борьбу Петра было для меня в высшей степени неприятно, но, по чести сказать, и они избегали меня, хотя каждый по иной причине, поэтому сложилось так, что большую часть долгих лунных дней я проводил в полном одиночестве. Постепенно я привык к нему. Впрочем, теперь я уже мог мыслями о будущем заполнить пустоту и одиночество, на которые обрек себя Правда, когда-то я иначе воображал женитьбу «одного из нас» на Марте: я мечтал о тихой, спокойной, хоть и не лишенной определенной грусти идиллии, о новом сердечном союзе, соединившем наш тесный кружок, о долгих тихих разговорах, заботе о счастье и удобстве тех, кто должен прийти после нас, и хотя действительность разрушила эти прекрасные мечты, но все же дала мне единственное неоценимое приобретение: надежду на новое поколение. Я уже любил это будущее поколение, этих чужих детей, прежде чем они появились на свет. В долгих одиноких прогулках я постоянно о них размышлял. Для них создавал запасы, изучал окрестности, записывал наблюдения; для них очищал от пыли и приводил в порядок привезенную с Земли библиотеку; для них делал кирпичи и разводил известь, чтобы построить каменный дом и небольшую астрономическую обсерваторию; для них выплавлял из руды железо или выковывал из серебра, имеющегося тут во множестве, разные орудия, делал стекло, бумагу и иные необходимые цивилизованному человеку материалы. Я так безгранично радовался этим детям, которые еще не родились! Мне казалось, что с их приходом в этот мир что-то изменится к лучшему, что их смех и щебет развеют эту душную атмосферу, которая создалась вокруг нас.
Мне пришлось ждать не слишком долго. Меньше чем через год у Марты родились близнецы: две девочки. Они появились на свет ночью. Когда я услышал из другой комнаты, где сидел с Томом, их первый, слабый плач, сорвался с места, охваченный безумной радостью, но в ту же минуту сердце у меня сжалось от такой непереносимой боли, что я стал кусать пальцы, чтобы удержаться от рыданий, а слезы уже сами полились у меня из глаз.
Том удивленно смотрел на меня, одновременно прислушиваясь к голосам, доносящимся из соседней комнаты.
— Дядя, — наконец спросил он (так он всегда меня называл), — дядя, а кто там так плачет, неужели мама?
— Нет, малыш, это не мама плачет, это… это такой маленький ребенок, как ты, только еще меньше.
Том сделал серьезное лицо и стал размышлять.
— А откуда этот ребенок? И зачем он там? — снова спросил он.
Я не знал, что ему ответить. Тем временем он внимательно присматривался ко мне.
— Дядя, а почему ты плачешь? — неожиданно спросил он.
Действительно, почему я плачу?
— Потому, что глупый! — резко сказал я, отвечая скорее собственным мыслям, нежели ему.
Ребенок неожиданно серьезно покачал головой.
— Неправда! Я знаю, что ты не глупый. Мама так говорила Она сказала, что ты добрый, очень добрый, только… только..
— Только что? Как мама тебе сказала?
— Я забыл…
В эту минуту дверь открылась и на пороге появился Петр Он был бледен и явно взволнован. Он, в первый раз за год, улыбнулся мне и сказал:
— Две дочки…
Потом добавил:
— Ян, пожалуйста, Марта просила, чтобы ты привел ей Тома.
Я вошел в комнату, где лежала больная Увидев сына, она сразу протянула к нему руки.
— Том! Подойди и посмотри! У тебя есть две сестрички, две сразу. Это ради тебя! Ты простишь меня, Том, правда? Простишь?.. Но это только ради тебя, только ради тебя, мой самый лучший, единственный, любимый сыночек! — говорила она прерывающимся голосом, прижимая ребенка к груди.
Том задумался.
— Мама, а что мне делать с этими сестричками?
— Все, что захочешь, мой маленький, ты будешь их бить, любить, мучить, ласкать, все что захочешь! А они будут тебя слушаться и работать за тебя, когда вырастут!
— Марта, что ты говоришь! — закричал Петр. — Марта, это мои дети!
Она холодно взглянула на него:
— Я знаю об этом, Петр; это твои дети…
Петр сделал такое движение, как будто хотел броситься на нее, но взял себя в руки и, подойдя к кровати, сказал как можно ласковее:
— Это наши дети, Марта. Неужели у тебя не найдется для меня ни единого слова? Ничего?
— Разумеется. Благодарю тебя.
После этого она снова начала страстно прижимать к себе и целовать светлую головку сына.
— Том, мой самый дорогой, любимый, золотой сыночек…
Петр как сумасшедший выбежал из комнаты, а мне стало душно. Было что-то чудовищное в подобной материнской любви.
Рождение этих двух девочек, Лили и Розы, мало изменило нашу жизнь — вопреки ожиданиям. Отношения Петра и Марты остались прежними. Я давно сочувствовал Марте, но теперь стал ощущать огромную жалость и к судьбе этого человека. Он стал апатичным, угрюмым, в каждом его слове и в каждом движении чувствовалась огромная смертельная тоска и подавленность. Будучи на несколько лет младше меня, он вдруг сгорбился и поседел; запавшие же глаза горели каким-то нездоровым огнем. Я никогда не предполагал, что год жизни может так сломать этот прекрасный организм, который лучше всех нас перенес неслыханно трудное путешествие через пустыню. Конечно, причиной этого была Марта, но я не мог винить ее… Она любила того, первого, который умер; кроме него и его сына, никому не было места в ее сердце — и в этом заключалось все несчастье.
Мне кажется, что и дочек она не любила. Правда, она неустанно заботилась о них, но было видно, что делала это только с мыслью о Томе. Они имели для нее значение ценных игрушек для сына, которые нельзя поломать, или редких зверюшек, которые требуют присмотра и заботы, потому что потеря их может быть невосполнимой. Даже способ, которым она отзывалась о девочках, свидетельствовал об этом — она всегда говорила о них: «Девочки Тома» Петр бессильно наблюдал за всем этим и мрачнел еще больше.
Во всяком случае эти дети причиняли Марте много хлопот, особенно в первые месяцы, отнимали много времени, поэтому сложилось так, что Том был постоянно под моей опекой. Я нашел себе товарища. Мальчик был очень разумный и развитой для своего возраста. Он постоянно допытывался у меня о разных вещах и разговаривал со мной, как взрослый. Через какое-то время я так привязался к нему, что мне уже трудно было обойтись без его общества. За несколько одиноких лунных дней я привык к постоянному движению, и теперь на все, даже далекие прогулки, брал с собой Тома. Марта охотно доверяла его мне, зная, что при мне он в безопасности, даже в большей безопасности, чем дома, где отчим не переносил его.
Я построил тележку и приучил шестерку сильных собак ходить в упряжке. Ввиду меньшей силы тяжести на Луне этой упряжки было достаточно, чтобы нас с легкостью перевозить с места на место. Иногда мы совершали далекие экспедиции, длящиеся два и более лунных дней. Тогда, принимая во внимание сильные ночные морозы, я брал герметически закрывающийся автомобиль, снабженный электрическим двигателем и отапливаемый, который я сделал из нашего старого автомобиля, значительно уменьшив его. Внутри, кроме меня и Тома, умещались еще два пса и значительные запасы топлива и продовольствия.
Путешествуя подобным образом, мы обследовали с Томом все северное побережье центрального лунного моря и далеко углубились на восток и запад, до тех пор, пока более разреженный у границ пустыни воздух не вынудил нас вернуться. Самым дальним пунктом по направлению к западу, которого мы достигли, было Море Химболтаниум, низина, расположенная примерно на той же широте, что и Море Фригорис, и иногда видимая с Земли как маленькая темная тучка на правой стороне верхней части серебристого диска.
И мы оттуда увидели Землю, поднявшуюся из-за горизонта. Я задержался там на всю долгую, двухнедельную ночь, только чтобы насытиться видом этой, так давно не виданной и еще более давно покинутой, моей родной планеты.
На восходе солнца Земля была в полной фазе. Когда я увидел этот сверкающий, слегка порозовевший диск и проплывающие по нему ясные очертания Европы, меня охватила такая невыразимая тоска по этой планете, светящейся на небе, что я не мог справиться с собой. Мне казалось, что, изгнанный из рая, я вдруг неожиданно увидел его золотой отблеск и протянул к нему руку в неразумном, наивном, ребяческом желании: хотя бы еще разок попасть туда… хотя бы после смерти. Однако в эту же минуту мне вспомнилась Земля, какой я видел ее в последний раз в Полярной Стране: почерневшая, мертвая на фоне кровавого зарева — и меня охватила печаль.
Все несчастья, все дурные страсти и беды, которые веками преследуют род человеческий, не исключая и самое главное из них — неумолимую смерть, пришли за нами на эту планету, до сих пор тихую и спокойную в своей мертвенности Человеку плохо везде, потому что он носит в себе зародыши несчастья..
Мрачные мои размышления прервал голос Тома Он стоял около меня, только что проснувшийся после долгого сна, и смотрел на незнакомый светлый круг на небе.
— Дядя, что это? — спросил он, протягивая ручку.
— Ты же знаешь, что это Земля! Я не раз обещал тебе, что привезу тебя на такое место, откуда мы сможем ее увидеть. Впрочем, ты же видел ее, когда мы сюда приехали, не помнишь?
— Нет, я не видел этой Земли Та была совсем другая, такая рогатая с одной стороны, а эта круглая.
— Это та же самая Земля, мальчик.
Том задумался на мгновение.
— Дядя…
— Что?
— Я знаю, это она, наверное, выросла или распустилась утром, как большие листья.
Я постарался, как мог, объяснить ему причину изменений фаз Земли Он слушал меня рассеянно, видимо, не понимая того, что я говорю ему Потом вдруг прервал меня вопросом:
— Дядя, а что такое эта Земля?
Тогда я рассказал ему снова, может быть, в сотый раз, что там есть моря, горы, луга и реки, такие же, как на Луне, только еще более огромные и прекрасные, что там много домов, построенных друг рядом с другом, которые называются городами, а в этих городах живет много, много, огромное количество людей и маленьких детей; я рассказал ему, что оттуда мы прилетели на Луну: и я, и мама, и Петр, и его отец, который умер, и даже оба наших старых пса — Заграй и Леда, с которыми ему так нравится играть.
Когда я закончил, Том, слушавший мой рассказ с большим интересом, с лукавым выражением на мордашке, сказал, гладя меня по бороде.
— Это я уже знаю, но теперь, пожалуйста, дядя, не шути, расскажи мне, что есть на Земле на самом деле?
Обе собаки, стоящие около нас, тоже выгибали шеи, с любопытством глядя на светящийся на небе круг.
Через несколько часов после восхода солнца мы отправились в обратный путь Земля, побледневшая при дневном свете, виднелась за нами только в виде серо-пепельного туманного облака, поднявшегося из-за горизонта.
В другой раз мы совершили дальнее путешествие на юг Морское побережье, бегущее ломаной линией примерно между пятидесятой и шестидесятой параллелью, образовывало на юге широкой полуостров, а может быть, и перешеек, соединяющийся с материком в южной части планеты Я хотел убедиться в этом и поэтому пустился в дальнюю дорогу по этому языку, тянущемуся на много километров, но не смог продвинуться по нему достаточно далеко От продолжения путешествия меня удержал климат, который невозможно было выдержать Ночи несмотря на соседство моря, были такими холодными, что напоминали мне морозы, властвующие на безвоздушной части планеты, а во время ужасающей дневной жары почти не прекращались бури Почва была скалистой, вулканического происхождения и совершенно голая Никакой растительности, никакой жизни, ничего — только ужасная мертвая пустыня между необозримыми морями среди которых возвышались острые верхушки вулканических островов, нередко окутанных клубами дыма или кровавым заревом огня.
Во время этого путешествия была минута, когда я пожалел, что взял с собой Тома, опасаясь, как бы мы не погибли оба Из-за неровной поверхности скал мы не могли двигаться по центру этого полуострова, поэтому мы держались вдоль восточного побережья где у подножия диких и фантастических скал на несколько сот метров тянулась широкая, ровная долина Было около полудня, и прилив, вызванный солнечным притяжением, необыкновенно замедленный здесь, но достаточно высокий, поднял уровень воды так, что ее поверхность почти сравнялась с уровнем побережья Опасаясь затопления тех мест, где мы находились, я как раз искал какой-нибудь подъем на склоне гор, когда разразилась буря, налетев с востока. Огромные волны стали набегать на берег, одна из них ударила в наш автомобиль и отбросила его на несколько метров назад, к торчащему выступу скалы Нельзя было терять ни минуты. Я тросом прикрепил автомобиль к камням, тщательно запер его снаружи и начал с Томом на руках подниматься по скалам Я не могу вспомнить в своей жизни минуты такого страха, какой пережил тогда. Цепляясь за выветрившиеся скалы ногами и одной рукой — в другой я держал мальчика, дрожащего от ужаса, — я видел бушующее подо мной вспенившееся море, а над головой черную тучу, из которой изливались потоки воды, сопровождаемые громовыми раскатами К счастью, выступ скалы защищал меня от непосредственного воздействия урагана, так как в противном случае я, несомненно, рухнул бы в пропасть вместе с камнями, которые сыпались вокруг меня, сорванные со своих мест вихрем. Тяжелое положение, в котором мы находились, усугубляло еще беспокойство об автомобиле, оставленном внизу Если бы волны оборвали трос и унесли автомобиль или разбили его о скалы — да достаточно было просто повредить двигатель! — мы неизбежно были бы обречены на гибель, так как пешком, без запасов продовольствия, без защиты от холода, мы не смогли бы вернуться домой. Поэтому, как только я смог добраться до места, где можно было прочно встать на ноги, я оставил Тома возле камней, укрыв хорошенько и привязав., чтобы ветер не смог его сбросить, сам вернулся обратно вниз, чтобы лучше укрепить автомобиль После невероятных трудов мне удалось наконец затянуть его в расщелину где он был в безопасности перед ударами волн.
Несколько часов провели мы с Томом, ожидая конца бури. Испуганный ребенок прижимался ко мне и с плачем допытывался зачем мы сюда пришли? Я не мог ответить ему на этот вопрос так как давно уже смирился с невозможностью ответа на вопрос, зачем мы вообще пришли на Луну…
Наученный опытом, я стал более осторожным и на обратный путь выбрал дорогу, более поднятую над уровнем моря.
Впрочем, это был единственный случай, когда в наших путешествиях нам угрожала серьезная опасность. Все иные прошли без приключений и достаточно весело.
У нас была также большая и сильная лодка. Второй электрический мотор, который когда-то служил несчастным Реможнерам, мы исправили вдвоем с Петром и поместили в лодку, чтобы он приводил ее в движение. Этой лодкой мы пользовались для рыбалок, и я пускался в ней с Томом в предполуденное либо вечернее время в открытое море.
Во время одной из таких прогулок мы обнаружили остров, во всех отношениях достойный внимания. Уже издали я заметил его.
Все острова, которые я видел до сих пор, были либо выступающими над поверхностью моря вулканами, либо вершинами залитых водой кольцеобразных гор. Этот же сразу произвел на меня впечатление остатка уничтоженного морем материка. Он был обширным и достаточно плоским, только в юго-западной его части возвышалась цепь невысоких гор, раскрошенных постоянным воздействием воды и ветра. Берега были обрывистые, разрушенные ударами волн, море вокруг было неглубоким, испещренным отмелями, поэтому мы на нашей лодке с трудом смогли причалить.
А остров был очень интересный, совершенно не похожий на уже известные нам окрестности. Прежде всего мое внимание обратила на себя совершенно иная растительность; она была менее буйной, нежели в других местах, но, несомненно, отличалась гораздо большим разнообразием. На нескольких квадратных километрах мне встретились едва ли три или четыре уже известных мне растения, зато бессчетное количество их мне было совершенно незнакомо. Все они были странные, невысокие и печальные. Я не мог отделаться от впечатления, что вижу перед собой последних представителей исчезнувшего поколения, которое лишь чудом сохранилось здесь, свидетельствуя о существовании на Луне иной жизни много-много веков назад, когда тут, где теперь плескалось море, был материк, а вода омывала его границы.
То же самое приходило мне в голову, когда я видел животных, живущих на этом странном острове. Их было мало, однако те, которых я встречал, тоже отличались от виденных раньше. В их внешнем виде и поведении было что-то грустное и старческое. Когда я проходил мимо, из нор вылезали неловкие, небольшие уродцы и наблюдали за мной разумно и осторожно, но без опасения. Только пес, которого я взял с собой, нагнал на них страх, они сразу же попрятались от него, издавая полугневное, полужалобное пыхтение, единственный звук, который они могли добыть из себя.
Том был со мной, как обычно. Он удивлялся всему и постоянно останавливался, захваченный то каким-то цветным камешком или раковиной либо душистым растением, напоминающим земные цветы. Находясь в нескольких десятках шагов от него, я вдруг услышал его голос:
— Дядя! Дядя, иди посмотри, какие красивые палочки!
Я подошел к нему и увидел, что мальчик сидит на земле среди множества белых, тонких и длинных костей. Я стал осматривать их: на Луне я не встречал ни одно животное, которому они могли бы принадлежать.
Наклонившись, я заметил между ними удивительный предмет это был кусок толстой, с одной стороны сильно сточенной медной бляшки, напоминающей формой широкий нож. Сердце бешено заколотилось у меня в груди; если не ошибаюсь, это был предмет, подвергшийся обработке, следовательно, на Луне, когда-то давно, еще до нашего прибытия, уже существовали разумные существа…
Мне вспомнился Город Мертвых, встретившийся нам много лет назад на Море Имбриум, и памятный страшным случаем, который вызвал смерть Вудбелла. Отъехав тогда от этих скал, так напоминающих руины, в которых некогда, возможно, существовала жизнь, мы даже не убедились, чем они были на самом деле: удивительной игрой природы или призраком города, умершего много веков назад — и вот теперь я снова нашел предмет, свидетельствующий о существовании здесь разумных существ задолго-задолго до нашего появления.
Я принялся за более тщательные поиски.
Этот остров я обшарил вдоль и поперек, входил в скалистые пещеры у подножия гор, но не нашел ничего, что бы могло меня утвердить в правильности моих предположений. Правда, мне казалось, что и в одном, и в другом гроте я замечал следы целенаправленной работы, на побережье небольшого озера я нашел два или три обломка окаменевших корней, на которых, похоже, были следы обработки каким-то орудием, а дамба, заставляющая ручеек разлиться в озеро, выглядела так, как будто была сделана искусственно, в другой стороне друг на друга были уложены камни, это выглядело как остаток развалившейся стены, но все это в равной степени могло быть делом случая или результатом действий неразумных, но сообразительных животных Ведь на Земле бобры возводят очень интересные постройки…
Я не разгадал тогда этой важной загадки, но во всяком случае результат поисков утвердил меня в возникшем в самом начале мнении, что этот остров — остаток огромного, разрушенного морем материка и дает приблизительную картину жизни на Луне в предшествующих нынешнему временах.
Я назвал это место Кладбищенским Островом Здесь я любил бывать и часто приплывал сюда и с вершины горы смотрел на раскинувшееся вокруг посеребренное лучами солнца море, под волнами которого исчезла остальная часть этого материка.
Передо мной на горизонте виднелись вершины далеких вулканов, над которыми возвышался мрачный, почти всегда окутанный дымом, гигантский кратер Отамора Я смотрел на поднимающийся прилив и думал о том, что когда-то происходило на этой планете и безвозвратно ушло..
Я закрывал глаза и представлял себе, что в неустанном и однообразном шуме волн слышу звуки той первобытной жизни. Здесь были леса, состоящие из деревьев сильных и гибких, которым не нужно было сгибаться и стлаться, спасаясь от мороза, которого не было, так как Солнце гораздо быстрее обходило эту планету, дни и ночи чередовались гораздо быстрее без этих страшных морозов и чудовищной жары. В гуще этих лесов скрывались животные большие и сильные, прародители сегодняшних измельчавших потомков, в зарослях слышатся звуки крыльев мощных летающих ящеров… А вечером ветер стихает, и на горизонте встает огромный, кровавый, ясный круг Земли, которая в те времена совершала полный оборот вокруг Луны.
И кто знает, кто знает, не смотрели ли на это светило глаза разумных существ? Не протягивали ли они к нему свои руки, оторвавшись от вдумчивого труда, чтобы приветствовать серебряного ангела-хранителя, который освещает их ночи?
Кто знает, догадывался ли кто-либо на Луне в те давние времена, что на этой гигантской планете, висящей на небе, тоже есть разумные существа? Не гадали ли они, как те выглядят? Как живут?
И невольно мое воображение, как птица, вылетевшая из клетки, отлетало от Луны и устремлялось дальше, за сотни тысяч километров, к моей Земле…
Обычно мои мечтания на Кладбищенском Острове прерывал Том, которому надоедало мое долгое молчание. Тогда мы возвращались домой, где Марта нетерпеливо ожидала мальчика.
Здесь Том уже не принадлежал мне. Мать, стосковавшаяся за время длительной разлуки, хватала его на руки, а когда заканчивались бесконечные объятия и поцелуи, садилась с ним на пороге и начинала свой вечный рассказ о молодом, прекрасном и добром англичанине, его отце, за которым она отправилась на Луну, и который спит, засыпанный песком в огромной и тихой лунной пустыне… Заканчивалось тем, что она рассказывала все это скорее самой себе, нежели сыну, и слезы текли из ее глаз на светлую головку мальчика.
Петр, сломленный и мрачный, делал что-то около дома или шел присмотреть за девочками.
Я же, никому не нужный, снова уходил в сторону, чтобы размышлять в одиночестве или заняться какой-либо работой.
Часы шли за часами, солнце всходило и заходило, проходили земные года, с трудом пересчитываемые на лунные дни Том рос и девочки уже бегали за ним по лугам, но для меня ничего не изменялось.
По старой привычке я много путешествовал в одиночестве по окрестностям, проводил долгие часы на Кладбищенском Острове а возвращаясь домой, видел все ту же грустную, молчаливую Марту и Петра, похожего скорее на призрака, чем на живого человека И только моя тоска по Земле с каждым годом все возрастала и возрастала. Чтобы защитить себя от нее, я размышлял о новом поколении, лихорадочно брался за работу, но в часы перерыва, когда я, усталый, падал на землю, она возвращалась вновь..
V
На Земле заканчивался уже седьмой год с тех пор, как мы прибыли на Луну, когда Марта заметила, что в третий раз будет матерью. Появление этого ребенка она ждала нетерпеливо, надеясь, что это будет сын, которого заранее предназначала в рабы для Тома. Она совершенно этого не скрывала и, как только поняла, что после долгого перерыва снова станет матерью, сразу сказала нам:
— Только теперь я буду спокойна, когда дам наконец Тому прислужника и раба…
Она говорила это с виду совершенно безразлично, как о чем-то вполне естественном, но я заметил в ее голосе странные нотки…
Это было похоже на восклицание после победы, которая одержана огромным трудом и которую по этой причине трудно считать победой, что-то напоминающее вздох работника, сбрасывающего со своих плеч добровольно взятый груз, в нем чувствовалось отвращение, но и радость, что этот груз доставлен им именно туда, куда было необходимо, что он не упал под его тяжестью и не сбросил его раньше времени.
Петр, совершенно сломленный, уже давно привык к жестокости Марты, которая ранила его каждым словом, каждым поступком и делала это мимоходом и так безжалостно, как будто делала это бессознательно, будучи только оружием судьбы. Но тогда, после этих слов Марты, он посмотрел на нее потухшим взглядом и насмешливо усмехнулся, а потом протянул руку к Тому. Он схватил мальчика за плечо и, подтянув к себе, начал его осматривать. Том был мальчиком очень развитым умственно, но для своего возраста был несколько слабоват. Отчим закатал широкий рукав его блузы и обнажил маленькие детские плечи, слегка хлопнув его ладонью по спине, пощупал бедра и колени, стукнул в грудь, снова насмешливо усмехнулся и, держа руку на голове испуганного мальчика, медленно процедил, обращаясь к Марте:
— Да… Том достаточно сильный, чтобы верховодить над девочками, но его брат может быть посильнее.
Марта побледнела и с тревогой посмотрела на мальчика.
Но ее беспокойство не продолжалось долго. Она посмотрела в блестящие глаза мальчика и, видимо, прочитала там все, что хотела увидеть, потому что усмехнулась и кротко ответила:
— Том будет сильнее, даже если тот будет больше него.
И действительно, Том уже тогда, маленький, шестилетний мальчик, отличался необыкновенной быстротой и энергией Он развивался очень быстро и каким-то удивительным способом, совсем непохожим на те, которыми развиваются детские души там, на Земле. Он сразу же был очень самостоятельным и имел такой практический ум, что нередко нас просто удивлял. У него не было и тени мечтательности, присущей земным детям, Том имел такой трезвый взгляд на вещи, что у меня даже болело сердце, когда я смотрел на эту светловолосую головку ребенка, в которой мысли шли таким спокойным и сплоченным хороводом, как под лысым черепом старика. Кроме того, мальчик был очень привязчив: он обожал мать; очень любил меня, только Петра не переносил. Он всегда был уверен в себе и сохранял спокойствие, как и его отец, но в присутствии отчима становился смущенным и испуганным. Впрочем, даже не знаю, какими словами определить то, что делалось в душе ребенка в присутствии Петра. При нем он никогда не открывал рта, только глаза у него беспокойно бегали. В его поведении чувствовался какой-то страх, но там были и упрямство, и ненависть, и отвращение… Петр видел это и чувствовал, и мне казалось, что тогда он сам уже боялся этого странного ребенка.
Марта была права: Том не был одним из тех, которые рождены для того, чтобы кому-либо подчиняться. В нем было слишком много решительности, слишком много горячей крови предков, гордых траванкорцев.
Поэтому я был уверен, что даже если у него родится брат, он будет точно так же бегать за ним и так же покорно смотреть ему в глаза, как эти две маленькие девочки, Лили и Роза.
Но брат у Тома не родился, место него появилась на свет третья девочка, которую назвали Ада.
Марта без радости и волнения приветствовала рождение этого ребенка.
— Том, — сказала она через несколько часов, когда мы, по ее желанию, привели мальчика к ее постели. — Том, у тебя уже не будет брата. Но зато у тебя есть три сестрички. Их вполне достаточно, чтобы у тебя были и жена, и подруга, и служанка…
Том уже не спрашивал, как при рождении первых девочек, что он будет делать с сестричками, только обернулся на Лили и Розу, которые, держась за руки, стояли в углу и, как обычно, вглядывались в него глазами полными любви и восхищения, слегка прикоснулся пальцем к маленькому, плачущему, только что рожденному существу и сказал, серьезно кивнув головой:
— Достаточно, мама, достаточно…
— Том, — сказал я, неприятно задетый словами Марты и поведением ребенка, — ты должен быть добрым с ними.
— Почему? — наивно спросил он.
— Чтобы они любили тебя, — ответил я.
— Они и так меня любят…
— Да, мы очень Тома любим, — отозвались девочки почти одновременно.
— Видишь, Том, — наставительно сказал я, — они лучше тебя, потому что любят тебя, хотя ты не всегда этого заслуживаешь. Но эта малышка, может, и не будет тебя любить…
Том ничего на это не ответил, но я заметил, что он недовольно посмотрел на малышку, насупив маленькие брови.
В конце концов, может быть, и хорошо, что у Тома родился не брат. Он был бы его невольником или — врагом.
Я вышел тогда из комнаты и еще долгое время размышлял над страшной иронией человеческого существования, которая пришла вместе с нами на Луну. Мне вспомнился О’Тамор, бедный, благородный мечтатель! Как он надеялся, что тут, на Луне, из детей Томаша и Марты, сохраненных от дурного влияния земной «цивилизации», вырастет поколение идеальных людей, не знающих тех тягот и различий, которые являются причиной постоянных несчастий человечества на Земле! Я смотрю на этих детей, и мне кажется, что старый, благородный мечтатель О’Тамор забыл, что потомство человека всегда будет состоять из человеческих существ, несущих в своей душе зачатки всех мерзостей, присущих земным поколениям. Разве в этом не заключается самая страшная ирония? Человек перенес своего врага вместе с собой даже на звезды, светящиеся в небе.
Хорошо, что у Тома нет брата. По крайней мере, можно надеяться, что вскорости не наступит время братоубийственных сражений и рабства, а мы тем временем, может быть, умрем и не сможем наблюдать за всем этим.
А девочки… Мне кажется, эти девочки созданы для того, чтобы подчиняться. Они, может быть, даже не осознают своего несчастья и будут радоваться, когда-их брат и хозяин соизволит время от времени быть с ними милостив… Что касается Лили и Розы, я в этом уверен. Ада же еще слишком мала, по земным меркам ей едва только три года, чтобы можно было высказать правдоподобное предположение о ее будущих отношениях с родным братом. Я заметил только, что она не любит его так, как старшие. Том тоже более безразличен к ней.
Пристальное внимание к росту и духовному развитию этих четверых детей в последнее время является моим самым приятным, хотя и грустным развлечением. С точки зрения физической они прекрасно приспособлены для условий жизни на Луне, которые для нас, пришельцев с Земли, продолжают оставаться чуждыми и непереносимыми, хотя мы живем здесь уже много лет. К примеру — регулирование сна. Во время долгого дня нам требуется такое же количество сна, как во время ночи. Это влечет за собой то, что третью часть времени, когда Солнце стоит на небе, мы тратим на сон, очень нерегулярный и по этой причине — малоосвежающий, зато две трети ночи мы проводим без сна, утомленные холодом, темнотой и скукой. Дети, родившиеся тут, днем спят очень мало: час или два, зато вся ночь у них проходит во сне с небольшими перерывами.
Через несколько часов после захода Солнца их охватывает непреодолимая сонливость. А если они и просыпаются ночью, то на два, три, самое большее на четыре часа, после чего снова засыпают и спят, как суслики на Земле, до того времени, когда первые лучи Солнца возвещают о наступлении дня.
Они значительно лучше нас переносят здешний климат.
Жара не расслабляет их до такой степени и не вызывает раздражения или сонливости, как у нас.
Но больше всего меня удивляет, что эти дети и к морозу значительно более устойчивы, чем мы, старшие. Утром, когда холод усиливается, дети, пробудившись от долгого сна, часто выбегают на улицу и даже значительно удаляются от дома, тогда как мы выходим только в случае крайней необходимости.
Инициатором этих прогулок обычно бывает Том. Обе старшие девочки выбегают только за ним, так же, как и старый Заграй, увлекаемые слепой привязанностью. Этот пес и девочки составляют неотступную свиту Тома.
Сначала я думал, что дети выходят поиграть в снегу, быстро тающем после восхода Солнца, или катаются по замерзшему льду. Но вскоре убедился, что вся эта маленькая дружина выходит так рано под предводительством Тома — на охоту! Удивительно, что нам не пришла в голову эта мысль! Все здешние животные засыпают на ночь, зарывшись в землю для защиты от мороза.
Том обнаружил это сам и при помощи Заграя, который отличается хорошим нюхом, разыскивал под снегом норки разных зверьков и убивал их, прежде чем они просыпались. Правда, мясо здешних животных, как я уже упоминал, невозможно использовать в пищу, но зато их шкуры дают нам много прекрасного меха или рогового материала, подобного черепаховому панцирю. Охота в течение дня бывает несколько затруднительной, так как звери стали относиться к нам недоверчиво, и я очень удивился, когда Том однажды утром принес мне больше десятка шкурок, среди которых было несколько свежих, а остальные старательно обработаны! Эти, видимо, были добыты на прежних охотах. Мальчик видел, как мы обдирали шкурки с убитых животных, чистили их раковинами и обрабатывали солью, в изобилии имеющейся на берегу моря, и сделал то же самое собственноручно, причем не хуже нас.
Да уж, сметливости ему не занимать! В восемь лет он уже был знаком с работой наших фабрик, понимал цель и назначение каждого оборудования и приспособления, пригодность любого орудия или материала. Я взял на себя обязанность обучать его — к книжкам он не питал особой охоты. Он интересовался всем, что имеет практическую ценность, иные же вещи мало его интересовали. Я пытался научить его земной географии, истории земных народов, ознакомить с доступными его пониманию произведениями великих земных писателей, но быстро обнаружил, что это совершенно не занимает мальчика, столь любознательного в иных обстоятельствах. Я не прекращал обучения, надеясь, что мне удастся пробудить в нем вкус к истории и эстетике, и оставил свои попытки только после того, как он напрямик спросил меня во время одного из таких занятий:
— Дядя, зачем ты рассказываешь мне все это?
Я не знал, что ему ответить, потому что действительно — зачем?
А он спросил снова:
— Ведь все то, о чем ты рассказываешь, находится на Земле, которую я один раз видел во время прогулки с тобой и откуда ты, дядя, как говоришь, прибыл сюда — правда?
— Да, это все на Земле, — откуда я прибыл и откуда вообще пришли сюда люди.
Мальчик посмотрел на меня, как бы сомневаясь, говорить ли то, о чем он думает, но потом все-таки сказал озабоченно:
— Но я не знаю, дядя, правда ли все это…
Меня очень задела эта фраза, такая, впрочем, естественная в устах ребенка, которому я рассказываю о вещах, происходящих на далекой и всего лишь один раз виденной им планете.
— Разве ты когда-нибудь слышал, что я говорю неправду?
— Нет, нет, никогда! — живо возразил он, но после этого тихо добавил: — Но теперь я не уверен, что ты говоришь правду…
Я вынул из кармана часы.
— Знаешь, что это такое? Часы… Ты думаешь, что я, или Петр, или твоя мать могут сделать такую машинку? Ты также видишь книги, которых мы не печатаем, астрономические приборы, изготовленные не нами. Откуда же все это взялось тут, если бы мы не привезли этого с собой с Земли? А если мы прибыли сюда с Земли, то должны ведь знать, что там есть и как все происходит.
Мальчик задумался.
— Да, мне кажется, что ты говоришь правду, дядя, но… зачем же вы сюда прибыли, на Луну, если вам было хорошо на Земле, как ты рассказываешь?..
— Зачем прибыли? Да… Видишь ли, мы хотели знать, как тут, на Луне.
— А правда, что я никогда не попаду на Землю?
— Нет, никогда не попадешь.
— Тогда знаешь что, дядя, ты лучше научи меня делать такие часы и увеличительные стекла, а не говори мне о том, кто плавал из какой-то там Европы в Америку или что там делал Александр Великий или другой, Наполеон…
В душе я вынужден был признать его правоту.
Он никогда не был там и никогда не будет, зачем ему знать о том, что меня интересует только потому, что я родом с Земли? Эти сведения ему ни на что не пригодятся, а если он или его потомство захотят когда-либо узнать что-то о Земле, о которой, возможно, будут ходить только неясные слухи, что она является матерью человеческого племени и что ее можно увидеть на небе на границе мертвой пустыни, то он сможет прочесть те книги, которые мы привезли с собой. Эти книги для будущих жителей Луны, возможно, будут тем же, чем для земных жителей являются наифантастичнейшие сказки «Тысячи и одной ночи».
Поэтому я решил обучать Тома только тому, что имеет прикладное значение для будущей жизни на Луне. К этому он проявлял необычайный интерес.
Он запоминал множество сведений, если только считал, что они могут быть ему полезными. Так, например, сначала астрономия его мало занимала, но он с жаром принялся за нее, когда я продемонстрировал ему практическую пользу, какую можно извлечь из измерений высоты звезд.
Я уверен, если бы мы не привезли сюда книг, которые останутся и после нас, для будущих поколений исчезли бы даже крупицы человеческой мысли, привезенные сюда с Земли, потому что при посредничестве несомненно способного, но удивительно трезвомыслящего Тома, их сохранить не удалось бы. Однако я все время думаю о будущем поколении… Хотелось, чтобы это не были темные люди. Они должны знать о силе человеческого духа, которая творит великие и прекрасные дела и которая является самым сильным оружием человека в его жизненной борьбе с окружающей природой; пусть они научатся ценить силу этого духа и пользоваться ей…
Мне необходимо рассказать обо всем этом Тому, хотя он не всегда хочет слушать, необходимо, потому что у меня может не хватить времени. Когда я умру, и умрем все мы, земляне, учителем и пророком лунного народа останется он, отец его — да еще те старые книги, перенесенные в этот мир вместе с людьми с далекой планеты.
Когда я сказал мальчику, что он должен быть внимательным и изучать все, а не только то, что ему нравится, потому что в будущем он будет воспитателем нового поколения, он посмотрел на меня удивленными глазами и спросил:
— А ты, дядя, что ты тогда будешь делать? Ведь ты все умеешь…
— Я тогда уже умру.
— Кто же тебя убьет?
Том не понимал, что есть другая смерть, естественная. Он видел убитых животных, и сам их убивал, но не видел еще умирающего живого существа. Тогда я стал объяснять ему неотвратимость смерти. Он внимательно выслушал меня, а потом неожиданно перебил, воскликнув:
— Так и Петр умрет?!
— Умрет, сынок, как и я, и твоя мама, и, наконец, ты сам…
Том покачал головой:
— Я не умру, потому что… потому что, какая мне от этого польза?
Я невольно рассмеялся этому детскому заблуждению и снова пояснил ему, что смерть не зависит от воли людей, но мальчик слушал рассеянно и, видимо, думал о чем-то другом. Наконец он сказал приглушенным голосом:
— Дядя, когда Петр умрет, пусть он умрет раньше, чем ты, первым из нас всех, пусть умрет поскорее. Ведь он никому не нужен Тогда ты остался бы один с нами и с мамой, и нам было бы так хорошо…
Я поругал мальчика за эти слова, сказав, что никому нельзя желать смерти, тем более Петру, который является отцом его сестричек, Лили, Розы и Ады. Том мрачно посмотрел на меня и вздохнул, а потом сказал с упреком:
— Почему же не ты, дядя, отец моих сестричек? Мне ты нравишься больше, чем Петр, и маме тоже… Петр никому не нужен.
Я почувствовал, как в душе моей что-то колыхнулось, и одновременно меня охватил страх. Ведь эта мысль в последнее время все чаще приходила мне самому в голову.
Не могу себя винить: я сдержал принятое на себя обязательство и выдержал свое добровольное, но несколько смешное положение благородного воспитателя чужих детей, но что я пережил, что вытерпел — об этом сегодня лучше не вспоминать?
Ведь эта женщина, единственная в этом мире, и такая дорогая для меня, постоянно находилась рядом со мной, я видел, что она несчастна. И иногда тешил себя иллюзией, что со мной она могла бы быть счастливее. Были такие дни, когда, глядя на Петра, я сжимал рукоятку револьвера в кармане, и такие, когда дуло его я вставлял себе в рот, держа палец на спуске, думая, что больше не выдержу, не смогу…
Но смог и выдержал. Выдержал, хотя кровь застилала мне глаза, и спазмы перехватывали горло, выдержал, хотя невозможно даже вообразить такого искушения, которое не оставляло бы тебя ни днем, ни ночью.
В тот памятный день, когда мы собирались тянуть жребий, я, отказавшись от борьбы за нее, думал, что успокоюсь и забуду все со временем, но напрасно проходили года, напрасно я блуждал вдали от нее по лунным просторам, напрасно посвящал себя воспитанию Тома и мыслям о будущем поколении: она и сейчас так же дорога мне, как там, в Полярной Стране, когда после долгой, благодаря ей благополучно закончившейся болезни я вместе с ней ходил по душистым лугам, разговаривая о пустяках, имевших для меня такое значение!
Я все еще так же крепок и силен, как раньше, но душа у меня стареет, я сам чувствую это; тоска по Земле рассеивает мои мысли, и меня все больше и больше охватывает печаль: я не только смотрю на все сквозь слезы, но и думаю обо всем сквозь слезы. Только моя любовь не хочет стареть и слабеть с годами, мне даже кажется, что она усиливается вместе с томящей меня тоской. Я знаю, что я смешон, но даже смеяться над собой не могу.
Хотя иногда пытаюсь это сделать. Я внушаю себе, что люблю Марту только потому, что она единственная женщина на Луне и не принадлежит мне; и что мои якобы возвышенные чувства на самом деле всего лишь животное влечение и тому подобное, но в сотый раз сказав себе все это, я невольно продолжаю искать ее глазами и чувствую, что охотно дал бы себя распять на кресте, если бы мог вызвать этим радостную улыбку на ее губах.
Марта принадлежит Петру. Я согласился на это, и эта мысль — единственное, что удерживает меня от шагов, которые я мог бы предпринять. Я так стремился исчезнуть с ее глаз, чтобы даже от себя самого отогнать подозрение, что хочу ей понравиться. Впрочем, и она не искала моего общества, я даже заметил, что мое присутствие приводит ее в замешательство. Но все изменилось после рождения младшей девочки, когда произошел полный разрыв между Мартой и Петром.
Через два лунных дня после появления на свет этого ребенка перед заходом солнца мы сидели вместе, что случалось довольно редко, и молча смотрели на раскинувшееся море. Заходящее Солнце позолотило его поверхность, чуть колышущуюся от ветра и начинающую уже фосфоресцировать в тени. Снег на вершине Отамора был почти кровавым от солнца; черные клубы дыма, окутавшие кратер, тоже отливали темно-красным отблеском.
Молчание прервала Марта. Не меняя позы, не отрывая глаз от моря, она начала разговаривать с нами, с виду спокойно, как обычно, хотя я заметил, что голос ее дрогнул.
— Я совершила большое преступление, — начала она, — потому что не сохранила верности моему умершему мужу, и охотно буду гореть за это в адских печах… Но вы знаете, что я сделала это только ради моего сына, в котором сам он живет для меня. Я никогда этого не скрывала. О чем вы думали и какие имели намерения — это меня не интересует, но я хотела, чтобы у Тома были сестры и брат… Брата у него, правда, не будет, но зато есть три сестры, и я считаю, что я выполнила свою повинность… Тяжелую повинность, ты знаешь об этом, Петр. Мне жаль тебя, ты ошибался, думая, что можешь стать для меня чем-то большим… Это не моя вина… Но теперь все кончено. Я возвращаю себе свободу. Не спрашиваю у вас… у тебя, Петр, захочешь ли ты мне ее дать: я ее беру сама. Больше я не буду твоей женой…
Она глубоко вздохнула и замолчала.
Мы были тоже ошеломлены ее словами, что некоторое время сидели в молчании, не в состоянии найти ответ. Впрочем, какой ей можно было дать ответ? Она его и не ждала…
«Я беру себе свободу… Больше не буду твоей женой…»
Странное впечатление произвели на меня эти слова. Они звучали у меня в ушах как девиз новой жизни, как обещание чего-то, о чем я даже не смел мечтать… нет! нет! я уже могу сказать, что со мной происходило! Мне показалось, что эти слова стирают и уничтожают все то печальное, что было в нашей жизни!
Я посмотрел на Марту.
Она сидела неподвижная и тихая, устремив взгляд в море, — и только под застывшей, грустной улыбкой губы ее иногда вздрагивали, как будто она собиралась заплакать.
«Я беру себе свободу…»
Эти слова прозвучали из ее уст.
Но ее глаза и улыбка говорили, что она берет ее себе не как крылья для свободного полета, а как саван, что эта свобода не является для нее светом наступающего дня, а всего лишь сумерками, которые наступают в вечернее время…
На ресницах у нее заблестели слезы, и сквозь них она упрямо смотрела вдаль, на позолоченное Солнцем лунное море.
Сердце у меня сжалось, и я понял, что от прошлого можно отвернуться, но стереть его нельзя.
Тем временем Петр сухо сказал:
— Мне это все равно.
И спросил:
— И что ты теперь собираешься делать?
Марта вздрогнула:
— Ничего… Еще немного жить ради Тома… ради детей… А потом…
— Ради детей! — как эхо повторил Петр.
К берегу как раз бежали обе девочки, смеющиеся, разрумянившиеся, с фартучками, полными собранных камешков, раковин и янтаря. Они громко звали Тома, который неподалеку что-то строил. Петр медленно проследил за ними взглядом.
— Ради детей… — повторил он еще раз и опустил голову на ладони.
Я помню эти минуты так, как будто это случилось сегодня. Солнце уже коснулось горизонта, и мир из золотого стал превращаться в пурпурный. Легкий порыв ветра со стороны моря вместе с резким запахом водорослей принес нам серебристые голоса детей.
Внезапно Марта встала и повернулась к Петру.
— Прости меня, Петр, — сказала она низким и теплым голосом, какого я давно уже не слышал от нее, — прости, я, наверное… была несправедлива… прости, но ты знаешь… видишь, что я не могла… не могу… Мне очень жаль, что из-за меня… у тебя была такая жизнь…
Она протянула ему руки.
Петр тоже встал, посмотрел на нее, потом на протянутые руки, снова на ее лицо и неожиданно разразился страшным судорожным смехом.
— Ха, ха, ха! Это хорошо, вот так, единственным словом, за столько лет? Ха, ха, ха! Ты хочешь свободу? Хорошая мысль! Может быть, ты хочешь снова сделать выбор? Ха, ха, ха! «Петр, прости! Я больше не буду твоей женой!»
Он хохотал, как сумасшедший, и выкрикивал какие-то бессмысленные слова. Потом вдруг остановился, отвернулся и ушел в дом.
Марта немного постояла в замешательстве, но потом ее нервы не выдержали, и она разрыдалась в первый раз с того дня, когда стала женой Петра.
Я молча отошел, еще больше подавленный, чем обычно.
Всю долгую ночь мы провели в молчании. На другой день внешне все вернулось на круги своя. С утра мы принялись за обычные дневные занятия, разговаривали, как обычно, не вспоминая о «разводе», который произошел накануне. Отношения между Мартой и Петром были такими, что разрыв все ощутили скорее как облегчение. Особенно заметно это проявлялось в поведении Марты. Не скажу, что она стала веселее, но, по крайней мере, в ней не чувствовалось прежней подавленности, она разговаривала с нами свободнее, даже по отношению к Петру была доброжелательнее, чем обычно, хотя он так жестоко высмеял ее душевный порыв, с которым она обратилась к нему.
А что происходило с ним? Это, видимо, навсегда останется для меня загадкой.
Внешне он воспринял все довольно безразлично, и неожиданный взрыв, который Марта вызвала у него накануне вечером, был единственным проявлением его скрытых чувств. Сколько же горя, печали, унижения должно было скопиться в душе этого человека! И сколько ему потребовалось силы воли, чтобы все это приглушать и таить в себе! Ведь, несмотря ни на что, он любил ее — и любит до сих пор, в этом у меня нет никаких сомнений.
В первый день после их разрыва около полудня он подошел ко мне, когда я только что вернулся с прогулки по морю и привязывал лодку на берегу Он неспокойно ходил вокруг, как будто хотел мне что-то сказать, но не знал, как начать. Потом, как бы приняв какое-то решение, схватил меня за руку и сказал, взглянув мне в глаза:
— Ты помнишь обещание, которое дал, когда Марта досталась мне?..
Я недоуменно смотрел на него, не понимая, к чему он ведет. Он продолжил:
— Ты поклялся мне тогда, что никогда не будешь стараться завоевать Марту для себя! Никогда! Помнишь?
Я молча кивнул головой.
Петр горько усмехнулся.
— Впрочем, как хочешь… Это смешно. Как хочешь. Только сначала… пусти мне пулю в лоб.
Последние слова он сказал глухо, но с такой болезненной страстью, что я содрогнулся. Я хотел ответить ему, успокоить его, но он, не ожидая ответа, повернулся и отошел.
С того времени для меня начались страшная внутренняя борьба и мучения. Марта, в сущности, уже не принадлежала теперь никому, однако я чувствовал, что протянуть к ней руки — было бы двойным преступлением: по отношению к ней, жаждущей только покоя и живущей воспоминаниями о давно умершем любовнике и заботой о его сне, и по отношению к Петру, такому подавленному и несчастному, что любой вред, причиненный ему, был бы не только преступлением — подлостью. А ведь бывали обстоятельства, когда я колебался и вынужден был напрягать всю силу воли, чтобы не пустить ему пулю в лоб, как он просил, и не начать с Мартой новую жизнь. Такие искушения возникали у меня тогда, когда я замечал растущую привязанность Марты ко мне. Она часто улыбалась мне и, как прежде, называла меня своим другом, а в моей голове кружились мысли, что если бы не Петр, мы могли бы быть счастливы — оба. К счастью, вскоре наступало отрезвление.
«Ведь Марта, — думал я, — привязана ко мне только потому, что я никогда не становился между ней и воспоминаниями об умершем, единственном человеке, которого она любила, потому что я никогда не оскорблял ее святого чувства, не касался ее тела и не требовал ее души, которую она навсегда отдала тому, кто лежит теперь в песках Моря Фригорис. А если бы я пожелал чего-то большего…»
Страшный, безумный круг!
И все же однажды я был близок к совершению этого безумства…
В тот день мы отправились в поход на вершину кратера Отамора. Девочки остались дома под опекой Тома, которому полностью можно было доверять. Подобравшись со стороны моря сквозь заросли и пройдя через леса растительности, мы оказались на равнине, поросшей мхом. Здесь мы были уже не раз, однако нам хотелось подняться выше, на саму вершину, если это будет возможно, и полюбоваться прекрасным видом, который должен открываться с этой самой высокой в окрестностях горы.
Путь наш был нелегким, потому что нужно было подниматься в гору по глубокому желобу, проложенному среди скал застывшей и выветрившейся теперь лавой и заваленному почти до краев снегом в его верхней части. Здесь, на Луне, разумеется, было легче пройти такой путь, потому что тело человека весит в шесть раз меньше, но все же это был немалый труд.
Через несколько часов упорного труда мы оказались уже почти на самой вершине кратера. Выше — снег уже таял от горячего дыма, постоянно поднимающегося из гигантской воронки, края которой торчали теперь над нами, похожие на горную цепь, а вода, стекая, замерзала и покрывала скалы тонкой коркой льда, на которой невозможно было удержаться.
Убедившись в невозможности дальнейшего подъема, мы уселись на снегу, собираясь отдохнуть и осмотреть окрестности.
Вид действительно был великолепным. Прямо под нами, сразу же за темной массой лесов, расстилалось море, уходящее в безбрежную даль, играющее всеми цветами радуги, усеянное островами, похожими на маленькие черные точки на сверкающем пространстве. Налево, к востоку, чернели вершины горной страны, среди которых тут и там блестели голубизной затоки, проникшие в глубь материка. Направо, за гейзерами, о присутствии которых говорило только облачко белесого тумана, простиралась широкая равнина с извилистой рекой, за которой, вдалеке, как жемчуг, нанизанный на нитку, сверкали озера, окруженные зеленью лугов.
Мы сидели достаточно долго, зачарованные величественной картиной, когда вдруг нас насторожил глухой подземный гул. Дымы, поднимающиеся над кратером, почернели и сгустились в огромный клубок, из которого вскоре стал сыпаться на нас мелкий пепел. Следовало как можно скорее возвращаться, так как, видимо, приближалось извержение. Однако нам не удалось уйти вовремя. Мы находились едва ли на половине желоба, заканчивающегося в лугах над лесами, когда вдруг, при усиливающемся рокоте, скалы задрожали, со всех сторон посыпались камни, а черная туча дыма окрасилась кровавым светом.
Не было времени на размышление. В страшной спешке мы спрятались в ближайшей расщелине, с нетерпением ожидая минуты, когда снова сможем продолжить спуск.
Небо над нами, покрытое густыми клубами дыма, было похоже на преисподнюю, а глухой рокот не прекращался ни на минуту.
Воздух, насыщенный парами серы с пеплом, душил нас. Сверху начинали валиться огромные горячие куски шлака, покрывающие грязный снег вокруг множеством черных пятен. Нам пришлось выбираться из желоба, по которому теперь хлынула вода из растаявшего снега, смешанная с пеплом и землей.
Извержение было достаточно сильным, а сотрясения грунта, которые мы ощущали, распространялись широко, до самого подножия, потому что в просветах дыма при порывах ветра мы видели внизу бурлящее и вспенившееся море.
Спрятавшись за острой скалой, торчащей в том месте, где желоб как бы раздваивался, отгороженные от горы большими камнями, мы провели несколько часов, не зная, сможем ли уйти отсюда живыми и невредимыми. Марта страшно беспокоилась о детях. Том, правда, был знаком с землетрясением, достаточно частым и не очень опасным в этих местах, и можно было рассчитывать на его рассудительность и практичность, но Марту, а также и меня, точила мысль, что в случае нашей смерти дети, оставленные на произвол судьбы, будут обречены на гибель. Петр был спокоен и равнодушен или, по крайней мере, производил такое впечатление.
Наконец стало чуть потише. Сильный ветер, который налетел с моря, немного освежил воздух и разогнал медленно редеющий дым. Дождь из сажи и пепла тоже перестал падать. Мы вдохнули свободнее и уже собрались домой, когда нас вдруг насторожил какой-то странный и сильный шум внизу. Петр первым выскочил из укрытия, чтобы посмотреть, что это, но едва он поднялся на выступающий камень, как мы услышали крик ужаса: с горы лился по желобу поток лавы! Я видел, что Петр хотел вернуться к нам, но в ту же минуту завыл ураган, предшествующий потоку жидкого огня, и смел его с наших глаз, так что мы даже не знали, что с ним произошло.
Невероятная жара и удушье хлынули к нам: оба желоба заполнились жидкой огненно-красной массой, льющейся вниз каскадами огня и камней. Нельзя было терять ни минуты. Если бы извержение усилилось, лава могла отрезать нам возвращение, заполнив все углубления на склоне, или, что гораздо хуже, разрушить и унести наш маленький каменный остров. Поэтому, уже не думая о Петре, которого мы сочли погибшим, я схватил на руки Марту, онемевшую от ужаса, и стал как можно быстрее спускаться вниз, держась выщербленного хребта, торчащего между желобами.
Об этом спуске мне и сегодня страшно вспомнить! Скалы, о которые разбивалась огненная волна, дрожали у меня под ногами, жуткая жара туманила голову. Марта потеряла сознание и бессильно обвисла в моих объятиях, что значительно затрудняло наше передвижение. А ведь мне еще приходилось следить за тем, чтобы не подскользнуться, потому что любой неверный шаг означал смерть.
Каким чудом, наполовину задохнувшийся от жары, ослепший от горячего дыма и сверкания лавы, оглушенный невероятным шумом, избитый камнями, сыпавшимися с горы, я оказался вместе с Мартой на равнине, откуда мы отправились в путь несколько часов назад, я сегодня уже не смогу объяснить.
Однако мы были спасены. Лава сплывала в стороне по лесам, среди которых выжгла широкую свободную полосу.
Прежде всего я взялся приводить Марту в чувство Когда она открыла глаза и убедилась, что нам уже не грозит опасность, она сразу стала допытываться о Томе. Я успокоил ее, сказав, что Том находится дома, и мы, несомненно, застанем его в добром здравии прежде, чем наступит полдень. Тогда она протянула ко мне обе руки и снова начала повторять, как тогда в Полярной Стране, когда я нашел их после наводнения:
— Друг мой, друг мой…
В ее голосе было что-то такое ласковое и нежное, что дрожь пробежала по моему телу и спазм перехватил горло. Я склонился к ее лицу, но глаза мои выдали мое душевное состояние Тогда Марта обеими руками взяла мою голову и положила ее себе на грудь, говоря:
— Только тебе я обязана своей жизнью, даже больше, жизнью Тома, которому мы все еще необходимы. Ты так добр.
Грудь ее была приоткрыта, так как, приводя ее в чувство, я разорвал платье у шеи. Я прижался лбом к этой нежной груди и одновременно почувствовал слезы, капающие на мои волосы из ее глаз.
Кровь запылала у меня в жилах. Со мной была эта женщина, такая прекрасная и такая любимая; мне стоило только протянуть руку, обнять ее, покрыть поцелуями, задушить в объятиях. Кровь застучала у меня в висках, я ощущал теплоту и мягкость ее тела, его аромат одурманивал меня, сводил с ума… Ведь мы теперь, — сверкнуло у меня в голове, — единственные люди на этой планете, потому что Петр, вероятно, лежит где-то мертвым среди камней… Впрочем, какое мне дело до Петра, какое мне дело до всего на свете, когда она… Невероятное счастье спокойной теплой волной залило все мое существо. И все же…
— Нет!
Я собрал все свои силы и отскочил от нее.
Петр где-то там лежит в эти минуты, окровавленный, полумертвый и ждет помощи, а я…
Марта взглянула на меня и — поняла.
— Ты прав, — сказала она, как бы отвечая на мои слова, хотя я ничего не сказал ей, — ты прав, пойди и поищи Петра.
Потом встала и сжала мою руку.
— Спасибо тебе, — прошептала она.
Петра я действительно нашел неподалеку от того места, откуда его сбросил ветер. Он лежал, зацепившись об острую скалу, которая спасла его от падения в огненную лаву, в бессознательном состоянии и со слабыми признаками жизни.
Я отнес его домой, и совместными усилиями мы с Мартой вернули его к жизни.
Столько времени уже прошло с того часа, а я, вспоминая мину ту слабости, еще больше стараюсь, чтобы моя воля всегда одерживала верх над всем остальным.
А Петр?.. Он по-прежнему сидит на пороге дома, мрачный и молчаливый и — не знаю — может быть, иногда жалеет, что не погиб тогда на склонах Отамора.
Со мной, по-видимому, уже все кончено. Вскоре и дети эти не будут во мне нуждаться. Я начал строить себе могилу на Кладбищенском Острове.
VI
Через шесть дней.
Я смотрю на последние слова, написанные несколько лунных суток назад, и глаза у меня застилает — не слезами, нет, они уже давно высохли, а каким-то горячим песком, и снова охватывает меня ужас и отчаяние. Не для себя приготовил я могилу на Кладбищенском Острове.
Почему… почему?
Вечный, глупый и такой горький вопрос — и ответа на него нет!
Я остался один.
Один с четырьмя детьми, рожденными здесь, которые мне совсем чужие. Я последний человек на Луне из тех, которые прибыли сюда с Земли. Те двое, Марта и Петр, ушли вслед за О’Тамором, Реможнерами, Вудбеллом. А я жив.
Это именно та судьба, которой я больше всего опасался — и меньше всего ждал…
Подумать только, как быстро все произошло! Шесть лунных дней, земные полгода! Кто бы мог этого ожидать! А ведь уже в третий раз взошло ленивое солнце над тем местом, где я похоронил умерших. Я одинок, так жутко одинок, что начинаю вскакивать в темноте по ночам, а днем пугаться шелеста и теней, которые бросают мне под ноги колышущиеся от порыва ветра чудо-растения.
Да, я одинок. Потому что эти дети — они чужие мне. Это существа с другой планеты, в полном смысле этого слова.
Что бы я ни отдал за то, чтобы хоть на короткое время вернуть Марту или Петра!
Когда Марта заболела, я даже не предполагал, что все так страшно окончится.
Я, правда, давно видел, что организм ее ослаб от всего, что ей пришлось перенести, и от постоянно терзающей ее печали, но подобная мысль была далека от меня, так далека!
В последний день Марта была уже нездорова. Еще более тихая и задумчивая, чем обычно, она проводила все время с детьми на берегу моря. Играла с Томом и даже ласкала девочек, весьма удивленных столь редким у нее проявлением материнской любви. Около полудня, когда я пришел на берег сказать, что пора уже возвращаться в дом на сваях, так как скоро начнется буря, она улыбнулась мне и несколько раз повторила:
— Пора возвращаться, пора возвращаться…
Все эти мелочи так живо стоят у меня перед глазами, и теперь, когда я пишу эти строки, я вижу каждое ее движение, слышу ее голос — и мне не хочется думать о том, что ее больше нет, что я никогда ее больше не увижу…
По дороге домой она взяла самую младшую, Аду, на руки и стала допытываться у нее, любит ли она Тома. Малышка отрицательно качала головкой.
— Нет. Не люблю.
Марта погрустнела.
— Почему не любишь? Почему, Адочка?
— Потому что Том злой. Он хочет, чтобы я его слушалась.
— Это нехорошо, — говорила мать, — нужно слушаться Тома и любить его, потому что ты принадлежишь ему…
— Нет. Я не его. У него есть Лили и Роза. А я сама своя.
Я громко рассмеялся, услышав ответ ребенка, но у Марты в глазах заблестели слезы.
— Нельзя быть своей, это нехорошо, — прошептала она скорей для себя. И все же ласково поцеловала девочку.
После полудня она долго разговаривала с Томом. Позвав его к себе, она долго рассказывала ему об отце, в тысячный раз повторяя разные мелочи, которые складывались в какую-то удивительную сказку или гимн в честь умершего любимого. Томаш был мужественным и благородным человеком, но в воспоминаниях Марты его образ представал каким-то божеством, воплощением всего значительного, доброго и прекрасного.
Она также напоминала Тому, чтобы он был добрым с сестрами Меня это очень удивило, так как подобные наставления редко звучали из ее уст.
К вечеру Марта стала жаловаться на общую слабость, головокружение, боли в костях. Обычно все недомогания она переносила молча, так что мы только по ее лицу могли догадываться о том, что с ней что-то не в порядке — она не искала у нас ни помощи, ни сочувствия. Даже когда мы допытывались у нее об этом, видя, как плохо она выглядит, Марта только качала головой и говорила с усмешкой: «Ничего со мной не произошло…» или: «Пройдет, не умру, я еще нужна Тому».
Поэтому меня еще сильнее обеспокоили ее жалобы этим вечером. Я внимательно посмотрел на нее и только теперь заметил при свете догорающего дня, что у нее на щеках лихорадочный румянец, а глаза запали и окружены темными кругами. Они не утратили своего прежнего блеска, ни пролитые слезы, ни снедающая ее тоска не смогли их погасить, но теперь в них горел какой-то нездоровый огонь, непохожий на обычное, присущее им сияние.
Когда солнце зашло, Марта, которая легла больше от слабости, нежели из желания поспать, начала беспокоиться и подниматься Было заметно, что у нее жар. Она то звала детей, которые уже спали, то чуть слышным шепотом оправдывалась перед Томашем, видимо, стоящим у нее перед глазами, за свою жизнь и за то, что произвела на свет этих бедных девочек, и даже за свою любовь к ним, которую ей не удалось полностью побороть в себе. Мне кажется, она была убеждена в том, что ее материнская любовь должна принадлежать исключительно сыну, а каждое ее проявление по отношению к девочкам — оскорбление, нанесенное ему и памяти умершего.
Через некоторое время она немного успокоилась. Мы сидели с Петром у ее кровати, подавленные и обеспокоенные в высшей степени, тем более что, лишенные всяких лекарственных средств, чувствовали себя бессильными перед болезнью. Марта долго смотрела на нас широко открытыми глазами, а потом вдруг спросила, зашло ли Солнце? Я ответил ей, что уже наступила долгая ночь.
— Да, правда! — значительно сознательнее сказала она. — Ведь снаружи темнота, а здесь горят светильники… Я сразу не заметила. А там, на Море Фригорис, что теперь там?
— Там теперь день. Солнце недавно взошло над ним.
— Да, Солнце взошло… И светит теперь над могилой Томаша, правда? И это же самое Солнце оттуда придет утром к нам?
Я молча кивнул головой.
— То же самое Солнце… — снова сказала больная. — И подумать только, каждый день в течение этого времени Солнце смотрело на его могилу, а потом на меня, живую, и снова возвращалось к могиле рассказать ему, что оно здесь видело!
Она закрыла лицо руками и содрогнулась всем телом.
— Это ужасно! — повторяла она.
Петр помрачнел и опустил голову. Мне показалось, что на его пожелтевшем и увядшем лице я заметил кровавый румянец. Это же, видимо, заметила и Марта, потому что обратилась к нему:
— Я не хотела обидеть тебя, Петр… сейчас… Впрочем, ты не виноват. Ты не смог бы заставить меня стать твоей женой, если бы я сама не хотела этого… ради Тома…
Она замолчала, тяжело дыша. И через минуту заговорила снова:
— Я хотела бы дождаться утра. Так страшно блуждать в темноте и искать дорогу туда, в пустыню. Когда здесь наступит день, над Морем Морозов будет светить Земля. Я предпочитаю при ее свете встать над могилой, потому что не знаю, посмею ли взглянуть на нее при свете Солнца…
— Марта, что ты говоришь! — невольно воскликнул я.
Она посмотрела на меня и кротко ответила:
— Я умру.
Около полуночи я и правда стал опасаться, что она умрет. Ее терзала какая-то болезнь, которую я не мог понять. Мы видели только необычайный упадок сил, который, соединясь с постоянно возвращающейся лихорадкой, не сулил ничего хорошего.
Впрочем, какое значение имеют все медицинские названия! Я знал, что это за болезнь!
Петр почти не отходил от ее постели. Глядя на его мрачное лицо, я, несмотря на беспокойство за состояние Марты, невольно задумывался, какие чувства скрываются под этой маской? К сожалению, мне пришлось узнать это слишком скоро!
Под утро Марта была очень беспокойной, и только первые лучи света принесли ей успокоение.
— Я еще увижу Солнце! — сказала она и попыталась улыбнуться побледневшими губами.
Теперь я один сидел около нее, потому что Петр, уставший от долгой бессонницы, поддался наконец моим уговорам и лег спать в соседней комнате. Утренний свет пробивался через окно из толстого, изготовленного на Луне стекла, а свет ламп становился все более тусклым. Снег, как обычно, лежал на полях, и когда ветер развеивал пар, поднимающийся от источников, через окно виднелась огромная и сверкающая равнина.
В этом резком и холодном, отражающемся в снегу блеске нарождающегося дня, соперничающем с тусклым светом ламп, я смотрел на Марту и уже не сомневался, что вскоре она навсегда покинет нас. За эту двухнедельную ночь она неузнаваемо изменилась. Лицо ее вытянулось и побледнело, губы, когда-то такие полные, пурпурные, окрасились в бледный цвет смерти. Из-под при спущенных век тускло смотрели глаза.
Я уперся лбом в край кровати и кусал пальцы, чтобы не разразиться страшным рыданием, разрывающим мне грудь.
Тем временем за окном становилось все светлее. Клубы пара, недавно еще серые, проплывали теперь под окнами, подгоняемые ветром, как легкие, снежно-белые призраки. Иногда в промежутках между ними проглядывали белые поля, окутанные паром столбы гейзеров, а вдалеке над ними на фоне светло-голубого неба — вершина Отамора, уже порозовевшая от первых лучей Солнца.
Марта спросила о детях, но, услышав, что они еще спят, не велела их будить.
— Пусть спят, — прошептала она, — я еще увижу их… прежде чем Солнце взойдет. Хорошо, что сейчас здесь так тихо.
Потом она повернулась ко мне.
— Ты всегда будешь заботиться о них, правда?
— Буду, — ответил я ей сдавленным голосом.
— И никогда их не бросишь?
— Нет.
— Ты клянешься мне в этом?
— Да. Клянусь.
Она протянула ко мне руки:
— Ты такой добрый, мой друг, — прошептала она. — Я умру спокойно, зная, что ты о них не забудешь.
Я схватил ее руку и страстно прижал к губам. Ее пальцы чуть дрогнули, как будто хотели сжать мою ладонь. Они уже были такими холодными, что даже мои горячие губы не могли их согреть.
— Еще я хотела тебе сказать, — начала она через минуту, — перед смертью, что ты был мне… дорог. Я упрекала себя в этом гораздо больше, чем в том, что стала женой Петра… Может быть, если бы я стала твоей женой, а не его, жизнь на Луне была бы сейчас иной, может быть, я прожила бы гораздо дольше…
Она говорила все это тихим, угасающим голосом, а во мне разразилась буря. Я разрыдался, как маленький ребенок, и без памяти покрывал поцелуями ее руку, а из груди моей вырывались так долго скрываемые от нее слова любви…
Она чуть приподнялась и положила другую руку мне на голову.
— Тише, — говорила она, — тише… Я знаю… Не плачь… Так, как случилось, лучше… Ты был мне дорог за твое благородство, за твою любовь к Тому, впрочем, я сама не знаю, за что… но несмотря на это, я, может быть, не была бы доброй к тебе, если бы ты стал между мной и тем, умершим, который единственный имел право на меня. Тише, не плачь. Теперь ты все знаешь. Я думаю, что Том простит меня за это чувство и за то, что я перед смертью призналась тебе… Я была так несчастна.
Марта замолчала, утомленная, а я, спрятав лицо у нее на груди, весь содрогался от сдерживаемых рыданий.
Но через минуту она начала снова:
— Пусть уж будет так… я признаюсь тебе во всем. И так я в последний раз с тобой разговариваю… В тот полдень…
Она замолчала, как будто внезапный стыд, не смягченный даже близостью смерти, мешал ей говорить, но я знал, какой полдень она имеет в виду!
Она помолчала немного, чуть шевеля губами, но потом, неожиданно вспыхнув, поднесла руки к вискам и крикнула:
— Почему ты не убил Петра?!
В эту минуту за моей спиной раздался сдавленный стон. В нем было что-то настолько страшное, что я невольно вскочил и обернулся. В дверях, опершись ладонью о косяк, стоял Петр, бледный, как труп, и смотрел на нас широко открытыми глазами. Он, должно быть, стоял там уже давно и наверняка слышал все, что Марта говорила мне.
Увидев, что я его заметил, он, покачиваясь, сделал несколько шагов вперед и пробормотал что-то невразумительное.
Марта, приглушенно вскрикнув, отвернулась к стене.
— Простите, — заикаясь, произнес Петр, — простите, я невольно… Я не хотел…
В эту минуту в другой комнате послышались голоса и топот ног.
— Дети, — воскликнула Марта и протянула к ним руки.
Но девочки, оробев, остановились у порога, и только Том подбежал к ней. Она взяла его голову руками и прижала к груди.
Петр посмотрел на эту картину и обратился ко мне:
— Ты обещал ей, — он кивнул головой в сторону Марты, — заботиться обо всех детях., обо всех… одинаково!
И прежде чем я успел ответить, удивленный этими странными словами, его уже не было в комнате.
Марта лежала неподвижно, вглядываясь угасающим взглядом в потоки солнечного света, которые превратили стекла в кусочки сверкающего золота и светлым снопом проникли в комнату. Девочки, на цыпочках приблизившись к кровати, с удивлением смотрели на неподвижное и бледное лицо матери.
Мне было душно, во рту я ощущал горечь. Этот наступающий день был для меня безжалостной, болезненной насмешкой, потому что я знал, что с ним ко мне приходит пустота. Минуты проходили в молчании…
Вдруг Том закричал:
— Дядя, дядя! Я боюсь! Мама так страшно смотрит!
Я обернулся: лучи Солнца, упав на подушку, освещали лицо Марты, застывшее и мертвое, вглядывающееся стеклянными глазами в Солнце.
— Ваша мать умерла… — прошептал я каким-то чужим и сдавленным голосом.
Дети испуганно и удивленно столпились у кровати. Я наклонился, чтобы закрыть ей глаза.
В эту минуту послышался звук выстрела. Я бросился к дверям. Петр лежал в соседней комнате на полу, с раной в виске и дымящимся револьвером в руке.
Я закачался на пороге, как пьяный.
Сегодня оба они уже лежат в могиле. Я сам отдал им последние почести, обернул их тела в большие, сотканные из растительных волокон ткани и в собственных объятиях снес в лодку, чтобы перевезти на Кладбищенский Остров. В лодке, кроме меня и мертвых, сидело четверо детей. Трое старших сгрудились около тела матери. Том, потрясенный и испуганный видом смерти, молча сидел у ее ног. Лили и Роза хватали ручонками саван и с плачем звали мать, как будто добиваясь недоданных им материнских ласк, на которые при жизни она скупилась. Тело Петра лежало одиноко. Только младшая девочка подползла к нему и, гладя ручкой окутывавший его грубый саван, тихонько шептала:
— Бедный папочка, бедный…
Нашему грустному путешествию сопутствовала чудесная погода. Солнце, еще невысоко поднявшееся над горизонтом, заливало своими золотыми лучами огромную, спокойную поверхность моря. И никогда в жизни я так живо и так болезненно не ощущал этой безжалостной и страшной иронии, которая есть в красоте природы, безразличной как к радости, так и к горю человека. Ведь я вез на этой лодке два последних человеческих существа из тех которые прибыли вместе со мной на эту планету, вез их мертвы ми, чтобы похоронить в могиле, приготовленной для себя самого, и остаться навеки одиноким, а Солнце светило спокойно, горячо, точно так же, как и тогда, когда я еще ребенком играл в его лучах на той, далекой планете.
Из лодки я вынес их обоих на руках и донес до могилы, которую приготовил на вершине в самом красивом месте острова. Легкими были эти трупы, в шесть раз легче, чем были бы на Земле, и все же я сгибался под их тяжестью… И ничего удивительного! Ведь я нес в могилу остатки моего горького счастья!
Марту я похоронил в могиле, приготовленной для себя. Для Петра вырыл могилу неподалеку.
Я остался жить дальше… Правда, не раз, когда тяжесть невероятной тоски становилась непосильной, я чувствовал искушение, уйти с этой планеты единственной дорогой, которая мне осталась и которой до меня уже ушли отсюда шестеро: О’Тамор, два Реможнера, Вудбелл, Варадоль и Марта, но тогда мне сразу вспоминалась клятва, которую я дал умирающей, что не оставлю ее детей. Ради них я должен жить. Я теперь осужден на жизнь, как, пока она жила на свете, был обречен на любовь. И два этих самых прекрасных понятия на свете стали для меня самой страшной болью и самым тяжелым страданием…
Третья часть рукописи Среди нового поколения
I
В Полярной Стране.
Подрастает уже это поколение, а я все еще живу среди них, гораздо менее необходимый им и все более печальный… И тогда я отправился в Полярную Страну, чтобы смотреть на Землю и жить там в одиночестве.
С момента нашего ИСХОДА с Утраченной Земли прошло уже двести девятнадцать лунных дней и шестьдесят семь — со смерти Марты и Петра.
Удивительно, что я все еще жив…
Я снова живу на Полюсе. Безграничная тоска по моей родине, Земле, все больше охватывает меня. Я даже забыл об этом поколении, порученном мне Мартой в минуту ее смерти. Но они живут там, у моря, и счастливы. Когда я уходил, в них пробуждалось весеннее чувство любви. Слишком упоительно и слишком… больно было мне смотреть на эту весну…
Здесь тишина и одиночество, и воспоминания…
Снова было затмение Солнца, и Земля, черная, как труп, в радужном ореоле, и ливень, и наводнение…
С нашего ИСХОДА прошло двести двадцать шесть лунных дней…
Какое-то беспокойство терзает меня. Что происходит с детьми Марты? Нужно будет снова отправиться туда, к морю, и посмотреть, не нуждаются ли они в моей помощи.
Плохо спал, видел во сне Марту.
Побывал в Стране у Теплых Прудов после семи лунных дней отсутствия… Привело меня туда беспокойство о детях Марты.
Том — муж своих сестер Лили и Розы.
Удивительно, как на Луне мельчают люди! Том уже взрослый, а даже не достает головой до моих плеч. Ада, по-моему, будет еще меньше…
Во время моего пребывания над морем было страшное извержение Отамора, самое сильное из всех, какие помню. Южная сторона кратера обрушилась в море… Это был двести тридцать восьмой день от нашего ИСХОДА — и извержение началось через четырнадцать часов после полудня.
Когда я уходил оттуда, Роза ждала ребенка.
Аду я взял с собой — она была слишком одинока там… Теперь ей, больше чем когда-либо, потребуется моя забота. Страшно, что мне еще нельзя умирать!
Мы вернулись в Полярную Страну в двести пятьдесят первый день с нашего ИСХОДА.
Том старался удержать меня, но я видел, он рад, что я ухожу. Том властолюбив и с неудовольствием наблюдал за моим влиянием на его жен. Он также рад, что я забираю с собой Аду, которую он не любит за то, что она не хочет ему покориться, хотя она еще совсем ребенок.
Проходят дни, бледные и холодные, как свет невидимого на полюсе Солнца — долгая, долгая, бесконечная череда дней…
С трудом мне удается сохранять счет времени; я мало говорю, и Ада при мне молчит. Целыми днями сидит на зеленом мху и водит грустными детскими глазами по окрашенным в розовый цвет вершинам…
А я?..
Я уже сам не знаю…
Я с давних пор перестал жить настоящим, и тем более будущим. Зато я постоянно оглядываюсь назад и неустанно смотрю в лицо моим воспоминаниям. Грустное общество! Я печален там, над морем, и печален здесь, где вижу Землю на краю небосклона.
Много времени прошло с этой последней записи. Ада растет и начинает тосковать по своим родичам, я вижу это по ней, хотя она не хочет в этом признаться.
Я думаю, что пришло время мне вернуться к морю. Я старею, и, если умру в этой уединенной пустыне. Ада будет обречена на гибель. Ради нее я должен вернуться, хотя, видит Бог, как бы я хотел остаться здесь и умереть, глядя на Землю!
Но я и так уже боюсь, что этот ребенок слишком долго живет со мной, молчаливым и печальным отшельником. Это удивительный ребенок — странно только то, что в этом пустынном месте вместо того, чтобы сблизиться, мы стали гораздо более далекими друг от друга. Она смотрит на меня широко открытыми глазами, и я вижу, что она думает о многих вещах, о которых ничего мне не говорит.
Но если честно признаться самому себе — я так долго нахожусь здесь с этой девочкой, а совсем не привязался к ней, меня тяготит ее присутствие, я хотел бы быть один и без помех думать о прошлом… о Земле…
Тем не менее нужно возвращаться… к Тому, к детям Тома, которые будут смотреть на меня с удивлением и испугом, на старого, седого человека, который некогда прилетел с Земли, а теперь долго жил в одиночестве…
Нужно возвращаться… Нам надо возвращаться, Ада…
Мне еще нельзя умирать.
II
Над морем, у Теплых Прудов.
От нашего ИСХОДА прошло четыреста девяносто два лунных дня, или около тридцати восьми земных лет.
Очень давно я не прикасался к этим листам — а сегодня беру в руки перо, чтобы написать о смерти Розы.
Она умерла, страшно сказать, по вине своего мужа и брата, некогда моего любимого воспитанника, Тома, который в гневе ударил ее камнем по голове!
Вторая жена Тома и его старшие дети безмолвно восприняли это, им кажется, что он имеет право убивать всех, кто ему не подчиняется. Одна Ада, всегда держащаяся поодаль от семьи Тома, выступила теперь против убийцы. Без возмущения и крика, только с угрожающим лицом и поднятыми вверх руками, девушка шла к нему, а он испуганно отступал от нее, хотя мог свалить ее одним ударом, потому что был и больше, и сильнее.
Она остановилась в двух шагах от него и, показывая одной рукой на тело убитой женщины, затрясла другой над его головой, крича:
— За кровь твоей жены проклинаю тебя от имени Старого Человека!
(Меня теперь называют здесь Старым Человеком).
Том выругался, мрачно глянул на меня, продолжающего молчать, сказал Аде, пытаясь придать дерзость своему голосу:
— Роза принадлежала мне, и я мог сделать с ней все что угодно… убить или оставить жить. Почему она не была послушной?
Этот страшный случай и это преступление — невольное, ибо я до сих пор не верю, что Том намеренно убил свою жену — внезапно высветили для меня обстоятельства, которым я до сих пор не придавал значения.
Прежде всего я увидел тиранию Тома, и мне показалось, что это моя вина, потому что, воспитывая мальчика, я не сумел сделать его другим. Впрочем, может быть, мне не следовало проводить столько лет в одиночестве в Полярной Стране, предоставив их самим себе..
Еще меня удивила Ада. По ее поведению и по многим другим вещам, на которые я до сих пор не обращал внимания, я вижу ее отношение к брату и его семье. По-моему, они ненавидят друг друга, а кроме того, все они боятся этой девушки, самой младшей из первого поколения здешних людей Она держится поодаль и является для всех чем-то вроде жрицы, если это определение подходит к подобной ситуации Мне жаль Аду, потому что она одинока и, мне кажется, будет всегда одинока в этом мире так же, как и я — тем более мне жаль, что я не смог стать для нее тем, кем, быть может, должен был стать: добрым отцом и другом. Но и в ее отношении ко мне больше какого-то религиозного поклонения, нежели любви. Видимо, в этом есть и моя вина…
И третье, что меня больше всего испугало, потому что непосредственно касается меня: они считают меня… Но нет, может быть, мне просто кажется! Что из того, что Ада проклинала Тома от моего имени? Ведь я здесь самый старший, видимо, только по этой причине… Однако, если это и в самом деле так, неужели и в этом… идолопоклонстве виноват я?
Как странно: они все произносят имя, которым называют меня Старый Человек…
Сегодня мне снова приснился сон, который много лет неизменно преследует меня и служит доказательством того, что я не чувствую себя своим в этом мире..
Мне снилось, что я был на Земле. Но сегодня это был странный сон..
Вокруг меня были люди, с которыми я разговаривал с интересом о делах государств, народов, о достижениях наук Мне рассказывали, что границы некоторых стран изменились с тех пор, как я покинул Землю, что теперь уже другие законы и что многие из прежних верований исчезли Меня живо интересовало все это, и я хотел, после долгого отсутствия, увидеть Землю собственными глазами, чтобы узнать, как она выглядит.
Я отправился в путешествие, шел по известным мне некогда местам и городам. Действительно, изменилось многое Как птица, перелетал я через континенты и удивлялся, что на месте прежних столиц видел развалины, там, где были цветущие луга, — пустыни и пожарища, а там, где раньше были пустыни, встречал воду, возделанные поля и луга, окружающие новые столицы, полные жизни. Иногда я останавливался и заходил в дома людей, спрашивал их о событиях моего времени, но никто мне уже не мог ответить Все только качали головами и говорили «Ничего об этом не знаем» или: «Забыли».
Меня охватил страх и невыразимая тоска, потому что я видел, что эта Земля уже совсем другая, непохожая на ту, которую я знал Видимо, — думал я во сне, — прошли уже не года, а века с того времени, как я улетел отсюда, на Луне так трудно вести счет времени, дни так похожи один на другой, видимо, многие из них затерялись в памяти…
И я сразу почувствовал себя несчастным! Чужой на Луне, с которой не сумел сжиться, чужой на Земле, на которую вернулся каким-то чудом — слишком поздно! Где же я теперь найду свое место?
Я продолжал скользить по воздуху дальше с огромной пустотой в сердце, а тем временем, после короткого дня, уже наступила ночь Первые звезды уже блестели на небе, когда я оказался над безбрежным пространством океана. Подо мной перекатывались волны, как будто там шевелился какой-то ужасный зверь со скользкой и блестящей кожей, а в воде отражался серебристый свет небесных светил.
Я посмотрел вокруг: здесь ничего не изменилось! Эта вода осталась такой же неизменной и такой же подвижной.
Но, подумав об этом, я вдруг заметил, что море странно вздымается и поднимает ко мне свои волны. Только теперь я увидел, что прямо надо мной стоит полная Луна, а через океан идет к ней огромная волна прилива. Я испугался этого призрака там наверху и хотел улететь туда, куда не достигает его свет, но внезапно мне отказали силы. Я почувствовал, что падаю на все еще вздымающиеся волны, а они растут и подбрасывают меня все выше и выше, к Луне, выгибаются чудовищными, невероятно длинными шеями с сверкающими гривами, рокочут приглушенным смехом и все выше, все выше меня подбрасывают. С ужасом я смотрел на Луну: она росла у меня на глазах, становилась все ближе и ближе, занимала сначала половину, а потом и весь небосклон, накрывая его своей серебряной краской. Мне казалось, что я уже вижу по ее краям выглядывающие головки измельчавшего потомства Марты и слышу злорадный смех и крики:
— Вернись к нам, вернись к нам, Старый Человек! Ты уже не принадлежишь Земле!
Отчаяние, ужас, отвращение и невероятное желание остаться на Земле, даже если она не хочет меня знать, все это, как буря, прокатилось через мою грудь, ужасный крик вырвался из моего горла, отбирая все силы, помогающие мне сопротивляться бросающим меня в пространство волнам, я хватался руками за воду, колотил ногами по воздуху…
Все напрасно! Я почувствовал, что Земля вместо того, чтобы находиться у меня под ногами, уже находится над моей головой, а я падаю обратно на Луну…
Страшный сон! И еще более страшная действительность…
От нашего ИСХОДА прошел пятьсот один лунный день.
Том на корабле с двумя старшими сыновьями отправился в путешествие на юг Из его рассказав я понял, что они добрались почти до самого экватора. От дальнейшего путешествия их удерживали страшные тропические морские бури, поэтому им пришлось вернуться ни с чем.
После возвращения Том долго разговаривал со мной. Много говорил о своей матери и о Розе, о смерти которой жалел. Потом, рассказав о путешествии, описав тяжелые усилия, какие потребовались в пути, задумался и сказал, что боится, как бы это не было его последним путешествием…
Действительно — я смотрю на него и ничего не могу понять… Этот человек, прожив едва ли не половину моей жизни, уже почти старик. На Земле он был бы в самом расцвете сил… Здесь люди быстрее взрослеют, но и раньше стареют Тем более удивительно что я все еще жив…
Я сказал ему это, а он посмотрел на меня и сказал после минутного колебания:
— Да, но Ада и мои дети говорят, что ты — Старый Человек…
Это имя так странно прозвучало в его устах.
— Но ведь ты, — возразил я, — ты же знаешь меня с самого детства, что ты говоришь обо мне?
Том ничего не ответил.
Через четырнадцать лунных дней после смерти Розы умер Том Остались двенадцать детей, пятеро от умершей жены и семеро от Лили.
Я сам похоронил его на Кладбищенском Острове, рядом с могилами Марты и Петра, и самого младшего его тринадцатого ребенка, который умер вскоре после рождения.
Лили страшно отчаивается после смерти мужа Мне кажется, что и она не задержится на этом свете.
Одна Ада совершенно спокойна..
Патриархом лунного народца теперь является Ян, старший сын Розы и Тома, женатый на дочери Лили..
А я… я уже давно не принимаюсь в расчет…
Сегодня Ада с глубоким убеждением заявила мне, что я никогда не умру… Не знаю, или она сумасшедшая вместе с этим лунным поколением, которое слушает ее и верит ей, или я сам действительно являюсь удивительным исключением среди людей..
Потому что, на самом деле, — зачем я еще живу?
Лили умерла.
Из первого лунного поколения в живых осталась только одна Ада.
От нашего ИСХОДА прошло пятьсот семнадцать лунных дней.
Меня охватывает страх, потому что здесь около меня в самом деле происходит что-то такое, чего я не могу и не хочу — не хочу] — понимать…
Этот народец во время бури, более суровой, чем обычно, и соединившейся с извержением Отамора, — пришел к моему жилищу с жертвоприношениями во главе с безумной жрицей Адой, которая, видимо, лишилась разума во время длительного пребывания в Полярной Стране. Еще со времени убийства Розы, которое страшно потрясло ее, я начал замечать, что в ее голове происходит что-то недоброе, а теперь вижу, что она действительно сошла с ума. Но это вижу я один! Они поклоняются ей и считают ее озаренной! И сегодня под ее безумным предводительством — страшно сказать! — они молили меня, чтобы я остановил ветер и успокоил колышущуюся под их ногами землю! Значит, они действительно считают меня…
Как же страшно я одинок в обществе этой сумасшедшей и этих карликов, едва заслуживающих звания людей!
Такое меня иногда охватывает уныние… Сегодня я собирался привести в порядок мою запыленную библиотеку и все бумаги, и вдруг мне пришла в голову мысль взять и сжечь все, и этот дневник тоже…
Не сжег. Но книги и бумаги остались рассыпанными на полу — они в беспорядке валяются у меня перед глазами, а мне не хочется даже протянуть руку, чтобы их поднять.
Пусть останутся тут. Когда я умру — уж наверняка никто к ним не прикоснется.
III
Столько дней, столько бесконечных долгих дней и ночей…
Мне кажется, что я утратил счет времени. Так трудно считать дни, похожие друг на друга, как две капли воды, дни, на которые даже не хватает завода моих старых часов — они останавливаются раньше, чем Солнце достигает зенита… Только мое сердце своими ударами отсчитывает каждую минуту суток, и когда я его спрашиваю, который час, отвечает, что это час неизбывной тоски, а когда я спрашиваю, сколько прошло этих часов, отвечает только: слишком много! слишком много!
Так оно и есть, мое безутешное, одинокое сердце! Слишком много этих часов, слишком много тоски, слишком много жизни..
Мои волосы уже давно седые… С каких пор? Откуда я знаю? Там, на Земле, должно было пройти несколько десятков лет с того времени, когда первые трупы были погребены на Кладбищенском Острове. Теперь этих могил стало больше Я выкопал могилы для Тома, для Лили, для Розы, которые были еще детьми, когда я уже начал стареть, вокруг меня подрастают правнуки тех, которые прибыли в этот мир с Земли вместе со мной, а я все еще живу.
Это настолько удивительно, что иногда я сам готов допустить, что правду говорит легенда, распространившаяся обо мне среди лунного народа что я вообще никогда не умру..
Я вспоминаю — на Земле, на моей дорогой, навсегда утраченной Земле, я однажды прочел в книге какого-то ученого-естествоведа, что смерть — явление неизведанное и случайное, по крайней мере, не вытекающее из условий жизни. Меня охватывает страх, как только я подумаю, что она может забыть обо мне и не прийти…
Если я считаю правильно, уже пятьдесят с лишним лет прошло с того времени, когда я с моими покойными товарищами покинул Землю.
Из тех людей, с которыми я был знаком, наверное, мало кто еще жив, а те, которые с детства слышали о безумцах, отправившихся в экспедицию на Луну, теперь уже седые и скорее всего забыли имена путешественников, которых там считают погибшими…
Пятьдесят лет! Сколько за это время могло измениться на Земле. Может быть, я даже не узнал бы теперь знакомых мест. И память моя уже ослабевает… В ней еще содержится множество мелочей, которые бережно хранятся там и всплывают в долгие часы раздумий, но я вижу, что с каждым днем они становятся все более призрачными, мозаикой драгоценных, моей тоской отшлифованных камешков, которые уже рассыпаются и исчезают…
Но я продолжаю мысленно складывать эту мозаику заново, камешки, которые потерялись в течение долгих лет, я стараюсь заменить воображаемыми и забавляюсь на старости лет этими сокровищами памяти, как ребенок калейдоскопом.
И как же они сияют эти воспоминания, когда я смотрю на них сквозь слезы!
Если бы я мог хотя бы один день, даже один час, провести там, на Земле! Как бы я хотел еще раз увидеть людей, настоящих, похожих на меня людей! Услышать шум лесов, увидеть растущую на лугах траву, ощутить запах цветов, насладиться пением птиц!
Многое изменилось за это время на Земле, но люди остались теми же, как и птицы, как и растительность!
Иногда я вспоминаю, поверьте, что душа человеческая, освободившись от тела, может скитаться по миру, по звездам. Когда-то, маленьким мальчиком, еще находясь на Земле, я мечтал, думая об этом, о путешествиях по звездным просторам — теперь я желал бы только одного — вечно оставаться на Земле! И когда меня охватывает страх, что Земля сегодня уже иная, нежели та, которую я знал пятьдесят лет назад, то я думаю о том, что там остались люди, леса, поющие в них птицы, луга и растущие на них цветы… Этого будет достаточно моей душе, если она захочет полететь туда…
Как давно я уже не слышал пения птиц!
А помню, помню еще утренние часы, наполненные птичьим пением… Перед рассветом небо бледнеет, потом начинает слегка розоветь на востоке; стоит тишина — слышен только шелест больших капель росы, падающих с листьев. Потом вдруг первое, короткое щебетание, после него другое, в иной стороне, потом третье, четвертое… Еще минута тишины, а потом, как будто все деревья, все цветы оживают, щебетание заполняет все вокруг Вначале еще можно различить отдельные голоса: это крик сойки, это дрозд, сверху доносится пение жаворонка, это щебечут воробьи — а потом уже все сливается в один огромный, радостный, удивительный хор, от него дрожит воздух, и кажется, что дрожат и листья, и цветы, и травы… Вокруг тем временем становится все светлее, небо становится розовее и, наконец, из-за горизонта выплывает Солнце.
Здесь Солнце всходит лениво и тихо… Хотелось бы думать, что оно не спешит потому, что не приветствуют его ничьи голоса… Многочасовой, серый рассвет, во время которого окрестности лежат скованные морозом и укутанные снегом, не сопровождает пение птиц… Солнце на Луне всходит всегда над мертвым миром в полной тишине. Может, только вскрикнет человек, пришедший сюда с далекой планеты, заплачет проснувшийся ребенок или заскулит пес, окостеневший от мороза в своей яме, из которой выгнал вечером какого-нибудь лунного жителя…
И весь долгий, бесконечный день здесь царит тишина, разве только ветер зашумит, взволнует море и засвистит среди скал или из широкого жерла вулкана послышится угрожающее ворчание…
Так живо вспомнилось мне то, что пришлось пережить. Я листаю пожелтевшие страницы, а когда на минуту закрываю глаза, то кажется, что слышу гул машины, везущей нас через страшную лунную пустыню, снова вижу черное небо и светящуюся на нем Землю, огромные горы, в тени похожие своей чернотой на уголь, но сверкающие всеми цветами радуги в солнечном свете. А потом мне вспоминаются первые года, проведенные здесь, на берегу моря. Перед моими закрытыми глазами встает Марта, печальная и бледная, Петр и дети, которых тоже уже нет на свете. Только одна Ада осталась в живых, но мне кажется, что она уже не помнит своих родителей, хотя то, что слышала о них от меня, пересказывает со всевозможными фантастическими добавлениями новому поколению. Она была совсем малёнькой, когда они умерли. Сегодня же, не считая меня, она самая старшая в этом мире, и эти карлики почитают ее почти так же, как и меня, с той только разницей, что меня они еще и боятся, хотя, видит Бог, не знаю почему, я никогда не сделал им ничего плохого.
Правда, я не умею обходиться с ними, как с равными себе людьми. Временами они скорее производят на меня впечатление удивительно разумных зверюшек Уже первое поколение, рожденное здесь, отличалось от нас, прибывших с Земли Том и его сестры, даже когда выросли, выглядели для меня детьми Их рост и силы уже были приспособлены для этого мира, меньшей массы и меньшей тяжести предметов Среди этого же племени, которое живет теперь вокруг меня, я выгляжу великаном Внуки Марты, люди уже взрослые (удивительно быстро взрослеют здесь люди), достигают мне головами едва до пояса и гнутся под тяжестью предметов, которые я легко поднимаю одной рукой. Но несмотря на такие слабые силы, они вполне здоровы и легко переносят и мороз и жару.
В течение долгих ночей они, правда, преимущественно спят, но если возникает необходимость, могут работать на самом сильном морозе со страстью, вызывающей во мне удивление.
Души у этих карликов удивительно неразвитые. Что произошло с теми крупицами цивилизации, которые мы привезли с собой с Земли! Я смотрю вокруг себя, и у меня такое впечатление, что я нахожусь среди существ, лишь наполовину являющихся людьми. Они умеют читать и писать, умеют из руды выплавлять металл, умеют ставить силки и ткать, пользуются огнем, различными земледельческими орудиями, разговаривают со мной на достаточно чистом польском языке, понимают неплохо содержание книг, написанных по-французски и по-английски — но между собой разговаривают на каком-то странном, убогом языке, складывающемся из мешанины искаженных польских, английских, малабарских и португальских слов, а под их черепными коробками мысли текут лениво и вяло, кажется, они с большим усилием облекают их в слова, помогая себе при этом движениями рук и головы, как дикари где-нибудь в глубине Африки или в южной части Американского континента.
И такая безграничная печаль охватывает меня, когда я смотрю на это третье поколение пришедших с Земли людей! И она становится еще глубже оттого, что я, подсознательно ощущая свое превосходство, не могу избавиться от чувства презрения к этим бедным якобы людям и одновременно сознаю себя соучастником того преступления, которое было совершено Потому что мы действительно совершили преступное надругательство над достоинством человеческой расы, перенеся ее сюда в лице собственных особ и позволив ей размножаться здесь на этой планете… Природа неумолима, как в тех случаях, когда с триумфом двигается вперед, создавая постоянно новые высшие формы, так и тогда, когда в страхе отшатывается от того, что создала. Напрасно мы пытались бороться с ней, стараясь в лунном поколении удержать ту духовную высоту, какой человечество уже достигло на Земле. Единственный, хотя и неожиданный результат моих усилий — это соединенное со страхом почитание, какое они проявляют ко мне Я для них не просто великан, но и таинственное существо, которое знает то, что они не ведают, и понимает то, что они понять не в силах…
При этом Ада постоянно рассказывает им, что на севере есть страна, где Солнце никогда не заходит, за ней ужасная, безбрежная и мертвая пустыня, над пустыней светит огромная золотистая звезда, и что я пришел на Луну с этой звезды. Разве этого недостаточно, чтобы смутить бедные головы этим карликам? Они никогда не были там и не видели светящейся Земли, одна только Ада была со мной в Полярной Стране и теперь рассказывает им разные чудеса, а они слушают ее затаив дыхание и испуганно поглядывают на меня, огромного по сравнению с ними седого человека — как же я одинок среди них!
Сейчас ночь. Я не умею, к сожалению, как лунный народец, спать в течение трехсот часов подряд, поэтому сижу и думаю.
Я живу один в старом доме, который когда-то построил вместе с Мартой и Петром Днем вокруг крутятся карлики и с любопытством приглядываются ко мне, хотя знают меня с детства, не знаю почему, но ни один из них не решается сюда войти. Только Ада приходит ко мне в определенное время суток, приносит продукты, наводит порядок, а если застает меня здесь, задает не сколько обычных вопросов, потом садится на порог и молча сидит там несколько часов — потом уходит, снова оставляя меня в одиночестве.
Мне кажется, она воспринимает эти приходы, как определенный долг по отношению ко мне и исполняет его, как часть причитающегося Старому Человеку почтения.
Эта женщина одержима каким-то странным безумием С виду совершенно спокойная, полная самообладания, она охвачена маниакальной идеей, неизвестно откуда возникшей у нее в голове… Ей кажется, что я какое-то сверхъестественное существо, владеющее этой лунной страной, а она моя жрица и прорицательница. Причем люди верят ей беззаветно.
Какая-то новая мифология, фантастическая религия возникла в ее бедной головке, сложенная из постулатов Священного Писания и моих рассказов о Земле и нашем приходе сюда Она рассказывает об этом детям Тома, которые верят ей больше, чем мне.
Сначала я всеми способами пытался противиться распространению этого мифа, в котором не последнее место занимала моя особа, но в конце концов вынужден был признать свое поражение Я долго объяснял Аде, что я, как и ее родители, которых она должна еще помнить, точно такой же человек, как и остальные люди на Луне, а если я больше ростом и сильнее их, то только потому, что родился на другой, большей планете, Земле Она внимательно, молча слушала меня, а когда я вышел из терпения, прошептала, взглянув на меня с хитрой усмешкой.
— А как ты, Старый Человек, сумел перенестись сюда с Земли и привезти моих родителей, разве это удалось бы кому-нибудь другому? Откуда ты знаешь все, чего никто не знает? А самое главное, почему ты не умираешь, как другие?
Я выругал ее и раз и навсегда запретил распространять обо мне всякие сказки, но все было напрасно Несколько часов спустя я услышал, как она говорила Яну, являющемуся теперь лунным патриархом, который шел ко мне по какому-то делу.
— Старый Человек сердится. Старый Человек не хочет, чтобы было известно, что он… Старый Человек.
Ян страшно огорчился.
— Это плохо, это очень плохо, я как раз хотел просить его, чтобы он перенес к моему дому камень, который мы с сыновьями не можем сдвинуть с места…
— Нужно его умилостивить, — заявила Ада, — принесите побольше салата, улиток, янтаря, я ему передам. Но прежде всего, — она приложила палец к губам, — не разговаривайте при нем! Он не хочет этого!
Я вышел из-за угла, откуда выслушал весь разговор, снова выругал Аду и отправился к дому Яна, чтобы сделать то, о чем он просил. Уже уходя, я слышал, как Ада прошептала озабоченному «патриарху»:
— Вот видишь! Он все слышит и все знает!
Откуда в ней взялось это безумие? Не знаю, но уверен, что оно определяет все ее существо и является причиной ее огромного влияния на лунный народ. Еще когда было живо первое поколение — Роза и Лили боялись ее, и даже Том дрожал перед ней. Сегодня — его дети — не посмели бы ослушаться любого ее приказа.
Меня возмущает то, что она баламутит слабые головы внучат Марты, но в то же время я чувствую к ней огромную жалость… Тем более что в ее тихом сумасшествии я замечаю минуты просветления, проблески сознания, во время которых она, по-видимому, отдает себе отчет в том, что живет в воображаемом мире и, наверное, страдает.
Я вспоминаю один такой случай.
Было уже около полуночи, когда Ада пришла ко мне. Меня удивил ее приход в такое необычное время, тем более мороз здесь не шутит, и выход из дома в такое время дело довольно необычное и неприятное.
Она застала меня, склонившегося над какой-то книгой, и, не желая меня прерывать, тихо уселась в углу на лавке.
Я видел, что она хочет поговорить со мной, но умышленно не обращал на нее внимания. Ада какое-то время просидела в молчании, потом видя, что я не смотрю на нее, подошла ко мне и легонько коснулась ладонью моего плеча:
— Господин…
Я быстро повернулся. Так она не обращалась ко мне никогда. Я всегда слышал от нее только «Старый Человек». И удивительно! Услышав теперь выражение «Господин!»— я испытал непривычное ощущение: в нем была радость, что кто-то обращается ко мне по-людски, и вместе с тем возмущение, что кто-то смеет так обращаться.
— Господин… — снова повторила Ада.
— Что ты хочешь, малышка? — спросил я как можно мягче.
Мне пришлось повторить этот вопрос несколько раз, прежде чем она ответила.
— Я хотела тебя спросить., хотела узнать..
— Что?
— Господин, я же ничего не знаю! — воскликнула она внезапно с таким трагизмом в голосе и таким отчаянием в глазах, что как только я на нее взглянул, у меня на губах замерло язвительное замечание, что именно по этой причине она и не должна столько рассказывать лунным жителям.
А она продолжала.
— Я совсем ничего не знаю… И хотела просить тебя, чтобы ты сказал мне наконец что все это значит, кто ты такой и кто такие мы? Я вижу, что ты старый и одинокий, сильный и большой, но, мне кажется, я помню моих родителей, которые тоже были не такие, как мы сегодня, похожие на тебя..
Она замолчала и через минуту повторила снова, глядя мне в глаза:
— Скажи, кто ты такой и кто мы?
Во мне начало происходить что-то странное Мне казалось, что на ее вопрос я уже неоднократно отвечал, но несмотря на это, меня охватило желание искренне говорить с этой женщиной, которая наконец обратилась ко мне по-человечески Я растрогался и почувствовал, что сердце мое смягчается и слезы подступают к глазам С трудом мне удалось выдавить из себя прозвучавшие как эхо слова.
— Кто я такой?.
Мне показалось, что я и сам уже этого не знаю..
А Ада заговорила снова:
— Да, кто ты такой, господин? Мы все называем тебя Старым Человеком, но сегодня я подумала., и потому пришла спросить у тебя… скажи мне правду, ты действительно Старый Человек?
Это мое имя, которое она же сама распространила вокруг, теперь произносилось ею с каким-то суеверным страхом Голос у нее замирал и прерывался.
— Я хочу знать, — продолжала она, — ты действительно пришел оттуда, с Земли, которую я видела, и можешь сделать все, что захочешь? Правда ли, что ты никогда не умрешь, и в самом ли деле мы, если ты покинешь нас когда-нибудь, вернувшись на Землю, будем обречены на погибель, как мы думаем?
Она выпалила все это на едином дыхании и уставилась на меня блестящими, беспокойными глазами.
Что я мог ей ответить? Еще минуту назад я хотел открыть перед ней душу, повторить еще раз все, что уже столько раз рассказывал: о Земле, о нашем прибытии сюда, об моих умерших товарищах, но пока я слушал ее слова, мне стало ясно, что все будет напрасно Она хочет, чтобы я утвердил ее в уверенности, что я действительно Старый Человек, то есть, по их разумению, какое-то сверхъестественное существо.
Меня снова охватила тоска, и я долго не мог найти слов…
— Зачем ты спрашиваешь? — наконец сказал я. — Ведь я это не один раз тебе рассказывал.
— Да… но я хотела бы, чтобы ты мне сказал правду!
Мне вспомнилось, как много-много лет назад те же самые слова сказал мне маленький Том, когда я показывал ему Землю и рассказывал, что мы прилетели оттуда «Дядя, скажи мне теперь правду!» — просил он.
— Скажи мне, — настаивала Ада, — скажи, правда ли то, что ты прилетел вместе с моими родителями с этой огромной звезды, которую ты называешь Землей?
Она схватила меня за руку и уставилась на меня горящими глазами. Никогда еще я не видел ее такой.
— Скажи мне! — требовала она. — Тогда я расскажу это людям, они верят в тебя!
Последние слова она произнесла с такой душевной болью, что я просто испугалась Я никогда не предполагал, что в этой замкнутой, сумасшедшей, стареющей женщине могла происходить какая-то внутренняя борьба, пылать подобные чувства «Они верят в тебя!» — в этом заключалась в эту минуту вся удивительная трагедия ее жизни Она создала для лунного народа новую, идолопоклонническую и фантастическую веру и теперь, когда в ней внезапно проснулись сомнения в том, что она сама провозглашала, она пришла ко мне, чтобы услышать из моих уст подтверждение, потому что — они верят в меня! В этом возгласе прозвучало что-то похожее на жалобу, что эти люди такие несчастные и верят в меня, а вместе с тем и просьба, чтобы я не отнимал у них этой веры.
Я долго смотрел на нее, по-моему, в моих глазах даже появились слезы.
— Ада, поверишь ли ты тому, что я тебе скажу?
— Поверю, поверю!
Я поколебался еще мгновение: может быть, отказаться от своего земного происхождения’ Если бы они считали, что я родился на Луне, как и все остальные, перестали бы считать меня высшим существом? Но мне сразу же стало так нехорошо при мысли о совершении такого чудовищного отречения от Земли, что пот выступил у меня на лбу Будь что будет, но я решил объяснить Аде, что я в самом деле человек старый, но совсем не Старый Человек в их понимании, и что они должны понять это, как бы ни болезненна была утрата общего суеверия.
— Я действительно пришел сюда с Земли, — начал я, но Ада не дала мне закончить.
— Значит, это правда? — воскликнула она. — Правда?
Я молча кивнул головой. В эту минуту я почувствовал, что Ада хватает меня за ноги.
— Спасибо тебе, Старый Человек, и прошу тебя, прости меня, что я посмела… Теперь я уже знаю, что ты — Старый Человек.
Я удивленно смотрел на нее. В ее глазах, еще минуту назад разумных и спокойных, снова горел тот таинственный огонь, который пожирал ее, руки дрожали, а на лице выступил лихорадочный румянец.
— Спасибо тебе. Старый Человек, — повторяла она, — я пойду и расскажу людям.
Прежде чем я успел оправиться от удивления, вызванного неожиданными словами Ады, ее уже не было со мной Она исчезла так быстро, что я не успел ни задержать ее, ни окликнуть.
Ада безумна, но странно, что потомство Тома так безоговорочно верит ее словам, удивительно, что все ее сказки нашли в них для себя столь подходящую почву.
Я не раз думал, как это все произошло Может быть, в этом есть и доля моей вины: я слишком отстранился от нового лунного поколения, а заметив, что они окружают легендой мое имя, счел это проявлением ребячества и не пресек его в самом начале Когда, наконец, испугавшись, я вступил в борьбу, было уже слишком поздно.
Еще при жизни Тома я заметил, что среди его детей начинают кружить различные фантастические сказки обо мне. Из случайно услышанных фраз я понял, что они считают мои знания и мою необычную, в сравнении с ними, силу явлением сверхъестественным. В их глазах я представал чем-то вроде чернокнижника. Том, насколько я знаю, не распространял подобных слухов, но и не перечил им Вначале меня это просто забавляло.
Но после смерти Тома события приобрели гораздо более худший оборот По-моему, сегодня этому народцу я представляюсь фигурой гораздо более значительной, чем чернокнижник Они считают, что я все знаю и могу, а если не всегда делаю то, о чем меня просят, то только потому, что не хочу. Просили же меня, чтобы я предотвратил полуденную бурю, говоря, что Аде это, к сожалению, не удается, хотя она действует от моего имени! И она послала их ко мне, потому что я все могу сделать!
Когда-то Ян хотел под большим секретом узнать у меня, когда я собираюсь покинуть их и вернуться на Землю? Ада говорила им, что это обязательно произойдет, а они боятся моего ухода!
Конечно, я с огромной, болезненной тоской смотрю на то, что делается в головах этого поколения. Но ничего не могу сделать — а может быть, мне и не хочется уже бороться с этой наивной темнотой… Все мучительно для меня, все меня угнетает Я радуюсь, когда могу хоть на минуту забыть о том, где нахожусь и что делается вокруг меня и — закрыв глаза — наяву грезить о Земле.
Там люди — настоящие — и такие леса, птицы, душистые цветы на лугах.
О! там…
Как же мне побыстрее уйти отсюда навсегда! О, если бы я мог, как они верят, вернуться на Землю! Я просто одержим этой мыслью Чем бы я ни занимался, эта мысль постоянно возвращается и даже ночью не дает мне покоя Когда я засыпаю, перед моими глазами проплывают какие-то фантастические картины, но все они вариации только на одну тему Земля! Земля! Земля!
Когда-то, когда я там еще жил, это были для меня отдельные континенты, страны, народы — теперь все это слилось только в одно понятие, в одну любовь и тоску Я не могу уже различать отсюда государств, народов с различным языком и верой, даже человечество сливается в моей душе в единое целое с растительностью, животными и всей земной планетой, и все вместе это горит в моей душе, как в черном небе над пустыней!
Земля! Земля! Земля!
Сегодня мне вспомнился Том в то счастливое время, когда, ребенком, он еще был моим постоянным спутником и другом Я думал о нем долго — и теперь, в тихую морозную лунную ночь перед моими глазами, глазами одинокого человека, проплывают красочные картины времен его детства..
Ведь как бы то ни было, это был единственный человек из нового поколения, которого я действительно любил И так близко меня касалось все, что с ним происходило.
Он развивался удивительно быстро — видимо, под влиянием условий этого мира Когда ему было около четырнадцати лет — это был уже вполне взрослый и зрелый мужчина Обе старшие девочки тоже уже подрастали… Я наблюдал за ними, как за распускающимися цветами, еще не осознающими своего очарования, но уже душистыми и прекрасными Их поведение по отношению к Тому подверглось значительному изменению. Раньше — это были две служанки, два маленьких мотылька, постоянно кружащиеся вокруг его светловолосой головы, и только ищущие возможность чем-либо угодить ему Он прекрасно сознавал свою власть над сестрами и считал ее совершенно естественной. Он даже позволял себе пренебрегать ими. Если иногда, в минуту редкого приступа чувствительности, он гладил какую-либо из них по густым, мягким волосам или даже одаривал поцелуями, всегда делал это с миной щедрого владельца, который старается вознаградить своих подданных за любовь, но также заботится о том, чтобы не испортить их слишком частыми проявлениями монаршей милости. Это отношение Тома к сестрам с самого начала вызывало у меня недовольство, и я неоднократно делал мальчику замечания, видя, как он беззастенчиво пользуется услугами сестер, а взамен — только позволяет себя любить. Я не предполагал, что в скором времени все это изменится.
В то время, о котором я говорю, девочки стали более сдержанными в проявлении своей любви к брату. И даже, как мне казалось, стали его избегать. Только иногда, когда он не видел, они украдкой бросали на него испуганные взгляды, краснея каждый раз, когда он к ним приближался. По мере того как они отдалялись от Тома, они становились дружнее и сердечнее друг к другу.
Эта перемена свершилась настолько быстро и неожиданно, что, заметив ее, я не мог понять, когда это произошло. Только одно я знал, глядя на этих троих… они еще совсем дети, если судить по земным меркам, но на моих глазах произошла перемена, вызванная природой, которая хотела создавать, творить, даже если впоследствии сама будет с сожалением смотреть на дело своих рук.
Это уже не были брат и сестры — это были две женщины и один мужчина.
Сами они, разумеется, этого еще не понимали Том пытался по-прежнему вести себя с сестрами, но это у него получалось с трудом. В их обществе он терял уверенность в себе и смущался. Было видно, что эти тихие, славные девушки приобрели теперь огромную власть над ним — господином лунного мира Теперь он вместо того, чтобы пользоваться их услугами, сам служил им Он приносил им продукты, заботился об их одежде, удобствах, собирал для них цветные камни и кусочки янтаря, которые они потом вплетали в волосы, или катал их в лодке по морю, когда погода позволяла это. В этих прогулках я тоже принимал участие, потому что — удивительное дело! — девочки, выросшие вместе с Томом и до сих пор всю свою жизнь проведшие в его обществе, не хотели теперь оставаться с ним наедине. Я не раз, как более сильный и опытный, пытался сесть на весла, но Том не позволял мне этого. Я заметил, что дело здесь не столько в том, чтобы пощадить меня, сколько в том, чтобы продемонстрировать перед сестрами свою силу и ловкость.
Вечная история разыгрывалась перед моими глазами, но я с радостью наблюдал за ней. Мне казалось, что у меня на ладони сидят три птенца, я чувствую биение их сердечек и понимаю все, что они сами еще понять не в состоянии. Пожалуй, со времени смерти Марты это был единственный период времени, когда я чувствовал себя счастливым… Какое-то свежее весеннее дуновение чувствовал я, глядя на этих детей, в которых свершалась великая тайна жизни и любви.
Сегодня это уже старые воспоминания! Я с радостью вызываю их в памяти, потому что не так уж много было дней на этой планете, о которых я мог бы вспоминать без боли.
Только — снова страшная ирония судьбы! Любовь Тома к Лили и Розе, потому что он обеих любил одинаково — любовь, созерцание которой так радовало мое сердце, вызвала к жизни это поколение карликов, которые теперь заполонили окрестности Теплых Прудов.
Каждый раз, вспоминая это, я содрогаюсь, как будто неожиданно нашел в корзине роз омерзительных насекомых.
Впрочем, возможно, я несправедлив к этим карликам. Они, прежде всего, несчастные, такие несчастные, что когда я на них смотрю, то моя человеческая гордость готова выть от боли…
Том был гораздо более значительной личностью. Я вспоминаю его маленькую, но благородную фигуру. Он был энергичным и разумным, и в глазах у него еще светилось то, чего я напрасно ищу во взгляде его детей: душа.
Все слишком болезненно для меня и трудно писать об этом спокойно.
Почему все так произошло? — Забавный вопрос, на который не может быть ответа! — Зачем, зачем мы сюда пришли, зачем умер Томаш и оставил Марту между мной и Петром, для чего я отказался от нее, хотя был гораздо ближе ее сердцу, почему она умерла, и почему я живу — какое все это имеет значение перед лицом вечности…
Прочитал снова то, что написал на этих листах в последнюю ночь, и невольно спрашиваю себя, зачем и для кого я это пишу?
Когда-то, ведя дневник нашего путешествия через мертвую пустыню и позднее, описывая первые годы жизни на Луне, я думал, что оставлю этот дневник лунным жителям, чтобы будущие поколения знали, как мы попали сюда и что должны были перетерпеть и перебороть, чтобы создать сносные условия для жизни. Но сегодня… Ведь эта мысль просто смешна! Лунные жители такие, какие они есть, не будут этого никогда читать. И я даже не хочу, чтобы они когда-нибудь прочли мои записи. Что им до этого? Какое им дело до моих переживаний, чувств, страданий? Неужели они смогут их понять? Неужели смогут увидеть в этих листках нечто большее, чем просто фантастический и непонятный рассказ? Впрочем, зачем им знать, что они выродившиеся существа прекрасной человеческой расы, господствующей на далекой, прекрасной звезде? С того дня, когда они поняли бы это, они начали бы тосковать, стыдиться и страдать, как страдаю я, глядя на них.
Нет, пусть здешний народ со временем забудет, кто были их предки с далекой планеты.
Я пишу этот дневник для себя. Если бы я мог мечтать каким-то чудом отослать его на Землю, то писал бы его, как письмо к моим братьям по духу, которые остались там, и на каждой странице благословлял бы земные просторы, луга, реки, цветы и плоды, леса и сады, птиц и людей — все, все, что мне сейчас здесь так дорого по воспоминаниям!
Но я знаю, что, к сожалению, этого никогда не произойдет, я не смогу ни одного слова отослать на Землю, к которой стремлюсь только мыслью и взором, когда, замученный тоской, отправляюсь в Полярную Страну, чтобы увидеть над пустыней мою Отчизну.
Стало быть, я пишу для себя. Разговариваю сам с собой, как все старики. А когда мне удается самому ввести себя в мимолетное заблуждение, что я пишу все это для людей, оставшихся на Земле, то сердце начинает сильнее биться у меня в груди, и лицо пылает от жара, потому что мне представляется, что я завязываю какую-то нить между собой и моей родной планетой, отдаленной от меня на сотни тысяч километров!
Тогда я с радостью описывал бы самые малейшие подробности моей жизни здесь, делился мыслями, жаловался на трудности, отчитывался в редких, кратковременных радостях…
Только… этих радостей было так мало!
Я уже писал о единственной весне, которая существовала для меня на этой грустной планете, когда я наблюдал за пробуждающимися чувствами между Томом и девушками.
Может быть, мне следовало остаться с ними… Но мне казалось, что если я уйду от них на какое-то время, запретив предпринимать что-либо серьезное в мое отсутствие, то удлиню этот период свежести и весны, а возвратившись летом, смогу собрать созревшие плоды.
Я — старый дурак! С такой же вероятностью я мог бы остановить падающий камень, отвернувшись от него! Жизнь пошла по своему обычному пути!
Когда я вернулся к морю после нескольких лунных дней, проведенных в Полярной Стране, Том встретил меня на удивление важно и проводил в мой старый дом, где до этого мы жили все вместе.
— Здесь твой дом, — сказал он, — он такой же, как тогда, когда ты его покинул. Во время твоего отсутствия здесь жила только Ада и два старых пса, которых ты оставил.
— А ты? — спросил я. — А старшие девочки? Где же были вы?
Том обернулся. Я проследил за его взглядом и только теперь заметил, что поодаль в зарослях, на берегу одного из теплых озер поднимается почти законченный новый домик.
— Я построил себе новый дом, — заявил Том.
— Зачем? — спросил я с невольным удивлением.
Том немного поколебался, потом показал на приближающихся к нам старших девочек и сказал, глядя мне прямо в глаза:
— Это мои жены!
— Которая? — бессмысленно спросил я.
Наступила тишина. Том опустил голову, а девушки с тревогой посмотрели на меня.
— Которая из них? — повторил я.
— Я люблю их обеих, — ответил он. — И они обе принадлежат мне!
Сказав это, он взял обеих девушек за руки и подвел их ко мне:
— Благослови нас, Старый Человек!..
Тогда в первый раз он назвал меня этим именем, которое сегодня уже прочно приросло ко мне — как я думаю, навсегда.
С тех пор наша жизнь определенным образом изменилась, на первый взгляд незначительно, а на самом деле гораздо существенней. В нашем маленьком обществе произошел разрыв. Том с женами создал новую, обособленную семью, которая все более крепла по мере появления нового и нового потомства. Мы с Адой оказались вне ее. С каждым днем я все больше и больше ощущал, что становлюсь менее необходимым в этом мире, с каждым днем возрастала моя тоска по моей далекой родине, — тем временем жизнь вокруг меня неудержимо неслась вперед.
Я с грустью вспоминаю о последующей жизни Тома с сестрами. Он не был к ним добр, хотя обе они беззаветно любили его до последнего дыхания. Слишком многого он от них требовал и был слишком деспотичен. Даже я утратил былое влияние на него. Говоря правду, именно эти прискорбные обстоятельства были причиной того, что я во второй раз отправился в Полярную Страну, взяв с собой Аду.
А потом, после моего возвращения, начался последний акт моей личной трагедии, который длится и по сей день. Страшная смерть Розы, безумие Ады, потом смерть Тома и Лили — и моя неутоленная тоска по Земле, ужасное одиночество, возрастающее с каждым днем, хотя лунных жителей становится день ото дня все больше.
Том получил от двоих своих жен многочисленное потомство в виде шести сыновей и семи дочерей, из которых самая младшая умерла вскоре после рождения. Еще при жизни родителей Ян, старший сын Розы, достигнув пятнадцати лет, женился на дочери Лили, потом по мере подрастания все они сочетались браком. Сегодня после смерти Тома, Розы и Лили на Луне, кроме меня и Ады, живут двенадцать детей Тома и двадцать шесть его внучат и двое правнуков от старшего сына Яна, который уже около двух лет был женат. Всего сорок два человека населяют эту планету, оседая все дальше к западу вдоль морского побережья. Вместе сними двигается «цивилизация». Поднимаются дома, кузни, загоны для собак.
Я остался в прежнем доме на Теплых Прудах и здесь, по-видимому, останусь до самой смерти, лишь бы только она скорее пришла. Я и так являюсь феноменом в этом удивительном мире, где люди, пришедшие с Земли, так рано взрослеют и быстро умирают…
IV
Мне кажется, я был бы счастлив, если бы каким-то образом мог дать знать людям на Земле, что живу здесь и думаю о них. Это такая малость, но как бы мне хотелось иметь такую возможность.
Ведь так страшно представить себе, что столько сотен тысяч километров межпланетного пространства отделяет меня от этой глыбы из камня и глины, на которой я родился!
И насколько счастливее меня эти карлики, думающие только о том, чтобы на море был отличный улов или вырос хороший салат и чтобы одичавшие собаки не потаскали яйценосных ящериц из ограды…
Я провел сегодня несколько часов на Кладбищенском Острове. Когда-то, много лет тому назад, я любил там сидеть и размышлять о прошлом остывшей сегодня лунной планеты: теперь я снова часто там бываю, но, сидя на могилах, поросших зеленой травой, расположенных на холме у берега моря, думаю только о Марте, Петре, о Томе и о себе, который, может быть, наконец отдохнет вскоре рядом с ними. Сегодня, когда я сидел там и смотрел на спокойную поверхность моря, меня внезапно охватило такое безграничное сожаление, такая тоска, что я начал плакать, как ребенок, протягивать к могилам руки и просить их, чтобы они открылись и дали возможность моим товарищам перемолвиться со мной хотя бы словечком или взять меня с собой.
Я чувствую, что дальше жить мне не стоит И что меня собственно держит на этом свете? Тоска, печальное одиночество — все это я уже пережил — я давно уже никому не нужен: самое время уйти.
Да, правильно, самое время уйти. Хочу еще раз увидеть Землю, посмотреть на этот светлый шар, подвешенный на голубом небосклоне, на очертания континентов, медленно проплывающих по нему, на белые пятна облаков над ними. Я хочу еще раз напрячь глаза: может быть, мне удастся различить ту страну, в которой я родился, — а потом…
Когда я плыл на лодке обратно, мое намерение все больше укреплялось. Уйду в Полярную Страну, чтобы по крайней мере смотреть на Землю.
С этим решением я приближался к своему дому, обдумывая про себя все обстоятельства моего ухода и приготовления, которые необходимо сделать.
На пороге летнего домика я встретил Аду Она пришла в обычное время и, не застав меня, терпеливо ждала моего возвращения.
Я был так переполнен надеждой снова в скором времени увидеть Землю, хотя бы издалека, что не мог удержаться, чтобы не поделиться с Адой своими намерениями.
— Послушай! — воскликнул я, когда она поздоровалась со мной. — Скоро я от вас уйду!
Она посмотрела на меня с тем таинственным, маниакальным почтением, с которым всегда ко мне относилась и ответила:
— Я знаю, что когда ты захочешь уйти, то уйдешь, Старый Человек… но…
Никогда еще мне не было так непривычно смотреть на подобное отношение ко мне лунных жителей, к которому я должен был бы уже привыкнуть. В первую минуту сердце у меня сжалось от беспредельного одиночества и болезненной горечи, а потом в нем вспыхнула неожиданная злость.
— Достаточно этой дури! — закричал я, топнув ногой. — Я уйду, когда мне понадобится и, туда, куда захочу, но в этом нет ничего таинственного или необыкновенного! Иди к Яну и скажи ему, что завтра рано утром мне понадобятся собаки для упряжи. Я отправляюсь в Полярную Страну.
Ада не произнесла ни звука и ушла, чтобы выполнить мое распоряжение.
Двумя часами позже я заметил непривычное движение у моего дома. Ян, его братья и их дети, словом, все, не исключая женщин, собрались и встали с непокрытыми головами, молча и тревожно поглядывая на дверь. Из толпы вышла Ада и остановилась на пороге. Она была в праздничной одежде: на голове был какой-то венец, нитки огромных кроваво-красных янтарей и голубого жемчуга свисали с ее шеи до самого пояса. В руках она держала жезл, сделанный из позвоночных костей собак, выточенных и нанизанных на длинный медный прут.
— Старый Человек! Мы хотим поговорить с тобой!
Меня охватила злость. В первый момент я хотел схватить висящий на стене ременный кнут и разогнать этот сброд, который с такой помпой собрался здесь, но потом мне стало жаль их. Разве они виноваты…
Я переборол себя и вышел из дома, решив в душе еще раз попытаться воззвать к их разуму.
Шум толпы, поднявшийся после слов Ады, немедленно стих, как только я появился на пороге. В тишине был слышен только плач самого младшего внука Яна и испуганный, приглушенный голос его матери:
— Тихо, тихо, а то Старый Человек рассердится…
Я почувствовал безграничную жалость ко всем им.
— Чего вы хотите от меня? — спросил я, отодвинув Аду в сторону.
Теперь вперед выступил Ян. Он посмотрел на меня глазами неловкого, испуганного карлика, еще раз оглянулся назад, как будто от созерцания спутников хотел набраться смелости, и сказал:
— Мы хотим просить тебя, Старый Человек, чтобы ты пока не уходил от нас.
— Да, да! Не уходи пока! — повторило за ним тридцать с лишним голосов.
В них слышался такой испуг и такая мольба, что я снова почувствовал, как во мне поднимается волнение.
— Зачем вам это нужно? — спросил я, задавая этот вопрос скорее собственным мыслям, нежели им.
Ян немного подумал, а потом начал медленно, с видимым трудом, облекать в слова свои неясные ощущения:
— Мы остались бы одни… Наступила бы долгая ночь и мороз, ох, злой мороз, который кусает, как собака, а мы остались бы одни… Потом взошло бы солнце, а тебя бы не было, Старый Человек… Ада, — он оглянулся на стоящую рядом «жрицу», — Ада говорила нам, что ты имеешь связь с солнцем и с еще одной звездой, которая больше, чем солнце, таинственной и иногда черной, а иногда светлой… Она видела ее, когда была с тобой на севере… Она говорила, что ты пришел оттуда и разговариваешь с этой звездой, когда ее видишь, на священном языке, на котором мы разговариваем с тобой. Мы боимся, как бы ты не вернулся на эту звезду, потому что мы остались бы одни… Поэтому мы просим…
— Да, да, просим тебя, останься с нами! — закричали карлики и карлицы.
Какое-то время я пребывал в молчании, не зная, что им ответить. Мужчины и женщины сбились в тесный кружок вокруг меня, протягивали руки и умоляли встревоженными голосами:
— Останься с нами! Останься с нами!..
Я понимал, что было бы напрасно говорить им теперь то, что я уже говорил столько раз: что я обычный человек, не связанный ни с какими таинственными силами и такой же, как все они, смертный. Я не знал, что мне делать, в ушах непрестанно звучали голоса, похожие на какую-то долгую молитву: останься с нами!
Я посмотрел на Аду. Она стояла в стороне в своей одежде жрицы, в почтительной позе, но мне показалось, что на ее губах я заметил какую-то усмешку — полунасмешливую, полупечальную…
— Зачем ты их сюда привела? — спросил я.
Она снова усмехнулась и подняла на меня до сих пор опущенные вниз глаза:
— Ты же слышишь, Старый Человек, чего они хотят от тебя.
Вокруг меня по-прежнему звучало:
— Останься с нами!..
Это было уже слишком.
— Нет! Не останусь! — крикнул я решительно. — Не останусь, потому что…
И снова я не знал, что им сказать. Как объяснить, что я иду увидеть Землю, огромную, светлую звезду, по которой тоскую, не утвердив их тем самым во мнении, что я сверхъестественное существо?..
Наконец-то вокруг меня наступила тишина. Я посмотрел на них — и кто бы мог этому поверить — эти карлики плакали при мысли, что я их покину! Они уже не кричали, не просили меня, но в их заплаканных, уставившихся на меня глазах застыла какая-то собачья покорность и мольба.
Мне стало жаль их.
— Я уйду от вас, — сказал я уже мягче, — но еще не сейчас… Можете спать спокойно!
Я услышал нечто похожее на вздох облегчения, вырвавшийся из нескольких десятков грудей.
— А когда я отправлюсь в путешествие, — добавил я то, что неожиданно пришло мне в голову, — туда, на север, где светит прекрасная звезда, о которой вы слышали от меня и от Ады, тогда возьму с собой и вас, чтобы вы ее увидели и могли потом рассказывать своим детям и внукам…
— Ты всемогущий, Старый Человек! Всемогущий и милостивый! — ответили мне многочисленные и радостные голоса. — Не уходи только от нас на ту звезду, о которой говоришь!
— Если бы я мог уйти! — вздохнул я. — Но я, к сожалению, точно такой же человек, как и вы…
В толпе карликов возникло оживление. Они поглядывали друг на друга, и мне казалось, что на их широких губах я заметил нечто похожее на хитрую понимающую улыбку, которая говорила: знаем уже, знаем! Ада говорила нам, что Старый Человек по какой-то непонятной причине не хочет, чтобы мы знали, что он… Старый Человек.
Меня снова охватило недовольство, я повернулся и вошел в дом. Перед домом слышался шум — я видел через окно, как все они сгрудились около Ады, которая что-то оживленно рассказывала им, наверное, обо мне и моей сверхъестественности.
Сейчас время уже приближается к вечеру, и лунный народец давно разошелся по своим домом, прилепленным к каменным берегам Теплых Прудов, простирающихся длинной чередой к юго-западу. Через несколько часов они улягутся, погрузятся в долгий сон и будут грезить об обещанном им Старым Человеком путешествии, и о Земле, удивительной звезде, которую знают только по рассказам.
Через несколько часов я буду единственным бодрствующим существом на Луне.
Но теперь вокруг еще наблюдается движение. Я вижу через окно, как перед домом Яна крутятся его старшие сыновья, неподалеку женщины поспешно собирают продукты перед наступающей в скором времени ночью.
Не знаю, хорошо ли я поступаю, оставаясь до сих пор среди этих людей… Впрочем, не о чем тут думать, я же обещал им, что пока останусь.
Но успокойся, мое сердце, это недолго продлится! Еще несколько дней, несколько необычайно длинных лунных дней, и я отправлюсь на север, в Полярную Страну, чтобы там закончить жизнь, глядя на Землю.
Эти люди, я знаю, помнят мое обещание, и хотели бы пойти со мной. Что ж, я возьму с собой в этот путь несколько человек, пусть увидят Землю, а потом пусть возвращаются к своим братьям — без меня.
Слишком большая тоска меня грызет. Я даже жалею, зачем поддался эмоциям и пообещал им задержаться здесь, и если я временами чего-то опасаюсь, то только того, что мне не хватит сил в жизни, чтобы уйти отсюда в ту страну, где перед моими глазами будет Земля!
Но нет! Моих сил еще достаточно, достаточно! Я сам иногда удивляюсь выносливости своего организма. Только нескольких лет недостает мне до ста, а кажется, что каждый день, вместо того чтобы отнимать у меня силы и ослаблять здоровье, только делает меня крепче…
И снова я невольно думаю об этом смешном и пугающем мнении, распространившемся среди местных жителей, что я никогда не умру…
Пугающая, ужасная мысль! Боль моя и тоска не только не уменьшаются с годами, но постоянно растут…
Я отбрасываю эти мысли от себя и, наоборот, с радостью и покоем думаю о том, что через несколько лунных дней увижу Землю. Сердце в моей груди бьется так горячо, как будто мне всего двадцать лет и я мечтаю о свидании с любимой, о которой до сих пор не смел и мечтать…
Но — я знаю — моя любимая будет холодной, немой и далекой, а я буду в отчаянии протягивать к ней руки, но она не услышит мой призыв.
Это все удивительно и страшно — иметь предмет столь глубокой тоски на небе… Мне кажется, что я привязан к этой далекой, невидимой отсюда, моей родной звезде длинной нитью, прикрепленной к моему сердцу, которая может растягиваться до бесконечности, но никогда не лопнет.
Сколько раз повторял я себе, что этот презираемый мною лунный народец, к которому я отношусь с жалостью, и который преклоняется передо мной, Старым Человеком, в сто крат счастливее, чем я.
Теперь, закончив свою работу, эти человечки снуют вокруг своих домишек и улыбаются друг другу радостные и довольные. Ян, который по праву старшинства, является здесь правителем, соберет их всех перед наступающей ночью, как раз и навсегда было установлено много лет назад, для того чтобы совместно прочесть несколько разделов в определенных мною книгах. Давно, еще при жизни Тома, когда Ян был маленьким мальчиком, я обычно сам возглавлял это собрание, объясняя им Библию или иные книги, предназначенные для чтения, рассказывал длинные повести о Земле и о людях — но теперь я даже не показываюсь на этих вечерних сборищах, там, под крестом, значение которого они едва ли понимают. Зачем я должен говорить что-то им, если каждое мое слово они объясняют по-своему, а к каждой истине прибавляют фантастические и наивные легенды?
Хотя, — повторяю снова, — разве они в этом виноваты! Разве они виноваты в том, что слышат, относят к себе, не в состоянии подняться мыслью над тем клочком мира, который заселяют? Разве они виноваты, что, слушая священные книги, размышляют о своем деде Петре, могила которого находится на Кладбищенском Острове, и поднимают глаза на меня, как на идола? Тому, что на другой планете, в другом мире живут люди, подобные им, они верят, потому что так говорю я, но они не могут этого вообразить.
Я сделал все, что было в моих силах, чтобы пробудить душу у этих людей, и опустил руки только тогда, когда уверился в безнадежности своих попыток. Мне не в чем себя упрекнуть, и несмотря на это я чувствую на себе страшную ответственность за этот упадок человеческого племени, которое было на меня оставлено.
И снова ирония судьбы: они себя считают счастливыми, а я расстраиваюсь из-за них и тоской об их судьбе увеличиваю свою боль и свою тоску…
V
Снова на Земле прошли годы с тех пор, как я в последний раз обращался к этим страницам. Сегодня я открываю дневник, чтобы записать дату своего ухода из страны над морем. Ухожу наконец-то в Полярную Страну — думаю, что уже навсегда.
С нашего ИСХОДА прошел шестьсот девяносто один лунный день.
Все уже готово, наш старый автомобиль, уменьшенный вдвое и отремонтированный, уже заправлен топливом и загружен продуктами, которых мне должно хватить на долгое пребывание в Полярной Стране, может быть, такое количество мне и не потребуется… Ведь я уже старик…
Я должен был отправиться сегодня утром, но произошло нечто, по крайней мере на день задержавшее мой отъезд.
Дело вот в чем: со времени экспедиции Тома на юг, к экватору, во время которой он чуть не расстался с жизнью, я сурово запретил подобные предприятия, будучи уверенным, что они ни к чему не приведут, зато подвергают опасности жизнь участников. До сих пор мой приказ свято соблюдался, а я был уверен, что так будет всегда, особенно если принять во внимание небольшую предприимчивость этого поколения, которое целиком и полностью обращено только к практическим и сиюминутным проблемам бытия.
Однако я ошибся. Видимо, сюда проникла с Земли и тлеет в груди этих карликов скрытая искорка того огня, который толкал людей на рискованные экспедиции и открытие новых континентов посреди океана. С какого-то времени я начал замечать, что некоторые из мужчин с тоской поглядывают на юг, за далекое море Они даже как-то спрашивали меня, что там за морем. Я отвечал им, что не знаю, но они, насколько я мог понять по выражению их лиц, не поверили этому. Видимо, у них сложилось впечатление, что я не хочу им этого говорить…
Последнюю ночь я провел вместе с Яном у ближних нефтяных скважин, занимаясь приготовлениями к путешествию в Полярную Страну. А утром, когда вернулся к морю, чтобы попрощаться с лунным народом и благословить его, прежде чем уйду, чтобы завершить свою жизнь вдали от этих мест, я узнал, что трое самых сильных и самых храбрых мужчин, как нам рассказали их жены, отправились на юг. Они построили сани, разместили на них электрический мотор и, взяв с собой, кроме запасов пищи, двух собак и меха, отправились ночью по замерзшему морю, чтобы достичь до утра противоположного берега в южной части планеты.
Безумное предприятие! Я уверен, что они никогда не вернутся, но тем временем должен внять просьбам Яна и Ады и ждать еще один день, чтобы благословить их, если они вернутся, прежде чем уйду.
Я спрашивал у жены Каспера, самого старшего из троих авантюристов, зачем они отправились на юг? Она отвечала, что они хотели посмотреть, что там. Больше никаких объяснений она дать не могла.
Жаль этих людей, потому что они несомненно погибнут.
Наступил день отъезда! Солнце уже несколько часов как взошло, и лед начал таять, вскоре я сяду в машину и направлюсь на север.
Без сожаления я прощаюсь с этой страной, хотя знаю, что уезжаю, чтобы уже никогда не вернуться сюда.
Только… в последний раз я смотрю на могилу Марты на далеком Острове, и на сердце у меня становится грустно…
Вчера до наступления вечера я провел несколько часов на этой могиле. Тяжело мне было с ней расставаться: это единственное место, дорогое мне в этом мире. Я взял с нее горсть земли — прижму ее к губам, когда буду умирать в далеких краях.
Время в путь… Собрались лунные жители, чтобы проститься со мной. Они не ропщут, не сопротивляются — знают, что так и должно быть. Ада, Ян и два его брата будут сопровождать меня в Полярную Страну. Я не мог отказать им в этом…
Те трое все еще не вернулись и, видимо, уже никогда не вернутся. Поэтому больше ждать я не стану. Впрочем, все так подавлены моим отъездом, что о них даже не думают. Только Ян вспомнил сегодня на восходе солнца их имена и добавил:
— Их ждала беда, потому что они отправились не спросив совета у Старого Человека.
В ответ ему послышался плач собравшихся вокруг него людей.
— Теперь уже некого будет спрашивать! — слышались прерываемые рыданиями слова…
По-моему, эти люди меня любят. Удивительное открытие — в эту прощальную минуту…
Но все равно! Время в дорогу!
В пути, на Равнине Озер.
Я облегченно вздыхаю в эту минуту при мысли, что моя лунная жизнь уже лежит позади, а впереди меня ждет краткое пребывание в Полярной Стране, первом нашем пристанище на Луне, а потом смерть перед лицом Земли, моей любимой планеты.
Теперь мне все кажется сном — моя прошедшая жизнь и эти люди, оставшиеся там, над морем — все исчезает в серебристой сонной мгле, сквозь которую виден только сияющий диск Земли.
Я потерял всякое терпение и так стремлюсь скорее увидеть Землю, что не могу унять свою тоску. Уже ночь, а сон бежит от меня. Я пытаюсь скоротать долгие часы, делая эти записи.
Мы остановились на ночь там, где когда-то Петр нашел первую нефтяную скважину. Сколько лет прошло с того времени! И снова мои мысли невольно обращаются в прошлое, которое осталось далеко позади. Перед моими глазами встают мои товарищи и Марта, их дети, которые тоже мертвы…
Ах, надо гнать прочь эти воспоминания, которые только расстраивают меня, когда мне нужно собрать все свои силы, чтобы добраться туда, где я смогу увидеть Землю!
Я так рвался отправиться в это путешествие, но должен признаться, что последние минуты прощания были мне тяжелы. Удивительная вещь все-таки человеческое сердце и крепка сила привычки. Видимо, можно привыкнуть и к тюремной решетке.
В последнее утро, едва я закончил предыдущую запись в дневнике, заметил собравшийся перед моим домом весь здешний народ. Они стояли молча, мрачные и печальные, и ждали. Я пересчитал их из окна; были все, за исключением тех трех. Автомобиль стоял наготове…
Я оглянулся назад, на те стены, в которых провел более пятидесяти лет, и, не желая, чтобы этот дом когда-нибудь послужил предметом идолопоклонства как «место пребывания Старого Человека», я собственноручно поджег его вместе со всем, что в нем еще оставалось, чем я некогда пользовался, и вышел к толпе… Яркое пламя выплеснулось за мной через двери и окна.
Это был мой погребальный костер.
Приглушенные крики вырвались из уст собравшихся, когда я встал перед ними. Они смотрели на горящий дом и на меня, но никто не двинулся с места, чтобы потушить пожар: они чувствовали, что я этого не хочу… Все стояли молча.
— Сегодня я в последний раз нахожусь среди вас, — начал я, чтобы что-то сказать, потому что в этой тишине, нарушаемой только треском огня, меня охватила грусть.
— Я ухожу от вас, — продолжил я, — в страну, в которую уже давно собирался уйти. Сомневаюсь, что когда-нибудь еще вернусь сюда, но вы, если захотите, сможете там меня навещать, пока я не умру…
Карлики молча смотрели на пылающий дом и на меня, у некоторых в глазах были слезы.
Я глубоко вздохнул, потому что на сердце у меня легла какая-то тяжесть.
— Вы все выросли на моих глазах, — начал я снова, с трудом подыскивая слова, — были со мной до этой минуты, но с этих пор вы будете жить одни и со всем справляться сами. Помните, что вы люди, помните об этом!
Голос у меня сломался.
— Я дал вам знания, не забывайте о них! Оставляю вам книгу, Священную книгу, привезенную с Земли, где говорится о сотворении мира, о предназначении человека, читайте ее почаще и живите, как положено.
Я снова замолчал, понимая, что говорю вещи банальные и бесполезные.
Тогда одна молодая женщина выступила из толпы и обратилась ко мне:
— Старый Человек, прежде чем ты уйдешь, скажи, разве это хорошо, что муж бьет жену?
Эти слова как будто прервали какую-то преграду. В одну минуту меня обступил рой женщин, которые жалобно спрашивали:
— Старый Человек, скажи, разве хорошо, что старший брат заставляет младшего трудиться из последних сил, если тот слабее?
— Скажи, разве дети имеют право выгонять родителей из дома, который они сами построили?
— Скажи, разве правильно, что кто-то один говорит: это мои поля — и не позволяет другим собирать с них урожай?
— Разве правильно, когда один у другого отнимает жену?
— Или портит инструменты?
— Или мстит за причиненный вред?
— Или обманывает для собственной выгоды?
— Скажи, разве это правильно?
— Скажи, прежде чем ты уйдешь, потому что и ты, и книги учат не делать этого, а между тем все это ежедневно происходит вокруг нас!
Страшная боль сжала мне сердце. Покидая этот народец, я уже ясно видел, какими путями пойдет его дальнейшее развитие Много доброты человеческой потеряли мы по дороге на Луну, но зло пришло сюда с Земли вместе с нами!
— Это плохо! — сказал я наконец. — Если у меня под носом происходят такие вещи, что же будет, когда я уйду?
— Так зачем же ты уходишь? — прозвучало в ответ.
Это был такой простой и одновременно страшный вопрос, что я опустил голову, как виноватый, не зная, что сказать в ответ Почему я ухожу?
В тишине был слышен только треск огня и приглушенный далекий гул вулкана.
Люди снова стояли молча. Видимо, они поняли то, что и я ощущал в эти минуты: отъезд мой неизбежен и неотвратим, так назначено судьбой и сопротивляться ей бессмысленно.
— Может быть, я еще когда-нибудь вернусь к вам. Живите в мире и согласии, — сказал я, зная, что обманываю их и себя.
— Не вернешься! — отозвалась молчащая до сих пор Ада.
Потом она повернулась лицом к собравшимся и добавила взволнованным голосом:
— Старый Человек нас покидает!
Было что-то страшное в этом крике, который заставил задрожать всех собравшихся.
— Так должно быть! — глухо сказал я.
Часом позже я уже находился в автомобиле вместе с Адой и ее племянниками, мы взяли курс на север…
Четвертый лунный день мы уже в пути. Солнце, взошедшее сегодня утром, уже не пошло вверх, а остановилось на горизонте, почти скользя по нему, едва поднявшись над линией гор на юго-востоке. Это знак того, что мы приближаемся к цели нашего путешествия. На севере передо мной вздымалась горная цепь, я уже различал невооруженным глазом вечно залитые солнцем вершины и ущелье между ними, как бы ворота в котловину, находящуюся на полюсе.
Сердце у меня бьется…
У сегодняшнего дня не будет конца, потому что в ту минуту, когда солнце должно будет зайти, мы будем уже на полюсе, в стране вечного света, где каждый час одновременно происходит и восход, и заход, и полдень, и полночь для разных меридианов, которые сходятся там под нашими ногами.
И тогда — я увижу Землю!
В Полярной Стране
После четырех лунных суток путешествия как раз в тот момент, когда солнце в окрестностях Теплых Прудов должно было заходить, наступила великая минута: мы прошли через ущелье в цепи гор, представляющих заградительную стену для полярной котловины.
С каким огромным волнением я приближался к этому месту, неотрывно глядя на небосклон, на котором в любую минуту могла появиться Земля, и когда неожиданно увидел ее между скалами, был так захвачен этим зрелищем, что даже не обратил внимания на то, что делают мои спутники. Только через несколько минут, поднявшись с колен (потому что я приветствовал мою далекую родину стоя на коленях, протянув к ней руки, как ребенок протягивает их к матери), я взглянул на мою дружину. Ян, старший сын Тома, и два его брата, которые пришли сюда со мной, стояли около меня с непокрытыми головами, замершие, с выражением священного испуга на лицах, глядя ошеломленным взглядом на светящийся диск Земли. Ада стояла впереди, протянув руки к Звезде Пустыни.
Прошло много времени, прежде чем она повернулась к своим задумавшимся товарищам:
— Оттуда он пришел, — сказала она приглушенным голосом, как бы не желая, чтобы я ее слышал, — и туда вернется, когда наступит время. Падайте ниц.
И они упали ниц перед лицом Земли, по которой ступали их предки…
Поднявшись, они не смели приблизиться ко мне, а когда я, наконец придя в себя, позвал их и все еще взволнованным голосом начал объяснять явление, которое предстало перед нашими глазами, они стояли, испуганные, около моих ног, как бы неуверенные в том, что в следующую минуту я не взлечу над их головами и не понесусь по воздуху к той светящейся звезде!
Если бы я мог это сделать!..
И тогда я вдруг почувствовал, что этим людям, стоящим около меня, я больше ничего не могу сказать.
И они долго стояли в молчании, пока, наконец, сгрудившись позади меня, не начали толкать друг друга локтями и шептать:
— Смотри, смотри, это оттуда он пришел! — говорил один другому, видимо, показывая на Землю.
— Тогда, когда здесь еще никого не было…
— Да… Он привел сюда прадеда Петра и его жену Марту…
— И того, который был отцом нашего деда, он оставил в пустыне мертвым. Так говорит Ада.
— Этого в Писании нет. Там речь идет только об Адаме, наверное, это Петр и о…
— Тихо, Писание — это совсем другое. Писание тоже он принес оттуда…
— Да, все сделал он, для первых людей он создал тут море и солнце, и озера…
Я быстро повернулся, услышав эти последние слова, и разговор, веденный вполголоса, утих.
Я хотел отругать их, но мне пришло в голову, что это совершенно бесполезно. Поэтому я только велел им разбить палатку, потому что мы останемся здесь надолго.
И с этой минуты потянулись часы нашего пребывания здесь, для них медленно, а для меня слишком быстро. Так дорога мне эта Полярная Страна, что страхом и болью пронзает меня сама мысль о возможности возвращения на море, к Теплым Прудам… Когда я нахожусь здесь, у меня такое чувство, что на этом краю лунного мира только один шаг через межзвездное пространство отделяет меня от Земли, и меня больше тянет к себе мертвая пустыня, которая начинается за этими горами, чем богатая земля, где я прожил столько лет.
Даже могила Марты на Кладбищенском Острове уже не тянет меня к себе. В этих краях мне гораздо больше все напоминает о ней. Здесь она была моей, хотя мы никогда не говорили с ней об этом; здесь она стояла у моей постели, когда я болел, здесь гуляла со мной по зеленым, пустынным лугам или взбиралась на розовеющие вершины — а там… она была женой другого, там я только наблюдал ее боль и унижение, сам униженный и больной.
Хорошо мне здесь, в Полярной Стране, так хорошо, как только может быть хорошо человеку, который утратил все, даже землю под ногами и живет только прошлым и мыслью о том, что неотвратимо…
Тихо, тихо, старое, безутешное мое сердце! Перед тобой светящийся диск Земли, перед тобой те самые луга, по которым мы ходили вместе с ней, которая уже мертва, — и наверное, твоя смерть уж близка — чего же тебе еще надо, мое старое сердце?
О мои братья, живущие там, на этой светлой планете, которая стоит в эту минуту перед моими глазами! Мои далекие, незнакомые, но все-таки родные братья! Земля, звезда светлая! Радость моих очей! Свет, горящий над пустыней! Земля моя, моя родина, моя утраченная мать!
Рыдания вырываются из моей старой груди, а слез уже нет, чтобы я мог оплакивать тебя, звезда, светящаяся над пустыней! Я протягиваю к тебе руки — самый далекий, самый несчастный из твоих сыновей, но единственный, перед кем ты предстаешь теперь в своем золотом обличии — среди других звезд на небе!
И я молюсь на тебя, покинутый и одинокий, я, которого ты знала ребенком, и который постарел вдали от твоей материнской груди.
Земля моя, прости меня за то, что, охваченный безумием жажды познаний, я ушел от тебя, увлеченный серебряным лицом этой мертвой планеты, которую ты много веков назад отбросила от себя, чтобы она светила тебе по ночам!
Земля моя! Не забывай обо мне, свети глазам моим, пока их не закроет смерть, которую я давно жду!
Когда же, наконец, душа моя, освободившись от тела, сможет подняться по сверкающим струнам, натянутым между тобой и этим страшным миром, и, добравшись до тебя, сможет поцеловать все то, что я так любил и о чем так тосковал!
Земля моя!
VI
У меня странное предчувствие, что я скоро умру. Эта мысль кружит вокруг меня, ею пропитан воздух, кровавые лучи солнца. Небо кажется мне похожим на мягкий саван, а Земля светит на нем, как серебряная лампа над могилой. Никогда я еще не чувствовал так остро, как теперь, что скоро умру…
Без боли, без сожаления и беспокойства думаю я об этом, но что удивительно — и без радости, которую должно было бы вызывать в моей душе приближающееся освобождение.
Мне кажется, что у меня еще остались какие-то дела: что-то совсем простое, но очень важное, однако я не могу понять, что именно. Это угнетает меня, благодаря этому ощущению я не радуюсь приближению смерти-избавительницы.
Во сне я отчетливо слышу, как меня зовут туда, на Землю. А я, также во сне, каждый раз отвечаю им: я хочу идти к вам, но не знаю дороги…
Разве не через безвоздушную пустыню лежит дорога на Землю?
Недавно я был на горе, откуда мы когда-то с Петром наблюдали затмение солнца, а потом смотрели на озеро, внезапно залившее полярную котловину.
Вместе со мной там была Ада. Она сама меня об этом попросила. Видя, что я часто поднимаюсь на окружающие нас горы, чтобы посмотреть оттуда на Землю или на пустыню, виднеющуюся на горизонте, она настаивала, чтобы я взял ее с собой, потому что и она хочет увидеть, на что я смотрю и о чем тоскую.
Идя сегодня со мной, она оделась в свои священные одеяния жрицы, а Яну сказала, что идет смотреть на Отчизну Старого Человека. По дороге меня смешила ее важность, глядя на нее, казалось, что она поднимается на эту гору для того, чтобы принести какую-то большую и священную жертву. Я уверен, что также думали люди, которых мы оставили внизу в долине. Они глядели нам вслед с почтением и каким-то испугом.
Мы молча поднимались в гору. Смех, разбирающий меня в долине, когда я смотрел на наряд Ады, отступил от меня куда-то далеко — я даже забыл, что эта женщина следует за мной. Я смотрел на Землю, медленно поднимающуюся над горизонтом по мере того, как мы поднимались выше, и на солнце, которое, как красный шар, висело на противоположной стороне горизонта. Под ногами у нас был ковер из растительности, окрашенной в розовый цвет солнечными лучами, над головой бледное, застывшее небо…
Странное ощущение охватило меня! Мне казалось, что поднимаясь в гору, я уже навсегда удаляюсь от лунных жителей и от всего этого опостылевшего мне мира; мне казалось, что я и в самом деле являюсь каким-то таинственным Старым Человеком, который уж выполнил свой тяжелый труд и теперь возвращается на родину, туда, к звездам… Меня озаряет своими лучами красное солнце и прощается со мной в этом мире, который был для меня только болью и тяжким трудом, а Земля поднимается передо мной, огромная, светлая, готовая принять меня в свое лоно…
Я уже стоял на вершине над безбрежным воздушным пространством, когда увидел на земном диске проплывающий по ней светлый клин Европы. Она была видна очень хорошо, хотя облака, висящие над Францией и Англией, скрыли ее контуры с той стороны… Но широкие польские равнины на востоке, как серебряное зеркало, упирающееся с одной стороны в темный пояс Балтийского моря, а с другой — в горную цепь Карпат, сверкающих сейчас, как нитка драгоценного жемчуга, — были видны как на ладони.
Таким неожиданным и таким чарующим было это появление моей Отчизны на голубом небосклоне, что я остановился, затаив дыхание, а потом неожиданно разрыдался, как ребенок, упав на вершину лунной горы.
Когда я поднялся, немного успокоившись, то с удивлением заметил, что Ада стоит на коленях у моих ног, и большие слезы текут по ее лицу.
— Что с тобой? — невольно спросил я.
Она вместо ответа обхватила руками мои колени и громко заплакала. Только через несколько минут я смог уловить среди рыданий слова:
— Ты несчастен, Старый Человек! — говорила она.
— И по этой причине ты плачешь?
Она ничего не ответила, только, сдерживая слезы, вглядывалась в золотистый диск Земли…
И снова наступило долгое молчание.
Наконец Ада подняла голову и посмотрела мне в лицо удивительно проницательным взглядом.
— Здесь, на Луне, все так печально и мрачно, даже ты, — сказала она. — Зачем ты сюда пришел? Зачем… с этой звезды…
Она замолчала, но через минуту заговорила снова.
— Мои родители умерли. А почему ты не умираешь?
— Не знаю.
Я сказал правду. Ведь мне действительно неизвестно, почему я не умираю.
В эту минуту меня снова охватил страх, потому что в голову мне пришло ужасное лунное предание, что я никогда не умру.
Ада долго молчала, потом отозвалась глубоким, приглушенным голосом, отвечая сама себе:
— Потому что ты Старый Человек. Но несмотря на это несчастен…
— Именно поэтому я и несчастен, — ответил я.
Спускаясь через какое-то время с горы, я испытал иллюзию, которая вызвала слезы в моих глазах. Когда я неожиданно увидел палатку Яна и его братьев, стоящую на том же самом месте, где когда-то стояла наша палатка, то на мгновение мне показалось, что в этой палатке нас ждут Марта с маленьким Томашем на руках и задумчивый, как обычно, Петр, но только молодой и не такой сломанный, как там, на берегу моря.
Но эту иллюзию грубо разрушил вид карликов, крутящихся вокруг палатки.
Увидев их, я остановился, почувствовав внезапно отвращение к ним. Ада заметила это.
— Ты не хочешь идти к ним, Старый Человек? — спросила она.
Что я мог ответить ей? Я невольно обернулся и посмотрел на Землю, поскольку мы были уже почти в долине, только край ее был виден на горизонте.
Ада, поймав мой мимолетный взгляд, испуганно и умоляюще сложила руки:
— Нет! Нет! Еще не сейчас! Ты им еще нужен!
Она боялась, как бы я не вернулся туда, на мою Отчизну.
— Ты думаешь, я могу вернуться на Землю? — спросил я.
— Ты можешь все, что захочешь, — ответила она, — но… не надо этого хотеть!
Я вернулся к палатке усталый и расстроенный и лег спать, но и это не принесло мне отдыха. Сначала, в течение нескольких часов, мне не давал уснуть шепот моих спутников, которые, окружив Аду, допытывались у нее о нашей прогулке: что я говорил, что делал?.. Меня страшно раздражали эти голоса, а когда я наконец заснул, мне снились минувшие дни, Марта, лунная пустыня и Земля, Земля!
Так мучают меня эти сны..
Я бы хотел остаться один. Общество этих людей, которые пришли сюда со мной, мучает меня и томит Мне кажется, что они постоянно стоят между мной и Землей, и бросают какую-то тень на душу.
А они тем временем и не помышляют об отъезде! Разбили на равнине лагерь, устраиваются, делают запасы, как будто целый век собираются тут жить. Неужели они питают иллюзии, что со временем смогут склонить меня к возвращению?
Но кто знает, нет ли во всем этом руки Ады? Все больше и больше удивляет меня эта женщина. Иногда я уже сам не могу понять, действительно ли я имею дело с сумасшедшей, настолько в новом свете предстают передо мной ее слова и поступки. Разве не удивительно, что эта безумная женщина — самая разумная из всех рожденных здесь людей?
А впрочем, какое мне до всего этого дело? Я человек из другого мира, уже отживший и чрезмерно уставший от того, что мне пришлось пережить.
О, если бы эти люди дали мне наконец покой и ушли, оставив меня в одиночестве!
Земля моя! Земля, ты не знаешь, как мне тяжело жить без тебя, и как я хотел бы уже умереть! Хоть завтра, сегодня, сейчас…
Что за безумные мысли приходят в голову! Еще вчера я хотел умереть, а сегодня хочу прожить хотя бы несколько лунных дней — а потом пусть будет все, что угодно! Да, я должен сделать это, должен!
Слава Богу, что наш старый автомобиль находится со мной и в нем достаточно всяких припасов…
И ведь это так просто! Удивительно, что раньше я не подумал об этом!
Земля моя! Братья мои дорогие! Я совсем не так оторван от вас, как сам думал до недавнего времени, — у меня есть возможность переслать вам известия о себе и — хотя мне придется заплатить за это Своей жизнью — я сделаю это, если Бог мне поможет!
Тогда я смогу умереть в пустыне в полном блеске моей родной звезды, но до этого…
Только бы мне ее найти! Только о ней теперь я думаю и мечтаю! Не знаю, желал ли я хоть раз в жизни свидания с любимой женщиной так, как желаю найти ее, нашу пушку, оставленную пятьдесят лет назад у могилы О’Тамора!
Когда мне в первый раз пришло это в голову, меня охватило радостное безумство, казалось, ко мне пришло чудесное видение, указывающее мне способ сообщения с моими братьями, оставшимися на Земле!
Ведь я живу здесь пятьдесят земных лет, но до сих пор ни разу не подумал о том, что там, на Синус Эстуум, посредине каменный пустыни у могилы О'Тамора, стоит пушка, нацеленная точно в середину серебряного земного диска и только ждет искры, чтобы выбросить доверенное ей послание через межзвездное пространство к Земле.
Да, я пойду в мертвую пустыню искать эту пушку, пойду искать труп старика О’Тамора в скалистой могиле, который охраняет ее все эти годы, глядя на Землю мертвыми глазами… Я знаю, что оттуда я уже не вернусь, потому что я уже слишком стар и измучен, а, самое главное, мне незачем сюда возвращаться. Смерть пренебрегла мной, она не хотела прийти за мной сюда, к морю, значит, я пойду ей навстречу в ту страшную страну, где должна быть ее обитель.
И навсегда успокоюсь там, рядом с О’Тамором и разряженной пушкой, на скалах, перед светлым ликом Земли в зените… Хоть бы скорее наступила эта минута!
Но до этого… Сердце колотится у меня в груди! До этого я сверну этот дневник, эту книгу моей боли, которую когда-то хотел оставить новому лунному поколению, прижму ее к груди, поцелую и отправлю в снаряде, как письмо в стальном конверте, к вам, далекие мои братья, любимые братья мои!
Я мечтаю об этом, и кровь пульсирует у меня в висках Интересно, как там на Земле кто-то найдет стальной снаряд — может, это будет только через несколько недель, может, через несколько лет или веков? — и открыв его, вынет оттуда бумажный сверток… Тогда вы, незнакомые братья мои, прочтете то, что писал я с неустанной мыслью о вас и обшей матери нашей, Земле, которая знакома вам в зелени, в цветении или серебристо-морозном убранстве, а я знаю ее так же как небесное светило, чистое и спокойное, много веков освещающее мир тишины и смерти!
Как же это произошло?
Солнце уже в третий раз поднималось над пустыней с тех пор, как мы прибыли после долгого и утомительного путешествия в Полярную Страну, когда Ян, найдя меня, задумчиво сидящего на горе, неожиданно сказал:
— Старый Человек, пора возвращаться!
Я вздрогнул, услышав эти слова, погруженный в мысли о Земле, я не сразу понял их смысл и подумал, что он призывает меня к возвращению туда, откуда мы пришли!
Но он продолжал.
— Нас ждут жены и дети… Нам пора возвращаться на море, к Теплым Озерам, к нашим полям, Старый Человек…
Говорил он робко, как будто просил, а не требовал, но несмотря на это в голосе его и лице я прочитал твердое решение.
И внезапно меня охватило чувство страшной тоски: эти люди пришли сюда со мной и теперь думают о возвращении, о своих семьях, о родине, по которой тоскуют и которую вскоре увидят — а я? Мой дом, моя родина и отчизна там — на небе! Мне не удастся ни вернуться туда, ни жить там когда-либо, хотя меня снедает тоска в сто раз большая, чем тоска этих людей по кусочку Луны над берегом моря! Я почувствовал ревность.
— Возвращайтесь! — сухо ответил я.
— А ты? — воскликнул Ян с удивлением и страхом, отпрянув от движения моей руки, которой я указал ему дорогу на юг.
— Я останусь здесь. Я уже говорил вам, когда брал вас с собой, что уезжаю, чтобы никогда больше не возвращаться…
— Да, — прошептал Ян, — но я думал, что со временем ты… Тут плохо жить людям…
— Так возвращайтесь. Я остаюсь.
Больше он не сказал ни слова. Только наклонил голову и быстро отошел — к Аде! — сразу подумал я, — за советом!
Я не ошибся. Через несколько минут пришла лунная жрица. Я был готов к какой-либо смешной сцене с просьбами, заклятиями, даже плачем, но меня удивило, что Ада пришла одна, тихая, и, не обращаясь ко мне ни с какими просьбами, спросила:
— Ты остаешься тут смотреть на Землю, Старый Человек?
Я молча кивнул.
— Но туда ты еще не уходишь? — говоря это, она кивнула в сторону Земли и лежащей под ней мертвой лунной пустыней.
Я невольно посмотрел в ту сторону, и тогда в первый раз у меня мелькнула мысль, что я мог бы отправиться туда, в пустыню, которую я пятьдесят лет назад преодолел вместе с товарищами, чтобы, хотя бы на короткое время, прежде чем умру, ощутить близость Земли, находящейся прямо над моей головой. Сегодня эта мысль уже полностью овладела мной, она ни на минуту не оставляет меня, но тогда это был только первый ее проблеск, который я сразу приглушил, думая, что это нереально.
— Ты не уйдешь туда? — повторила жрица.
Я заколебался.
— Нет Пока нет.
— Значит… А ты не мог бы вернуться с ними к морю? Им так хочется, чтобы ты был среди них.
— Нет, — резко ответил я, видя, что уже начинаются просьбы, — я остаюсь здесь.
— Как хочешь, Старый Человек Они будут очень опечалены этим, но… делай, как ты считаешь нужным Когда они вернутся одни, их будут спрашивать, а где Старый Человек, которого мы с детства привыкли видеть? Они опустят голову и ответят. Он покинул нас. Но ты поступай, как хочешь. В конце концов они знают что ты был только гостем среди них, и что придет время, когда они должны будут остаться одни.
— С ними останешься ты и будешь править ими Даже Ян слушает тебя.
— Нет, я не останусь с ними.
Я удивленно посмотрел на нее, а она после минутного колебания склонилась к моим ногам:
— У меня есть к тебе просьба, Старый Человек…
— Говори.
— Не прогоняй меня!
— Что?
— Не прогоняй меня. Позволь мне остаться с тобой.
— Со мной здесь? В Полярной Стране?
— Да. С тобой в Полярной Стране.
— Но зачем? Что ты будешь здесь делать? Твои родственники там, над морем!
— Я знаю, что ты не родственник мне, потому что ты пришел с далекой звезды, я знаю, но позволь мне…
Я задумался над этой странной просьбой.
— Почему ты хочешь остаться со мной? — спросил я наконец во второй раз, — здесь тебе будет тоскливо…
Ада наклонила голову и приглушенным, но глубоким и сильным голосом ответила:
— Потому что я люблю тебя, Старый Человек.
Я молчал, а она продолжала:
— Я знаю, что это вопиющая дерзость с моей стороны, когда я говорю тебе, что люблю тебя, но я не умею иначе назвать то, что я к тебе чувствую. Моих родителей я почти не помню. Помню только, что они были несчастны. Тебя я знаю с детства и вижу в тебе какое-то величие, какой-то свет и силу, что незнакомо мне, и я знаю, что ты принес это с собой, со звезд.
Она замолчала, и пока я, удивленный, еще продолжал вслушиваться в ее слова, заговорила снова.
— К тому же ты был несчастен и одинок, одинок всю свою жизнь, так же, как и я. Не знаю, зачем ты пришел сюда с той звезды, которая светит над пустыней… Так тебе захотелось… Я знаю, что ты делаешь все что захочешь и во мне не нуждаешься, но я хочу служить тебе и быть с тобой до конца. Не прогоняй меня Ты великий, ты добрый и мудрый!
Говоря это, она снова склонилась к моим ногам и застыла, прижавшись лбом к моим коленям.
— А когда ты захочешь уйти, вернуться к своей сияющей на небе отчизне, — снова заговорила она немного погодя, — я провожу тебя до границ этой огромной и мертвой пустыни, прощусь с тобой и буду долго-долго смотреть тебе вслед, Старый Человек, пока ты не исчезнешь с моих глаз, и только тогда вернусь к людям на морском побережье и скажу им: Он уже ушел… А потом умру.
Пока она говорила непривычным для нее и для меня мечтательным шепотом, лунные жители подошли близко к нам и слушали ее слова, затаив дыхание Внезапно я услышал приглушенный голос Яна.
— Старый Человек уйдет от нас… на Землю!
Потом послышался плач Странный, трогательный, тихий плач.
Удивительно! Обычно меня только раздражал и сердил плач этих карликов, а сейчас — не знаю — либо от волнения, вызванного неожиданными словами Ады, либо из-за возникшей у меня мысли о последнем путешествии в пустыню под светящуюся над ней Землю, меня охватила огромная жалость к ним и печаль.
Я повернулся к ним, и Ян, видимо, осмелевший под моим взглядом, выступил на несколько шагов вперед и сказал, глядя мне в глаза:
— Старый Человек, разве это обязательно? Разве там еще ждут тебя? Ты обещал им вернуться? А мы должны остаться одни?
В эту минуту меня как будто обухом ударили по голове! Ко мне внезапно пришло озарение!
Пушка!
Да, пушка! Пушка, оставленная у могилы О’Тамора, там, в пустыне!
Перед глазами у меня все закружилось. Обеими руками я схватился за сердце, боясь, как бы оно не выскочило из груди.
Я устремил свой взор на краешек земного диска, виднеющийся на горизонте, а в голове у меня мелькали какие-то сумасшедшие обрывки мыслей: путешествие… пустыня… пушка… выстрел… мои земные братья… дневник… а потом серая мгла, все растворяющая в себе: я понял, это смерть!
Я совершенно забыл, где я нахожусь, что делается вокруг меня. Они, онемев, смотрели на меня с огромным удивлением, но я их не видел. Как сквозь сон до меня долетел только голос Ады:
— Отойдите, Старый Человек разговаривает с Землей. Скоро он покинет нас.
Когда я пришел в себя от первого ошеломляющего впечатления, которое произвела на меня эта мысль, то заметил, что нахожусь в одиночестве.
Я понял, что это указание свыше, что я должен идти в пустыню, найти пушку, переслать на Землю последнее сообщение и свой прощальный привет и умереть в пустыне.
Через какое-то время я рассказал Аде и Яну о своем решении, они выслушали его с мрачно опущенными головами, но без всяких возражений, как будто были готовы к этому.
О возвращении их на море не было и речи. Они хотели остаться здесь до моего отъезда.
Окончилась моя лунная трагедия! Я нахожусь там, где в первый раз увидел на Луне луга, зелень и жизнь; тогда я пришел сюда после трудного путешествия через мертвую пустыню, а сейчас ухожу, чтобы преодолеть ее во второй и последний раз.
Тяжело у меня на сердце, но в то же время удивительно спокойно. Я смотрю на минувшую жизнь, и мне кажется, что наступило время подвести итоги. Я хотел бы, как это делают люди на Земле, готовясь к смерти, очиститься от грехов, но удивительная вещь, на уста мне просятся мои несчастья. Возможно, они и являются мои грехами?
Еще в детстве мне было тесно на Земле, которую создал для нас Господь, и я все время мысленно летел в иные миры, сверкающие на небосклоне…
Едва став мужчиной, я был охвачен безумной жаждой познания новых миров, и воспользовался обстоятельствами, чтобы с легким сердцем покинуть мать-Землю ради серебряной планеты, притягивающей лунатиков. Я был грешен, Господи, и поэтому несчастен…
Я видел смерть товарищей и друзей, страдая в душе, но готов был бороться с ними за глоток воздуха, необходимый для поддержания жизни, либо за женщину, которая не принадлежала ни одному из тех, кто протягивал к ней руки… А будучи свидетелем ее несчастья, виновником которого тоже являлся, не сделал ничего, чтобы помочь ей…
Потом я остался один в этом страшном мире, куда занесла меня собственная воля, и, занимаясь воспитанием порученного мне поколения лунных жителей, не сумел пробудить в них духовности и заставить их обратить глаза к небу… Да, вместо любви я испытывал к ним презрение и позволил почитать себя и молиться мне, в то время как это должно принадлежать Тебе одному, Господи!
А теперь, измученный тоской и болью, я оставляю этих вверенных мне людей и отправляюсь в последнее, печальное путешествие, встретить смерть перед лицом Земли!
Грешен я, Господи, и несчастен!
Жизнь моя распалась на две большие части, из которых одна была полна желанием познать неизведанное, а другая — тоской по утраченному… И обе были болезненны и печальны…
Я не получил то, чего желал, потому что лишь на шаг продвинулся на пути познания, и даже не знаю всех тайн того места, где нахожусь. Напрасно я всем пожертвовал, напрасно преодолел голубое межзвездное пространство, прошел по пустыне, страшнее которой ничего не может быть, напрасно столько лет прожил на этой серебряной планете: вокруг меня и сейчас столько же загадок, сколько полвека назад…
И тоскую я по тому, что никогда не вернется назад.
И так прошла вся моя жизнь!
С умилением и тоской я смотрю на пустыню, в которую вскоре направлю свой автомобиль, чтобы остаться одному — до самой смерти.
Эти люди, последние, каких я вижу, останутся здесь… Они, наверное, поднимутся на гору и еще долго будут смотреть мне вслед, на черный автомобиль, исчезающий вдали, а потом вернутся к своему народу и скажут: Старый Человек ушел от нас.
И из этого, из этих слов здесь когда-нибудь вырастет легенда, как и о нашем приходе в этот мир!
Грешен я, Господи..
Приближается минута отъезда
VII
Я один — и такой ужас охватывает меня при ощущении этого безмерного одиночества и тишины. Мне представляется, что я уже умер и плыву в этом автомобиле, как в ладье Харона, в какие-то неизвестные края…
А ведь я знаю этот путь и уже видел эти горы, выступающие вокруг на горизонте Я уже проезжал здесь много лет назад, много-много лет назад! Но тогда мы двигались к жизни, а теперь..
Боже! Дай мне еще достаточно сил, чтобы я смог добраться туда, к могиле О’Тамора! Ни о чем я тебя больше не прошу.
Я обещал лунному народу, что если у меня хватит сил вернуться из пустыни, я поселюсь с ними до конца жизни, но я знаю, что не вернусь отсюда…
Хотя, возможно, мое присутствие на Теплых Прудах сейчас нужнее, чем когда-либо.
Если это правда…
Удивительную и страшную вещь услышал я в минуту отъезда.
Я уже собирался залезть в автомобиль и прощался со столпившимися вокруг меня, когда вдруг у входа в котловину заметил двоих людей. В первый момент я даже подумал, что мне просто показалось, но вскоре сомнения отпали два человечка быстро приближались к нам… Ян тоже увидел их и закричал:
— Прислали за нами! Там, видимо, произошло что-то страшное!
Предчувствие его не обмануло — это были послы, принесшие удивительную и страшную весть.
Вскоре после нашего отъезда из страны Теплых Прудов смелые авантюристы, которых все считали погибшими, вернулись из экспедиции на южный берег моря, Но вернулись они только вдвоем Третий не вернется никогда И эти двое принесли такие вести, что было решено скорее послать за мной в Полярную Страну и убедить вернуться на море.
Два выбранных посла отправились в путь вверх по течению реки, потом, руководствуясь рассказами Ады, пробираясь через ущелья, они благополучно и достаточно быстро достигли полярной котловины.
Я нетерпеливо слушал их рассказ, желая узнать, что заставило их проделать это необычное путешествие?
Наконец послы, расспрашиваемые мной и Адой, начали, перебивая друг друга, рассказывать историю путешествия упомянутых авантюристов.
Из хаотичных отрывков фраз я смог понять только то, что подгоняемые сильным попутным ветром на санях, к которым были приделаны паруса, они в течение долгой ночи пересекли замерзшее море и на восходе солнца достигли противоположного берега в южном полушарии. Это было понятно, но дальше было трудно понять многое из того, что они говорили… Впрочем, это было так невероятно…
Среди гор, на просторных равнинах там якобы живут какие-то странные существа — полулюди-полузвери, прячущиеся от холода в глубоких ямах, выкопанных вокруг превратившихся от времени в руины городов. С этими существами, необычно агрессивными, наши путешественники вынуждены были вступить в схватку, из которой, потеряв одного спутника, вышли победителями только благодаря применению огнестрельного оружия Назад они бежали в жутком страхе, потому что эти существа гнались за ними по льду.
— Это такие злые чудовища! — говорил рассказывающий, трясясь от страха только при одном воспоминании. — Маленькие, но очень злые! Мы вынуждены были бежать, потому что чудовищ было очень много и они были невероятно злобными! У них такие длинные руки и клювы вместо ртов… Каспера они поймали длинным шнуром и растерзали, а потом стащили труп в глубокую яму, в которой живут. Места там очень хорошие, но эти чудовища страшно злые! Спутники бедного Каспера рассказывали нам об этом. Эти чудовища гнались за ними, но у них были сани с мотором и собаки, поэтому им с большим трудом удалось бежать Да, там за морем чудесная страна, прекрасная страна за морем, на юге. Там стоят большие селения, но они все разрушены от времени, есть какие-то огромные фабрики или заводы, но тоже разрушенные, заросшие мхом. Эти чудовища охраняют все это, но, по-видимому, не знают, что со всем этим делать. Они живут в ямах и страшно злые!
Напрасно я пытался узнать у них какие-либо подробности об этих существах, живущих за лунным морем: они ничего не могли рассказать. Я только еще раз услышал историю возвращения путешественников из-за моря, страшную, бросающую в дрожь На обратном пути ветер был переменный, поэтому одной ночи на возвращение не хватило. Лед уже начал трещать в утренние часы, когда испуганные путешественники благополучно добрались до маленького и почти пустого островка, на котором они смогли укрыться в ямах от страшной экваториальной жары, и просидели целый день в ожидании ночи и мороза, чтобы отправиться дальше Во вторую ночь ветер отнес их далеко к западу, вдобавок в конце путешествия у них сломался мотор, поэтому они с огромным трудом вынуждены были идти пешком по побережью, заставив собак тащить сани по песку.
Достигнув наконец страны Теплых Прудов, они узнали, что Старого Человека там уже нет.
— Так чего вы хотите от меня? — спросил я, выслушав их удивительный рассказ.
— Защити нас, Старый Человек, защити! — закричали одновременно оба посла. — Нам плохо без тебя, и на нас обрушиваются всякие несчастья! Эти чудовища теперь обязательно переберутся через море, раз они уже знают о нашем существовании и будут сражаться с нами, притеснять нас, уничтожать! А их ведь больше, значительно больше, чем нас!
С умоляюще сложенными руками они бросились мне в ноги, я почувствовал устремленные на меня испытующие и умоляющие взгляды Яна и его братьев — одна только Ада была, неподвижной и с виду безразличной.
А я стоял, потрясенный до глубины души, сомневающийся, неуверенный в том, что мне следует сказать, что сделать, ошеломленный не только возможностью нападения этих существ на человеческую колонию, но и самим известием, что здесь живут какие-то, по-видимому разумные, существа Была минуты, когда я думал уже отказаться от своего счастья, от намерения переслать сообщение о себе вам, мои земные братья, чтобы остаться среди лунных жителей, увидеть этих удивительных существ, живущих за морем, о существовании которых случайно узнал только теперь, после пятидесятилетнего пребывания здесь, и в случае необходимости защищать от них потомство моих умерших друзей.
Но эти сомнения длились недолго. Меня охватила безграничная тоска. Какое мне дело до лунных жителей, как тех, что прибыли сюда с Земли, так и других, остатков какого-то старого лунного племени, живущих в ямах вокруг разрушившихся городов, в которых, видимо, некогда хозяйничали их предки? Пусть сражаются, пусть истребят друг друга… Какое мне до этого дело? Я уже старик и не знаю, хватит ли у меня жизненных сил, чтобы проделать далекое, смертельное путешествие в безвоздушной пустыне, почему же я должен отказываться от него из глупой жалости или еще более глупого любопытства? И кто знает, насколько правдив рассказ этих двух безумцев? Может быть, это вовсе не города там стоят, а выветрившиеся скалы? И может быть, эти лунные жители всего лишь неразумные животные? Я уже стар, и у меня нет времени беспокоиться об этом, мне нужно быстрее достичь могилы О’Тамора и умереть там, перед лицом Земли, светящейся на небосклоне.
— Я ничем не могу вам помочь, — прошептал я наконец, — думайте сами о себе. Меня ждет неотложная дорога, и ведет она совсем в другом направлении…
— Я знала, что ты так ответишь, — сказала Ада, когда я уже поставил ногу на ступеньку автомобиля.
Но Ян обхватил мои колени:
— Пообещай нам только, — закричал он, — если иначе ты не можешь, обещай нам, что вернешься к нам из этой пустыни, куда ты отправляешься! Мы будем ждать тебя, и мысль о тебе будет поддерживать нас в борьбе, которая выпадет нам!
Я заколебался.
— Если хватит моих сил и жизни моей, я вернусь!
Ада повернулась к собравшимся:
— Он вернется, но только туда!
Говоря это, она протянула руку к краю Земли, виднеющемуся на горизонте.
Я был уже в автомобиле, когда до меня долетели ее последние слова:
— А сюда он вернется только через века, через века, когда исполнится…
На море Имбриум, под Тремя Головами
Я проделал страшный путь, стремясь к вам, братья мои! Меня охватывает ужас, как только я подумаю об этом бесконечном одиночестве, о преодолении гор, расщелин обширной и мертвой пустыни. Я проплываю через море темноты в полном одиночестве, впереди меня ждет ослепляющая жара и безжалостный мороз И пустота…
Я двигаюсь по иному пути, нежели тот, каким мы добирались сюда, но он не менее страшен Опасаясь памятной грозной расщелины в Поперечной Долине, я по Морю Морозов обошел кольцо Платона с запада и после этого оказался на той огромной равнине, которая ведет до самого подножия Эратостенеса..
Зачем я буду вам рассказывать о трудностях пути, который я уже преодолел? Меня наверняка ждут еще большие трудности.
Я уже был на том месте, где мы некогда видели Город Мертвых. Но сейчас там ровная пустыня, я не заметил ничего, ни скалы, ни какого-либо следа…
Неужели тогда мы стали жертвами иллюзии, или сейчас я ошибся и прошел мимо этого проклятого места?
А может быть, караван трупов свернул свои каменные палатки и отправился дальше в пустыню, на безбрежную мертвую равнину?..
Страх идет за мной, страх идет впереди меня — а я остаюсь наедине со своим одиночеством…
Встает сверкающее солнце, на черном бархатном небе сияют разноцветные звезды — и так страшно., страшно… И зачем мне искать Город Мертвых, его можно найти быстро, достаточно быстро, разве вокруг меня не Страна Смерти?
У Эратостенеса.
Еще одно, последнее усилие… Последняя гора, последняя вершина. Я обойду ее с юга и запада и попаду на Синус Эстуум — а оттуда — к каменной могиле старца О’Тамора..
Продуктов и запасов воздуха у меня еще достаточно, лишь бы только хватило сил! Они у меня быстро убывают… Знаю, что здесь мне придется умереть… Я уже давно лишен сна, не могу спать даже ночью, даже в часы полуденной жары. Когда в последний раз мне удалось заснуть где-то посредине Моря Дождей после захода солнца, меня все время преследовали разные голоса и видения… Сначала мне казалось, что я слышу за собой крики оставленных людей которые умоляли меня вернуться и защитить их от лунных жителей, которые уже переправились через море и жгут их дома, убивают женщин и детей… Едва мне удалось уснуть после этого кошмара, мне снова привиделись образы моих умерших спутников и друзей Они приветствовали меня и звали к себе, чтобы я вместе с ними — тень среди теней — блуждал в пустоте… И в конце концов мне привиделось, что меня зовут с Земли, и это был единственный призыв, на который я ответил всем своим существом.
Теперь я проснулся и иду за этим зовом, мои земные братья И знаю, что уже не засну до тех пор, пока не смогу в последний раз сомкнуть свои веки. До этого времени уже недолго…
Над могилой О'Тамора — в последний час.
Слава Богу, слава Всевышнему я нашел дорогу и это место… проклятое место, где в первый раз наша нога коснулась поверхности Луны… но оно же и благословенное, потому что отсюда я могу послать на Землю весточку о себе.
Я стою над могилой старика О’Тамора и удивляюсь, видя, что он моложе меня, живого Годы прошли над ним, не коснувшись его, как легкий ветерок над скалами из гранита. Здесь, в этой безвоздушной пустыне, отсутствует разложение: старик О’Тамор выглядит так, как в те минуты, когда его опускали в могилу, и неустанно смотрит широко открытыми, мертвыми глазами на сияющую Землю А я, который отошел от этой могилы молодым человеком, стою теперь над ним с седой бородой до пояса, остатком седых волос на облысевшем черепе и со страхом в гаснущих глазах..
Слишком долго я жил, старина 0’Тамор! Слишком долго!
Орудие я нашел: оно прекрасно сохранилось, ждало меня пятьдесят с лишним лет… И вот я пишу последние слова, прежде чем запечатаю эти бумаги в снаряд, который понесет их на Землю!
Запасы продовольствия уже закончились, воздуха мне хватит только на два-три часа Надо торопиться..
Со времени нашего ИСХОДА прошло семьсот семь лунных дней.
Земля моя! Потерянная Земля!
НА ЭТОМ ОБРЫВАЕТСЯ РУКОПИСЬ. НАЙДЕННАЯ В КАПСУЛЕ. УПАВШЕЙ С ЛУНЫ.
Победитель
Часть первая
I
Малахуда вздрогнул и резко обернулся. Шелест был таким тихим, почти неслышным, даже падающая страница пожелтевшей книги, которую он читал, производила больше шума, но ухо старика сразу же уловило его в этой бездонной тишине священного места.
Он заслонил глаза от света люстры, висевшей под сводчатым потолком, и посмотрел в сторону двери. Она была открыта, и в ней, именно в этот момент делая последний шаг, остановилась молодая девушка.
Она была почти нагой, как обычно ходили ночью дома незамужние женщины, только с плеч свисал пушистый белый мех, изнутри и снаружи покрытый одинаковым мягким ворсом. Распахнутый спереди и имевший только широкие прорези для рук, он мягкой волной спадал по ее молодому телу до самых стоп, обутых в маленькие башмачки, отороченные мехом. Золотисто-рыжие волосы девушки были свернуты над ушами в два огромных узла, из которых свободно опущенные концы спадали на плечи, рассыпая золотые искры по снежной белизне меха На шее у нее было ожерелье из бесценного пурпурного янтаря, которое, по преданию, много веков назад принадлежал священной жрице Аде и из поколения в поколение переходил как самое дорогое украшение в роду первосвященника Малахуды.
— Ихезаль!
— Да, это я, дедушка.
Она все еще стояла в дверях, белея на фоне темной зияющей пасти поднимающихся куда-то вверх ступеней, держась за ручку двери и смотря на него огромными черными глазами.
Малахуда встал. Дрожащими руками он сгребал книги, лежащие перед ним на мраморном столе, как будто хотел их укрыть, недовольный и растерянный… Он что-то бормотал про себя, быстро двигая губами, брал тяжелые фолианты и бесцельно перекладывал их на другую сторону стола, пока, наконец, не повернулся к пришедшей:
— Разве ты не знаешь, что, кроме меня, никому нельзя сюда входить? — почти с гневом спросил он.
— Да… но… — она замолчала, ища слова.
Ее большие глаза, как две быстрые и любопытные птицы, скользнули по таинственной комнате, осматривая огромные, украшенные богатой резьбой и золотом ларцы, в которых хранились священные книги, на минуту задержались на странных украшениях или таинственных знаках из кости и золота на выложенных отшлифованными кусками лавы стенах, и снова вернулись к лицу старика.
— Но ведь теперь уже можно, — настойчиво сказала она.
Малахуда молча отвернулся и пошел в глубь комнаты, к огромным часам высотой во всю стену Он пересчитал уже упавшие ядра в медной миске и посмотрел на стрелки.
— Еще тридцать девять часов до восхода солнца, — твердо сказал он, — иди и спи, если у тебя нет никаких дел..
Ихезаль не двинулась с места. Она смотрела на деда, одетого как и она, в домашнюю одежду, только что мех был черный и блестящий, а под ним кафтан и штаны из мягко выделанной черной собачьей кожи, на седых же волосах — золотой обруч, без которого даже первосвященникам нельзя было входить в это священное место.
— Дедушка…
— Иди спать! — решительно повторил он.
Но она неожиданным движением упала к его ногам и обхватила его колени.
— Он пришел! — крикнула она с радостью, которую до сих пор с трудом сдерживала, — дедушка, он пришел!
Малахуда отдернул руку и медленно уселся в кресло, опустив на грудь густую седую бороду.
Теперь девушка смотрела на него с явным удивлением.
— Дедушка, почему ты не отвечаешь? С самого детства, едва я научилась говорить, ты учил меня этому древнему приветствию, которое нас, людей, отличает от зверей и от тех, кто хуже их, от шернов, и от еще более худших, потому что они обликом похожи на людей, морцов — и я всегда приветствовала тебя, как положено, словами: «Он придет!», а ты всегда, как положено, отвечал «Придет воистину». Почему же теперь, когда этот великий, счастливый день наступил и я могу сказать тебе «Он пришел», ты не отвечаешь мне - «Пришел, воистину».
Она говорила быстро, запальчиво со странным лихорадочным блеском в глазах, порывисто дыша белоснежной грудью, на которой сиял бесценный пурпурный янтарь священной жрицы Ады…
— Дедушка! Пророк Тухейя, который был известен еще твоим предкам, когда-то написал: «Он придет в дни самого большого угнетения и спасет свой народ. И если он ушел от нас старцем, потому что никогда не был молодым, то вернется он молодым человеком, светлым и лучезарным, ибо никогда уже не будет старым!» Дедушка, он там! Он идет! Он вернулся с Земли, на которую улетел много веков назад, чтобы выполнить то, что обещал устами своей первой прорицательницы Ады — идет в ореоле славы и величия, молодой, победоносный, прекрасный! О! Когда же наконец наступит этот миг! Когда я смогу его увидеть и расстелить под его благословенные стопы свои волосы!
Говоря это, она быстрым, почти незаметным движением распустила свернутые над ушами волосы, и они покрыли малахитовый пол, где она склонилась у ног старца, душистым золотым покрывалом.
Малахуда по-прежнему молчал. Могло показаться, что он даже не видит стоящей перед ним на коленях девушки и не слышит потока ее слов. Его потускневшие задумчивые глаза смотрели куда-то в глубь комнаты — может быть, по привычке? — где во мраке блестел на стене, в отблесках свечей, золотой священный знак, изображающий выглядывающую из-за горизонта Землю со стоящим над ней Солнцем.
Ихезаль невольно проследила глазами за его взглядом и заметила выступающие из темноты два соединенных золотистых диска на черном мраморе, таким простым способом изображающие великую тайну, передающуюся из века в век, из поколения в поколение: что люди пришли на Луну с Земли, огромной звезды, светящейся над безвоздушной пустыней, и что туда ушел Он, Старый Человек (который взял себе это имя и не позволял называть себя иначе), и откуда Он вернется победоносным молодым человеком и избавителем. Ее охватил благоговейный страх, она поднялась и большим пальцем правой руки быстро начертила на лбу круг, потом большой полукруг от одного плеча, через губы, к другому, и линию горизонта на груди, одновременно шепча привычные слова заклятия: «Он нас спасет — уничтожит врага нашего — так будет воистину».
Малахуда повторил, как эхо:
— Так будет, воистину… — Какой-то спазм боли или горькой иронии сдавил последнее слово у него в горле.
Ихезаль посмотрела ему в лицо. Она немного помолчала, а потом, внезапно пораженная чем-то необычным, и только теперь замеченным в лице старика, отскочила назад, скрестив руки на проглядывающей через распахнувшийся мех обнаженной груди.
— Дедушка!..
— Тихо, малышка, тихо.
Он привстал и хотел взять ее за руку, но она убрала ее. А потом закричала:
— Дедушка! Ты… не веришь, что это… Он?!
Ихезаль стояла в нескольких шагах от него, вытянув вперед шею, с широко открытыми глазами и полуоткрытым ртом, ожидая ответа, как будто от того, что он скажет, зависела ее жизнь.
Первосвященник посмотрел на внучку и заколебался.
— Все пророчества сбываются, и если когда-нибудь должен прийти Победитель…
Он оборвал фразу и замолчал. Мог ли он сказать этой девушке то, в чем, после долгой борьбы, едва мог признаться себе и что всеми силами отгонял от себя? Мог ли он сказать ей, что он, первосвященник, хранитель Истины и Тайны, последний из древнего, угасающего вместе с ним рода жрецов, он, предводитель людей, живущих на северном берегу Великого Моря, далеко-далеко на восток от снежной вершины дышащего огнем О’Тамора, у Теплых Озер, самом старом поселении на Луне, и дальше, за Проходом на запад и на север, до Старых Ключей, где проходит дорога в Полярную Страну, и где много лет назад впервые была найдена благословенная нефть — мог ли он сказать этой верящей девушке, что он, который всю свою долгую жизнь сам верил и заставлял верить всех остальных в приход Победителя, теперь, когда ему рассказали, что тот на самом деле пришел, перестал верить в то, что он должен был прийти вообще?
Он сам не мог объяснить себе, что с ним произошло, должно быть, из глубин подсознания что-то выплыло наверх при этом неожиданном сообщении.
Перед заходом Солнца он еще совершал с людьми молитвы, читая слова последнего пророка Тухейи, как раз те, которые несколько минут назад напомнила ему девушка… Он делал это ежедневно всю свою долгую жизнь, с тех пор как стал жрецом — и также верил с детских лет, наученный своим отцом первосвященником Бормитой, что Старый Человек, который некогда жил среди них и много веков назад вернулся на Землю, возвратится снова молодым человеком, чтобы спасти свой народ. Эта вера была для него такой простой и очевидной. Он даже не задумывался над ней и никогда не обращал внимания на доводы «ученых», которые утверждали, что история о земном происхождении людей, живущих на Луне, обычная, созданная в течение веков легенда, что никакой «Старый Человек» никогда не существовал, и что никакой «Победитель» никогда не придет из межзвездного пространства… Он даже не боролся против подобных наук, отступая в этом случае от старого обычая, который соблюдал еще его отец, первосвященник Бормита, повелевающий привязывать еретиков к столбу на морском побережье и забивать камнями. Когда жрецы, подвластные ему, добивались подобной кары и призывали ее на головы богохульников, особенно жестоким было Братство Ожидающих, — он только пожимал плечами — со спокойствием и с огромным презрением в душе — как к тем, которые камнями хотели укрепить веру, так и к тем, достойным жалости безумцам, которые своим слабым человеческим разумом пытались понять недоступные им вещи вместо того, чтобы с благой радостью верить в свое звездное происхождение и в Обещание, которое когда-нибудь исполнится…
Его мягкости не мог понять монах Элем, глава ордена Братства Ожидающих, и он не раз посмел ругать его через послов за недостаток усердия в священных вещах — но разве не он, Малахуда, был господином всего населения лунных жителей в древней столице первосвященников у Теплых Озер? Ему надлежало судить, а не быть судимым. Это скорее он мог заклеймить Элема и вместе с ним все Братство Ожидающих как явных еретиков, которые каждый день сулили приход Победителя, не принимая во внимание то, что все пророки обещали его в будущем… Он был также недоволен тем влиянием, которое Братья имели на людей. Они, правда, никогда не покидали своего местопребывания в Полярной Стране, орден им запрещал это, но каждый год (так странно: «годом» на Луне называется период, попеременно в двенадцать и тринадцать дней по семьдесят два часа, соответствующий времени прохода Солнца через зодиак; говорят, что такое деление времени люди принесли с собой с Земли), так вот, каждый год, особенно в двенадцатый день, который является священным и памятным днем ухода Старого Человека, в Полярную Страну отправляются толпы пилигримов, дающие Братству Ожидающих достаточно возможностей влиять на народ.
Не во власти Малахуды было запретить это паломничество, освященное вековыми традициями, хотя он с неудовольствием наблюдал за тем, как Братство разлагает народ и отвлекает его от реальной жизни, обещая скорое появление Победителя…
Конечно, и он, Малахуда, непоколебимо верил в приход Победителя, но ему всегда казалось это чем-то весьма отдаленным, чем-то, что только обещается, и если бы его кто-то спросил: допускает ли он возможность этого Прихода в течение его собственной жизни? — он бы наверняка расценил подобный вопрос как нарушение догмата, обещающего, что Приход совершится, в будущем… Ведь пророк Рамидо четко сказал: «Не наши глаза и не глаза сыновей наших увидят Победителя — но после нас придут те, которые лицом к лицу встретятся с ним». И что же, что пророк Рамидо умер больше ста лет назад?..
Так было до вечера вчерашнего дня. Он как раз закончил молитву вместе с народом и еще стоял на широкой террасе перед храмом, спиной к заходящему Солнцу и морю, подняв руку для последнего благословения и произнося древние слова: «Он придет!» — когда среди толпы людей почувствовал какое-то движение и беспокойство. Стоящие ближе ответили ему обычными словами: «Придет воистину…», но те, которые стояли дальше, оборачивались назад, указывая руками на странную группу, которая быстро приближалась к храму.
Малахуда посмотрел туда и задумался. Среди небольшой группы людей шли, а скорее бежали, двое из Братьев Ожидающих. Он издали узнал их по открытым выбритым головам и длинным серым одеяниям. Неподалеку стояла повозка, запряженная собаками, на которой они, по-видимому, сюда прибыли. Уже само появление этих монахов, никогда в течение всей жизни не покидающих своего местопребывания, было чем-то неслыханным, но удивление старого жреца еще больше возросло, когда он увидел, как они себя ведут. Он смотрел на них и думал, что перед ним безумцы, не смея предположить, что они выпили монашеского вина, не знающего себе равных, особенно во время бракосочетаний. Они передвигались каким-то странным шагом, как бы танцуя, взмахивали руками и с разгоряченными лицами бросали вокруг какие-то возгласы, смысла которых он не мог издали уловить. А народ внизу слышал их и, видимо, понимал, потому что вся толпа вдруг двинулась к прибывшим — беспокойная, ошалевшая и кричащая, так что вскоре Малахуда один остался на ступенях перед храмом на опустевшей площади. В ту же минуту, однако, возвращающаяся толпа волной нахлынула на него. Он не мог понять, что произошло, видя вокруг себя лица, охваченные какой-то безумной радостью, поднятые руки и сотни открытых и кричащих ртов: весь народ кинулся теперь на ступени, а впереди шли оба Брата, которых почти несли на руках, и которые кричали, плача и смеясь:
— Он пришел! Он пришел!
Он не понимал и долго еще не мог ничего понять, хоть Братья объяснили ему, что исполнилось Великое Обещание, наступило время, назначенное пророками, потому что накануне в час, когда в Полярной Стране Солнце встает над темной Землей, к своему народу вернулся Он, Старый Человек — помолодевший и лучезарный, Победитель и избавитель!..
«Братья Ожидающие» уже перестали существовать, теперь они — «Братья Радостные». Их по двое разослали с хорошей новостью по всем лунным племенам, на берег Великого Моря и в глубь суши, возвещать приход Победителя, конец всякого зла и избавление от шернов и морцев!
А за ними вместе с Элемом и еще несколькими оставшимися Братьями идет Он сам. Победитель — и когда взойдет Солнце и вспыхнет новый свет, Он появится перед людьми здесь, на берегу Великого Моря…
Так говорили Братья, когда-то Ожидающие, а теперь уже Радостные, а весь народ перед первосвященником смеялся и плакал, в танцах и криках прославляя Всевышнего, который выполнил данное пророками обещание.
Малахуда поднял руку. Радостное безумие, как волна, в первую минуту охватило и его. Старческая грудь переполнилась чувством невыразимой трогательной благодарности за то, что именно сейчас, во времена жестокого притеснения и горьких невзгод, пришел Победитель — глаза у него затуманились слезами, а горло перехватил спазм… Он закрыл глаза руками и расплакался перед людьми на ступенях храма.
Народ с уважением смотрел на слезы первосвященника, и он долго стоял, закрыв лицо и опустив голову на грудь… Перед ним мысленно прошла вся его жизнь, все заботы и радости — все, что он видел своими глазами: бедствия и несчастья людей, угнетение, которое он старался смягчить, повторяя святое, теперь уже исполнившееся Обещание… Какая-то страшная тоска заняла в его сердце место первоначальной радости.
— Братья мои! Братья… — начал он, протягивая дрожащие от старости и волнения руки к возбужденной толпе… И внезапно почувствовал, что не знает, что ему говорить. Он ощутил какое-то головокружение, напоминающее испуг, глубоко вздохнул и снова закрыл глаза. В голове у него царил хаос, из которого отчетливо выделялась только одна мысль: «Теперь все будет иначе!» Он чувствовал, что теперь все будет иначе, что вся вера, основанная на Обещании и ожидании попросту с этой минуты перестает существовать и на ее место приходит что-то новое, совершенно незнакомое…
Народ танцевал вокруг с радостными веселыми криками, а он, первосвященник, в эту великую и радостную минуту чувствовал странное болезненное сожаление обо всем том, что было: об этих молитвах, которые он проводил, о вере, об ожидании, что наконец наступит день, что появится свет…
И неизвестно почему, он вдруг подумал, что Братья Ожидающие лгут. Он сразу отогнал от себя эту мысль, потому что почувствовал надежду и желание, чтобы это было так. Он стиснул грудь руками и склонил голову, в душе раскаиваясь в своем недоверии, но мысль все время возвращалась, нашептывая ему в ухо, что он, первосвященник, является хранителем веры, и ему нельзя принимать на слово сообщения, потрясающие ее основание…
Осознание своих обязанностей внезапно вернулось к нему, взяло верх над всеми иными чувствами и вернуло ему внутреннее равновесие. Он нахмурил брови и быстро взглянул на посланников. Однако они, люди простые, скромные и необразованные, сидели теперь на ступенях у его ног, утомленные путешествием и радостными криками — и с фанатичным огнем в глазах, охрипшими голосами тянули какую-то старую песню, состоящую из пророчеств, которые сегодня уже сбылись… Сердца их, чистые и ясные, наполненные радостью, не ощущали того душевного разлада, который охватил верховного властителя людей.
«Со звезд пришли люди! Так говорил Старый Человек!» — пел Абеляр, согнутый годами и трудами на пользу ордену.
«И когда-нибудь туда вернутся! Так говорил Старый Человек!» — вторил ему радостный молодой голос Ренода.
«Ибо придет Победитель и народ свой спасет!»
«Придет воистину! Будем радоваться!»
Народ тем временем уже поднялся на ступени храма и окликал первосвященника по имени, недовольный его долгим молчанием Нестройные голоса то требовали от него каких-то действий, то жаждали снова услышать подтверждение радостного события, то требовали, чтобы он отворил двери храма и собранные веками сокровища раздал людям в знак того, что Обещание сбылось и отныне на Луне должно царить веселье.
Какой-то старик подошел к нему и дернул за широкий рукав красного одеяния первосвященника, несколько женщин и подростков обошли его, переступая недоступный в обычное время порог храма — давка и беспокойство вокруг все возрастали.
Малахуда поднял голову. Слишком близкой к нему и слишком уж фамильярной была эта толпа… После минутного замешательства и слабости он снова почувствовал себя господином и повелителем. Он сделал рукой знак, что хочет говорить — и коротко, спокойно сказал: действительно пришла весть о том, что Обещание сбылось, но он, первосвященник, сначала хочет изучить все, прежде чем вместе с народом облачиться в праздничные одеяния, и поэтому хочет, чтобы его оставили одного с посланниками.
Но толпа, обычно повинующаяся его первому слову, на этот раз, казалось, не слышит его. По-прежнему продолжались крики и шум. Среди людей были такие, которые кричали, что Малахуда уже утратил власть и не имеет права приказывать, когда пришел Победитель, всеми ожидаемый единственный господин на Луне. Другие не хотели расходиться по домам, утверждая, что в этот день Солнце не зайдет, и тем самым исполнятся, неясные до сих пор, слова пророка Рохи, который сказал: «А когда придет Он, наступит вечный день»…
Солнце, однако, заходило — медленно, но решительно, как и каждый раз, заливая кровавым заревом небосклон и позолотив густой туман над водой Теплых Озер. Кровавым цветом были также залиты огромное море и крыши широко раскинувшегося на побережье поселения — а вдалеке, над ним, сверкала в лучах Солнца трехглавая каменная башня, где, к стыду людей, жил шерн Авий в окружении своих солдат и морцев, присланный сюда из-за Моря Великого, чтобы собирать со всех людей дань, как знак подчинения.
Неизвестно, кто первый обратил в тот вечер свой взгляд в сторону этого замка, но прежде чем Малахуда успел заметить, что происходит, все лица с угрозой повернулись в ту сторону, и вверх поднялись руки, вооруженные палками и камнями. А впереди толпы, на придорожном валуне, стоял в свете заходящего солнца молодой, черноволосый Ерет, дальний родственник первосвященника, и кричал:
— Разве не является нашим долгом очистить свой дом к приходу Победителя? Он презирал бы нас и, как недостойных, не пустил бы себе на глаза, если бы мы хотели побеждать только его руками!
И толпа зашумела вслед на ним:
— На крюк Авия! Смерть шернам! Смерть морцам!.. — И как лава хлынула в сторону поселения.
Малахуда побледнел. Он знал, что в замке не так уж много охраны, и разгоряченная толпа может разнести его так, что там не останется камня на камне. Но он также знал, что за Авием и его приближенными стоит вся страшная и гибельная мощь шернов, и что малейший вред, нанесенный омерзительному наместнику, снова обернется беспощадной войной для всего человеческого племени, а быть может, страшными бедствиями и невиданными погромами, какие бывали еще при жизни их предков.
Он закричал, чтобы они остановились, но его голоса теперь никто не слушал, несмотря на то, что и оба Брата Ожидающих преградили дорогу толпе, крича, что нельзя ничего делать до прихода Победителя, который один только имеет право вести и повелевать.
Ерет толкнул старшего из монахов в грудь, так что тот упал навзничь на камни, и вместе с толпой ринулся по узкому проходу между озерами.
Тогда Малахуда хлопнул в ладоши и по этому знаку из нижних боковых крыльев здания по обе стороны от ступеней, ведущих к главным вратам храма, начали выбегать вооруженные люди: лучники, копьеносцы и пращники, постоянная стража первосвященника и священного храма.
Подобно хорошо выдрессированным псам по одному знаку руки они повернули направо и плотной шеренгой с оружием на изготовку преградили путь людям.
Ерет повернулся к первосвященнику.
— Прикажи им ударить, старый пес! — в бешенстве кричал он. — Прикажи им ударить! Пусть пришедший Победитель найдет здесь наши трупы вместо трупов врагов! Пусть он знает, что, кроме шернов, нас притесняют и собственные тираны, с которыми тоже следует разобраться!
Минута была угрожающей. Толпа осыпала воинов бранью и уже начала бросать в них камни, те стояли спокойно и невозмутимо под градом оскорблений и ударов, но по их вздрагивающим лицам и крепко стиснутым губам было видно, что достаточно полслова, знака или одного движения ресниц, и они ринутся на эту всегда враждебную к ним и ненавистную толпу, совершенно безразличные к тому, для чего это делается и почему отдан такой приказ.
А из толпы все чаще неслись враждебные первосвященнику выкрики. Его оскорбляли и проклинали, кричали, что он прислужник и приятель шернов, обвиняли в позорном мире, который был заключен с ними, хотя в свое время именно его восхваляли как избавителя, который этим миром спас свой народ от истребления.
Малахуда повернулся к стражникам. Он уже поднял было руку, чтобы дать им знак, когда внезапно почувствовал, что кто-то схватил его за запястье и не пускает. Он повернулся, возмущенный: за ним стояла золотоволосая Ихезаль.
— Ты!..
— Он пришел! — твердо, почти приказным тоном, заявила она, глядя на него пылающим взглядом и не выпуская его руки.
Малахуда заколебался. А ее глаза неожиданно наполнились слезами, она опустилась на колени и прижала губы к его руке, которую удержала от кровавого приказа, и повторила тихо и умоляюще:
— Дедушка! Он пришел…
Первосвященник, всегда очень решительный и, несмотря на свою мягкость, неумолимый в своих решениях, в эту минуту в первый раз в своей жизни почувствовал, что должен уступить… При этом его охватило странное разочарование, полное душевное безразличие. Ведь завтра сюда должен прийти тот, который с этих пор будет править здесь вместо него, пусть уж он сам…
С толпой, несмотря на страстное возражение Ерета, было достигнуто соглашение. Наступающая ночь облегчила взаимопонимание. Толпа согласилась уступить при условии, что вооруженные стражники окружат поселение и прилегающий к нему сад, и всю долгую ночь, в ожидании перемен, проведут в палатках, сторожа шернов, чтобы утром, захватив языка, узнать, не сбежал ли кто-нибудь из тех, кого приход Победителя обрекал на смерть.
Только теперь Малахуда смог забрать обоих посланников, чтобы подробно расспросить об известии, которое они принесли.
Посланцы были усталыми и сонными, когда первосвященник дал им знак и повел их по извилистой внутренней галерее храма, которая соединялась с его личными покоями. Темнота уже заливала переходы и залы: тут и там в красном свете нефтяных факелов сверкал знак Прихода: два позолоченных полукруга Земли и Солнца… Разочарование все больше и больше охватывало старого первосвященника. Он смотрел на священные знаки на стенах, на едва вырисовывающиеся во мраке столбы алтаря и амвон, где он вместе с сановниками молился о приходе Победителя и откуда возвещал его неизбежный Приход — и странное, горькое чувство наполняло его сердце. Вечерняя пустота храма казалась ему чем-то страшным, но с этого момента постоянным и уже неизменным: он снова почувствовал, что желанный Приход является прежде всего уничтожением того, что было, разрушением религии ожидания, уже сросшейся с его душой…
Он чувствовал себя так, как будто кто-то толстой веревкой стянул ему грудь — так крепко, что невозможно дышать, и каждая попытка глотнуть воздух причиняет страшную боль. Его охватило чувство бессильного и неотвратимого ужаса. То, о чем он сам всегда возвещал как о грядущем избавлении, теперь, когда это так неожиданно произошло (несмотря на пророчества, несмотря на обещания, несмотря на постоянную веру — так неожиданно!), оно казалось ему страшным и удручающим.
Любой ценой ему хотелось — да, это так, — хотелось избежать того, что произошло, он не хотел верить в это. Теперь, идя вместе с послами, принесшими это известие, по пустой галерее, он уже не скрывал от себя, что просто жаждет, чтобы это сообщение оказалось ложным.
Но посланники, когда он наконец остался с ними наедине, приводили такие убедительные подробности и говорили такими уверенными голосами, что невозможно было дольше сомневаться в правоте их слов. Всякая сонливость слетела с них, когда они начали, возможно, уже в сотый раз, рассказывать о том, что видели собственными глазами. Они рассказывали, перебивая друг друга, что само по себе было странным и непостижимым. Из их слов он понял, что в один из дней, когда они все во главе с Элемом, обратившись к Земле, были заняты обычными в это время молитвами, над их головами пролетел огромный сверкающий снаряди упал на самую середину полярной равнины. Из него вышел светловолосый человек, похожий на жителей Луны, только в два раза выше их, удивительно светлый, отважный и могучий. Они рассказывали сразу оба, нестройными голосами, что Элем, увидев это, немедленно прервал молитву и, поняв, что произошло, завел благодарственную и триумфальную песнь. Отвернувшись от Земли, он пошел к прибывшему Победителю в окружении ошеломленных Братьев. Они сами слышали и видели, как их приветствовал Победитель, и что ему говорил Элем. Все это Братья рассказывали в простых и немудреных словах с большим жаром и почти детской радостью в глазах.
Малахуда слушал. Он оперся седой головой на руки и молчал. По мере того как Братья вспоминали все новые и новые подробности, касающиеся удивительного пришельца, он в мыслях перебирал старинные пророчества и обещания, изложенные в древних книгах, находил в своей обширной, годами тренированной памяти слова и выражения Письма, сравнивал все это с тем, что слышал — и видел, что совпадает все, вплоть до буквы. И вместо радости его душу охватывал необъяснимый мрак.
В конце концов, он отпустил Братьев, когда от усталости у них начали заплетаться языки, но сам еще долго не шел отдыхать. Большими шагами он долго мерил зал, несколько раз заходил в галерею, как будто хотел там найти — что… он сам не знал, как это назвать: веру? покой? уверенность? Но находил только тоску и непостижимый страх.
Ночной снег уже покрыл лунные поля и ложился большими полосами на замерзающие морские затоки, когда Малахуда, изнуренный и истерзанный внутренними противоречиями, наконец удалился в свою спальню. Сон, однако, не дал ему отдыха этой ночью. Он просыпался прежде, чем приходило время ночного принятия пищи, и после этого тоже долго не мог заснуть. После полуночи, во время второго подъема, к нему зашла Ихезаль, но он отправил ее под предлогом, что у него есть важные дела, требующие одиночества, и снова пошел в храм.
Он даже не отдавал себе отчет в том, зачем идет туда и чего хочет, когда остановился в огромном зале у дверей из позолоченной меди, находящихся за амвоном и ведущих в самое священное помещение, где хранились книги пророков, только теперь он неожиданно понял, что с вечера это было его подсознательным желанием, которое он из-за какой-то странной боязни не смел исполнить: пойти туда и просмотреть еще раз все эти старинные священные книги, которые только во время больших торжеств, обернутые в дорогие ткани, выносились за ним на амвон, чтобы он прочел из них Слово для людей.
Да! Пойти туда и спросить у этих книг, которым он всегда подчинялся, не лгут ли они — еще раз прочесть гаснущими глазами их содержание, но не так, как было до сих пор, когда он читал их только с благоговением, а с пытливой любознательностью, которая, несомненно, является греховной… Он чувствовал, что совершает святотатство, входя сюда сегодня с этой мыслью, но остановиться уже не мог… Давним привычным жестом от протянул руку за золотым обручем, висящим у двери, и, надев его на голову, нажал на тайный замок…
За раскрывшейся дверью зияла пасть спускающихся вниз ступеней. Он начал спускаться по ним со светильником взятым у подножия амвона, машинально читая золотые надписи на стенах, обещающие внезапную смерть и всевозможные несчастья тем, кто осмелится войти сюда без божественных мыслей. А потом, уже оказавшись в подземном зале со сводчатым потолком, он даже не закрыл за собой дверь, торопясь достать из резных ларцов, украшенных дорогими металлами и камнями, старые пергаменты, пожелтевшие, как его собственное лицо, и истлевшие под действием времени: немногочисленные листы с пророчествами первой жрицы Ады, написанные ее рукой в Полярной Стране, где она завершила свою жизнь, и с трудом добытые два столетия назад у Братьев Ожидающих другие книги, содержащие пророчества и историю жизни людей, затем толстые фолианты, написанные последним пророком Тухейей, которого знали еще его прадеды.
Он положил все это бремя веков на мраморный стол, зажег подсвечник и поспешно начал читать, даже не начертив обычного знака на лбу перед открытием книги.
Проходили длинные часы, каждый двенадцатый из которых возвещало ядро, падающее из часов в медную миску; старик, уставший от чтения, иногда засыпал в высоком кресле и вновь просыпался, чтобы снова читать так хорошо ему известные книги, в пугающе новом обличии предстающие сегодня перед его глазами. Он всегда видел в них правду, но сегодня нашел только тоску, которая чувствовалась — и на листах жрицы Ады и у давних пророков — неопределенная и туманная, вызванная к жизни призраком Старого Человека, которая росла и кристаллизовалась по мере течения времени и несчастий, обрушивающихся на людей. Сначала там просто шла речь о Старом Человеке, который привел людей с Земли на Луну и снова ушел на Землю, откуда когда-нибудь вернется, и только потом появилось Обещание появления избавителя, который, будучи тем же Старым Человеком, явится вновь помолодевшим Победителем, чтобы освободить свой угнетенный народ. И Малахуда заметил, что Ада в первый раз предсказала возвращение Старого Человека, когда в Полярной Стране ей сообщили о нашествии на поселение у Теплых Озер шернов, о существовании которых на Луне люди до тех пор даже не предполагали, и что позднее, в течение веков при каждом несчастье и каждом бедствии появлялся свой пророк, который обещал людям приход Победителя тем чаше, чем более тяжелые времена для людей наступали.
Горькая, ироническая усмешка застыла на его губах. В еще большем забытьи он лихорадочно перелистывал почитаемые и тщательно хранимые книги, рылся в них дрожащими руками, находил противоречия и ошибки и, не отдавая себе отчет в том, что делает (а делал он совершенно недозволенные вещи), разрушал здание веры всей своей жизни.
Его руки тяжело упали на последний листок последней книги. Он знал уже наверняка, что никакой Победитель никем на самом деле не был обещан, что все пророчества на этот счет были лишь выражением тоски людей, угнетаемых ужасными и злобными лунными жителями…
Однако — он пришел!
Это была загадка для него, какой-то парадокс — ироничный и страшный! А при этом еще и другое: какое-то неопределенное чувство, всплывающее из самых глубоких тайников его души. Минуту назад в душе он сам разрушал свою веру, а теперь чувствовал, что все в нем восстает при мысли, что этот удивительный пришелец, чей приход, в сущности, не обещал никто из пророков, одним своим появлением разрушит всю религию ожидания, опирающуюся на эти пророчества! И снова ему пришло в голову, что он, возможно, никогда в них и не верил.
Одновременно он чувствовал, что ему очень жаль своей веры.
Он старался уложить все это в какую-то формулу, пытался сам понять, что все это значит, но его мысли каждый раз разбегались, оставляя только болезненную пустоту в голове и сердце.
И именно тогда, когда он размышлял об этом, к нему вошла светлая Ихезаль — вот она стоит перед ним со страшным вопросом на устах и в горящих глазах:
— Дедушка! Ты не веришь, что это… Он?
Он сделал несколько шагов к девушке и мягко взял ее за голову обеими руками.
— Выйдем отсюда, Ихезаль…
Еще минуту назад, когда он протягивал к ней руку, сопротивляющаяся, а теперь, видимо, ошеломленная тем, что прочла в глазах старика, она молча дала ему увести себя. Полуобняв внучку, он поднимался вместе с ней по ступеням, оставляя за собой разбросанные в беспорядке священные и почитаемые книги, хранителем которых он был… Золотой знак Прихода сверкал за ними в угасающем свете свечей.
Когда они поднялись в храм, через окна уже вливался серый свет наступающего дня, который на несколько десятков часов опережал восход Солнца на Луне, предваряя его появление.
Малахуда, все еще обнимая внучку, подошел с ней к огромному окну, обращенному на восток. Сквозь пар, поднимающийся от Теплых Озер, в тусклом сером свете виднелось замерзшее море и покрытые снегом горы на побережье. Во всех человеческих поселениях была глубокая тишина, только из одной из трех башен замка Авия, не знающего сна, струился красный свет факелов и доносились какие-то крики. Вокруг, в засыпанных снегом палатках, согласно приказу бодрствовали воины первосвященника.
Они долго молчали, вглядываясь в тусклый свет наступающего дня, но потом белая Ихезаль, отступив на несколько шагов, бросила мех на пол храма и, стоя на коленях совершенно нагой, как предписывает закон дающим клятву, протянула руки на восток, а потом на север, в ту сторону, где находилась Земля, и произнесла:
— Если я когда-нибудь перестану верить в Него, если не отдам Ему всех моих сил, моей молодости, всей моей жизни и каждой капли крови, если я подумаю о ком-нибудь еще, кроме Него, пусть я сгину и пропаду или стану матерью морца! Слышишь, Тот, который есть!
Малахуда вздрогнул и невольно прикрыл глаза ладонью, слыша эту страшную клятву, но не сказал ни слова.
Свет, становящийся все более серебристым, бросал жемчужные отблески на обнаженную девушку, укрытую только волной золотистых волос.
II
Элем стоял на вершине холма, отделяющего Полярную Страну, в которой солнце никогда не всходит и не заходит, от огромной безвоздушной пустыни, озаренной светом священной звезды, Земли. Розовое, скользящее на горизонте Солнце освещало его гладко выбритый череп и дрожало в длинной курчавой бороде цвета воронова крыла. Земля стояла в первой четверти; там далеко над Великим Морем в стране, заселенной людьми, как раз было утро. Монах, стоя спиной к серебряному полумесяцу Земли, смотрел вниз в темную зеленую котловину. Большая часть Братьев уже разошлась и по его приказу отправилась разносить по лунным поселениям радостную весть о приходе Победителя — небольшое количество тех, которые остались здесь, хлопотали, готовясь к путешествию. Элем видел сверху, как в длинных темных одеяниях, с выбритыми головами — они сновали вокруг палаток («Ожидающие» жили в палатках, а не в домах), вынося снаряжение и продукты, необходимые в дороге, или готовя повозки и собак в упряжку. Победитель, видимо, еще спал в своей сверкающей машине, похожей на вытянутое ядро, в которой он преодолел межзвездное пространство, потому что там была тишина и не было заметно никакого движения.
Через несколько часов они должны будут навсегда покинуть Полярную Страну, эти жилища, сослужившие службу бессчетному количеству монахов, эти прохладные и зеленые луга, розовым Солнцем озаренные взгорья, откуда можно увидеть на горизонте Землю, светящуюся над пустыней. Элем думал об этом без сожаления; конечно, грудь его не распирало от радостной гордости за то, что кончилось время его главенства и пришел тот, кого ожидали в течение многих веков. С этого мгновения начиналась новая эра. Он уже мысленно видел ее светлую, триумфальную — видел побежденных и покорившихся ненавистных шернов, которые как первые жители Луны смеют устанавливать здесь законы, несмотря на то, что Старым Человеком Луна была отдана людям — он с наслаждением мечтал об истреблении всех до единого морцев, а кроме того, думал об великом триумфе и могуществе Братьев некогда Ожидающих, а теперь Радостных, которые первыми, согласно предсказаниям, увидели и приняли пришедшего Победителя, и теперь вместе с ним, как верная и неотступная свита, пойдут образовывать новое государство в лунной стране.
Сейчас ему нужно было отправляться на юг, в человеческие поселения, которых он не видел с того времени, как еще мальчиком вступил в орден, но в которых его признавали господином, по крайней мере равным первосвященнику в столице, у Теплых Озер, и даже выше его, потому что он издали управлял духами и был независим от зловещей мощи шернов.
Но теперь, прежде чем вывести наконец живых Братьев ордена из места их многовекового пребывания, где они вместе с ним дождались обещанного Прихода, следовало навести порядок среди умерших.
Он осмотрелся. На вершине того холма, где он стоял, и на других, обращенных к Пустыне гребнях, валунах сидели Братья Ожидающие, которые умерли прежде, чем пришел Победитель, и мертвыми ссохшимися лицами бессмысленно смотрели в сторону серебряной Земли на черном горизонте.
Именно так, лицами к Земле, много веков назад велела уложить их первая жрица и святая основательница Братства Ада, которая после ухода Старого Человека завершила свою жизнь в Полярной Стране глядя на Великую Звезду над Пустыней, и так, по ее примеру, размещали здесь всех Братьев, которые умерли.
Тот, кто вступал в орден, отрекался ото всего и уже не покидал Полярной Страны до самой смерти. Братья утрачивали семьи, не знали богатства, спиртных напитков и приготовленной пищи, они должны были быть чистоплотными, воздержанными, правдивыми, послушными своему предводителю, но самой главной их обязанностью было — ждать и быть готовыми… Время, не делящееся в этой удивительной стране на день и ночь, они проводили в труде и молитвах, совершаемых на горе, с лицами, обращенными к Земле. И те, кто умирал, освобождались от работы, но продолжали принимать участие в молитвах живых. Их не сжигали и не прятали в могилы, а выносили на вершины и сажали, оперев спиной о камни, чтобы они смотрели на Землю и ждали Прихода вместе с живыми.
Были и такие, которые, чувствуя приближение смерти, просили товарищей отнести их туда, чтобы встретить смерть перед лицом Земли.
В холодном и разреженном пространстве трупы не разлагались. И с течением лет Орден умерших уже превышал по числу Орден живых. Солнце совершало свои круги вокруг высохших трупов, а они оставались в прежнем состоянии — неизменном, спокойном, «ожидающем». Когда Земля находилась в новой фазе, стоящее над ней пылающее Солнце озаряло красным светом почерневшие лица. Это продолжалось до тех пор, пока солнечный свет не уступал место мертвенно-синему свету Земли. В то время, когда Земля была видна полностью, Братья Ожидающие приходили совершать молитву на гору, и когда усаживались на камнях среди трупов спиной к солнцу, трудно было отличить, кто из них жив, а кто умер.
Именно так они сидели, вперемешку с мертвыми, когда произошло великое событие. И когда Элем закричал: «Он пришел!» — было странно, что только живые поднялись, чтобы приветствовать Победителя, что вместе с ними не встали все трупы и не затянули радостный гимн, потому что наступило время и пришел конец несчастьям на Луне…
И теперь он почти с возмущением смотрел на мертвецов, все еще пребывающих в бессмысленном и бесцельном ожидании, обративших свои лица к Земле, хотя тот, кого они высматривали там и ожидали, находился уже среди них. Ему все еще казалось, что все эти трупы — старые, высохшие, уже рассыпающиеся в прах, и другие, еще живые на вид, должны встать и толпой направиться туда, в долину, чтобы приветствовать того, кого они ждали при жизни и после смерти.
Но среди мертвых царила тишина, вечное молчание сковало им уста. Элем медленно шел. Он миновал нескольких, только недавно уложенных на покой Братьев, и приблизился к тому месту на вершине, где находилась могила жрицы Ады. Она была видна еще издали благодаря огромному, вечно освещенному Солнцем валуну, лежащему на гладкой вершине, под ним, повернувшись в сторону Земли, на троне из черных камней сидело маленькое высохшее тело святой пророчицы, которая лицом к лицу встречалась со Старым Человеком: горстка костей, обтянутых почерневшей кожей в жестких одеждах жрицы, украшенных золотом и драгоценными камнями. Вокруг, у ее ног, были могилы глав ордена и святых людей, которые своей жизнью заслужили право найти здесь последний приют.
Элем оперся ладонью о подножие могильного трона и посмотрел на Землю… Она была видна на четверть, светлая и далекая, как всегда, с четкими очертаниями на серебряном диске морей и континентов, известных лунным жителям только по древним рукописям.
Его охватил страх.
— Мать Ада, — прошептал он, поднимая руку, чтобы коснуться высохших стоп, — мать Ада, святая Основательница! Как ты и предсказывала, Старый Человек вернулся к своему народу помолодевшим и находится среди нас! Мать Ада, пойди поприветствуй его…
Он осторожно обхватил ее высохшее тело и уже хотел сдвинуть его с места векового сидения, когда вдруг услышал за собой голос:
— Не трогай ее!
Он обернулся. Среди трупов сидел неподвижно Хома, самый старший из Братьев ордена, уже слегка выживший из ума Он гневно смотрел на главу ордена и повторял тряся седой бородой.
— Не касайся ее! Не касайся! Нельзя!..
— Что ты здесь делаешь? — спросил Элем.
— Ожидаю, как повелевает орден. Сейчас время ожидания.
Говоря это, он вытянул дрожащую высохшую руку, указывая на Землю, видную на четверть.
— Время ожидания уже закончилось, — сказал Элем. — Иди в долину, Победитель там.
Хома покачал стариковской головой.
— Пророк Салема предсказал: «Встанут те, которые умерли, чтобы поприветствовать того, кого с тоской ждали!» Мертвые все еще ждут, и я жду вместе с ними. Победитель не пришел!
Элема охватил гнев:
— Ты просто глуп, и эти мертвые тоже глупцы! Как смеешь ты сомневаться, если я говорю тебе, что Победитель уже с нами?! Трупы не встают только потому, что они мертвы — и это их вина! Но мы всех их уложим к стопам Победителя!
Говоря это, он уверенно вступил на пьедестал и, обернув плащом тело Ады, взял ее на руки и начал спускаться вниз, обремененный грузом. Хома глухо застонал и закрыл глаза, чтобы не видеть святотатства, совершаемого главой ордена.
Тем временем тот спускался все ниже, решительный и спокойный, с телом первой жрицы в руках, а встретив по дороге нескольких Братьев, которые вышли на его поиски, он приказал им собрать остальные трупы и сложить из них огромный холм на равнине…
— Время их ожидания тоже кончилось, — сказал он, — пусть отдохнут…
Тот, кого называли Победителем, тем временем поднялся и вышел из своей сверкающей стальной машины.
Элем, издали заметив его, быстро положил тело Ады на мох и кинулся ему навстречу с приветствием.
— Господин, господин, — говорил он, кланяясь, — приветствуя тебя…
Все красноречие и уверенность в себе мгновенно покинули его при виде этого гигантского пришельца, двукратно превышающего ростом жителей Луны (существовало предание, что именно такого роста были те, которых привел с собой с Земли Старый Человек), особенно трудно было ему разговаривать с ним, так как пришелец говорил на странном языке, похожем на тот, которым были написаны древнейшие священные книги и которого неграмотные люди уже давно не понимали.
Пришелец усмехнулся, видя смущение монаха.
— На Земле меня называли Мареком, — сказал он.
Элем снова склонил голову.
— На Земле, господин, ты можешь носить то имя, которое захочешь, но здесь, у нас, тебя издавна называют только одним именем: Победитель!
— Что ж, на пути сюда с Земли мне действительно пришлось победить гораздо больше, чем ты можешь предположить, — сказал Марек. — У них были спутники, а я — один, — добавил он как бы про себя, глядя в сторону далекой Земли.
Потом снова обратился к Элему:
— И вы не удивляетесь моему прибытию?
— Мы знали, что ты прибудешь.
— Откуда?
Элем удивленно посмотрел на него:
— Как это? Разве ты не дал обещания Аде, когда уходил отсюда… Старым Человеком? А потом, все наши пророки..
И со страхом замолчал, потому что «Победитель» вдруг залился таким громким и безудержным смехом, какого много веков не слышали в тихой Полярной Стране. У него смеялись и глаза, и губы, и все молодое лицо, — он даже опустился на землю и начал, как расшалившийся ребенок, хлопать себя по ногам.
— Значит, вы, значит, вы… — говорил он, задыхаясь от смеха, — вы думаете, что этот ваш «Старый Человек», ушедший шестьсот или семьсот лет назад, — это я? Но это же невероятно! Я вижу, здесь уже создана целая легенда! И я могу быть теперь как китайский божок… О дорогие мои земные друзья, если бы вы могли знать, какой прием приготовили мне эти дорогие карлики! Подойди же ко мне, дорогой мой отче, я тебя обниму!
Говоря это, он подхватил онемевшего Элема и, подняв его с земли, как перышко, начал танцевать с ним по равнине.
— Дорогой, благородный потомок безумцев, подобных мне! — восклицал он. — Как же я рад, что вы здесь ждали меня! Теперь будем веселиться здесь, ты покажешь мне все, что я хочу увидеть, а потом — потом я должен буду взять тебя с собой, когда буду возвращаться на Землю!
Он поставил монаха на землю и продолжил:
— Ты знаешь, ведь я могу возвратиться сразу, как только захочу! Не так, как те безумцы семь веков назад, благодаря которым вы обрели жизнь на Луне.
Он схватил его за руку, как ребенок, и потянул к своей машине.
— Смотри, прежде всего я спустился сюда, а не в ту безвоздушную пустыню, которую им пришлось с трудом преодолевать. Выстрел был хорошо рассчитан. Каково? В самую середину полярной котловины рядом с вашими домами, где вы меня, оказывается, ждали… А потом, видишь, мой снаряд как бы окутан внешней стальной оболочкой и находится как в пушке! Да, да, уважаемый, я прилетел сюда в собственной громадной пушке, которая сама набрала в себя сгущенный воздух, опускаясь. Видишь, как она стоит, все рассчитано! Под тем же самым углом, как упала… Там внизу есть устройство, наподобие ног, которые сейчас углубились в грунт — прекрасный лафет! Достаточно мне войти туда, закрыться, нажать кнопку и — я возвращаюсь на Землю. Тем же самым путем — понимаешь, все математически рассчитано, и я тем же самым путем, каким попал сюда, возвращаюсь на Землю!
Он говорил быстро и весело, не замечая, что монах не понимает даже трети его слов. В их потоке он смог уловить только одно предложение — «возвращаюсь на Землю!» И внезапный, чудовищный страх сжал ему горло.
— Господин, господин! — только и смог он выговорить, судорожно цепляясь поднятыми руками за его одежду.
Марек посмотрел на него — и улыбка замерла на его губах. Монах выглядел страшно. У него тряслись маленькие детские ручки, а в поднятых глазах читалась какая-то мольба, отчаяние и страх…
— Что?.. Что с тобой?.. — прошептал он, невольно отступая.
Элем воскликнул:
— Господин! Не возвращайся на Землю! Мы ждали тебя, разве ты не понимаешь, что это значит: мы ждали тебя долгих семь столетий! Теперь ты пришел и говоришь удивительные вещи, которых ни я, ни кто другой на Луне не поймет! Мы знаем только одно: если бы не вера в тебя, если бы не надежда, что ты в самом деле придешь, жизнь здесь была бы невыносимой — в нужде, в угнетении, в таких мытарствах! А ты теперь говоришь, что снова уйдешь, и хочешь мне показать…
Он повернулся и неожиданным жестом протянул руку к останкам Ады, снесенным в монашеском плаще с горы, откуда видны Солнце и Земля.
— Смотри! Это Ада, жрица твоя, которая знала тебя, когда ты был Старым Человеком, и которой ты обещал вернуться! Она ждала тебя до конца своих дней, и когда умерла, все равно ждала, глядя слепыми глазами на Землю так, как и все мы, и они тоже ждали вместе с ней и с нами!
Говоря это, он указал рукой на холм, по которому сновали в розовом свете солнца Братья Ожидающие, снимая трупы с их мест, чтобы снести из вниз к стопам Победителя.
— Они тебе уже не потребуются! Ты пришел — и закончилось их утомительное посмертное бдение! Они сгорят здесь в этой котловине, где еще никогда не горел огонь, потому что мы без него ждали тебя здесь семь столетий, и тем обретут вечный покой! А мы будем тебе нужны, тебе потребуются все те, которые разосланы сейчас по лунной стране, над далеким морем, на равнинах, в горах и над потоками вод!.. А ты, пришелец, шутишь со мной. И хочешь возвращаться!
Он говорил это все страстно, почти торжественно, без тени того страха, который раньше сжимал ему горло. На последних словах его голос дрогнул в какой-то горькой, болезненной иронии.
Марек уже не смеялся. Он смотрел на монаха широко открытыми глазами, как будто только теперь понял, что его безумный полет на Луну по воле случая соединился с чем-то огромным, без его ведома, тяжелым бременем, свалившимся ему на плечи… Минуту назад он смеялся над легендой, живым участником которой невольно оказался, — теперь его охватил страх. Он потер лоб ладонью и взглянул на монахов, которые сносили с гор останки умерших и молча укладывали их на мох, повернув лицом к нему.
— Чего вы хотите от меня? — невольно спросил он.
— Спаси нас, господин! — закричал Элем.
— Спаси нас, господин, спаси нас! — хором повторили, как эхо, Братья Ожидающие.
— Но что с вами здесь происходит? Скажите же наконец…
Он оборвал фразу и тяжело вздохнул.
— Что с вами происходит?
Элем обернулся на толпящихся за ним Братьев и выступил вперед.
— Господин, — начал он, — над нами властвует зло. Шерны не дают нам покоя. Когда ты ушел отсюда Старым Человеком…
Марек прервал его нетерпеливым жестом. Он присел на землю и движением руки подозвал монаха к себе.
— Прости меня, брат, — сказал он, кладя руку на его маленькое плечо, — прости меня за то, что я так себя вел, но… Послушай теперь меня и постарайся понять то, что я тебе скажу. Я сделаю для вас все, что только в моих силах, хотя… я совсем — ты понимаешь меня? — я совсем не тот ваш Старый Человек. Тот умер семьсот лет назад, тут, на Луне, в безвоздушной пустыне, и я знаю о нем и о вас только потому, что перед смертью он прислал нам на Землю свой дневник… А я прилетел сюда совсем случайно, не зная, что вы меня здесь ждете…
Элем чуть усмехнулся. Как свидетельствовала в своих записях Ада, это всегда было свойственно Старому Человеку, он не хотел, чтобы знали, что он… Старый Человек. То же самое теперь повторяется и у Победителя. Однако он молча наклонил голову, как бы соглашаясь с тем, что слышит.
Тем временем Марек продолжал:
— Но я прилетел. И в конце концов, видя, что вы нуждаетесь во мне, я готов… Но не знаю, смогу ли я сделать то, чего вы от меня ждете. Кто такие эти шерны? Это здешние жители, не так ли?
— Да. Они омерзительные. С тех пор как ты от нас… с тех пор, как Старый Человек ушел от нас, вся наша жизнь — это неустанная борьба с их злой силой. Там, при Теплых Озерах, где было первое поселение, в подземном хранилище сложены книги… Мы здесь в книгах не нуждаемся: весть о тебе передавалась из уст в уста, — но там есть книги. Некоторые из них обещают твой приход. А другие начинаются со слов: «Чтобы Старый Человек знал о бедствиях народа своего, когда вернется Победителем…» И действительно, там есть мало страниц, на которых говорилось бы о чем-то ином, а не о несчастьях твоего народа, господин. Там описана наша история. Когда ты прибудешь на Теплые Озера, господин, и прочитаешь эти книги, ты узнаешь, что шерны не дают нам покоя уже семь столетий. Сразу после ухода… Старого Человека они переправились через Великое Море и стали уничтожать наши поселения. Было время, когда никто не мог даже дышать свободно. Они сжигали наши дома, убивали нашу молодежь, уводили наших жен. А сегодня, сегодня, когда ты вернулся, о господин, сегодня еще хуже, чем когда бы то ни было! Все человеческие поселения, расположенные к северу от Великого Моря до самой Пустыни, находятся под властью шернов! А у Теплых Озер, где находится столица первосвященника, они держат своего наместника, который владеет укрепленной башней и собирает дань. С шернами заключен мир, господин, но лучше смерть, чем такой мир. Здесь — в Полярной Стране, где мы, ожидающие тебя, жили, единственное место, куда не простирается их сила! Они боятся вида благословенной Земли, которую называют злой и проклятой звездой, как будто в звериной своей сущности предчувствуют, что оттуда придешь ты, наш спаситель, и уничтожишь их… Спаси нас, господин!
— Спаси нас, спаси! — снова закричали монахи и стали тянуться к Победителю, пытаясь обхватить его ноги. Они, которые отказались от своих семей и имущества ради ожидания его, теперь внезапно вспомнили, что в порабощенной стране у них есть знакомые и родственники, и начали, перебивая друг друга, бессвязно рассказывать о том зле, которое те терпели от шернов.
В этом гвалте стенающих, пылающих ненавистью голосов все время повторялась только одна фраза:
— Спаси нас, спаси!
Марек сидел на земле, стиснув губы и нахмурив брови. Он долго о чем-то размышлял, хотя умоляющие голоса уже замолкли и вокруг воцарилась полная ожидания тишина… Была минута, когда он невольно взглянул на свою сверкающую машину, в любой момент готовую к отлету, как будто хотел забраться внутрь и сбежать в межпланетное пространство, туда, к Земле — но он быстро отбросил эту мысль от себя. Принятое решение придало твердость его молодому лицу.
— Какие они, эти шерны? Похожи на людей? — спросил он.
— Нет, нет! Они ужасные!
— Ужасные, ужасные! — кричали монахи.
Марек вопросительно посмотрел на Элема. На лице монаха он прочел отвращение, граничащее с болью. Элем наклонил голову и через минуту произнес:
— Ужасные они, ты сам, господин, их увидишь.
— Но я знать хочу сейчас. Есть в них что-то человеческое?
— Ничего. Кроме разума. Но и он у них другой, потому что не различает добра и зла.
— Как они выглядят?
— Они меньше нас. Да, еще меньше. У них есть крылья, но они с трудом ими пользуются. Умеют разговаривать, понимают человеческую речь, между собой, однако, общаются с помощью световых вспышек на лбу… Ах, они ужасные! И отвратительные! Отвратительные и злобные!..
Марек встал. Все Братья теперь сгрудились вокруг него: неподалеку лежал огромный холм из мертвых тел, снесенных с гор. Со своих мест были также сорваны старые палатки, ткань и каркасы которых тоже были подложены туда, чтобы помочь огню разгореться. Элем, заметив, что Победитель поглядывает в сторону холма, прервал рассказ и вопросительно посмотрел ему в лицо.
— Можем мы их сжечь? — спросил он через минуту.
Марек ничего не ответил. Поэтому монах подошел к нему ближе и снова задал свой вопрос:
— Господин, можем мы их сжечь? Разве не пора им отдохнуть, а нам возвращаться к людям? К домам нашим и семьям, некогда оставленным?
Медленно и неохотно Марек наклонил голову.
— Да, — произнес он наконец, — я принимаю свой жребий…
Когда через несколько часов они отправились по старой дороге, пролегающей через ущелье, соединяющее Полярную Страну с населенной частью Луны, у них за спиной в опустевшей котловине еще горел огромный костер из ненужных уже палаток распущенного ордена и мертвых тел его членов. Марек обернулся: Солнце казалось красным от клубящегося дыма, который совершенно заслонил серебристо-серый ободок Земли, выглядывающей из-за горизонта.
Над потоком они встретили людей из ближних поселений, которые, получив известие о прибытии Победителя, спешили, чтобы поприветствовать его. Марек с любопытством приглядывался к этим карликам, среди которых было несколько женщин, маленьких и очень красивых. И они все падали ниц, старались почтительно прикоснуться к его одежде, и приветствовали его на удивительном языке, в котором он с трудом мог уловить искаженные до неузнаваемости польские, английские и португальские слова.
При первой встрече он был слишком захвачен видом этих людей, чтобы обращать внимание на то, как они его приветствуют; однако позднее, когда стали прибывать все новые и новые группы, он попытался протестовать против тех почестей, которые ему оказывали. Но вскоре убедился, что его усилия ни к чему не приводят. Люди — или не понимали о чем идет речь, или воспринимали это как наказание за какую-то провинность и пытались добиться прощения с еще большими проявлениями подобострастия. Когда же он пытался убедить их, что он такой же, как они, человек, хотя и прилетевший с Земли, они только хитро усмехались, как Элем, когда он говорил ему, что Старый Человек давно умер и у него нет с ним ничего общего.
После этого Марек прекратил свои напрасные протесты — отложив выяснение этого недоразумения на более подходящее время, и шел к Великому Морю в окружении своих непрошеных приверженцев, как молодой бог, в два раза выше окружающей его толпы.
Мужчины забегали вперед мелкими шажками и, видимо, жаловались (он не очень хорошо понимал их и часто прибегал к помощи Элема, который, будучи грамотным, знал «священный» польский язык, на котором когда-то разговаривал Старый Человек), причем каждый рассказывал о своих бедах и несчастьях, каждый просил Победителя, что он отомстил за него или вознаградил его раньше всех остальных, поскольку он больше всех этого достоин, на этой почве возникали ссоры и даже драки, которые порой невольно смешили Марека.
Женщины вели себя сдержанно. Они шли по обочине и смотрели на него большими восторженными глазами, а если он обращался к которой-нибудь из них, не говоря ни слова, убегали, как спугнутые серны. Один раз он при них в шутку упомянул о шернах.
Женщины побледнели при одном упоминании этого имени, сбились в испуганную кучку, с неописуемым ужасом взглядывая на своих мужей и спутников.
— Господин, ты можешь делать все, что захочешь, но лучше не упоминать о шернах при женщинах, — заметил Элем.
— Почему?
Монах наклонил голову.
— Это слишком страшно…
Но прежде чем он успел закончить фразу, в толпе паломников началось какое-то непонятное беспокойство.
Заканчивался первый день их путешествия, и они как раз спускались на равнину, спеша до ночи добраться до поселения у Старых Ключей, где много веков назад впервые на Луне была обнаружена нефть, когда паломники и монахи, толпящиеся вокруг Победителя, вдруг начали кричать и указывать руками в направлении близких зарослей. Марек посмотрел в ту сторону и заметил человека, более рослого, чем все остальные, который, выскочив из чащи, остановился на вершине скалы над дорогой и начал выкрикивать какие-то ругательства или проклятия. В ответ ему посыпался град оскорблений. Некоторые бросали в него камнями, которые однако до него не долетали, женщины с плачем прятались за спинами мужчин, а монахи плевались или чертили священные знаки Прихода на лбу, устах и груди.
— Морец! Морец! — раздавалось вокруг.
Человек на скале пренебрежительно рассмеялся и натянул лук, который был у него в руках. Просвистела стрела, воткнувшись в шею маленькой молодой женщины, которая искала спасения прямо у ног Марека.
В ответ испуганным возгласам прозвучал вызывающий и победный смех нападающего. С невероятной быстротой он снова и снова натягивал лук, направляя стрелы в испуганную, тесно сбившуюся толпу. Одна из стрел ударила Марека в лоб, оставив на нем широкую кровавую царапину. Он машинально выхватил из-за пазухи свое оружие и выстрелил в сторону нападавшего.
Выстрел был метким. Человек на скале выпустил из рук тетиву, взмахнул руками и молча упал вниз головой на дорогу. Несколько мужчин подскочили к нему, раздирая кожаную тунику на его груди. Марек вначале подумал, что они ищут там рану, нанесенную не известным им оружием, но они, найдя под грудью упавшего два красных знака, похожих на шестипалую ладонь, снова начали кричать: «Морец! Морец!» и бросать в него камнями, так как он был еще жив и вращал глазами, выпуская изо рта кровавую пену.
Марек бросился к ним, охваченный ужасом.
— Стойте, собаки! — закричал он. — Ведь этот человек еще жив, но уже не может себя защитить!
Элем остановил его:
— Господин, успокойся. Это не человек. Это морец…
И заметив вопросительный взгляд Марека, добавил, опустив, по обыкновению, голову:
— Я потом расскажу тебе, господин. Успокойся. Хорошо, что он погиб.
Тело незнакомца представляло уже кровавую массу, в которую все еще летели камни. Марек с отвращением отвернулся от этого зрелища. Тем временем монахи пустились в пляс вокруг него, распевая какой-то победный гимн:
— Пришел наш Победитель!
— Он поразил шерна, поразил морца огнем!
— Луна будет нашей! Смерть врагам!
— Слава Победителю везде, где ступит его благословенная нога!..
Марек молча вышел из кольца пляшущих и пошел вперед. За последним поворотом дороги перед ним открылась широкая равнина, усеянная мелкими холмами, на которую когда-то — семь столетий назад — именно с этого места смотрел в первый раз Старый Человек, будучи тогда таким же молодым, как и он.
Он уселся на придорожный камень и задумался… Было странно, что он не может сформулировать своих мыслей. Он смотрел на безбрежную равнину с солнцем, клонящимся к западу, черные круглые озера и думал о том, что после пребывания в Полярной Стране — стране вечного дня, он теперь в первый раз увидит заход Солнца на Луне, и ему было почему-то грустно от этой мысли… Еще он думал, что его веселость потерялась где-то на протяжении последних часов, и что теперь он со странно сжимающимся сердцем стремится к далекому морю, где решится его судьба, так странно переплетенная с жизнью людей на Луне… И он почувствовал тоску по Земле, которую еще так недавно, смеясь, покидал — смелый, ищущий приключений… Была минута, когда он хотел встать и сбежать, вернуться в Полярную Страну, сесть в свою сверкающую машину, которая стояла там, готовая к возвращению — но какое-то чувство бессилия охватило его, он, оперевшись локтями о колени, спрятал лицо в ладонях…
— Я обещал принять свой жребий, каким бы он ни был, — прошептал он.
От долгой задумчивости его пробудило легкое прикосновение Он поднял глаза. Перед ним стояла на коленях немолодая и бедно одетая женщина, подняв к нему лицо, полное безграничной, мертвой тоски. Руки и губы у нее тряслись, как в лихорадке, сквозь стиснутые зубы едва прорывался сдавленный от страха голос.
— Господин, господин, — стонала она, — ты все знаешь, да., ты смотрел на меня… я знаю, что ты знаешь… но я невиновна, господин! Шерны силой похитили меня…
И внезапно, в безумном страхе хватая егоза ноги, она закричала:
— Господин! Победитель! Будь милосердным ко мне! Не отдавай меня им, потому что меня закопают живой в землю! Я знаю, что так велит закон, но я невиновна!
Она упал вниз лицом, содрогаясь в отчаянных рыданиях. Говорить уже не могла, сквозь стиснутые зубы прорывались только какие-то непонятные и умоляющие слова.
Марек вскочил с места. Жуткая и неправдоподобная мысль ударила его, как обухом по голове. Он схватил плачущую женщину за плечи и поставил перед собой. От неожиданности она замолчала и только смотрела на него остановившимися глазами, видимо, ожидая смерти.
— Как твое имя? — спросил он через минуту каким-то чужим голосом.
— Нехем…
— А этот… морец? Тот, которого убили?..
— Да, господин, да, это мой сын! Но я невиновна!
Она попыталась коснуться губами его руки. Но он отдернул ее и крикнул:
— Он твой сын и… чей?
Женщина снова вся затряслась.
— Господин! Я невиновна! Шерны силой меня похитили! Никто об этом не знает, кроме тебя… Думают, что я отправилась с пожертвованиями к Братьям Ожидающим… Я скрыла… Господин, я знаю, что должна была задушить его, как только он появился на свет, но я не смогла этого сделать, прости меня, я не смогла! Ведь это был мой сын!
Марек машинально, в порыве безграничного отвращения, отшвырнул ее от себя и закрыл глаза руками. В этом было столько невероятного и чудовищного, переворачивающего законы физиологии вверх ногами, что он стиснул обеими руками голову, чувствуя, что сходит с ума…
В себя он пришел только тогда, когда услышал за собой шум приближающейся свиты. Тогда он быстро повернулся к лежащей без движения женщине:
— Нехем, встань. И будь спокойна.
Она хотела поблагодарить его, но он с отвращением одернул руку. Он не мог пересилить себя и взглянуть на нее.
Остальную часть дороги в этот день он проделал молча. Было уже под вечер, когда они оказались на равнине среди поселений на Старых Ключах. Из низких, каменных домиков, до половины вкопанных в землю для лучшей защиты от ночных морозов, навстречу Победителю выбежали люди и приветствовали его радостными криками, но он почти не слушал их. Он шел посредине веселящейся толпы с хмурым лицом, старательно избегая женщин, каждая из которых могла быть так же осквернена, как и та, что недавно лежала у его ног. Народ смотрел на его грозное лицо и надеялся на скорый и решительный разгром шернов. Некоторые с удовольствием смотрели издали на его высокий рост и крепкие мышцы, не смея прикоснуться к ним, и громко говорили, что это сильные руки несут погибель шернам.
Ему был предназначен для зимовки самый лучший в поселке дом. Такие отдельные нежилые дома существовали во всех поселениях на Луне по давнему приказу Братьев Ожидающих, назывались они «Домом Победителя» и предназначались для того, чтобы Победитель мог найти в них отдых, когда прибудет. Но поскольку из поколения в поколение приход Победителя все откладывался, оказалось, что заброшенный дом пришел в такое состояние, что жить в нем стало невозможно. Выход был найден в том, что из своего дома был выгнан староста, бывший к тому же местным жрецом.
Оставшись вечером одни, Марек велел немедленно прислать к себе Элема. Монах вошел в первый раз одетый в праздничную красную одежду и с серебряной диадемой на лбу в связи с приходом Победителя, которого он сопровождал и, вместе с тем, вел за собой… Он почтительно остановился в дверях и ждал.
Марек расположился в маленькой, слишком низкой для его роста комнатке, и лежал на охапке шкур с нефтяным светильником в головах. Когда Элем вошел, он приподнялся на локте и уставился на него блестящими глазами.
— Кто такие морцы? — неожиданно спросил он.
Элем побледнел, и что-то похожее на тень горького стыда, смешанного с ненавистью, промелькнуло по его худому лицу.
— Господин…
— Кто такие морцы? — запальчиво повторил свой вопрос Марек. — Неужели это?..
Он не закончил вопрос, но монах его понял.
— Да, господин, — прошептал он, — это так… Это дети шернов.
— Значит, ваши женщины… отдаются этим чудовищам?
— Нет, господин. Они не отдаются им.
— Но как же? Как же?
Он вскочил и уселся на постели.
— Слушай, а ведь вы — собаки! Я знаю подобную историю! И на Земле когда-то говорили о дьявольском потомстве! Послушай, всех вас следует забить камнями вместо этих несчастных!
Гнев мешал ему говорить.
— Подойди сюда! Говори немедленно, откуда взялась эта сказка о детях шернов, в которую поверили и эти обезумевшие женщины!
— Нет, господин, это не сказка.
Марек смотрел на него широко открытыми глазами.
— Господин, позволь мне сказать… Шерны обладают удивительной силой. Под крыльями, широкими перепончатыми крыльями у них есть что-то вроде гибких, похожих на змей, рук с шестипалыми ладонями. Все тело их покрыто короткими черными волосами, мягкими, густыми и лоснящимися, за исключением лба и ладоней, которые у них голые, белого цвета… И эти ладони…
Он тяжело вздохнул и вытер со лба пот. Было видно, что ему трудно говорить о таких страшных вещах.
— В этих ладонях и есть их сила, — продолжил он через минуту. — Если обеими ладонями сразу они коснутся нагого человеческого тела, человека начинает сотрясать болезненная, а часто и погибельная дрожь, как при прикосновении к некоторым морским рыбам… А если этот человек — женщина…
— Ну! — крикнул Марек.
— Если это женщина… или сука, или какая-нибудь самка, то она зачинает и родит. Она дает жизнь плоду, внешне похожему на нее, но злому и отвратительному, как шерны…
— Ты уверен, что это происходит на самом деле?
— Да, господин…
В голове Марека закружился вихрь самых невероятных мыслей. Это все совершенно невозможно… Однако ему вспомнились исследования некоторых земных биологов, которые, воздействуя на оплодотворенное яйцо механически или с помощью химических реактивов, заставляли его делиться надвое и получали из них живые плоды… По-видимому, в руках этих лунных чудовищ была какая-то способность вырабатывать электрический ток или иное излучение, которое, сотрясая весь организм, каким-то образом выполняло роль мужских половых клеток…
— Нет, нет, нет! Это невозможно! — громко сказал он, стискивая руками голову.
— Однако это так, господин. Ты сам убил сегодня морца.
— Откуда ты знаешь, что это был морец?
— В том месте, где женщины коснулись поганые руки шерна, у морца есть красно-синие пятна. Ты сам видел… Мы убиваем их, истребляем, как диких животных, потому что они хуже шернов, их злоба соединяется с человеческим обличьем.
Воцарилось молчание. После долгой паузы Марек поднял голову и спросил почти беззвучно:
— И часто… это случается?
— Нет. Теперь нет. Женщину, которая была у шернов, мы закапываем, без всякого суда по горло в землю и оставляем так, пока она не умрет от голода и жажды. Но раньше…
Ему было трудно говорить. Видимо, его человеческая гордость, унаследованная от далеких предков, пришедших с Земли, страдала от подобных признаний. Он склонил голову под пылающим взглядом Марека и тихо закончил:
— Раньше морцев было много… Но они, к счастью, бесплодны. Мы истребили их. Поубивали. Жалости не было ни с той, ни с другой стороны… Теперь это случается редко… Разве что шерны украдут женщину.
— А раньше? Неужели сами женщины?
Элем протестующе покачал головой.
— Нет. Никогда. Это страшная боль. Судороги сводят мышцы и ломают кости… Но…
— Что?
— Было время, когда — покоренные — мы должны были поставлять им дань…
Марек бросился на постель.
— Вы отдавали им своих женщин?!
— Да. Десять человек каждый год. Им нужны морцы: это нас они ненавидят, а им служат, как верные псы… А шерны сами не любят работать…
Марек снова закрыл глаза. Дрожь сотрясала его тело, несмотря на тепло, исходящее от огня.
— И эти женщины… они навсегда оставались у шернов? — спросил он, не глядя на монаха.
— Нет. Шерны убивали их или отсылали назад, когда они старели…
— И тогда вы?..
— Тогда мы сами их убивали, — и через мгновение добавил как бы в оправдание: — Ведь они были матерями морцев.
Марек долго сидел в молчании, закрыв лицо руками. Потом отнял руки и, нахмурившись, сказал себе громко и решительно:
— Придется побеждать!
Элем радостным жестом поднял руку вверх, но Марек не видел его. Он смотрел прямо перед собой, как будто пытался увидеть в мрачной дали ожидающую его судьбу.
III
Авий слишком презирал этих пришельцев с Земли, называемых себя людьми, чтобы посылать послов и выяснять: почему на заходе солнца ему не принесли положенной дани и что означает эта враждебная суета, которую он заметил вечером около своего трехбашенного замка над морем? Он решил в отместку за это спалить все поселение у Теплых Озер, а людей истребить всех до одного. Однако приказа он пока не отдавал, несмотря на то, что морцы с нетерпением ожидали его. Он понимал, что охрана замка слишком немногочисленна, и в случае сопротивления, а он заметил вооруженных стражников, дело могло дойти до тяжелой схватки, исход которой был сомнителен, поэтому следовало подождать до прибытия подкрепления. Это как раз была та ночь, когда шерны прибывали из-за моря, чтобы забрать дань и сменить в замке охрану.
Укрепленная башня, где жил Авий, стояла посередине окруженного крепкой стеной сада, который соединялся с небольшой охраняемой бухтой, над морем. Шерны, составляющие окружение Авия, а главное, немногочисленные его морцы никогда не осмеливались выйти за ворота ограды, зная, что несмотря на все мирные договоры, их ждет там смерть от руки ненавидимой ими и ненавидящей их человеческой массы, в укрепленной башне они чувствовали себя в совершенной безопасности. Они полагались на надежность стен, а еще больше надеялись на страх, внушаемый ими, который удерживал любое человеческое существо вдали от них. В случае убийства шерна или хотя бы нападения на него месть бывала страшной, морцы же заботили шернов гораздо меньше, и они не слишком переживали, если кого-то из них, посланного в глубь страны, встречала смерть. Хотя шерны и пользовались их услугами, в глубине души они презирали морцев не меньше, чем людей.
А кроме того, в случае серьезной опасности в замке всегда был готов путь к отступлению — днем на лодках, ночью — на парусных санях через замерзшее море. Тем же путем прибывали сюда каждую четвертую ночь соплеменники Авия за данью. Именно сегодня наместник ждал их прибытия.
Однако еще больше, нежели отсутствие подкрепления, от кровавого приказа удерживала его врожденная лень шернов. Нужно было принять решение, обратиться к морцам, отдать соответствующие распоряжения… Он размышлял обо всем этом и с удовольствием представлял вспыхнувший в ночи огонь и страх убиваемых людишек, но тем не менее ему не хотелось даже шевелиться.
Он лежал на широкой софе, укутав волосатое тело в мягкую, красную ткань, подвернув под себя ноги с острыми когтями, страшные шестипалые ладони скрывались в складках свисающей перепонки широких крыльев, напоминающих крылья летучих мышей… Рядом в медных треножниках курилась особая трава, острый и одуряющий аромат которой доставлял шерну особое удовольствие. Затуманенным и сонным взглядом своих четырех круглых кроваво-красных глаз он скользнул к двери, где, охраняя его, сидели шесть морцев, скорчившихся от холода, который их хозяин, казалось, совсем не чувствовал.
В голову ему пришло, что сейчас уже полночь и посланники шернов должны были уже прибыть. Он хотел что-то сказать, отдать какой-нибудь приказ, но ему не хотелось этого делать. Морцы только с трудом и неточно понимали язык цветных вспышек на его белом фосфоресцирующем лбу, а ему не хотелось трудиться и пользоваться голосом. Поэтому он только вытянул онемевшие крылья, пошевелил ими и громко зевнул, открыв бездонную пасть, окруженную роговым наростом в форме широкого и короткого клюва.
Морцы сорвались с мест, как свора хорошо выдрессированных собак, а один из них, мужчина, огромного, по сравнению с лунными жителями, роста, с кроваво-синим пятном на щеке, подскочил к хозяину и присел на пол, вопросительно глядя в его кровавые глаза.
— Посланники прибыли? — блеснул шерн ему.
Морец, его звали Нузар, с испугом посмотрел на него и простонал:
— Господин…
Авий заворчал:
— Скотина! С вами, как с собаками или людьми, приходится разговаривать голосом! Прибыли ли посланники, спрашиваю.
— Нет еще, но скоро прибудут…
— Дурак!
Он повернулся на другой бок и приказал добавить в треножник травы. Морцы, у которых как-никак были человеческие легкие, задыхались от густого, невыносимого дыма. Но ни один, однако, не смел в этом признаться: было бы бесчестьем, что они не испытывают удовольствия от того, что шерну высшему существу, так приятно.
Тем временем Авий прикрыл два своих глаза, служивших для близкого наблюдения, а верхними — дальнозоркими, в которых очертания ближних предметов сливались в туманную дымку, уставился куда-то в темноту перед собой, мечтая о намеченной резне, за которой он будет наблюдать из верхней своей башни…
— Как только посланники прибудут, — проговорил он через несколько минут, — подожгите селение…
— Может, это сделать сейчас?! — крикнул Нузар с разгоревшимися глазами.
— Молчи, собака, и слушай… Убьете всех. Можете это сделать. Они не уплатили дань… Впрочем, просто мне так хочется Малахуда… Можете бросить его собакам. Он слишком стар для меня, и мясо у него слишком жилистое. За полдня не сгрызешь… Но у него есть дочь… Я видел ее…
Он громко причмокнул, ударив языком о свой клюв.
— Ее зовут Ихезаль!.. — выскочил вперед один из морцев, молодой, едва подросший парень.
— Молчи, собака… Может, от нее родились бы более умные морцы, чем вы… Как только прибудут посланники…
Но посланники не прибывали. Прошла долгая ночь, и только на рассвете двое шернов, стоящих на часах, доложили, что в сером свете приближающегося дня со стороны моря показались парусные сани.
В наместнике внезапно пробудилась энергия. Он вскочил с места и захлопал тяжелыми крыльями, издавая скрежещущие звуки, которые должны были обозначать смех.
— Через несколько часов здесь будет море огня!
Потом на минуту задумался.
— Жаль, что ночь уже прошла, лучше было сделать это ночью…
Стоящий у окна Нузар повернулся к Авию:
— Пойти им на помощь?
Он вытянул вперед руку.
— Замок окружен. Я вижу палатки, присыпанные снегом. Они сторожили нас всю ночь… Даже на море, на льду поставлена охрана.
Авий кинулся к окну, вглядываясь в слабый свет пробуждающегося дня своими дальнозоркими глазами. Действительно, вокруг замка расположилось двойное кольцо заснеженных холмиков, под которыми скрывались палатки. Тут и там над ними поднимался дымок, свидетельствующий о том, что находящиеся там люди бодрствуют. Именно к этим холмикам приближались со стороны замерзшего моря гонимые ветром крылатые сани шернов.
Наместник с минуту понаблюдал за ними, потом его ужасное лицо прояснилось.
— Трусы! Смотрите: никакая помощь не понадобится!
Действительно, по мере приближения саней люди сами расступались, пропуская их внутрь замкнутого кольца. Однако то, что показалось Авию результатом испуга, было тщательно обдуманным планом Ерета, который со своими людьми занял самый важный пункт на льду, который упустила из виду вооруженная стража. Он не хотел упустить прибывших врагов, к тому же опасался, что в случае сопротивления и сражения шерны будут иметь возможность слишком рано оповестить своих родичей и преждевременно вызвать себе подкрепление. Пропустив сани, круг немедленно сомкнулся обратно.
Тем временем становилось все светлее, и прежде чем припозднившиеся шерны успели отдохнуть после трудного ночного путешествия, в поселении у Теплых Озер, столице лунной страны, произошли великие события. Едва восходящее солнце скользнув по снежным склонам кратера Отамора, спустилось на берег моря и люди Ерета поспешно сошли со льда, который в любой момент мог начать разрушаться, как гонцы с севера дали знать, что Победитель вышел с последнего места своего ночлега и вскоре предстанет перед ожидающими его людьми.
Радостная весть в считанные минуты разнеслась по всему поселению, тем более что тамошние жители, в течение долгой ночи с нетерпением ожидающие утра, уже на рассвете, несмотря на мороз, начали выходить из домов и скапливаться на склонах гор, откуда была видна широкая, заснеженная равнина. Солнце поднималось из-за моря лениво, озаряя золотыми лучами плоскую возвышенность, на которой был построен город, оно отбрасывало тени ожидающих далеко-далеко на белую равнину, расстилая их под ноги идущему…
А он шел навстречу восходящему Солнцу по тающим снегам, по выбивающейся из-под них буйной, живой лунной зелени, сам, как Солнце, светлый и лучезарный, радующийся, что после долгой ночи вновь видит свет, что через несколько минут услышит плеск волн на скалистом берегу. Молодой, сильный и смелый, он радовался жизни и своим удивительным приключениям, забыв уже тоску и сомнения, охватывавшие его накануне и в течение долгой ночи.
На удивление легкой казалось ему сегодня эта невольно принятая им роль, которая вчера (ах, это «вчера», отделенное от него двумя земными неделями!) страшила его своим тяжелым и непереносимым бременем. Почти с детской радостью в свои двадцать с небольшим лет он думал о том, что явился сюда как молодой всесильный бог, присланный с далекой звезды, чтобы освободить, сделать счастливым лунный народ, а потом снова улететь через звездное пространство к себе на родину, провожаемый благодарными лунными жителями, и навеки оставшись в их памяти. Он мечтал, как, вернувшись на Землю, будет рассказывать, показывая на светлую Луну, что был там и сделал много добра, и что там в небесной дали, люди благословляют его имя. Теперь ему казалось, что своим необыкновенным поступком, пересечением межзвездного пространства он заслужил право быть включенным в веками созданную легенду об избавителе, но вместе с этим правом и обязанность исполнения, по мере сил, того, что от него ждали. Впрочем, разве это не рука Провидения забросила его на Луну как раз тогда, когда здесь ожидали прибытия со звезд Победителя?
Он думал обо всем этом, идя по берегу струящегося, освободившегося ото льда потока, по травам и цветам, пробуждающихся под его ногами от ночного сна — и огромная радостная гордость переполняла его, уверенно билось сердце. Он смеялся над бегущими рядом с ним карликами и вместе с ними радовался восходящему Солнцу «нового дня». С присущим веселым добродушием он ласково разговаривал с карликами, улыбался женщинам, даже несчастной Нехем, которая с минуты памятного признания ни на шаг не отступала от него и, как собака, бежала у его ног, — сегодня он все видел другими глазами. Он жалел ее и радовался, веря в свои силы, что с его приходом закончится власть шернов и то зло, которое они причиняют людям. Думая об этом, он улыбнулся смотрящей ему в глаза несчастной женщине и погладил ее по голове.
— Какой ты добрый, господин! — воскликнула она с выражением собачьей преданности в больших выцветших глазах.
— Почему ты называешь меня добрым? Ведь я же убил твоего…
— Ах, да, да, господин, ты убил его, но ведь это был морец, он даже посмел ранить тебя, — возразила она, глядя на широкую красную царапину на его лбу. — Но ведь ты хотел защитить его, когда его забивали камнями… И ко мне, несчастной, ты проявил столько милости! Если бы они знали…
Она вздрогнула и замолчала, охваченная страхом.
Марек хотел ответить ей, но, внезапно послышались все возрастающий шум и доносящиеся издалека крики. Их уже заметили в селении у Теплых Озер, и люди, ожидающие на холмах его прихода, начали сбегать вниз и с криками радости присоединяться к свите Победителя. Вскоре отворились и ворота города, пропуская идущих приветствовать его стариков.
Теперь Элем, окруженный Братьями ордена, выступил вперед — важный, торжественный, облаченный в красные одежды жреца, и повел всю свиту к воротам среди толпы людей, сбегающихся отовсюду.
Среди вышедших приветствовать Победителя Малахуды не было. Там были старшие из людей, но он отправил их одних, сказав, что будет ждать Победителя на ступенях храма, чтобы принять его там, где когда-то жил Старый Человек… Когда, после их ухода, он остался один, то вызвал Ихезаль и с ее помощью стал одеваться, не привлекая к этому слуг. Из древних, кованных золотом и медью сундуков он велел достать самые дорогие одежды: старинные, сшитые некогда трудолюбивыми, набожными женщинами туники, плащи из самых лучших мехов с застежками из чистого золота, пояса, так густо усаженные драгоценными камнями, что под них нужно было подкладывать кожаные валики, чтобы они своей тяжестью не повредили бедер.
— В последний раз, в последний раз… — приговаривал он, глядя на суетящуюся Ихезаль.
В конце концов он выбрал красную тунику, достигающую до лодыжек, всю расшитую удивительными цветами, каких никогда не видели на Луне (некоторые говорили, что такие растут на Земле), стянул ее над бедрами широким поясом из пожелтевшей кости, золота и камней, который некогда был собственностью великого жреца и пророка Рамиды, и прикрыл все это бесценным черным плащом, сделанным из шкур, заживо содранных с шернов. Этот плащ, как память об одержанной несколько веков назад священной победе (к сожалению, они были очень редкими в жизни лунных жителей), он ценился наравне с самыми большими святынями и вместе с ними хранился в подземной сокровищнице. Оттуда теперь по приказу деда его вынесла Ихезаль вместе с колпаком со свисающими до самого пояса шнурами с янтарем и огромными жемчужинами, золотое основание которого было украшено сказочной величины изумрудами, в окружении которых сверкал светлый камень, по преданию некогда принадлежавший Старому Человеку.
Малахуда надел колпак на волосы, скрепленные ритуальным золотым обручем, сунул ноги в белые сандалии, украшенные рубинами, повесил на шею дорогую цепь и протянул тяжелую от колец руку за резным костяным посохом…
Теперь Ихезаль поддерживала плечом старика, сгибающегося под тяжестью одежд и цепей, и вела его в храм… А он, останавливаясь на ступенях и оглядываясь на каждом шагу, что-то бормотал про себя. В огромном зале он подошел к главному амвону и оперся плечом о золотой знак Прихода, сверкающий в центре его, вытирая пот, выступивший на лбу.
— В последний раз, в последний раз, — шептал он и покачивал головой, накрытой тяжелым колпаком первосвященника…
Ихезаль вышла вперед. До сих пор молчаливая и послушная, в эту минуту она почувствовала, что какая-то духота охватывает ее в этом опустевшем храме. Она остановилась у широко открытых входных дверей и, опершись об одну из двух алебастровых колонн, поддерживающих портал, смотрела перед собой, за город, на далекую равнину, по которой шел Победитель. В какой-то момент ей показалось, что она слышит за собой плач деда, на мгновение ее черты исказились гримасой боли и недовольства, но она даже не обернулась… Бессознательным, почти сонным движением она потянулась к заколотым над ушами золотым волосам и распустила их: они упали ей на лицо, на белоснежную шею и грудь, виднеющуюся под распахнувшимся аметистовым нарядом… Жаркая кровь застучала в висках, пурпурные губки задрожали — она прикрыла веками огромные черные глаза, вслушиваясь в тихое и светлое пение своей души.
— О приди!.. О приди… Я выйду навстречу тебе из мрачного храма, встану перед тобой на колени на золотом песке и буду смотреть в твои глаза, которые должны быть такими же ясными, как те звезды, откуда ты пришел!
Ты приходишь ко мне, потому что я олицетворение той человеческой тоски по далекой звезде, унаследованной от предков, я — любовь, которую вызвало к жизни твое появление, я последнее воплощение красоты обездоленных и печальных изгнанников.
О приди! О приди! лучезарный, победоносный, богоподобный!.
Горячая волна залила ее грудь, и девушке стало трудно дышать… Мрачный храм исчез из ее глаз, перед ними волновалось только море света, блеска и зелени…
Она долго стояла в этом сладком, полусонном оцепенении, пока ее не пробудил от грез неожиданный звук шагов и крики выбегающих отовсюду людей. Звали первосвященника.
Победитель уже вошел в ворота города и как раз подходил к храму.
Она рванулась назад; сердце, громко стучащее у нее в груди, вдруг сжалось от испуга, ей хотелось убежать, скрыться, но она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой… Прижав руками бешено колотившееся сердце, с глазами полными слез, которых она не могла сдержать, девушка тихо опустилась к подножию алебастровой колонны.
Как сквозь сон, она видела деда, который неожиданно спокойно, с высоко поднятой головой, в одеждах первосвященника, поддерживаемый под руки молодыми жрецами, прошел мимо нее к открытым дверям с большой, поспешно собравшейся вокруг него свитой. Она, как сквозь сон, слышала звук шагов по каменному полу и далекий шум волнующейся перед храмом толпы, а потом ее окутал мрак, в ушах послышался звон, ей показалось, что она падает в какую-то бесконечную и бездонную пропасть.
Тем временем Малахуда уже стоял на широких ступенях храма, в том самом месте, где вчера получил первое сообщение о приходе Победителя. Теперь это сообщение стало явью; удивительный и нежданный пришелец шел к нему в окружении обезумевших от радости людей, которые почти несли его на руках, видный издалека, огромный, светлый, лучезарный…
Первосвященник нахмурился… Жестокая зависть исказила его лицо. Он оперся на костяной посох и ждал, стоя в окружении сановников, к безмерному удивлению и огорчению людей, которые надеялись, что первосвященник сойдет со ступеней, чтобы покорно приветствовать Победителя.
— Малахуда! Малахуда! — доносились отовсюду крики.
Первосвященник, однако, даже не вздрогнул. Он спокойно смотрел перед собой из-под седых, кустистых бровей, и только по мере того, как крики становились более настойчивыми, соединяясь с оскорблениями, бросаемыми по его адресу, терпеливая и ироническая усмешка появлялась на его стиснутых губах.
— Малахуда, сойди вниз и поклонись Победителю, которого привели люди!
Элем в пурпурной одежде остановился перед ним — и почти приказывающим жестом указал ему на место, где толпились люди.
— Мне подобает сохранять достоинство, подобающее Его Высочеству, — ответил старик. — Я первосвященник, управляющий всеми лунными жителями!
Черные глаза монаха зажглись гневом.
— Ты — никто! — закричал он. — Сегодня один Победитель владеет всеми и тобой, который ему служит!
— Пока я не сложил своих полномочий, я тот, кем был раньше… — спокойно ответил Малахуда, — и прежде чем твой Победитель взойдет на ступени храма, я могу приказать заковать тебя в кандалы и отправить в подземелье вместе с твоими Братьями, которые нарушили закон, оставив без моего позволения Полярную Страну.
Лицо Элема покраснело, на висках выступили синие вены.
— Я не нуждаюсь ни в чьем позволении, — сказал он, задыхаясь от бешенства, — и не собираюсь слушать никого, не то что тебя, прислужник шернов!
Победитель уже поднимался по ступеням храма. Малахуда, не отвечая на страшное оскорбление монаха, отодвинул его от себя одной рукой и оказался лицом к лицу с удивительным пришельцем.
Марек, стоя несколькими ступенями ниже, смотрел на старика с доброй ясной улыбкой и протягивал ему руку для пожатия. Тот, однако, на улыбку не ответил и руки в ответ не протянул, даже не склонил головы, хотя все вокруг упали ниц, приветствуя Победителя.
Малахуда несколько минут смотрел прямо в глаза прибывшему и наконец произнес:
— Приветствую тебя, господин, кем бы ты ни был, поскольку тебя привела сюда воля людей…
— Я пришел сам, исключительно по собственной воле, — ответил Марек, становясь серьезным.
Малахуда слегка наклонил голову.
— Для меня тебя сюда привела воля людей, которые в течение семи столетий ждали Победителя и сегодня называют этим именем тебя.
— Я еще не являюсь «Победителем», но хотел бы стать им, видя, что с вами здесь происходит…
— Ты уже Победитель, господин! — вмешался Элем. — Ты являешься им с той минуты, когда твоя нога ступила на Луну!
Малахуда слегка поморщился и, не обращая внимания на слова монаха, продолжал:
— Ты должен быть Победителем, господин, если пришел сюда и переворачиваешь все, что было до тебя…
Марек хотел ответить, но старый первосвященник поднял руку, требуя молчания.
— Я не знаю, ни откуда ты прибыл, ни зачем, ни каким образом, — сказал он, — но вижу, что ты больше нас и, видимо, сильнее; попытайся сделать, если хочешь, то, что мы не смогли… А если ты действительно прибыл с Земли, и если правда, что много веков назад похожий на тебя человек поколение людей переселил сюда с той великой звезды, где людям жилось лучше, то ты должен знать, что твоей обязанностью является искупить сегодня вину того человека и избавить нас от бедствий, на которые мы, в течение многих веков, обречены… До сих пор нас поддерживала надежда, что придет Победитель; вот в этом храме, у порога которого я тебя приветствую, я постоянно поддерживал народ в этой надежде, помни, что с той минуты, когда ты сюда пришел, нет уже никакой надежды, значит должна быть реальность!
Не все в толпе могли услышать слова Малахуды, однако те, кто слышал их, начали роптать на эти непонятные и еретические слова, которые произносил первосвященник, но он не обращал на это внимания. Фразы, которые еще вчера ему самому показались бы такими ужасными, что об их произнесении и подумать было трудно, теперь он выговаривал просто и ясно, вопреки тому, что всегда говорил своему народу, что они должны благословлять Старого Человека, который привел людей на Луну, и ждать прихода Победителя.
— Я не знаю, в самом ли деле был обещан приход Победителя, — говорил он, и его голос рос, усиливался и гремел в его маленькой груди, — не знаю, было ли обещано, что придешь именно ты, хотя все Книги полны Обещаний, но вижу, что ты пришел, поэтому повторяю тебе еще раз: ты должен Выполнить то, о чем мы мечтали в тоске и лишениях в течение многих веков — наверное, было бы лучше для тебя и для нас, если бы твоя нога никогда не ступала на Луну, — иначе ты будешь проклят нами.
В толпе сразу зазвучали возгласы угрозы и возмущения, даже боязни, что могучий Победитель может отомстить людям за кощунственные слова первосвященника. Раздавались крики, что если Малахуду внезапно не поразило безумие, то Он заслуживает смерти за такие слова. Взывали к Элему, чтобы он взял у него колпак первосвященника и ввел Победителя в храм. Старик невозмутимо переждал этот всплеск возмущения и, когда он на минуту утих, продолжил, обращаясь к Победителю:
— Я сорок четвертый и, видимо, последний первосвященник, управляющий народом Луны. Я направлял его, поддерживал и карал по мере потребности, как деды и прадеды мои, пока он страдал и ждал. Сегодня этот народ требует тебя, называя странного пришельца долгожданным Победителем, поэтому моя роль и тяжелый труд завершены. Я рад этому, потому что мои силы уже на исходе, и не знаю, что я мог бы сделать еще… Поэтому вручаю тебе мое высокое звание и мою власть на пороге храма и объявляю тебя последним первосвященником согласно нашей древней религии, которая столько лет поддерживала нас. Видит Бог, иначе я поступить не могу.
С этими словами он взялся руками за тяжелый колпак первосвященника, чтобы снять его со своей седой головы…
Марек быстро сделал шаг вперед и схватил его за руки.
— Нет! — вскричал он. — Оставайся по-прежнему тем, кем был, и управляй этой страной! Из того, что ты сказал, я понял, что мы можем быть друзьями и даже братьями…
Малахуда освободил свои руки.
— Нет! Ни друзьями, ни братьями мы быть не можем. Мы с тобой с разных планет — это слишком долгий разговор. При этом положении вещей или ты мог бы быть моим подданным, или я твоим слугой. Поскольку первое невозможно, другого я не хочу, пока не узнаю на деле, кто ты такой. С сегодняшнего дня того, что было, не существует, и я больше не нужен.
Он снял колпак с головы и бросил его на каменный пол, бросил посох, пояс и тяжелую цепь, потом снял с плеч плащ из шкур шернов, сшитый в победные времена, и, в первый раз поклонившись, разостлал его под ноги пришельцу.
— Через этот плащ, — сказал он, — сшитый из шкур врагов наших и атрибуты первосвященника, хранимые много веков, лежит твоя дорога в храм. Помни, что ты должен растоптать их, чтобы войти. Ты уничтожил нашу религию, уничтожь и врагов наших, если хочешь, чтобы тебя благословляли.
Сказав это и освободившись от всех знаков достоинства и власти, с непокрытой седой головой он начал спускаться по ступеням, прямо в толпу, которая, забыв о своих злобных выкриках, теперь с невольным уважением расступилась перед ним.
Марек молчал, стоя неподвижно, хотя после ухода Малахуды гораздо больше людских голосов призывало его войти в храм, к этому же призывал его Элем, который поднял брошенный первосвященником колпак и в знак перехода власти надел его на свою бритую голову.
Он долго стоял так, тихий и задумчивый, видимо, взвешивая в уме то, что услышал, пока наконец народ не притих, обеспокоенный его странным поведением.
Тогда Марек неожиданно поднял голову и уверенно вступил на черный, кораллами и жемчугом расшитый плащ из шкуры шерна, разостланный последним первосвященником.
Толпа, видя это, взорвалась радостными возгласами, люди снова кинулись к его ногам, опять зазвучали прославляющие его и его будущие подвиги слова.
Марек поднял руку в знак того, что хочет говорить, но прошло довольно много времени, прежде чем народ, притихнув немного, дал ему такую возможность. Однако едва он открыл рот, произошло нечто неожиданное. С северной стороны, оттуда, где находился замок шернов, внезапно повалила волна густого черного дыма, мгновенно закрывшая солнце, и одновременно послышались тревожные и яростные крики. Оттуда же слышался лай собак и шум разгоравшегося сражения. Толпа заволновалась и рассыпалась: одни кинулись к Победителю, взывая о помощи, другие, крича, бросились к своим жилищам.
Шерны под предводительством Авия выскочили из замка и, прорвав внезапным нападением цепь вооруженных стражников, ворвались в поселение, сея вокруг страх, смерть и огонь. Марек, подняв голову, издали увидел их черные силуэты, которые тяжело взлетали на широких крыльях над толпой, бросая в нее сверху камни и горящие факелы.
IV
Прислонившись к подножию алебастровой колонны, Ихезаль не могла понять слов, которыми Малахуда приветствовал Победителя, но она слышала звук его голоса и поняла, что он говорит важные вещи. Из своего укрытия она смотрела на деда, на его черный плащ и высокий колпак первосвященника, который заслонял от нее стоящего ниже пришельца с далекой звезды. В душе она проклинала этот широкий плащ и затянувшееся приветствие, дрожа от нетерпения как можно быстрее увидеть лицо человека, которого так ждала, но какой-то безотчетный страх мешал ей выйти из укрытия или хотя бы двинуться с места. Она напрягала взгляд, как будто хотела пробить стоящую между ней и Победителем фигуру первосвященника, однако, если он делал движение, которое могло позволить ей увидеть прибывшего, она невольно закрывала глаза, прижимая руки к отчаянно бившемуся сердцу.
«Сейчас я его увижу!» — думала она, видя, что Малахуда сдвигается в сторону, и — снова закрывала глаза.
Внезапно ее охватила какая-то усталость: она повернула лицо внутрь храма и стала смотреть на золотой знак Прихода на амвоне, не думая ни о чем.
Ей казалось, что она вернулась назад в прошлое…
Вот первосвященник Малахуда стоит на амвоне и говорит, а она, маленькая девочка, спрятавшись в цветастой толпе, слушает эти удивительные рассказы или легенды…
«С далекой звезды, светящейся над пустыней, однажды пришли люди…
И оттуда же в назначенный час придет Победитель, светлый и лучезарный…
Тогда на Луне наступит вечный день и придут счастливые времена…»
Солнце заглядывало в храм через цветные витражи, его лучи освещали темные стены и головы притихших людей, золотые лучи, совсем как в той легенде:
«С далекой звезды, светящейся над пустыней».
А как он будет выглядеть? Будут ли у него голубые глаза? А волосы будут золотые и длинные? А какой голос? Какие слова скажет он людям?
Он пройдет через лунные горы и долины, заглянет во все уголки — от пустыни до самого синего моря, ясный, как солнце, сияющий, как заря…
Она вздрогнула. Ведь он уже здесь! В нескольких шагах от нее! Резким движением она повернулась к двери. Вот дедушка снимает золотой колпак и бросает его на каменные плиты. Она видит, как Элем поспешно наклонился за ним, не понимая, зачем так внимательно следит за движениями его белых рук, ловящих на ступенях покатившийся головной убор первосвященника… А потом…
Она услышала крик и испугалась, поняв, что вскрикнула сама. На распростертую шкуру шерна, на высшую ступень поднялся Он и ослепил ее своим видом.
— Он, он!.. — шептала она, не в силах оторвать глаз от этой огромной светлой фигуры, возвышающейся над толпой лунных жителей, как высокий кратер Отамора над окружающими холмами Испуг, который она чувствовала еще минуту назад, внезапно исчез, какое-то удивительное спокойствие охватило девушку.
— Да. Это Он, — говорило что-то в ней с глубоким убеждением. — Он пришел.
Поэтому все остальное казалось ей не имеющим никакого значения и маловажным. Она безразлично смотрела на Малахуду, спускающегося с непокрытой головой по ступеням; на Элема, в шапке первосвященника, на толпу, клубящуюся около ног Победителя.
Около Его ног…
И она снова улыбнулась, хотя неожиданно разразившееся сражение у ворот города в мгновение ока смело всю толпу со ступеней храма, улыбнулась, глядя, как Победитель, словно молодой бог, бежит в сторону распространяющегося дыма и огня, созывая мужчин и стражников, в первый момент отступивших под натиском противника. Даже когда он исчез из поля зрения, она по-прежнему смотрела ему вслед зачарованным взглядом, с той же самой спокойной улыбкой на губах.
В храм начали сбегаться многочисленные женщины, согласно обычаю ищущие здесь спасения от опасности. Они вбегали туда с криками и причитаниями, некоторые — в страшном испуге, обезумевшие от страха. Резкий запах дыма и гари врывался вслед за ними сквозь распахнутые двери.
Ихезаль, не двигаясь с места, удивленно смотрела на них, как будто не понимая, почему они кричат и чего боятся, когда Он находится здесь…
Он!..
Одна из женщин, увидев внучку старого жреца, стоящую в дверях, схватила ее за широкий рукав, торопливо говоря что-то, чего она не понимала. Другие тоже звали ее, тянули в темную глубину храма, но она освободилась от их рук и вышла из дверей. Площадь была совсем пустой; на ступенях лежал затоптанный плащ из шкуры шерна, украшенный жемчугами и кораллами…
Ихезаль подняла его, набросила себе на плечи и вошла назад в храм. Женщины укрылись в дальних помещениях и в открытой сегодня подземной сокровищнице, в огромном зале не было никого. Девушка, пройдя через него и миновав амвон, свернула налево, откуда поднимались крутые ступени лестницы, огибающей колонну и ведущей на крышу высокого здания.
Она шла медленно, все выше поднимаясь к сводчатому потолку, не думая ни о чем другом, и только тихо улыбалась, видя, как исчезает внизу мозаичный пол. Каждый раз, когда она оказывалась на уровне очередного окна, до нее долетала волна шума со стороны продолжающейся битвы, но она не обращала на это внимания, как ребенок, радуясь, что поднимается все выше и выше…
Очнулась она только ступив на крышу, когда ей в лицо ударил свежий ветер с моря. В первый момент она даже не поняла, как попала сюда, на эту возвышающуюся над городом и окрестностями площадку. Только теперь она заметила у себя на плечах затоптанный плащ и с отвращением отбросила его от себя. Какой-то неожиданный спазм перехватил ей горло: она с трудом удерживалась, чтобы не заплакать, хотя не знала, о чем хочет плакать и почему старается удержаться от этого…
Море раскинулось широко, золотое и подвижное в солнечном свете. Волны, по мере того как приближались к берегу, вскипали белой пеной и с глухим шумом выплескивались на песок, разливаясь по нему серебристыми полукружиями. Их гнал ветер, оставшийся где-то далеко, под лениво поднимающимся солнцем, там, за островом, видным издали, который называли Кладбищенским, так как, по преданию, именно там были похоронены останки первых людей, прибывших на Луну с Земли вместе со Старым Человеком. Ихезаль, опершись спиной о каменную балюстраду, смотрела на солнце и на остров, который выглядел отсюда как черно-синее пятно на серебристом пространстве.
Удивительны были этот ветер и неустанный шум моря при ярком солнце, уже достаточно высоко поднявшемся на небе. Оно обжигало ее лицо, которое хлестал морской солнечный ветер. Девушка с радостью вдыхала в себя это свежее дыхание моря, приоткрывая запекшиеся губы. Под полуприкрытыми веками, в глазах, ослепленных блеском, все стало затуманиваться и волноваться: море, беспокойное и золотое, небо и черный остров, который, казалось, летел ей навстречу на гребнях волн…
«С далекой звезды, светящейся над пустыней, однажды пришли люди…» — снова зазвучало в ее ушах.
Она обернулась. Ведь Он там и сражается! Как будто только теперь вспомнив, наконец, зачем она сюда пришла, она сорвалась с места и быстро перебежала на другой конец площадки, откуда был виден город и широкая равнина за ним. Шум битвы затихал, и дым медленно оседал над пепелищами.
Шерны, победившие при первой атаке, несмотря на невероятный натиск, были обращены в позорное бегство. Одной из причин этого явился переполох, возникший в рядах преданных им морцев, когда они увидели великана, сражавшегося на стороне людей. С паническим страхом они бросали оружие и бежали укрыться за крепостной стеной, бросая своих хозяев на произвол судьбы, забыв об ужасном наказании, которое ждало их за отступничество. Предоставленная собственным силам горстка шернов упорно сражалась, но не могла, однако, справиться с превосходящим противником. Тяжело взлетая над человеческими шеренгами, они разили их сверху огнем и стрелами, но каждую минуту кто-то из них падал, сраженный страшным орудием Победителя или хорошо нацеленным камнем, выпущенным из пращи. Однако, несмотря на потери, они не отступали до последней минуты, пока крылья у них не начали гореть, отдавая их во власть разгневанной толпы.
Ихезаль видела сверху, как те, которые были ближе к укрепленному замку, истекая кровью, тяжело летели к своим башням, падая сразу же за оградой от ран и усталости. Однако те, которые слишком углубились на территорию поселения, не могли уже дотянуть до безопасного места и падали среди сражающихся, на крыши домов, чтобы найти тут немедленную и страшную смерть от рук победителей. Им ломали крылья, превращали их тела в кровавое месиво камнями или бросали связанных в огонь догорающих пожарищ. Однако ни один из подвергающихся пыткам не просил пощады, зная, что эта просьба была бы напрасной или из-за безграничного презрения к людям.
Ихезаль безразлично смотрела на этот естественный, как ей казалось, конец сражения и искала в толпе Победителя. Он стоял поодаль, уже закончив свое сражение, но все еще со своим страшным орудием в руках — бдительный и настороженный, что чувствовалось по его движениям. Он оглядывался вокруг, голосом и жестами отдавал какие-то распоряжения. Девушка не могла услышать слов, но легко догадалась, что речь идет о том, чтобы помешать вернуться назад двум или трем шернам, в пылу борьбы задержавшимся здесь и желающим теперь вернуться в свою укрепленную башню. Один из них, уже не способный от усталости улететь, укрывался на крышах, с трудом перелетая с одной на другую, когда его настигли. Второй уселся на стене и спокойно ждал смерти от руки Победителя, который, заметив врага, прицелился в него из своего убийственного оружия. За третьим — с криком неслась целая толпа.
Тот, видя, что возвращение ему отрезано, и будучи не в состоянии взлететь достаточно высоко, чтобы обезопасить себя от человеческих стрел, ринулся в свободную от воинов сторону — к морю и храму — и исчез где-то между домами. Его исчезновение было замечено, и, опасаясь, что, обогнув поселение, он сможет над морем долететь до своего замка, люди поспешно и лихорадочно искали его.
Победитель, убив второго шерна, тоже принимал участие в поисках и бежал к храму, осматриваясь вокруг быстрым взглядом.
Именно на него смотрела Ихезаль, желая, чтобы он поднял на нее глаза, когда за ее спиной послышался шум падающего тела. Она быстро повернулась, и кровь у нее в жилах застыла от ужаса. В нескольких шагах от нее на плоской каменной площадке лежал преследуемый шерн. На вид он был совершенно обессиленный — одно крыло у него было повреждено и в нескольких местах сочилось желто-зеленой кровью; на труди и ногах тоже были глубокие раны от стрел, однако было видно, что он жив; грудь его тяжело вздымалась, а четыре красных и сверкающих глаза настойчиво вглядывались в девушку.
Ихезаль не смогла деже вскрикнуть, зачарованная этим страшным взглядом. По золотым обручам на предплечьях и у щиколоток она узнала наместника шернов Авия и с ужасом смотрела на него, в то же время она ощущала какое-то странное любопытство. Омерзительный и раненый шерн, которого она первый раз видела вблизи, показался ей, несмотря ни на что, удивительно и угрожающе прекрасным.
В нем чувствовалась какая-то злая сила, коварство и охватившая его тревога, смешанная с удивлением. Он лежал на боку, на сломанном крыле; другое, черное с синим отливом, сверкающее — широко распростерлось на полу. Голова у него была слегка приподнята, и под слабо фосфоресцирующим лбом сверкали ужасные красные глаза…
— Спрячь меня! — на языке людей сказал он, все еще смотря на девушку. В его словах не было просьбы, скорее это был настойчивый приказ. Ихезаль безвольно приблизилась на шаг к нему.
— Спрячь меня, сука, быстро! — снова зашипел шерн. А она автоматическими, безвольными шагами все приближалась к нему, не в силах оторвать глаз от его пылающих зрачков. В тот момент, когда только один шаг отделял ее от него, раненый шерн, собрав последние силы, молниеносно высунул из-под крыльев страшные белые ладони.
С коротким криком она отскочила назад, избежав гибельного прикосновения. В этот момент к ней вернулось полное самообладание: она схватила лежащий невдалеке плащ первосвященника и неожиданным жестом набросила его на голову врагу, а потом, не имея больше ничего под рукой, стянула с себя одежды и опутала ими лежащего шерна.
Тем временем воины во главе с Победителем подбежали уже ко входу в храм. Она услышала на лестнице звук их шагов и громкие крики. Не думая о том, что она совсем обнажена, девушка бросилась к балюстраде и, наклонившись вниз, закричала:
— Идите сюда! Идите…
Ей не хватило дыхания, и она не смогла даже крикнуть им, что поймала сбежавшего наместника.
Однако по ее голосу внизу поняли, что шерн должен быть там, и поспешно кинулись наверх, чтобы его захватить.
— Живьем, живьем! — кричал Ерет, который вбежал первым. — Победитель велел взять его живьем.
В одно мгновение на Авия упала куча разгоряченных тел. Ослабленный ранами, запутавшийся в одеждах, он не смог оказать сопротивления, однако поднимающие его люди не доверяли его видному бессилию, помня о страшной силе, содержащейся в белых, мягких ладонях шернов, которые, соединившись, поражают противника убийственным током. Его перевалили на грудь, держа каждую ладонь вдали от другой.
Шерн, до сих пор хранящий презрительное молчание, застонал от боли и рванулся в сторону, переворачивая держащих его людей, однако тут же упал, сраженный тяжелым ударом палки. Обе его руки были растянуты веревками в разные стороны.
Ерет толкнул лежащего лицом вниз шерна:
— Вставай, гад! — крикнул он.
Авий поднял голову и моргнул кровавыми глазами, но не двинулся с места. Тогда за каждую веревку, привязанную к его рукам, взялись по три человека и, принимая меры предосторожности против того, чтобы он не сложил рук, его потянули к той части крыши, которая выходила, на площадь, где толпились люди. Здесь Ерет велел перебросить его на веревках через балюстраду, чтобы он повис над тимпаном храма.
Внизу узнали наместника, и раздался громкий победный крик. Подростки швыряли в него камнями, которые, однако, не достигали своей цели, в его сторону плевали, посылали ему проклятья и оскорбления. Шерн не издал ни одного звука. Распятый в воздухе перед храмом с бессильно повисшими крыльями и выгнутыми назад руками, он только смотрел в толпу своими кровавыми глазами с ненавистью и презрением.
На крышу храма поднялся Победитель с неотступным Элемом.
— Он здесь, он здесь, господин! — кричал новый первосвященник, подводя его к тому месту, где висел шерн.
Марек наклонился, но, увидев шерна, отпрянул с неожиданным отвращением, настолько это была омерзительная картина.
— Снять его! — закричал он.
Люди, держащие Авия, неохотно подняли его, не смея, однако, ослушаться приказа, и на веревках привели и поставили перед Победителем.
У Элема загорелись глаза.
— Какую смерть ты предназначаешь ему, господин? — настойчиво спрашивал он, крутясь у ног Марека. — Можно было бы его испечь на вертеле или, еще лучше, скормить рыбам… Ты не знаешь, господин, как это делается? Мясо у него на ногах раздирается в клочья, чтобы приманить рыб, а потом он помещается по пояс в воду…
— Убирайся! — процедил Марек сквозь зубы, потом огляделся вокруг.
— Кто его поймал? — спросил он.
Воцарилось молчание. Люди смотрели друг на друга; те, которые пришли позднее, указывали на прибежавших раньше, до тех пор пока глаза всех не остановились на съежившейся в углу девушке.
— Кто его поймал? — повторил Марек.
— Я.
Она вышла из толпы и остановилась перед ним. Так как ей пришлось снять с себя почти всю одежду, чтобы связать шерна, она стояла перед ним обнаженной до пояса; только вниз от белых бедер спадала фиолетовая юбка… Марек посмотрел на нее, и ее щеки залились краской. Невольным движением она перебросила на грудь рассыпавшиеся волосы, как бы желая спрятаться в них…
— Ты? — удивленно прошептал он. — Ты?!
— Это внучка Малахуды! — зашелестело в толпе, узнавшей девушку. — Последний отпрыск старого первосвященника!
Она тем временем стояла, глядя прямо в глаза Победителю, со связанным шерном у самых ног — и чувствовала, что под его взглядом все силы оставляют ее. Кровь отхлынула от щек, ноги ослабли и подгибались… Она напрягала все свои силы, чтобы не упасть…
Внезапно она почувствовала, что кто-то обнимает ее.
— Это моя невеста, — поддерживая ее, сказал Ерет.
Девушка вздрогнула и вырвалась из его объятий, снова обретая дар речи.
— Неправда, — закричала она, — неправда!
Изложив на груди руки, она заговорила быстро, как бы стараясь оправдаться от тяжкого обвинения:
— Ты не слушай его, господин, потому что это неправда! Может быть… когда-то… действительно… но теперь…
Она замолчала.
— Теперь? — спросил Марек, удивленный всей этой сценой.
— Теперь, — ответила она, невольно понижая дрожащий голос, — теперь только ты один господин мой, Победитель, с далекой звезды пришедший, чье имя пусть будет благословенным во веки веков!
Говоря это, она опустилась на колени и коснулась лбом его ног, рассыпая на них сверкающее золото своих волос.
Тем временем шум вокруг них усиливался, стали раздаваться громкие крики. Марек, который собирался что-то сказать стоящей перед ним на коленях девушке, поднял голову и посмотрел вокруг вопросительным взглядом, не в состоянии из отдельных слов и выкриков понять, о чем идет речь.
— Господин! — выступил вперед Элем. — Народ требует смерти Ихезаль, внучки Малахуды…
Марек почувствовал, что девушка, охваченная внезапным испугом, прижалась к его коленям.
— Что? — спросил он. — В чем она провинилась?
Никто не отвечал. Наступила тишина, но лица всех присутствующих молча и угрожающе были обращены на золотоволосую девушку, в глазах их читалась безжалостность. Марек посмотрел на Ерета, который был родственником первосвященника и минуту назад сам назвался ее женихом. Молодой воин стоял нахмурившись, и кусал губы, но ни словом не выразил своего протеста.
— Она должна умереть, — наконец заявил Элем.
— Должна умереть! — закричали сразу со всех сторон.
— Что вы хотите от нее? В чем она провинилась? — повторил Марек, положив ладонь на ее золотые волосы.
— Ни в чем не провинилась, — сказал Элем, — но должна умереть. Она была наедине с шерном, — он показал на Авия, — поэтому должна умереть.
— Но это она его поймала! — вскричал Марек.
— Да, но делая это, она была здесь наедине с ним, и поэтому должна умереть, закопанная в песке. Таков закон.
— Таков закон! Она должна умереть! — послышалось отовсюду.
Победитель вспыхнул от гнева.
— Плевать мне на ваши законы! Я здесь устанавливаю законы, если вы признали меня вашим господином! Она будет жить, потому что я хочу этого!
Элем согнулся в поклоне.
— Ты можешь все, Победитель, но ты сам не захочешь того, чего мы не хотим, чтобы от нашей плоти рождались дети шернам!
Ихезаль сорвалась с места.
— Я чиста! — крикнула она с горящими глазами, повернувшись к толпе лицом. — Слышите, я чиста! Кто смеет…
Слезы сдавили ей горло и помешали говорить дальше. Она закрыла лицо и, падая вновь к ногам Марека, повторила тихим и молящим голосом:
— Я чиста… Убей меня, Победитель, но поверь, что я чиста…
Марек наклонился над плачущей девушкой и, как ребенка, взял ее на руки.
— Она находится под моей защитой, слышите! — заявил он. — Никто не посмеет прикоснуться к ней. Я беру на себя ответственность за нее!
Среди собравшихся послышался ропот, однако никто не посмел возразить. Обращаясь к Элему, Марек добавил:
— А передо мной за нее отвечаешь ты! Если с ее головы упадет хоть один волос, я прикажу тебя закопать живым в песок!
Он говорил это твердым, приказывающим тоном, к которому неожиданно привык за это короткое время, проведенное среди лунных жителей.
Элем молча поклонился.
— А с шерном что прикажешь делать, господин? — спросил он через минуту.
— Пусть пока живет. Поместите его в крепком и надежном месте. А теперь идите все отсюда и оставьте меня одного.
Площадка мгновенно опустела. Авия стащили по крутой лестнице и по приказу Элема приковали, заменив веревки цепями, в подземной сокровищнице храма, который с этих пор должен был быть местом жительства Победителя, как единственное соответствующее его росту помещение во всем городе.
На крыше остались с Мареком только Ихезаль и медлящий с уходом Ерет.
Победитель вопросительно посмотрел на него.
— Господин, — сказал юноша, — она должна была стать моей женой…
— А ты хотел ее смерти!
— Нет. Я не хотел этого. Только такой закон.
— Был.
— Тем лучше для нее, что был. Однако и сегодня ни один человек не возьмет женщину, оскверненную прикосновением шерна.
— Ты не веришь, что она чиста?
— Я хочу верить и верю, когда ты это говоришь, Победитель, спустившийся, к нашей радости, со звезд! Но если так, то я хочу попросить тебя о чем-то — я, который готов быть твоим псом и служить тебе, как ты захочешь. Не отнимай ее у меня, господин! Я люблю ее.
Марек засмеялся своим свободным, земным смехом.
— Даже ребенком я не играл в куклы! Что бы я с ней делал?
Ихезаль, до сих пор безразлично слушающая их разговор, подняла на него глаза.
В них таился какой-то вопрос, однако она ничего не сказала, только крепко сжала губы и стала смотреть на далекое море… Марек посмотрел на нее, и ему в первый раз пришло в голову, что она почти голая. Ему не очень понравилось, что Ерет смотрит на нее. Он снял большой красный платок, который был завязан на его шее, и набросил на маленькие плечи девушки. Она не пошевелилась и не поблагодарила его даже взглядом.
— О чем ты думаешь? — резко спросил он, поворачиваясь к смотрящему на девушку Ерету.
Тот усмехнулся.
— Думаю, господин, что если бы не ты, я бы лишился счастья всей моей жизни. Потому что я не посмел бы противостоять закону — и тело Ихезаль в эти минуты уже зарыли бы в песок…
Юноша пылающими глазами смотрел на нее, не смея, однако, приблизиться к ней, удерживаемый либо присутствием Победителя, либо задумчивостью и неподвижностью девушки.
— А ты? — спросил Марек. — О чем ты думаешь сейчас?
Она подняла на него грустные, но ясные и спокойные глаза.
— Мне вспоминается старая легенда, записанная в книгах, хранящихся в сокровищнице храма… Я думаю о благословенной пророчице Аде, которая, не зная мужчины, служила когда-то Старому Человеку, а когда он возвращался на Землю, проводила его до края Великой Пустыни и осталась жить там, всматриваясь в далекую звезду…
Победитель несколько принужденно засмеялся.
— Я — «Молодой Человек», — сказал он, — и когда буду возвращаться на Землю, возьму тебя с собой… Возьму вас обоих, — поправился он, взглянув на Ерета, — там вы будете счастливы…
Ихезаль чуть усмехнулась, не отрывая глаз от огромного синего моря.
V
Солнце еще только начинало клониться к западу, когда после разрушения замка шернов народ с триумфом сопровождал Победителя к храму, провозглашая его единственным властителем всей лунной планеты…
Сражение было тяжелым и долгим. Штурм был начат в полдень, в то время, когда над лунным огромным морем ежедневно бушуют бури, — и сопротивление противника было сломлено. Люди, которые издавна даже при мысли о шернах с суеверным испугом рисовали на лбу знак Прихода, теперь — видя обещанного им Победителя во главе шеренги — бросались в гущу сражения с неслыханной отвагой, забыв обо всем. У ворот тройной башни, однако, они встретили сопротивление, о которое едва не разбился их натиск. На этот раз их противниками оказались не шерны, а морцы, которые, уклонившись от первого сражения, теперь отчаянно бились до последнего дыхания, зная, что ждет их в случае разгрома. Каждую дверь надо было штурмовать отдельно, каждый коридор, каждый поворот лестницы, почти каждую ступеньку.
Морцы, вытесненные с одной позиции, перемещались на другую, расположенную выше, по-прежнему упорно обороняясь. В оглушающем шуме разразившейся бури люди медленно двигались к самому верху башни, подскальзываясь в крови и теряясь в темноте узких коридоров, сгустившейся еще больше из-за туч, которые затянули небо, проливаясь сильным дождем.
Победитель не принимал участия в схватке, продолжавшейся внутри замка, так как был слишком большого роста, чтобы свободно там передвигаться, он остался снаружи и оттуда руководил сражением, следя, чтобы никто из осажденных не сбежал, воспользовавшись суматохой боя. И действительно именно таково было намерение шернов, закрытых в замке. Видя, что страх перед их именем исчез без следа, и уже не мечтая о победе, они оставили морцам оборону подступа к самому верхнему этажу, а сами собирались на узкой площадке между тремя башнями и выжидали только подходящей минуты для того, чтобы сбежать. Марек заметил их и понял, что они хотят воспользоваться своими неловкими крыльями, чтобы перелететь к морю над головами нападающих, и, справившись там с немногочисленной стражей, оставленной людьми возле кораблей, уйти в свои родные края, без страха быть настигнутыми. Он крикнул Ерету, которого имел при себе в качестве адъютанта, чтобы он следил за флотилией в бухте, сам же, собрав возле себя лучших стрелков из лука, с их помощью начал уничтожать появлявшихся на крышах шернов. Выстрелы из луков, сделанные слабыми руками, редко достигали цели и причиняли небольшой вред, зато огнестрельное оружие Победителя производило страшное опустошение в рядах шернов. Спустя несколько минут оставшиеся в живых шерны перестали появляться на крыше, видимо, уже не надеясь на возможность побега при помощи крыльев, и начали искать спасения внутри замка.
Однако это был как раз тот момент, когда потесненные ряды морцев с самого верхнего этажа поспешно бросились к крыше, торопясь занять последний рубеж обороны, у медной решетки, закрывавшей выход на крышу. Две волны столкнулись на темной лестнице — и шерны, взбешенные погромом, кинулись сверху на морцев, снова вынуждая их принять смертельный бой. Морцы, с обеих сторон подвергшиеся нападению, совершенно обезумели. Подавляемая страхом ненависть к помыкающим ими хозяевам неожиданно вспыхнула с огромной силой. Не думая о том, что с тыла им грозит нападение людей, они повернули и ринулись на своих отцов и угнетателей.
Схватка была короткой. Шерны, не выдержав напора, бросились обратно на крышу, открывая путь гонящимся за ними морцами. Здесь, однако, их снова встретил убийственный огонь Победителя. Тогда, совершенно обезумев, теряя всякую надежду на спасение, они, подобно туче огромных и страшных стервятников, кинулись на своих крыльях прямо на Марека, желая по крайней мере отомстить этому великану за свою неизбежную смерть.
И хотя их было всего несколько, Победитель, не ожидавший внезапного нападения, вряд ли остался бы невредимым если бы не сгрудившиеся у его ног лучники, которые с неслыханной скоростью прошивали стрелами кинувшихся на него врагов. Несмотря на это, он получил несколько страшных ударов от рук нападающих — один даже успел кинуться ему на грудь и, задушенный мощной рукой великана, продолжал еще висеть на нем, зацепившись клювом и острыми шпорами ног.
Марек, ослабевший и уставший от долгой схватки, тяжело опустился на землю, когда с крыши замка послышался победный крик. После победы над морцами люди овладели замком.
Защищался еще только один Нузар, некогда подручный Авия, с кровавым пятном на лице. Он забрался на одну из трех башен замка и, срывая черепицу, швырял ее в напрасно старающихся добраться до него противников. Люди, сражающиеся внутри здания, не имеющие с собой ни пращ, ни луков, стали кричать находившимся внизу, чтобы те принесли оружие, но неожиданно вспыхнувший внизу пожар вынудил их отступить.
Нузар остался один. Видя уходящих врагов, он слез с башни и сел на крыше, спокойно ожидая смерти. Его заметил Победитель и стал кричать ему, чтобы тот спасался от пожара, обещая оставить его в живых. Морец немного поколебался, видимо, не доверяя подобным обещаниям, но когда Марек повторил его, вынул из укрытия моток веревки и, привязав ее за балюстраду, спустился с пылающего здания в самую гущу человеческой толпы. Видя его висящим в воздухе, несколько лучников натянули тетиву, прицелившись в него, но Марек остановил их.
— Этот морец принадлежит мне, — крикнул он, — и кто покусится на него, тот покусится на мою собственность!
Тем временем тот уже достиг земли, но еще не верил в свое спасение, поэтому не отходил от пылающего здания, недоверчиво наблюдая за окружающими.
К нему приблизился Элем.
— Иди к Победителю, грязная собака, — сказал он.
Морец пробормотал что-то, но послушно пошел за первосвященником среди расступающейся с отвращением и ненавистью толпы.
Марек, все еще сидя на земле, дал ему знак, чтобы он приблизился.
— Господин, он не связан, держи оружие наготове, — предупредил его Элем.
Ерет, который только что вернулся от кораблей, засмеялся.
— Лучше его связать сразу, — сказал он, кидая веревку с петлей и стараясь набросить ее на шею морца.
Было, однако, уже слишком поздно. Нузар, отбив веревку левой рукой, правой выхватил из-за пазухи нож и молниеносно кинулся на Победителя, целясь в его обнаженную шею.
Победитель уклонился от удара и перехватил вооруженную руку морца, подняв его высоко над головой. Нузар пытался укусить его, но зубами доставал только до свисающего рукава Победителя.
— Смерть! Смерть! — доносились отовсюду возбужденные от ненависти голоса.
— Он будет жить, — заявил Марек. — Он нужен мне для зверинца… Дайте мне веревку.
Морец извивался в крепкой руке Марека, но уже не стонал и не защищался, когда тот крепко связал ему руки за спиной.
Конец веревки Победитель бросил Ерету.
— Отведи его в сокровищницу, туда, где мы привязали шерна. И следи за ним. Если я когда-нибудь буду возвращаться на Землю…
Он не закончил фразу. Только засмеялся при мысли о том, какие необычные приобретения он привезет с собой.
Тем временем стало совершенно ясно, что сражение закончилось. Кроме этого морца, ни один из жителей замка не остался в живых.
Буря, бушевавшая все это время, тоже утихла. В северной стороне неба вокруг высокого кратера Отамора еще клубились черные тучи, оттуда еще доносился приглушенный гром, но над городом и над морем уже светило яркое солнце на бледном лунном небосводе…
Марек, окруженный радостной толпой, возвращался к храму Он смотрел на солнце, и ему было странно, что за то время, за которое оно успело пройти свой путь от горизонта до зенита, произошло так много событий… Ведь только на рассвете он издали увидел стены этого города, утром его приветствовали на ступенях храма, а теперь народ провожает его туда, как к себе домой, и прославляет его, победившего в двух кровавых битвах, полновластного господина всей лунной страны.
Это было так непонятно и неожиданно и в то же время произошло так просто, что он невольно улыбался, как бы собственному сну, думая обо всех этих событиях. Правда, от рассвета до этой минуты по земному времени прошла уже неделя, но здесь сейчас только полдень. Все это действительно могло бы показаться сном, если бы вокруг него не было людей, издающих восторженные крики, бросающих ему под ноги зелень, если бы не этот черный дым, поднимающийся над пожарищами…
Поднявшись на ступени храма, он велел всем отправляться по домам. Но несмотря на его требование, народ еще долго не расходился и продолжал выкрикивать всевозможные здравицы в его честь. Его называли избавителем, победителем, благословением лунной планеты. В конце концов он вынужден был просто уйти от этих нескончаемых криков поклонения… Он даже не хотел, чтобы ему сопутствовал Элем или кто-либо из данных ему в услужение людей.
Марек чувствовал непреодолимую потребность побыть одному он хотел наконец разобраться в этом множестве свалившихся на него событий, взвесить все и обдумать. У него было такое впечатление, что его мыслям самим не хватает дыхания, поэтому теперь он должен глотнуть воздуха, если не хочет следовать в хвосте событий. К тому же он очень устал и хотел спать. В течение последних ста с чем-то часов, прошедших с рассвета, он спал очень мало, а по своей природе его организм отличался от организмов лунных жителей, которые могли почти без сна проводить трехсотпятидесятичасовые дни… Вдобавок на него оказали воздействие изнуряющая полуденная жара и размеренный шум волн еще не успокоившегося после бури моря.
Он вошел внутрь храма и закрыл за собой окованные бронзой двери. Его окутали неожиданная темнота, которая рассеивалась только слабым светом, проникающим через витражи окон, и холод, проникающий из подземелья.
Пустой храм показался ему чем-то огромным и таинственным, — каким-то живым существом, у которого было вырвано сердце и внутренности; это была какая-то гигантская машина, которая все время находилась в движении, а теперь, с его приходом, неожиданно остановилась. Он смотрел на золотые знаки и надписи, выложенные золотыми буквами, и думал, что они всегда имели какое-то значение, а с той минуты, когда он сюда вошел, стали немыми и глухими. Его охватил почти суеверный страх. Еще утром он думал, что является — сам не зная о том — тем обещанным не одному поколению лунных жителей избавителем, а теперь готов был поверить, что он вторгся в место, которое принадлежало кому-то другому, что он легкомысленно присвоил себе чьи-то таинственные и огромные права и что каждая золотая надпись с этих стен смотрит на него зловеще и угрожающе, как на самозванца…
Ему невольно захотелось убежать отсюда, позвать людей, закричать…
Он усмехнулся про себя.
— Я просто устал и хочу спать, — громко сказал он.
Потом ему вспомнились слова, сказанные одним мудрецом на Земле много веков назад: «Право человека простирается настолько далеко, насколько позволяет его сила…»
— Я просто устал и хочу спать, — повторил он, — и так ослаб сейчас, что не верю в свое право освободить этих людей…
Право — освободить!..
В глубине, между двумя колоннами, ему была приготовлена постель, но он почему-то никак не мог отважиться на то, чтобы лечь спать здесь — в этом священном месте.
Ему вдруг захотелось свежего воздуха и пространства. По крутой, не очень удобной для огромного тела лестнице он поднялся на крышу, на освещенную солнцем площадку и лег прямо на каменный пол.
Какое-то время он еще пытался думать обо всем том, что тут происходит, старался разобраться, какое ему до этого дело и почему он принимает такое участие в событиях, но мысли совершенно его не слушались.
Тяжелый сон медленно опускался на него. Раскаленный палящим солнцем воздух обжигал ему грудь при каждом вдохе, голову охватил жар, но он уже не чувствовал силы, чтобы отодвинуться в тень…
«Сделаю это через минутку», — думал он, засыпая.
Море уже успокоилось после бури, и когда он в последний раз открыл глаза, оно предстало перед ним огромное, полное блеска и света, сливаясь в его сонном воображении с картинами далекой Земли.
Он уже засыпал, когда ему показалось, что какая-то душистая и упоительная прохлада коснулась его лица — ему показалось, что кто-то произнес шепотом его имя, мелькнули, как в дымке, золотые волосы, рассыпавшиеся по маленькой и белой девичьей груди, дрожащие пурпурные губы…
Он хотел еще вспомнить имя, хотел вспомнить какое-то имя…
И заснул.
Когда он наконец проснулся от долгого и тяжелого сна, ему показалось, что он все еще спит. В нескольких шагах от него на разостланной белой шкуре сидела Ихезаль. На ее нагом теле был только голубой распахнутый халат; волосы, свернутые в узлы над ушами и со свободно падающими на грудь концами, создавали золотую отделку на одежде. Она смотрела на него с тихой улыбкой.
Сначала он даже не рискнул улыбнуться, чтобы не спугнуть прекрасное видение. Потом почувствовал, что лежит уже не на каменном полу, а на мягких и пушистых шкурах, над головой было укрытие в виде палатки, которое ограждало его от палящего солнца.
— Ихезаль!.. — прошептал он невольно.
Девушка снова улыбнулась.
— Ты уже достаточно выспался, господин?
Он не ответил. Ему казалось, что он снова погружается в сон, удивительно сладкий и упоительный…
Неожиданно он вскочил.
— Я спал!..
— Да, господин. Ты спал больше двадцати часов.
Он посмотрел на небо. Солнце стояло в том же самом месте, как и в ту минуту, когда его сморил сон.
«Да, правда! — подумал он. — Я ведь нахожусь на Луне…»
Он снова повернулся к девушке.
— Как ты вошла сюда? — спросил он. — Я ведь запер за собой дверь.
— Я здесь живу… Я осталась в помещении, сообщающимся с храмом, которое покинул мой дед, первосвященник Малахуда. Хотела быть поблизости, чтобы служить тебе, господин. Но если ты прикажешь, я покину эти покои.
— Останься. Где твой дед?
— Его нет. Он ушел на эти широкие равнины, которые ты видишь отсюда, Победитель, а может быть, в те горы, там, на севере, возле снежного Отамора, или на синее море… Его уже нет, как нет вчерашнего дня, как нет ничего, что еще было вчера, — есть только один ты…
Голос ее звучал певуче, с удивительным упоением, он поднимался вверх и дрожал, как будто хотел сказать больше, чем могли выразить простые слова.
Марек медленно протянул руку и положил ее на точеное плечико девушки. Он смотрел на нее с невольным удивлением, потом спросил:
— Послушай, ты в самом деле веришь, что я тот обещанный вашими пророками Победитель? Веришь на самом деле?
Ихезаль смотрела на него широко открытыми глазами.
— Я знаю это, — ответила она.
— Откуда… откуда ты можешь знать?..
Она сложила руки на груди и быстро заговорила:
— Едва ты только пришел, уже уста всех тебя благословляли! Ты силен, как бог, и в битве страшен для врагов, но мне также говорили, что ты проявлял милосердие, которое нам здесь на Луне известно только по названию… И ты прекрасен, господин, своей молодой силой, ты самый прекрасный из того, что до сих пор видели мои глаза! Наверное, Земля, единственная ясная и священная звезда, которую я видела один раз, когда была в Полярной Стране, не менее прекрасна, чем ты… Но ты именно оттуда пришел к нам, сверху спустился в эту обитель печали и слез, нужды и боли! О, какой же ты светлый, какой прекрасный, единственный мой господин!
— Останься со мной, — прошептал Марек, — останься со мной… Я совсем не такой, каким тебе кажусь, и Земля совсем не такая светлая, как выглядит отсюда, когда ты смотришь на нее через небо и звезды; но ты будь со мной и тогда… Я хотел бы, уходя отсюда, оставить добрую память о себе, чтобы меня могли вспоминать таким, как ты говоришь, и благословлять…
Ихезаль восторженно смотрела на него, прижавшись к его коленям. Он усмехнулся и спрятал ее маленькие ручки в своей ладони.
— Я хотел бы, чтобы ты тоже помнила меня и благословляла. Ты — похожая на цветок…
И, сразу изменив тон, отодвинул девушку от себя и сурово сказал:
— Почему ты нагая?
Пурпурный румянец покрыл все тело девушки. Быстрым нервным движением она собрала, распахнувшуюся тунику и спряталась в ней.
— Господин, — прошептала она, — не сердись… Здесь девушки всегда ходят так по дому… Идя сюда, я забыла, что уже нахожусь не в своем доме… Это не из-за недостатка уважения… — она все еще старательно запахивала полы одежды, хотя и так уже была тщательно укрыта, с испугом глядя в лицо Победителю…
Он пошевелил губами, как будто хотел что-то сказать, но только через несколько минут отозвался голосом, на вид безразличным, который, однако, ему самому показался фальшивым.
— И что, в таком… в таком виде тебя… вас видят все?
Ихезаль внезапно все поняла. Дрожь пробежала по всему ее телу, маленькие руки, стиснувшие собранные на груди складки, бессильно упали вдоль тела. Она смотрела ему прямо в глаза.
— С этой минуты меня больше никто не увидит!
Марек пожал плечами.
— Впрочем, меня это не касается, — довольно резко сказал он, глядя в сторону. — Если здесь такой обычай… Но, но… что я хотел сказать? Ах, да. Где твой дедушка? Я хотел бы его увидеть…
Внучка первосвященника посерьезнела.
— Он ушел, господин. Я уже говорила тебе. Теперь Элем… Но если ты прикажешь, его будут везде искать…
— Да, да. Отдай распоряжение. Я хотел бы поговорить с ним о многом.
Она остановилась, смело и спокойно глядя ему в глаза, как будто уже ощущая себя его исключительной собственностью — священной и неприкосновенной.
— Отдай распоряжение, — повторил он.
Она протянула к нему ладонь.
— Дай мне знак, господин, что я могу отдавать приказы от твоего имени, и я пошлю людей на поиски.
Марек заколебался, не зная, что сделать, когда внезапно припомнил старый, только из книг знакомый ему земной обычай. Он с улыбкой стянул с пальца перстень и подал его ожидающей девушке.
Она взяла его и молча повернулась к лестнице, ведущей с крыши внутрь храма. Пройдя через него, она через боковую дверь вошла в опустевший дворец первосвященника…
Когда через некоторое время она вышла оттуда, на ней было богатое убранье: тщательно застегнутая фиолетовая туника, легкий золотистый мех и ожерелье из пурпурного янтаря жрицы Ады. Теперь она подошла к кованым дверям храма, запертым изнутри, и, открыв запор, распахнула их настежь.
Перед храмом ждал народ. Самые старшие и самые достойные вместе с Элемом сгрудились на ступенях, терпеливо ожидая пробуждения Победителя, чтобы определить вместе с ним, какой теперь будет установлен порядок, и восстановить мир, нарушенный Малахудой, сложившим с себя полномочия. Невдалеке стоял Ерет с молодежью, обдумывая в голове военные планы: ему хотелось отправиться вместе с Победителем на другую, таинственную сторону великого Моря, чтобы в собственных гнездах истребить отвратительных шернов, прежде чем они спохватятся…
Дальше стояли простые люди. Те, которые сражались, и те, которые только издали приглядывались к сражению, те, кто пришел с жалобами и с просьбами, и другие, которых сюда привело только любопытство: увидеть огромного пришельца с Земли. В стороне стояли и женщины, робкие по отношению к своим мужьям-повелителям, но с пылающим взором и благословением на устах по отношению к тому, который прибыл, чтобы изменить то, что было, веря, что новая жизнь принесет им только хорошее для них, живущих под тяжелым ярмом власти мужей.
Это человеческое море простиралось так далеко, насколько его мог охватить взгляд, оно волновалось, шумело, подобное морю, расположенному по другую сторону храма.
Когда двери в храм распахнулись, все решили, что это выходит Победитель, и огромная волна прокатилась по толпе, разбившись о ступени храма, как о скалистый берег моря.
Элем со старшими из людей тоже поднялся. Увидев выходящую девушку, он вспыхнул от гнева.
— Как ты смеешь болтаться тут, когда мы ждем Победителя? — закричал он.
Ихезаль не ответила ему ни единым словом; медленным и уверенным шагом она шла к возвышению с правой стороны лестницы, откуда обычно оглашали свою волю первосвященники.
Элем схватил ее за одежду.
— Куда ты идешь? Будет лучше, если ты как можно скорее уберешься из покоев первосвященника, потому что уже наступило время мне там расположиться…
Она ничего не ответила и на этот раз. Освободившись решительным движением от монаха, она вступила на возвышение и подняла над головой руку с перстнем.
— Люди! — громко воскликнула она. — Победитель прислал вам со мной мир и поздравления!
— Стащите оттуда эту сумасшедшую! — закричал Элем. — Не позволяйте говорить с места первосвященника ей, обвиненной в отношениях с шерном Авием!
При звуке ненавистного имени люди зашевелились; послышались глухой ропот и угрожающие выкрики.
Ерет подскочил к девушке:
— Ихезаль, сойди, сойди отсюда, если хочешь остаться в живых! Ты на самом деле сошла с ума!
Ихезаль, казалось, не замечала его. Глаза ее, спокойные и ясные, как зачарованные скользили по волнующемуся морю людских голов.
— Прочь, прочь оттуда! — раздавались крики. — Только Победитель может говорить оттуда и Элем, его верный слуга!
Девушка снова подняла руку, в которой сверкал подсолнечными лучами перстень Победителя.
— Вот знак: перстень Победителя, и я говорю от его имени — внучка первосвященника, поймавшая шерна Авия, и как прорицательница Ада, не знающая мужчины, слуга того, чье имя пусть будет благословенно во веки веков! Он вырвал меня из рук ваших, когда вы мне, невиновной, грозили смертью — и прислал сюда, чтобы я была его благословенными устами.
— Она лжет! — крикнул Элем. — Она украла этот перстень! Эй, люди! Стащить ее оттуда!
Однако толпа этих слов уже не слышала. Мощные выкрики, славящие Победителя, полетели к стенам храма. Люди стали стягиваться к девушке и приветствовать ее радостными словами. Тогда Элем, выступивший вперед, поднял над головой колпак первосвященника и крикнул:
— Смотрите! Над моей головой сверкает камень с руки Старого Человека, и я тот, который первым приветствовал его и привел сюда!
Внизу начали образовываться два лагеря. Некоторые, видя шапку первосвященника со священным камнем на голове прежнего главы ордена Братьев Ожидающих, встали на его сторону и кричали, чтобы Ихезаль уступила, но огромное большинство собравшихся поддерживали ее.
— А кто дал Элему эту шапку? — спрашивали они. — Малахуда сложил ее к ногам Победителя, а не отдал ее никому; Элем сам ее себе присвоил!
Даже те, которые утром сами требовали от Элема, чтобы он взял колпак, брошенный Малахудой, кричали теперь, что он самозванец, что только Ихезаль, пришедшая с перстнем Победителя, имеет право обращаться к народу от его имени. Были забыты оскорбления, которые они бросали в лицо старому первосвященнику, когда он странными словами приветствовал пришельца с Земли. Теперь, когда Ихезаль заявила, что Победитель хочет найти старика и иметь его рядом с собой, люди разразились радостными возгласами и были готовы тут же обежать всю планету, чтобы его отыскать.
Элем, услышав это, побледнел. С минуту он наблюдал за толпой, смотрел на вооруженных стражников, которых он, как первосвященник, имел в своем распоряжении, но, по-видимому, опасался в присутствии Победителя пользоваться своей властью, он только кивнул старейшинам и поспешно вошел вместе с ними в храм. Не найдя там Марека, он с неотступной свитой повернулся к лестнице, ведущей наверх.
Марек, отославший Ихезаль и еще разморенный долгим сном, сидел у балюстрады со стороны моря и смотрел на далекие, разбросанные по нему острова, не имея понятия о ссоре, произошедшей по другую сторону храма. Он был слегка взволнован коротким разговором с золотоволосой девушкой и ее странным поведением и радовался, что в эту минуту никто не нарушает его одиночества. Поэтому он недовольно поморщился, увидев входящего Элема и сопутствующих ему стариков.
— Разве Ихезаль не сказала вам, что я хочу остаться один? — начал он, не дожидаясь приветствия.
Элем задрожал.
— Господин, — произнес он, — мы думали, что ты сказал это, чтобы освободиться от навязчивой девицы, надоевшей тебе просьбами, чтобы ты простил ее деда, который сегодня утром оскорбил тебя…
Марек пожал плечами.
— Это вы мне надоедаете, приходя сюда без надобности.
— Но дела народа ждут, господин…
— Мы ждем твоих приказов! — хором провозгласили старцы, низко кланяясь Победителю.
— А кто управлял здесь до сих пор?
Воцарилось молчание. Потом один из стариков отозвался:
— Малахуда, первосвященник, но он…
— Исчез. Знаю. Я приказал найти Малахуду, а когда увижу его, узнаю от него обо всем и решу… Из того, что он говорил, приветствуя меня, я понял, что это самый умный из вас человек.
— Но твой первосвященник — я, — сказал Элем.
Марек нетерпеливо отмахнулся.
— Да будь им, приятель, будь! Я прикажу тебя позвать, когда ты мне потребуешься.
— Но ты велел искать Малахуду, господин…
— Да.
Элем сделал еще шаг к нему. Голос у него дрожал от сдержанного возмущения, почти угрозы, когда он говорил:
— Господин, ведь это я первым приветствовал тебя, я тебя сюда привел, я огласил тебя обещанным Победителем, а теперь…
— А теперь убирайся отсюда, пока цел! — крикнул Марек, топнув ногой о каменный пол так, что стены храма затряслись. Я господин здесь не благодаря тебе, а потому что сам так хотел! Ты понял меня?!
Испуганный Элем согнулся в поклоне, но в его опущенных глазах таилась злоба.
— Пусть будет благословенна твоя воля, господин! — сказал он. — Мы только слуги твои… А если не вовремя осмелились напомнить тебе об этом, то только потому, что народ ждет твоих приказов, признав тебя своим вождем и господином…
Марек усмехнулся.
— Не сердись, первосвященник, — произнес он, с явным трудом употребив этот титул. — Но теперь ты на самом деле пришел не вовремя. Я предпочел бы увидеть повара, который накормил бы меня, потому что я дьявольски голоден… С вами я поговорю позднее…
Элем молча повернулся и начал медленно спускаться по лестнице, видимо, обдумывая в голове какие-то собственные планы и намерения…
Часть вторая
I
Весть о прибытии Победителя и о страшном разгроме шернов широко разнеслась по стране — и когда наступило время вечерней молитвы, обширная площадь перед храмом не смогла вместить множества пришедших отовсюду людей. Кроме жителей Теплых Озер и близлежащих поселений и кроме тех, которые пришли вместе с Победителем, прибывали толпы рыбаков с морского побережья, охотников из густых зарослей на склонах Отамора, шли искатели жемчуга и янтаря, земледельцы, полудикие люди, живущие между морями, выросшие в непрестанных сражениях с морцами, и другие — из цветущих селений, не испытывающих ни в чем недостатка.
Местные торговцы разложили свой товар на ступенях храма, предлагая прибывшим рыбацкие сети и всевозможную утварь, на которую часто с удивлением поглядывали простые люди, приходящие издалека, не зная, какое применение можно найти той или иной вещи. Около товаров было постоянное движение. По сторонам площади, спрятавшись в тень от жаркого солнца, группы любопытных собирались вокруг нескольких Братьев Ожидающих, которые прибыли сюда под вечер и уже, наверное, в тысячный раз рассказывали о чудесном появлении Победителя, который явился им первым, как это и было предсказано, а теперь он принесет мир и радость всему лунному народу. Другие теснились вокруг солдат первосвященника и воинов, возглавляемых Еретом, с восторгом слушая о ходе сражения, закончившегося страшным разгромом шернов. Вокруг вздымались вверх руки, прославлялась сила и величие Победителя, совершались покупки, в уплату за которые отдавались выточенные куски янтаря, шкуры убитых шернов. Некоторые шли к морю, где на ступенях огромного здания продавал свой товар торговец невестами, оценивая их в зависимости от возраста и красоты от двух до шести горстей янтаря. Правда, слышались нарекания на слишком высокую сегодня цену, но в конце концов ее платили, потому что наплыв желающих приобрести светловолосую невольницу был довольно велик.
Отовсюду слышались разные голоса: клятвы, оклики, смех, из открытых настежь дверей трактиров неслись песни распивающих густой сок ной, перемешиваясь с гимнами братств, с набожным чувством ожидающих появления Победителя.
Когда он наконец вышел и остановился — огромный — перед храмом, на том же месте и в то же самое время, когда много веков подряд первосвященник приветствовал собравшихся словами: «Он придет!»
Как только его заметили, все торги сразу закончились, прекратились песни и шум, слышались только приветствия и восхваления, которые произносились хором в тысячи голосов: благословлялись день и час, когда он прибыл на Луну, особенно те минуты, когда он ступил ногой на порог храма и когда мощной рукой разгромил шернов, вечных врагов людей.
А он стоял среди неумолкающего шума — на том месте, где обычно стояли первосвященники в богатом убранье, стоял в обычной одежде, с непокрытой головой, в кожаной куртке, распахнутой на груди, но такой свет и сила исходили от его облика, что не только те, кто первый раз увидел его, но и жители Теплых Озер, знающие его с утра, восторженно смотрели на него, забыв о стоящем около его ног Элеме.
Марек поднял руку в знак того, что хочет говорить. Прошла долгая минута, прежде чем стало настолько тихо, что он смог заговорить без опасения, что голос его утонет в шуме толпы. В отдаленных уголках площади, правда, еще пели, но вблизи храма собрались те, которые хотели слушать, они с благоговением и любопытством ждали первых слов Победителя к людям.
Он посмотрел вокруг светлыми глазами и отбросил назад густые волосы.
— Братья, — начал он, — я прибыл сюда с далекой звезды, Земли, но называю вас братьями, потому что и вы через своих забытых предков происходите оттуда. Я не знал, зачем я сюда лечу, но застал здесь людей, занятых тяжелым трудом… Так получилось, что сначала мне пришлось действовать, а уже потом говорить с вами. И это хорошо. Если бы я говорил с вами в начале этого долгого дня, который теперь приближается к концу, я бы высказал вам много возражений, может быть, разбил бы много ваших надежд… Но этот день прошел у нас в общем кровавом труде. Я боролся с вашими врагами и убедился, насколько они страшны. Я познакомился с вашими несчастьями и бедами, в которых вы, честно говоря, сами виноваты, но это не уменьшает ваших страданий. Об этом мне говорили ваши жалобы и те книги, которые вы называете священными… Я прочел их все, отдыхая после боя, который вам стоил много крови и жизней. Но сражение еще не закончено, вы сами это знаете. Ваши враги опасны и сильны, и нужно истребить их всех в их собственных жилищах…
Из ваших книг я узнал и о том, о чем уже слышал раньше, что вы ждете с вашей родной звезды. Земли, Победителя, который спасет всех вас. Так вот я прибыл с Земли и хочу вас спасти. Я научу вас всему, что умею сам. Мы изготовим такое оружие, какое вы видели у меня — и я сам с помощью выбранных военачальников соберу войско, с которым мы отправимся за Великое Море, чтобы навсегда сломить злую мощь шернов…
Радостные выкрики толпы прервали его речь; Марек подождал, пока они утихли, после чего продолжил:
— Но это только первая часть задания, которое я взял на себя Потом я хочу искоренить зло, которое завелось между вами. Я вижу среди вас хозяев и рабов, богатых и нищих, угнетенных и угнетателей… Вижу жестокие законы и суеверия, строгость для од них и поблажки для других, которые могут купить себе безнаказанность. Женщины ваши принижены, а их мужья думают, что исполнили свой долг, если не дали им умереть с голоду. И на Земле когда-то было так, но мы прошли через это, поэтому я верю, что и вы с моей помощью будете жить иначе.
Снова в ответ зазвучали возгласы, но на этот раз не такие многочисленные и всеобщие, как до этого. Некоторые из сановников и богатые купцы стали роптать, испуганные новаторскими планами земного пришельца. Однако громко возражать они не смели — только тихо говорили между собой, что на Луне уже давно установлен порядок, никому он не вредит и нечего его менять из-за нищих, которые не заслуживают больше того, что у них есть. Гораздо хуже судьба богатых, потому что, кроме трудов, они должны еще испытывать страх, как бы не лишиться своего имущества или власти.
Победитель этих разговоров не слышал, поэтому переждав немного, продолжил:
— А когда все будет так, как должно быть, когда вы освободитесь от врагов, которые вас угнетают, и от зла, которое существует среди вас, — тогда я оставлю вас одних управлять здесь и вернусь в отчизну мою, которая видна на небесах — на светлую родную звезду мою… Может быть, даже возьму с собой несколько человек, чтобы вы сами увидели Землю, откуда произошел ваш род.
Но прежде чем это наступит, прежде чем вы останетесь тут одни (потому что всех я забрать с собой не смогу!), я буду вашим господином и вы должны слушаться меня во всем, если хотите, чтобы я вправду оказался предсказанным Победителем, которым вы меня уже сейчас называете.
Я приказал искать человека, который приветствовал меня сегодня на этих ступенях и говорил мудрые слова; я хотел вместе с ним установить для вас новые законы, но его до сих пор не нашли. Поэтому пока управление останется в руках Элема, который будет осуществлять мою волю, пока вы не научитесь управлять собой сами, своей разумной волей, как это делают на Земле уже много веков. Воинами будет командовать Ерет, который также поможет мне в создании войска, о котором я упоминал. А чтобы все видели, что в женщинах я прежде всего ценю человека, не пренебрегаю ими, как это делаете вы, беру себе в помощницы огласительницу моей воли Ихезаль, внучку пропавшего первосвященника…
Снова раздались возгласы. Люди повторяли слова Марека, объясняя их на разные лады, говорили о пропавшем первосвященнике, о новой власти Элема, но больше всего всех заинтересовало сообщение о намеченном походе в страну шернов. Это предприятие удивляло всех, как нечто неслыханное, о чем до сих пор никто даже и мечтать бы не посмел…
— Своим оружием войско вооружит, — повторяли в толпе, — страшным оружием, которым сам разил шернов перед нашими глазами!
— И запас зарядов разделит между воинами! Мы добудем тогда богатства шернов и истребим их всех до единого!
— Да, да! Луна принадлежит людям. Старый Человек отдал ее нам!
— Слава Победителю! Слава! Слава!
Все это продолжалось без конца.
А он величественно, как монарх, помахал толпе рукой и собирался уже удалиться с ласковой улыбкой на губах, когда вдруг почувствовал, что кто-то прикасается к его локтю…
Рядом с ним стоял небольшой человечек с большой, поросшей густыми волосами головой, и проницательно, почти сердито, смотрел на него маленькими серыми глазками.
— Если у тебя какая-то жалоба или просьба, обратись к ней, к Ихезаль! — сказал Марек.
Человечек отрицательно покачал головой.
— Я хочу поговорить с тобой, — заявил он, — и спросить тебя, зачем ты баламутишь народ?
— Что? Что?!
Марек был так удивлен этим неожиданным вопросом, что сразу не сумел найти ответа. Маленький человечек, видимо, истолковал в свою пользу замешательство великана, потому что нахмурился и повторил сурово:
— Для чего ты баламутишь народ? Зачем все эти сказки о Земле? Я не буду разговаривать с тобой в толпе, но если хочешь, пойдем в храм — и там объяснимся…
Теперь все это показалось Мареку необыкновенно смешно. Его заинтересовал этот уверенный в себе человек.
— Да, конечно, конечно… Рад буду тебя послушать…
Говоря это, он подхватил серьезного малыша под мышку и вошел с ним внутрь.
— А теперь, — сказал он, когда они были уже одни, — скажи мне, друг мой, как это я баламучу людей?
Маленький человек кашлянул и попытался сделать как можно более серьезное лицо.
— Я Рода, — с гордостью произнес он.
— Рад это слышать.
— Я — Рода, — повторил тот, видя, что его имя не произвело на Марека нужного впечатления.
— Слышу! Ну и что с того?
— Первосвященник Малахуда должен был приказать забить меня камнями…
— К счастью, он этого не сделал. А то я не имел бы сейчас удовольствия…
Рода нахмурился.
— Оставим эти шутки. Не об этом я хотел говорить с тобой…
— Пожалуйста. Итак — что?
— Всю жизнь я боролся против оглупления бедных людей этими сказками, придуманными жрецами, о земном происхождении людей.
— A-а! Ну и что?
— Ты знаешь так же хорошо, как и я, что Земля — необитаемая планета, по крайней мере, там наверняка нет существ, похожих на людей.
Марек слушал его теперь с растущим любопытством.
— Как это? А я?
— Ты никогда на Земле не был, — убежденно сказал Рода.
— Это что-то новое для меня! — вскричал Марек.
Тень недовольства скользнула по широкому лицу Роды.
— Не будем играть в прятки. Со мной это ни к чему. Я все знаю.
— Значит, ты утверждаешь, что люди всегда жили на Луне? Здесь, здесь жили всегда?
— Нет. Здесь не жили. Их привел сюда, не знаю, для какой цели, мужчина, называемый в легенде Старым Человеком.
— Привел их? Откуда?
— Оттуда, откуда ты сам прибыл, — ответил Рода, быстро взглянув на Победителя.
— А откуда я прибыл, скажи, пожалуйста?
Рода не стал отвечать на этот вопрос немедленно. Сидя на столе, рядом с которым занял место Марек, он немного наклонился вперед, все еще глядя в глаза Мареку, как будто сразу хотел заметить впечатление, которое они на него произведут. Только через минуту он произнес медленно и четко:
— Ты прибыл… с той стороны.
— Не понял, — искренне сказал Марек.
Рода снова недовольно поморщился.
— Вижу, что ты не хочешь быть со мной откровенным, — сказал он, — но это неважно. В доказательство того, что я знаю правду, я расскажу тебе все, о чем, впрочем, ты сам знаешь лучше всех, может быть, мы сможем лучше понять друг друга, если ты увидишь, что все эти сказки на меня не действуют.
— Так откуда я прибыл? — повторил Марек с легким нетерпением.
Рода усмехнулся высокомерно.
— Начнем сначала, — заявил он. — Легенда, поддерживаемая жрецами, гласит, что люди прибыли на Луну с Земли. Так вот, я утверждаю, что, во-первых, Земля не может быть обитаема, во-вторых, даже если бы она была обитаема, то существа, живущие там, не были бы похожи на людей, в-третьих, даже если бы они были похожи на людей, то не смогли бы попасть на Луну И я докажу тебе..
Марек усмехнулся.
— Мой дорогой Рода, много тысяч лет назад на Земле жил мудрец, который утверждал, во-первых, что ничего не существует, во-вторых, что если бы что-то существовало, то человек не мог бы об этом знать, и, наконец, даже если бы знал, не мог бы этого кому-то другому передать. Он много знал о разных вещах…
— Какое это имеет отношение?..
— Небольшое. Во всяком случае, мне, прибывшему с Земли, забавно слышать, когда так говоришь ты, чей предок также прибыл сюда с Земли.
— Даже если бы ты действительно прибыл с Земли, то и тогда бы я был прав. Но это исключено. Только послушай меня. Земля значительно более тяжелая, чем Луна, и все предметы весят там значительно больше…
— Откуда у тебя такие сведения? — прервал его удивленный Марек.
— К сожалению, должен признать это: от вас!
— Как это?
— Это очень просто. Твой земляк, который много веков назад привел людей с «той стороны» на эту, известный в легенде под именем Старого Человека, привез с собой книги… Он очень ревниво относился к своим знаниям, как и вы все (я вижу это, говоря с тобой), и тогда, возвращаясь на «ту сторону» он сжег книги вместе с своим домом; кое-что, однако, удалось спасти… Но это не находится в собственности первосвященников, о нет! Они спрятали только книги со сказками! А это имущество много веков хранит мой род, и отсюда я кое-что знаю.
— Да, понимаю. Из книг, написанных на Земле, ты получил доказательство того, что Земля не существует Это очень умно.
— Это неважно, откуда я их получил. Главное, что я это знаю. Ты говоришь, что на Земле люди твоего роста и сложения? Мой дорогой! Такой великан, весящий в шесть раз больше, при самых сильных мышцах не смог бы там даже пошевелиться! И воздух такой концентрации, как там, ты не смог бы вдохнуть. Ха, ха, ха! Хотел бы я посмотреть, как бы ты выглядел на Земле!
Говоря это, он с удовольствием потирал руки и хитро смеялся, глядя в глаза Мареку.
— А к тому же, — продолжил он через минуту, — эти короткие дни и ночи не могут способствовать развитию жизни; растительность слишком мало видела бы солнце, чтобы развиваться, и погибала бы в ночное время… Впрочем, знаешь ли ты, что значат эти белые пятна, покрывающие в течение нескольких наших дней некоторые области Земли? Знаешь ты, что это такое?
— Я хотел бы услышать твое мнение.
— Это снег! — триумфально воскликнул Рода. — Снег, свидетельствующий о том, что зима там продолжается и днем, то есть такое количество времени, что этого не выдержит ни одно живое существо!
— Право, я почти начинаю верить, что Земля необитаема… Меня удивляет только одно, как же я оттуда прибыл?
Рода внимательно посмотрел на Марека.
— Несмотря ни на что, ты все же не хочешь признаться?.. Хорошо. Я мог бы привести еще множество доказательств того, что на Земле люди не живут и жить не могут, но это, как видно, не ведет к цели. Тогда я просто скажу тебе, откуда пришел этот «Старый Человек» и откуда пришел ты сам…
— Я жду этого.
Рода вынул из большой папки, которую имел при себе, карту и развернул ее перед Мареком.
— Смотри!
— Карта безвоздушной половины Луны, — сказал Марек. — Она перерисована с фотоснимков, какие делаются у нас на Земле…
Рода рассмеялся.
— Не знаю, какие «снимки» делаются у вас на Земле, но утверждаю, что таких карт вы сделать не можете! Тот, который это начертил, не был там, на месте. Издалека, только издалека, делаются такие карты!
Говоря это, он положил перед Мареком обрывок карты Европы, спасенный от огня в сожженном доме Старого Человека.
Теперь, в свою очередь, засмеялся Марек.
— Но дорогой мой Рода! Разве эта карта не более подробная и точная?
— Вот именно. Чтобы нарисовать такую «точную» карту, нужно иметь много фантазии и смотреть туда с неба! Смотри, сколько тут прекрасных красок, какие границы континентов, в действительности не существующие! А эти кружки! Что они означают? Каждый имеет даже свое особое название.
Марек пожал плечами.
— Я в самом деле начинаю думать, что никогда на Земле не был!
— Если до сих пор ты так не думал, значит, ты просто сумасшедший, — отпарировал Рода. — Однако я и не предполагаю, что ты очень умен… Только мы могли в это поверить!
Он соскочил со стола и, делая большие шаги, начал быстро и свободно говорить, как бы повторяя уже не раз произнесенную речь.
— На безвоздушной стороне Луны когда-то была богатая и обильная страна… Там в свете звезды Земли на зеленых лугах у высоких гор, убеленных снегами, на берегах морей жили люди… А здесь, где Земли не видно и ночью непроглядная темнота, жили только шерны, не смеющие даже показываться на другой стороне — в стране, занимаемой людьми… Люди там были сильные и счастливые. Со временем, однако, эта звезда, Земля, по непонятной причине, перестала обогревать эту страну по ночам, воздух улетел, моря высохли… И тогда люди…
Он замолчал и быстро взглянул на Марека испытующим взглядом.
— И тогда? — подхватил Марек.
— Я знаю вашу тайну, — сказал Рода через минуту, помолчав. — Посмотри только на карту, она вас выдала! Та, повернутая к Земле сторона Луны полна расселин, ям, пропастей. Это входы в вашу страну, которую вы образовали под поверхностью Луны! Там, в искусственно освещенных пещерах, вы живете до сегодняшнего дня, счастливые, в достатке и роскоши… У вас там есть подземные города, луга, подземные моря… Вы ревниво сохраняете тайну своего существования из страха перед шернами, а может, и перед нами, отделенными!
Лицо у него исказилось от ненависти, зубы сверкнули из-под искривленных губ.
— Пусть будет проклят Старый Человек! Пусть будет проклят за то, что привел нас сюда в эту нужду! Но мы вернемся туда! Рано или поздно мы доберемся до вас!.. Мы слишком слабые, это правда, но нас больше — наверняка! Ведь вас не может быть очень много в этих пещерах…
Марек положил руку ему на плечо.
— Рода, успокойся, друг мой, — сказал он. — Поверь мне, это все только плод твоей фантазии… Та половина Луны совершенно необитаема. Люди живут на Земле… А не было ли преступно основать здесь род человеческий, другое дело… Это уже произошло.
— Да, это произошло! И чтобы мы не вернулись к вам, не нашли ваше укрытие, ты приходишь сюда и рассказываешь нам старую сказку о Земле! Да! Мы должны смотреть на далекую звезду, главное, чтобы отвели наш взор от Луны, чтобы не искали здесь принадлежащего нам добра!
— А может быть, — продолжал он, — может, шерны стали напоминать вам о себе? Может быть, они открыли ваше местопребывание, нашли вас и угнетают? Что? Разве не так? И тебя прислали сюда, вспомнив о нас, потомках какого-то изгнанника или преступника, которого жрецы велят нам почитать — и мы теперь, под твоим руководством, должны идти уничтожать шернов в их стране к вашей выгоде! Ведь ты же затеял этот поход!..
Он задыхался от слов, бросая их с ненавистью и горькой усмешкой в сверкающих глазах. Напрасно Марек пытался его прервать. Распетушившийся мудрец его даже не слушал. На все возражения он только махал рукой, уверенный, что знает истинную правду, которую от него пытались скрыть.
В конце концов Марек вышел из терпения.
— Так чего ты, наконец, от меня хочешь? — закричал он.
— Хочу, чтобы ты не баламутил народ, и так уже одураченный сказками жрецов! — продолжал настаивать Рода. — Хочу, чтобы ты перестал болтать о Земле и не пробуждал туманных и напрасных надежд! Здесь у нас слишком суровая и тяжелая жизнь, чтобы нам можно было играть в игрушки, любоваться на небеса и слушать сказки о так называемой отчизне, куда никогда не ступит наша нога. Этого требую я от тебя. А если бы я мог поверить в твою добрую волю, то потребовал бы, чтобы ты указал нам дорогу в страну, где вы живете…
— А если я не выполню твоих требований?
— Тогда между нами будет борьба не на жизнь, а на смерть!
— Даже если бы я помог вам победить шернов?
— Да. Даже если бы ты помог нам победить шернов, потому что своими сказками ты причинишь больше вреда в будущем, чем это сделали бы шерны…
Марек поднялся, при своем огромном росте он оказался настолько выше своего противника, что тот машинально отпрянул назад, не желая показать невольного страха, охватившего его. Он нахмурил брови и твердо сказал:
— Я жду твоего ответа.
— Мой дорогой Рода, — отозвался Марек, — я могу обещать тебе, что не буду рассказывать людям сказок о Земле, но решительно заявляю, что не перестану напоминать им, что их предки прибыли сюда с Земли и там — на небе — находится их истинная отчизна. Это может вас только возвысить…
Рода молча повернулся к выходу.
— Подожди еще немного, — крикнул ему Марек. — Ты хотел, чтобы я показал вам дорогу в страну, откуда я прибыл, и отвезти вас туда. Всех, конечно, я не смогу взять с собой при возвращении, но в моем снаряде найдется место на шесть человек вашего веса… Захочешь ли ты совершить со мной путешествие на Землю и убедиться своими глазами, что это обитаемая планета?
Рода остановился, внимательно слушая слова Марека. Хитрая улыбка играла у него на губах.
— Ага! Правильно! Ты хочешь забрать меня с собой, чтобы здесь, после твоего отлета, никто не ослаблял веры в земную сказку, чтобы тут совершенно угасло…
Он оборвал фразу и задумался.
— Так как ты сюда прибыл? — неожиданно спросил он.
Марек сделал рукой широкий жест.
— В снаряде… Ты сам можешь его увидеть в Полярной Стране Там он стоит в собственном панцире…
— И ты можешь вернуться… таким же образом?..
— Да. Могу вернуться. Достаточно войти внутрь, тщательно закрыться, нажать кнопку, разбив стекло, которое ее закрывает..
— Кнопка под стеклом? — жадно спросил Рода.
— Да. Тогда снаряд, выпихнутый воздухом, который сам зарядился при спуске, вернется в то место, откуда был выброшен, то есть на Землю…
Обычная хитрая усмешка появилась снова на широком лице Роды.
— Допустим, что не на Землю, а к одному из входов в вашу подземную страну на той стороне… Но это неважно… Я хотел… Неважно… Прекрасно устроенное средство сообщения, прекрасное! Особенно потому, что возвращающийся не может ошибиться в расчетах относительно обратного пути…
Он снова замолчал и, уже не слушая, что говорит Марек, поспешно вышел из храма.
Победитель посмотрел ему вслед и махнул рукой. Через минуту, однако, неожиданная тень набежала на его лицо. Он сделал движение, как будто хотел пойти за выходящим: ему пришло в голову, что нужно бы поставить охрану при его машине в Полярной Стране, но вскоре сам рассмеялся над своими опасениями.
— Однако охрану все же нужно поставить, — прошептал он, — так будет безопаснее.
Ему показалось, что в темной глубине между колоннами блеснула аметистовая туника золотоволосой Ихезаль, и он громко позвал ее, но ему ответило только эхо. Он снова усмехнулся про себя, но уже не так свободно, как раньше, и пошел вглубь, к большому амвону из черного мрамора и кованым медным дверям за ним. Он отворил двери уже известным ему способом и зажег светильник, после чего начал спускаться вниз.
Старинная, укрытая ото всех сокровищница храма была пуста. Богатые ларцы, полные дорогих убранств и драгоценностей, новый первосвященник приказал перенести в свое жилище на другой стороне площади, которое ему пришлось занять, когда Победитель приказал оставить дворец первосвященника Малахуды его внучке. В опустевшей сокровищнице лежали только книги, некогда священные, сваленные теперь в беспорядке на придвинутый к стене малахитовый стол. А в глубине, там, где над плитой из полированной лавы блестел таинственно золотой знак Прихода, пониже золотой надписи, старые удивительные буквы которой сплетались в слова великого Обещания: ОН ПРИДЕТ! — с распятыми руками был прикован некогда всесильный наместник, шерн Авий, как живое свидетельство того, что наступило время и на самом деле на Дуну пришел Победитель… Крылья у него обвисли, из них, несмотря на повязку, сочилась кровь, кровоточила также широкая рана на шее, образовав небольшую лужу у ног прикованного…
Марек поднял светильник вверх и осветил им ужасное лицо шерна. Тот моргнул кровавыми глазами и уставился ненавидящим взглядом в своего противника. В какой-то момент мышцы у него напряглись, дрогнули обвисшие крылья, но, видимо, он тут же вспомнил о своем бессилии, потому что не стал больше расходовать свои силы и, закрыв глаза, тяжело повис на металлических цепях. Марек отступил на несколько шагов назад…
Он уже знал, что шерны, которые встречались с людьми, понимают человеческую речь, однако до сих пор не мог решиться на разговор с подобным существом… Если он открывал рот, голос замирал у него в горле — его охватывало отвращение, граничащее с испугом. Раз в его присутствии Элем заговорил с Авием; по просьбе Победителя он сказал ему, чтобы тот не опасался пыток или смерти, потому что будет в блестящей машине живьем отвезен Победителем на Землю. Авий в ответ произнес какое-то проклятие, и у Марека в ушах до сих пор звучал этот отвратительный и невероятный голос, тем более страшный, что он исходил не из уст человека, а от омерзительного существа, совершенно на человека не похожего.
Он уселся на низком малахитовом столе и поставил рядом пылающий светильник. Неуверенный, мигающий огонек отражался в золотых дисках священного Знака и снова прятался в огромной, движущейся тени шерна, которая при каждой вспышке пламени, как призрак, колыхалась на гладкой стене. Чудовище было мертвым на вид, с бессильно повисшими крыльями и опущенной головой, а тень высовывалась из-под него, поднимаясь, падая и снова взлетая вверх, закрывая неожиданно сверкающие буквы надписи и золотистый диск Прихода. Невольный страх начал пробуждаться в Мареке. Он пошевелился, как будто хотел встать и выйти отсюда на свет, когда заметил, что шерн снова открыл глаза и пронзительным взглядом всматривается в него…
Он преодолел себя и встал.
— Тебе не причиняют вреда здесь? — спросил он удивительно изменившимся, как будто чужим голосом.
Шерн лениво прикрыл глаза и после долгого времени бросил:
— Отойди от меня, собака. Ты мне надоел.
Марека охватил внезапный гнев.
— Молчи, чудовище! Я твой хозяин и прикажу дать тебе кнута!
— Приказывай.
— Я поймал тебя.
— Неправда. Девка меня случайно поймала, а не ты, чурбан.
— Я возьму тебя с собой на Землю…
Шерн засмеялся скрежещущим голосом.
— Ты сам не вернешься на Землю. Подохнешь здесь.
— Вернусь. Но сначала уничтожу всех шернов до одного. Уничтожу вас в вашей стране, как уничтожил здесь. Кроме тебя, ни один шерн не остался здесь в живых.
Авий открыл обе пары глаз и внимательно посмотрел на Марека.
— Раскуй меня и отпусти, — сказал он через минуту, — и я позволю тебе живым и здоровым вернуться на Землю.
Теперь рассмеялся Марек.
— Конечно, я раскую тебя, но при условии, что ты будешь служить мне проводником в вашу страну, которую я хочу завоевать.
Шерн не удостоил его ответом. Он отвернулся и стал смотреть на мигающий огонь светильника. Тогда Марек, преодолев отвращение, приблизился к нему и коснулся ладонью его косматой, мягкой груди.
— Так что? Проводишь? — повторил он.
Авий медленно перевел взгляд на лицо Победителя, спокойно и долго смотрел на него, потом буркнул:
— Ты плохо сделал, что меня не убил. Теперь я буду победителем, а не ты, потому что ты — дурак. Как все люди.
— Значит, не проводишь?
— Я провожу! — вдруг раздался неожиданный голос из угла сводчатой комнаты.
Марек быстро повернулся. Он забыл о присутствии Нузара, который, прикованный за ногу, лежал в темноте на куче тряпья.
— Ты? Ты? Разве ты знаешь страну шернов? — спросил он.
— Да, — ответил морец, привстав. — Я родился там от человеческой самки, которую потом задушили. И я говорю тебе, господин, потому что вижу, что ты сильнее шернов, и знаю, что ты победишь их.
Авий повернул голову в сторону своего прежнего слуги и с безмерным презрением произнес только одно слово:
— Дурак!
II
— Малахуды не нашли?
Севин покачал головой.
— Нет, Ваше Высочество, пока не нашли…
Он замолчал и посмотрел в глаза новому первосвященнику, как бы стараясь прочитать в них истинный смысл его вопроса. Элем тоже посмотрел в глаза своему приспешнику. Потом, опустив глаза, рукой в драгоценных перстнях начал перебирать стопы бумаг, лежащих на мраморным столе. Не поднимая глаз, он как бы нехотя спросил:
— Может быть… его недостаточно старательно ищут? Победитель хочет…
На губах Севина появилась хитрая усмешка.
— Посланные и рады бы исполнить приказ Победителя и Вашего Высочества, но есть непредвиденные трудности. Старого первосвященника видели все, но странно, как мало существует людей, которые бы хорошо знали его в лицо! Среди посланных на поиски нет ни одного, кто смог бы его узнать, особенно если он будет в другой одежде…
Элем вздохнул с облегчением.
— Надо ли искать его дальше? — спросил Севин через минуту, видя, что первосвященник молчит.
— Да, да. Пусть ищут…
— Те же самые люди, что и до сих пор?
— Если нельзя найти других, которые его знали лучше…
— Как прикажет Ваше Величество.
— Однако я хотел бы знать, где он находится, — сказал Элем через минуту.
Севин посмотрел ему в глаза и наклонил голову в знак того, что все понял.
Первосвященник встал и подошел к широкому окну, выходящему на площадь перед храмом. Здесь — на обширном пустом пространстве воины во главе с Еретом тренировались в использовании нового оружия, изготовленного доверенными мастерами, которым Победитель открыл тайну его конструкции. Элем послушал грохот выстрелов и крикливый голос командующего стрельбами, потом снова повернулся к покорно ожидающему Севину.
— Кому подчиняются эти люди? — неожиданно спросил он.
— Ваше Высочество правящий первосвященник…
Элем прервал его нетерпеливым жестом.
— Севин, кому подчиняются эти люди? Победителю или Ерету?
Севин пожал плечами.
— Не знаю.
— Значит, должен узнать!
— Как Ваше Высочество прикажет. Но…
— Что хотел сказать? Говори!
— Не знаю, как сказать это Вашему Высочеству… Может, было бы лучше, если бы они подчинялись не Ерету, а Победителю?..
Хозяин и слуга снова посмотрели в глаза друг другу.
— Ты думаешь, что Ерет?..
— Да, Ваше Высочество. Сегодня он еще беззаветно предан Победителю, но в нем усиливается обида из-за этой девушки и, может быть, когда-нибудь, со временем…
Элем не торопился с ответом. Он что-то долго обдумывал, глядя в окно, как под действием пуль разрушается толстая стена, служащая солдатам мишенью, но в конце концов медленно сказал:
— Ты ошибаешься, Севин. Ерет всей душой предан благословенному Победителю так же, как и мне, первосвященнику, следовательно, можно смело требовать от воинов, чтобы они прежде всего слепо подчинились ему. Им это будет понятно, ведь Ерета сам Победитель назначил их вождем.
Теперь первосвященник отошел от окна, он несколько раз прошелся медленным шагом по огромному залу, потом снова сел у мраморного стола и погрузился в чтение.
Севин не уходил. Элем, заметив его выжидательную позу, поднял на него вопрошающие глаза.
— Тебе что-то нужно? — спросил он.
— Я хотел спросить, не прикажет ли Ваше Величество заключить в тюрьму бывшего брата нашего, Хому?
Элем быстро пошевелился.
— Ах так! Хома… Что с ним?
— Мы давно знали, что он выжил из ума, хотя всегда было достаточно людей, веривших его словам… Но теперь, боюсь, что его безумие переходит всякие границы…
— А слушают его? — прямо спросил Элем, нетерпеливо отбрасывая всякие недомолвки, какими обычно пользовался даже в разговоре со своим доверенным лицом.
— Пока не очень, но в один прекрасный день это может случиться…
Элем задумался.
— Нескоро наступит это время! — сказал он как бы про себя.
— Не знаю. Мне донесли, что Хома появился среди рыбаков в окрестностях Перешейка — там люди темные, дикие и необразованные…
— Многие из этих рыбаков вступили в войско Ерета, — заметил первосвященник.
— Да, но не все. Те, которые остались дома, слушают теперь безумные речи впавшего в детство старика. Ваше Высочество, что он болтает…
Элем молча наклонил голову.
— Говорит, — продолжал Севин, — что Победитель не является Победителем, потому что мертвые не встали при его появлении, как было обещано в Писании, поэтому все Братья Ожидающие, ушедшие из Полярной Страны, — отступники, он даже осмеливается, Ваше Высочество…
— Ладно, — прервал Элем, — достаточно. Это не имеет значения. Оставьте Хому на свободе. Он совсем выжил из ума, и ни один разумный человек не обратит на него внимания. Только следите, чтобы он находился среди рыбаков. Никуда в другое место его не пускайте.
— Как Ваше Высочество…
— Это напомнило мне о здешнем мудреце, Роде. Что с ним?
Севин пренебрежительно махнул рукой.
— Он не опасен! Слишком много командует, всех хочет учить. Над ним постоянно смеются еще со времени Малахуды…
— Неужели у него нет сторонников?
— Горстка, о которой и вспоминать не стоит! И если Ваше Высочество захочет принять мой совет…
— Говори!
— Лучше оставить его в покое. Пока его не преследуют, поверить ему могут только люди ученые и просвещенные… А ими смело можно пренебречь. А народ… Народ жаждет заполучить те страны за морем, где живут шерны, и не верит, что на Великой Пустыне можно найти что-либо пригодное для проживания. Только если Ваше Высочество запретит Роде высказываться или, что еще хуже, осудит его на смерть, толпа начнет задумываться и предполагать, что в его словах должна была содержаться какая-то правда… Другое дело Хома. Он, как член ордена, подчиняется нам… и это никого бы не удивило…
Первосвященник махнул рукой в знак того, чтобы он замолчал.
— Да, да. Хорошо. Я подумаю, что можно сделать…
Севин поклонился и, видя, что Элем углубился в разложенные перед ним бумаги и ни о чем больше его не спрашивает, тихо удалился из комнаты. Однако едва двери за ним закрылись, бывший глава Братьев Ожидающих сорвался с места и начал быстрыми шагами ходить по комнате. На некогда бритой голове у него отросли густые волосы, длинная и черная борода резко выделялась на фоне сверкающей желтой одежды. Губы были крепко сжаты, глаза под нахмуренными бровями беспокойно бегали, все время обращаясь к окну, выходящему на площадь, где Победитель тренировал своих воинов.
Элем остановился и посмотрел туда. Он внимательно следил за каждым движением воинов, замечал быстрые движения рук, поднимающих к лицу оружие, и после каждой вспышки выстрела переводил взгляд на рассыпающуюся под градом пуль стену.
— Уже сегодня вечером, — шепнул он себе.
Он посмотрел на солнце — оно стояло еще высоко, очень высоко — и первосвященника охватило неожиданное нетерпение. Он, живший в Полярной Стране, не знающий времени, дней, восходов или заходов, теперь дрожал при мысли о том, что конец дня еще далек, что не скоро еще замерзнет вода в вечернем холоде, построив Победителю мост для крылатых саней, которые увезут его в таинственную страну шернов. Элему хотелось, чтобы тот скорее выступил в этот поход. Вслух он говорил себе, что ждет как можно более быстрого разгрома шернов, вечных врагов людей, но в глубине души чувствовал, что будет рад, когда Победитель уйдет сражаться, оставив ему, первосвященнику, безраздельную и безграничную власть над страной и людьми.
А когда Победитель вернется…
Он не думал, не хотел думать ничего плохого. Он нерушимо верил, что тот, который прибыл, согласно священным книгам и предсказаниям пророков, является Победителем, сотни лет ожидаемым Братьями, верил, что с ним пришел новый порядок жизни на Луне, но невольно воображал себе этот новый порядок, как период своей власти…
А когда Победитель вернется из-за Великого Моря…
Он еще не думал ни о чем плохом. Однако перед его глазами вставала чудесная, сверкающая машина Победителя, которая стоит готовая к возвращению на Землю, — и отлет которой он, первосвященник, будет благословлять и оплакивать, воздавая должное улетающему на ней победоносному пришельцу, который покорил шернов и уничтожил их поселение на Луне, чтобы народ мог жить безбедно под управлением Элема, первого из нового рода первосвященников…
А если… Если бы?.
Он не хотел допускать даже мысли о том, что Победитель захочет остаться на Луне и править сам, оставив ему, Элему, лишь тень его власти… Ни один пророк никогда не обещал, что Победитель останется на Луне и это не было догматом.
Дальше мысли Элема путались — разумеется, он старался придержать свое воображение, которое, наперекор ему, вызывало перед глазами первосвященника смутные образы Хомы, Роды, даже старого Малахуды, который богохульными словами приветствовал некогда на ступенях храма пришельца с Земли…
Он отбросил от себя эти видения и потер лоб, чтобы стереть последний след невольных мыслей, однако против воли в окно следил неспокойным взглядом за Еретом, который как раз разговаривал с Победителем — и довольно усмехался, видя усердного, но мрачного молодого воина…
Ерет действительно с того дня, когда на крыше просил Победителя не отнимать у него любимой девушки, совсем не обращался к Победителю, кроме тех случаев, когда это вызывалось военными делами. Марек, которому очень нравился этот дельный и горячий юноша, болезненно переживал отчуждение с его стороны, но напрасно пытался его переломить, периодически пробуя заводить с ним какой-то оживленный разговор. Ерет на вопросы отвечал коротко и почтительно, приказы выполнял немедленно, но ни разу не улыбнулся и не дал втянуть себя в разговор, не касающийся непосредственно войны с шернами.
В конце концов Марек смирился со своим поражением. В течение нескольких долгих лунных дней — около полугода по земному исчислению — они жили рядом, сталкиваясь почти каждую минуту, основывали мастерские для изготовления стрелкового оружия, подбирали и обучали работников, тренировали воинов — и Победитель все больше убеждался, что ему было бы трудно найти лучшего, более умного и более преданного делу, помощника, чем этот человек, который в душе был так далек от него…
Сегодня проходили уже последние занятия перед выступлением, и Марек, сидя на ступенях храма, с удовольствием смотрел на поразительное мастерство воинов, которые стреляли в двигающиеся мишени из глины, почти никогда не промахиваясь, когда перед ним неожиданно появился Ерет.
— Все готово, Победитель, — сказал он, — и если ты доволен, мы можем отправиться сегодня, как только лед покроет море…
— Да! — ответил Марек, невольно перенимая ту лаконичную манеру разговора, какой пользовался Ерет при их беседах.
Вождь лунной молодежи молча повернулся в сторону морского побережья, где приготовленные парусные сани ждали образования ночного льда, но сделав несколько шагов, неожиданно остановился…
— Ерет?..
— Мне показалось, господин, что ты меня позвал.
— Нет. Я не звал тебя…
Ерет повернулся, чтобы уйти, но теперь Марек действительно окликнул его.
— Ерет, подойди, я хотел бы с тобой поговорить…
Он встал и пошел навстречу юноше, который послушно остановился, ожидая приказа или вопроса. Но Победитель не приказывал и не спрашивал, только, подойдя к нему и присев на камень, как обычно делал, разговаривая с лунными жителями, которые были значительно ниже ростом, взял его за руку и долго смотрел ему в глаза ясным, но грустным взглядом. Юноша спокойно выдержал этот взгляд не опуская глаз, только брови у него сдвинулись и глубокая борозда пролегла между ними…
— Ерет, — начал Марек через минуту, — с той минуты, когда я оказался здесь, между вами, я встретил только троих людей, которых хотел бы иметь своими друзьями… Один из них, старик Малахуда, исчез в ту же минуту, когда я узнал его, а второй — ты…
Он оборвал фразу и как будто чего-то ждал…
Ерет быстро поднял глаза, едва заметно пошевелил губами, и хотя не произнес ни слова, Марек почувствовал и понял это движение губ, которое говорило ему:
«У тебя осталась Ихезаль, господин…»
— Именно об Ихезаль я хотел поговорить, — сказал он, как будто отвечая на не произнесенную вслух фразу.
Молодой воин невольно вздрогнул.
— Нет причины, господин, говорить о том, что находится в полном порядке.
— Разве это так?
— Так, Победитель. Ихезаль служит тебе, как тебе служу я и как все на Луне должны служить тебе…
— Однако ты затаил на меня обиду по этой причине. Тебе кажется, что я отнял ее у тебя.
— Чего ты хочешь от меня, господин?
Этот вопрос прозвучал так просто и неожиданно, что Марек не нашел на него ответа. Действительно: чего он требовал, чего хотел от этого юноши, у которого, хотя и невольно, отнял любимую? Он почувствовал, что выглядит смешно, пытаясь завязать дружеские отношения с человеком, которому нанес вред, и злость охватила его при мысли, что это унижает его в глазах Ерета. Он нахмурился и хотел уже отдать какой-нибудь приказ, короткий и неотложный, который бы сразу пресек это фальшивое положение, все расставив на свои места, когда Ерет вдруг сказал странно изменившимся голосом, какого он, Победитель, давно от него не слышал:
— А обида?.. У меня могла бы быть обида, но только на судьбу и на порядок вещей, при котором нельзя служить двум господам.
Он замолчал и только через минуту добавил:
— Если бы ты, господин, был, как я, человеком…
— А кто же я? — спросил Марек, видя, что Ерет не заканчивает фразу.
Юноша поднял на него светлые и спокойные глаза.
— Ты Бог, Победитель.
И прежде чем Марек сумел ответить, тот был уже далеко.
Марек встал и ленивым шагом направился к саду, спускающемуся позади храма к морскому берегу. Здесь, укрытый от врожденной ненависти лунных жителей, жил морец Нузар с того дня, когда предложил Победителю свою помощь. Сад, правда охранялся; но стража, поставленная у ворот, скорее имела задание не допускать внутрь фанатичных противников морца, нежели охранять его, имеющего полную свободу передвижений. В сущности, морец мог сбежать каждую минуту и, преодолев морское побережье, которое к северу отсюда было обрывистым и скалистым, затеряться в густых лесах у подножия Отамора, где никто не смог бы его отыскать. Однако он даже не делал попытки скрыться. Он был свидетелем разгрома шернов и мучений всевластного когда-то Авия, видел в руках Победителя страшное оружие, а кинувшись на него, имел возможность убедиться в силе его рук. Поэтому в темном сознании морца, занятом картинами битвы и смерти, произошла разительная перемена. Победитель предстал перед ним как существо наисильнейшее и поэтому больше всех достойное любви и поклонения на Луне. Если бы морец хотя бы на минуту мог поверить, что новый властелин может умереть или быть побежденным, он, несомненно, снова кинулся бы на него с ножом — только для того, чтобы в минуту смерти похвалиться перед самим собой, что он, морец Нузар, уничтожил сильного противника, какой только мог существовать.
Поэтому он с удовольствием думал о том, что служит бессмертному и самому сильному господину и заранее радовался в душе окончательному разгрому, который, он не сомневался в этом, будет страшен, пряча в глубине своего дикого сердца сладостную надежду, что после уничтожения крылатых первых жителей Луны, дойдет очередь и до людей… Он не смел строить никаких планов — это было делом господина — но был уверен, что это будет какая-то кровавая охота, где он, как верный пес, у ног Победителя будет преследовать всякое живое существо, чтобы оно погибло от руки хозяина.
Когда он так думал, неукротимая, рабская любовь поднималась в его сердце к новому хозяину, и он дрожал от нетерпения в ожидании, когда крылатые сани отправятся на юг… Огнестрельного оружия ему в руки не дали — но он и сам не хотел бы его иметь, зато выпросил себе тугой лук и сам приладил к нему тетиву и приготовил стрелы, чтобы поражать шернов рядом с Победителем.
И теперь, когда в сад зашел Победитель и сообщил ему, что под вечер они отправятся в поход, он затрясся от радости, начал выть и скакать, похожий скорее на гончую перед охотой, нежели на человеческое существо.
Марек приказал ему успокоиться.
— Слушай, — сказал он, — я позволил тебе служить проводником, хотя мог бы уйти без тебя, но если ты изменишь мне, я велю содрать с тебя шкуру!
Нузар просто не понимал, что это значит: изменить. Переход на сторону врага в случае поражения он считал вещью совершенно естественной, от которой могла удержать только ненависть, уход же от победителей был для него чем-то непонятным. Он с тупым удивлением смотрел на Марека, пытаясь понять таинственное значение его слов и слышащейся в них угрозы, потом губы его искривились в улыбке на лице обезображенном пятном.
— Изменю, если ты прикажешь! — уверенно сказал он, видимо думая, что Победитель требует от него преданной службы, даже если бы он знал, что вместо награды его ждут пытки от его руки.
Марек невольно рассмеялся…
Он прошел через сад и через задний вход вошел в храм. В сводчатом коридоре он встретил Ихезаль, кивнул ей и уже вместе с ней вошел в подземелье, где находился шерн Авий, прикованный цепями к стене. Марек многократно делал попытки предоставить ему большую свободу, но каждый раз шерн пользовался ей только для того, чтобы напасть на стражника, кормящего его, или броситься в бешеной ненависти на Победителя. Атаки эти были тем более опасными, что происходили совершенно неожиданно, так как большую часть дня шерн был совершенно неподвижен и не подавал никаких признаков жизни, даже когда стражник пинал его, собираясь сделать уборку. Тогда его снова приковали к стене, и, чтобы положить конец издевательствам над беззащитным пленником, всем было запрещено заходить к нему, кроме как в обществе Марека или Ихезаль, у которой находился второй ключ от этого помещения.
В старой сокровищнице ничего не изменилось с тех пор, как ее стали использовать в качестве темницы, только густой слой пыли покрыл стопу священных книг и затемнил золотые знаки и надписи на стенах. Отовсюду веяло пустотой и заброшенностью, все, что еще вчера было священным, сегодня было попрано и покрыто позором…
Марек заметил при свете факела, что Ихезаль неожиданно побледнела… Стоя на последней ступени, как некогда, в ту ночь, когда нашла здесь деда, склонившегося над книгами, она поколебалась, как бы не зная, имеет ли право сюда войти… Белые плечи виднелись в широких прорезях рукавов, грудь вздымалась под легкой тканью. В какой-то момент показалось, что она сейчас упадет…
Он быстро подхватил ее, и в тот же момент увидел круглые красные глаза чудовища, сверкающие в темноте и смотрящие на них. Он смущенно отдернул руку и подошел к узнику.
Кровавые глаза шерна погасли. Он втянул голову в плечи. Белые его ладони, закованные в железо, ярко выделялись на этом фоне, страшные в своей бессильной неподвижности…
Марек долго молча смотрел на него. Он не мог объяснить себе, зачем пришел сюда — зачем приходил сюда вообще — к этому узнику, чьи неизбежные мучения пробуждали в нем болезненное отвращение… Но какая-то непонятная сила тянула его сюда. Сто раз он повторял себе, покидая темницу, что больше уже сюда не вернется, но вскоре приходил снова, находя незначительные предлоги или делая вид, что хочет узнать у шерна какие-либо подробности, которыми мог бы воспользоваться в намеченном походе…
Но шерн на вопросы отвечал резко и уж ни разу не вымолвил ни одного слова, которое для Победителя могло иметь какое-то значение. А иногда он вообще ничего не говорил. И теперь, когда Марек обратился к нему, даже не пошевелился, как будто не слышал обращенного вопроса. Через какое-то время его белый фосфоресцирующий лоб стал мутно-синего цвета, на нем быстро стали появляться одна за другой вспышки, целая гамма цветов, минутами растворяющиеся в общем фиолетовом тоне…
— Говорит, — прошептала Ихезаль, глядя на шерна широко открытыми глазами.
А краски все сильнее играли на лбу чудовища, иногда непостоянные, как полярная заря, и такие яркие, что весь подвал заливался этим радужным светом, а иногда приглушенные, лениво и медленно переходящие друг в друга… Марек, глядя на это, ощущал, что перед ним предстает какой-то гимн красок и света, способный, быть может, выразить понятия, которые человеческий голос не может передать.
Теперь на лбу шерна вспыхнул кровавый свет, как будто какой-то крик, прерванный несколькими холодными синими вспышками, — и тут же погас, как неожиданно потушенный огонь.
Авий медленно открыл закрытые до сих пор глаза и посмотрел на Марека.
— Зачем ты сюда пришел? — спросил он человеческим языком. — Зачем вообще люди пришли и беспокоят более высших чем они существ? Ты собака, но послушай, что говорит тебе знающий, прежде чем погибнешь за то, что посмел поднять руку на шерна Все зло идет с Земли, она звезда мятежная и проклятая, которой наши глаза не хотят видеть! Луна была чудесным садом, и шерны жили здесь в богатых городах над шумящими морями! Давно, давно этот было… Дни тогда были короткие, и Земля всходила на небосводе, обходя Луну кругом — и служила шернам, чтобы им было светло в ночи! Но пришло время, когда она остановилась на небе, зловещая, мятежная — и проклятой стала страна, над которой она остановилась! Ненасытная Земля выкрала у нее воду, воздух — и сегодня там, где был прекрасный сад, стала нежилая пустыня! Теперь там одни горы и трупы развалившихся городов над высохшими реками. Поэтому будь проклята Земля, проклято все, что она сделала, и проклято любое существо, которое оттуда приходит.
Он говорил это обычным, скрежещущим голосом шернов, но в интонациях чувствовалось что-то такое, что придавало этим словам подобие гимна, или старой клятвы, или молитвы… Когда он замолчал, впав в свою обычную неподвижность и безразличие, Марек бросился к нему:
— Говори, говори еще! Значит, когда-то на той стороне?.. И это предание до сих пор хранится между вами?
Он дрожал от нетерпения, желая услышать хоть что-нибудь еще из этих преданий, видимо, передаваемых шернами из поколения в поколение, которые удивительным образом раскрывали ему краешек старой тайны Луны, когда в пустыне были моря, и богатые города стояли над шумящими реками… Однако он напрасно настаивал, стараясь обещаниями, просьбами или угрозами вытянуть что-то из молчащего шерна. Авий только еще раз поднял на Победителя сверкающие глаза и проскрежетал с ненавистью:
— Возвращайся на Землю! Возвращайся на Землю, пока у тебя есть время! Мы сделали только одну ошибку — когда позволили жить и размножаться здесь поколению людей! Но теперь мы уничтожим вас всех, раз вы не хотите быть нашими псами!
Потом он снова втянул голову в плечи и тяжело обвис на закованных в цепи руках.
Марек подумал, что сейчас именно он собирается уничтожить шернов, но ничего не сказал… Какое-то время он колебался, не освободить ли шерна и не попросить ли продолжить рассказ, но вскоре оставил эту мысль, по опыту зная, что это не приведет ни к чему, кроме того, что все подверглись бы опасности нападения со стороны чудовища.
От задумчивости его пробудил тихий вздох… Он быстро обернулся: Ихезаль стояла неподвижно, прислонившись спиной к притолоке, бледная, как труп, глядя на шерна, глаза которого, уставившиеся на нее, сверкали кроваво и зловеще, как четыре красных рубина, горящие на черном бархатном фоне свернувшегося в клубок ужасного тела…
— Ихезаль! Ихезаль! — окликнул ее Марек.
— Я боюсь, — прошептала она помертвевшими губами. По ее телу пробежала дрожь, но, несмотря на видимые усилия, она не могла оторвать взгляд от кровавых глаз шерна.
Марек подхватил ее на руки и быстро выбежал на дневной свет. Девушка, бессознательным движением испуганного ребенка обняла его руками за шею, так крепко прижавшись к нему всем телом, что он, неся ее, чувствовал сквозь холщовую блузу волнение ее маленькой, теплой и крепкой груди и громкий стук сердца. Была минута, когда кровь ударила ему в виски, он сильнее прижал ее к себе и коснулся губами душистой, похожей на золотой цветок головы — он чувствовал тепло ее лба и нежное прикосновение тонких волос к пересохшим губам…
Дневной свет обрушился на них золотой волной… Марек опомнился и поставил девушку на ступени. Она приоткрыла как будто еще сонные глаза: легкая дрожь пробежала по ее телу и разрумянившемуся лицу…
День уже клонился к вечеру. Марек, идя вместе с девушкой вдоль морского побережья, хранил молчание. Они прошли поселение и последние теплые озера с постоянно поднимающимся над ними паром, вступив на опустевшую возвышенность, где еще недавно поднималась грозная башня Авия. Теперь здесь были только руины и несколько обгоревших балок среди развалившихся стен — в обширном и роскошном некогда саду буйные сорняки хозяйничали вокруг сухих деревьев, поломанных во время сражения и втоптанных в грунт победителями. Теперь здесь была заброшенная пустошь, место, которое считалось проклятым, поэтому никто не отважился что-либо здесь построить.
На голом возвышении, рядом с развалинами, уселся Марек и долго смотрел на город, расстилающийся внизу у его ног и позолоченный лучами заходящего солнца. Ихезаль тихо прилегла у его колен, обратив задумчивые глаза на огненный шар солнца, медленно клонящегося к горизонту.
Вдруг Марек вздрогнул и посмотрел на девушку.
— Разве ты не хочешь выйти замуж за Ерета, прежде чем вечером он отправится в поход? — неожиданно спросил он, нарушая удивительную тишину места и времени.
Ихезаль медленно подняла на него большие, черные глаза, еще полные солнечного блеска, который заливал их горячим, золотым заревом…
— За Ерета? — повторила она, как будто не поняв вопроса.
Потом усмехнулась и покачала головой.
— Нет! Ни за него и ни за кого, ни теперь, ни после! Никогда!
Веки с длинными ресницами до половины прикрыли ее глаза, в которых угасал солнечный свет, пурпурные губы задрожали…
Марек отклонился назад и лег навзничь, положив голову на сложенные руки. Он смотрел в чистое небо, залитое вечерней зарей.
— Все-таки это удивительно, — сказал он через несколько минут, — я прилетел сюда и сегодня отправлюсь в поход на шернов истреблять их в их собственной стране, на их собственной планете. Потому что люди хотят тут жить… Потому что шерны слабее, и не отправились тысячу лет назад на Землю, и не сделали нас своим скотом… И какое, какое я имею право это делать? И какое право есть у вас?..
Он замолчал и принужденно засмеялся.
Ихезаль удивленно смотрела на него.
— Господин?..
— Да, да, знаю! Ты говорила мне! Благословение идет с Земли, и священно все, что с нее приходит. Священны убийства, священен этот вред и разбойничество… И даже эти кандалы…
Он почувствовал, что говорит вещи, которые совсем не сочетаются с его действиями, и замолчал, не закончив предложения.
— Ты светлый, господин мой! — тихо прошептала Ихезаль глядя на него влюбленными глазами.
Где-то внизу в городе залаяли собаки, потом послышалось протяжное хоральное пение… Издали его было слышно, поэтому казалось, что это поет сам воздух, волнующийся и звонкий…
Солнце было огромным и красным, оно низко висело над далекой, почерневшей равниной… От моря уже веяло предвечерним холодом.
Марек поднялся и сел.
— Пойдем, — сказал он.
Девушка лениво пошевелилась.
— Как скажешь, господин…
Она подняла руки, чтобы собрать рассыпавшиеся волосы, но их сыпучее золото выскальзывало из ее дрожащих пальцев и в солнечном свете сверкало на плечах, на шее, на лице… Она бессильно опустила руки. Голова ее отклонилась назад, почти касаясь груди Марека. Она побледнела и прикрыла глаза.
— Ты Бог, господин мой? — тихо и сонно прошептала она.
Марек почувствовал, как висок девушки нежно коснулся его губ…
Внизу — где-то на побережье, далеко, послышался резкий звук трубы. Марек одним прыжком вскочил на ноги. Девушка с тихим стоном упала к его ногам, но он уже смотрел на город, на море. Труба зазвучала снова, ее звук далеко разносился в вечерней тишине.
— Уже пора, — сказал Марек. — Вызывают моих солдат.
Он склонился и поднял лежащую девушку.
— Ихезаль, послушай, если я не вернусь…
Она смотрела ему в глаза.
— Ты светлый и как огонь облетишь лунную планету! Море тебя понесет и ветра, громы пойдут за тобой; страх будет твоим предвестником. Те, которые погибнут, будут благословенны, что погибли при тебе, те же, которые выживут, будут кричать: «Слава Победителю…» А я…
Голос ее замер в груди, она беззвучно пошевелила губами — и неожиданно разразилась судорожными рыданиями.
Труба прозвучала в третий раз: теперь вызывали Победителя, чтобы он повел свое войско в путь.
III
Было время большого морского затишья, которое в предполуденное время всегда предшествовало бурям, сумасшедшим ураганам, возникающим сразу же, едва солнце достигает зенита. На востоке, за Кладбищенским Островом, уже собирались черные тучи, и оттуда шло угрожающее ворчание, предваряемое вспышками молний, как будто ужасный зверь, лежащий на небосклоне, медленно крался по небу за убегающим солнцем. Через несколько часов его мощное рычание сотрясет воздух, тяжелые лапы опадут на воду и поднимут пенные брызги, поднимающиеся до самого неба, где будут развеваться серые космы чудовища, — но сейчас зверь еще таился вдали, между склоном неба и краем морской воды, — поэтому стояла тишина.
Поверхность воды выглядела как гигантский сине-стальной диск, зеркально гладкий: взглядом почти ощущалась его твердость, как будто он из жидкости вдруг превратился в металл. Только около берегов далеких островов цвет моря изменялся: острова выглядели как драгоценные камни в сверкающей оправе. А над поверхностью моря висело неподвижное и тяжелое марево, сквозь которое пробивались солнечные лучи…
Ихезаль, бегущая по берегу, уже миновала последние дома поселения. Все двери были наглухо закрыты, окна занавешены. Молодежь предыдущим вечером отправилась с Победителем в поход — те, которые остались здесь, укрылись в мрачных домах от полуденной жары, сегодня более сильной, чем обычно.
Девушка остановилась в тени скал, утомленная бегом и жарой Глаза у нее слезились от чрезмерного блеска, и море временами казалось ей большим черным пятном. Тогда на мгновение перед ее глазами возникали мчащиеся по льду многочисленные сани с развернутыми на ночном ветре парусами, она слышала резкий свист полозьев и громкие крики, заглушаемые ветром.
Она невольно посмотрела, не увидит ли еще этих, исчезающих вдали огней, издали выглядевших как горсточка звезд, брошенная на скользкую поверхность льда, но в открывшиеся глаза снова ударил солнечный свет. Она быстро взглянула в сторону собирающихся туч: буря приближалась, но так лениво, что ее движение едва заметно было на бледной голубизне небосклона.
— Еще успею, — прошептала она и, убедившись, что никто за ней не следит, сбежала к застывшей среди скал затоке. Уверенным движением она отвязала укрытую под камнем лодку и, вскочив в нее, направилась в открытое море, в сторону видного издали Кладбищенского Острова. Весла выгибались в ее маленьких руках, и лодка летела, как острый алмаз, разрезая темную поверхность воды…
На расстоянии в несколько сотен метров от берега Ихезаль опустила весла. В этой обессиливающей жаре ей было трудно грести, она задыхалась даже в легкой одежде. Она быстро разделась донага, чтобы свободнее управлять лодкой, но едва солнце коснулось ее белой кожи, неожиданное бессилие охватило всю ее Она, закрыв глаза, опустилась на дно лодки.
Сквозь закрытые веки солнечный свет бил в ее глаза, а груди и бедрах она чувствовала прикосновения горячих солнечных лучей, как будто чьи-то губы, жадно покрывающие ее поцелуями… Ясный, лучезарный образ замаячил перед глазами, и ледяная дрожь пробежала по ее телу, разогретому солнцем…
Разбудил ее сильный гром, прозвучавший вдали. Она вскочила поверхность моря уже морщилась от первого, низко летящего ветерка. Она схватила весла и начала поспешно грести, преодолевая сопротивление ветра и волн, которые разбивались о нос лодки в белую пену.
Был уже сильный ветер, когда золотоволосая Ихезаль, изнемогая от усталости, приблизилась наконец к укрытой под деревьями маленькой пристани у низкого берега Кладбищенского Острова. У нее едва хватило времени на то, чтобы прикрепить к причалу лодку и взять из нее снятую одежду, как буря всем бременем навалилась на вспенившуюся под темным небом воду. Вихрь трепал золотые волосы девушки, вырывал одежду из ее рук, обвивался вокруг ее белого тела. Она забежала за плоский камень, торчащий из зеленой травы, и, борясь с ветром, стала поспешно одеваться. Первые теплые капли дождя упали на ее непокрытые плечи.
Она бежала под проливным дождем, вслепую пробираясь по знакомому бездорожью между деревьев, неожиданно оказавшихся перед ней в полумраке, в блеске молний перескакивая камни, спрятавшиеся в траве, соскальзывая с залитых водой пригорков. Около курганов, где, согласно преданию, лежали останки первых людей, прибывших на Луну, она снова повернула в сторону моря и вбежала на вершину невысокого холма, спрятавшегося между скал.
Под одной из них открывался вход в большую пещеру. Ихезаль вошла в нее и остановилась, судорожно дыша вздымающейся грудью. Вода стекала по волосам и легкой одежде, прилипшей к ее стройному телу.
Из боковой каморки высунулся старик и посмотрел в серый полумрак пещеры.
— Это ты! — воскликнул он. — Я уже беспокоился о тебе…
— Я немного задержалась, дедушка, — ответила она, — но раньше я не могла отплыть, чтобы меня не выследили.
Малахуда взял ее за руку и потянул вглубь за собой.
В одной из галерей пещеры он устроил себе жилище пустынника. Старый первосвященник спал на охапке шкур, подобно полудикому рыбаку из окрестностей Перешейка; стульями и столом ему служили большие камни. В углу виднелась сложенная из камней печь, которая, видимо, обогревала пещеру во время ночных холодов.
Ихезаль, забыв об усталости и промокшей одежде, всматривалась в деда при тусклом свете, пробивающемся откуда-то сквозь трещины в своде. Он показался ей постаревшим, погрустневшим — и вместе с тем величественным, несмотря на то, что стоял теперь без атрибутов священнослужения и власти, которые оставил в тот день, когда приветствовал пришедшего Победителя… Сердце у нее сжалось при виде его — и она невольно сравнила эту благородную, даже в добровольном заточении, полную величия фигуру с хитрым и алчным Элемом, к которому подсознательно чувствовала отвращение, возможно, ощущая его лицемерие в отношении Марека, скрываемое под видом покорности и уступчивости. Ей пришло в голову, что Малахуда, оставаясь первосвященником, мог бы теперь исполнять священную волю Победителя и щедрыми руками давать благословение новой эре в лунной стране. В ней поднялась обида, и вместо того, чтобы поздороваться с давно не виденным Малахудой, она воскликнула:
— Дедушка! Почему ты ушел и не хочешь вернуться?
Но старик не слушал ее слов. Как хороший хозяин, он засуетился по своей каморке и вынул откуда-то простую кожаную одежду.
— Разденься, — сказал он, — тебе нужно переодеться в сухое.
Одновременно когда-то белыми, а теперь мозолистыми от работы руками он начал поспешно развязывать завязки на ее одежде.
Девушка схватила его за руки:
— Нет, нет…
Он удивленно посмотрел на нее:
— Ты должна переодеться.
Ихезаль покрылась румянцем.
— Я переоденусь, дедушка, но там, за камнем, в укрытии.
Она видела, что старик, привыкший к невинному бесстыдству лунных женщин, совсем не понимает ее отказ, и добавила объясняющим тоном, покраснев еще больше:
— Я поклялась Победителю, которому служу, что никто не увидит меня нагой, даже женщина…
— Что это за нелепый обет! — проворчал Малахуда, далекий от мысли приписать этому какой-то эротический смысл.
Однако не стал возражать, и пока Ихезаль переодевалась в отдалении, он разжигал огонь, тлеющий в печке, чтобы приготовить пищу.
Через несколько минут внучка, переодетая в жесткую кожу, уже находилась рядом с ним, помогая ему ловкими руками.
Полуденная буря тем временем бушевала вовсю. В пещеру доносились глухие раскаты грома, казалось, будто ураган с грохотом открывает каменные двери, уже чувствовалось его холодное дыхание, казалось, еще минута и он проникнет внутрь и предстанет перед ними в обрамлении сверкающих молний… В короткие минуты затишья был слышен мощный, однообразный шум моря, которое билось о скалистый остров, терпеливо и уверенно, зная, что еще несколько веков, одно или два тысячелетия — и оно победит и эти остатки материка, прежде чем ему, в свою очередь, придется высохнуть и исчезнуть…
После короткого подкрепления старик уселся с внучкой на камне, покрытом мохнатой шкурой, и, сложив руки на коленях, заговорил:
— Я дал тебе знать, что нахожусь здесь сразу же после выступления в поход воинов, так как единственный мой доверенный человек, рыбак и сторож могил наших предков на этом острове, доложил мне, что есть приказ Победителя найти мое убежище и уведомить его о нем. А я этого не хочу…
Девушка хотела что-то возразить, но первосвященник знаком приказал ей молчать.
— Не прерывай меня теперь, — сказал он. — Я многое должен сказать тебе и хочу, чтобы ты выслушала меня внимательно.
Ты удивляешься тому, что я ушел. Я знаю, что некоторые думают: старик, привыкший к власти, не захотел делиться ею со звездным пришельцем и предпочел добровольное изгнание… Это не так. Я не буду объяснять тебе всех причин, которые вынудили меня скрываться, потому что слишком много пришлось бы рассказывать о зданиях, которые обрушились в одну ночь, и я не уверен, что ты правильно бы меня поняла.
Вы там уже встретили Победителя — я только жду его. Не так, как Хома, который, как мне доносят, этого признать не хочет и возвещает приход другого, истинного Победителя. Нет, я жду, чтобы тот, который прибыл, стал Победителем.
Когда я увижу, что он стал настоящим Благословением для Луны, я умру спокойно, а если потребуюсь ему для чего-либо — предстану перед ним. Теперь еще не время.
В последнюю ночь я вышел из пещеры и видел сани, полные молодых и самонадеянных воинов, быстро летящие на юг. Я буду ждать до тех пор, пока они не вернутся той же самой дорогой. Я признаю Победителя, если он возвратится, а не будет улепетывать от настигающего его врага.
Моя старость научила меня одной великой истине: каждое начинание является благословенным, когда его увенчает успешный и благой результат. Слишком много неудач и падений я видел в жизни, чтобы тешиться намерениями или ощущать благодарность и преклонение заранее за поступки, которые еще только должны быть совершены.
Однако я затосковал по тебе, потому что ты всегда была для меня утешением, единственный ребенок уже умерших детей моих, поэтому я и вызвал тебя, послав с известием сторожа здешних могил. Расскажи же мне теперь, как ты там живешь, и что видят твои глаза.
Ихезаль посмотрела в мрачную глубину пещеры и долго молчала, прежде чем заговорила:
— Дедушка, глаза мои видят теперь только одно… Они смотрят сквозь бурю, через бушующее море в страшную далекую страну и видят кровавую битву. Я слышу гром выстрелов и стоны умирающих, а сердце мое радуется и победную песнь поет, потому что это шерны устилают поля своими трупами, потому что это морцы стонут, пораженные в грудь выстрелами и словами Светлого.
Дедушка, я вижу его! Вижу, что он победно смеется, подобный молодому богу — и сердце мое плачет, что он не просто человек, как я!
Она упала лицом в колени деда и приглушенным голосом стала жаловаться ему:
— Дедушка! Вся кровь во мне кипит! Дедушка, я не знала, что бывает такой огонь, и вот он меня пожирает и сжигает, как полуденное солнце цветок. О! Лучше бы я умерла!
Малахуда ничего не ответил. Только сухими руками взял ее за голову и погрузился в тихое размышление. А она в это время плакала с рыданиями, разрывающими ее маленькую грудь, и только успокоившись, снова начала говорить:
— Почему ты не отвечаешь, дедушка? Я боюсь твоего молчания! Я предпочла бы, чтобы ты меня ругал или отодрал за волосы! Победитель говорил, что хочет дать новые законы людям, похожие на те, которые существуют на Земле, и что хочет сравнять женщину с мужчиной, чтобы она не была больше невольницей! Дедушка! Почему Победитель, раз он такой мудрый, не изменит лунных мужчин, чтобы были похожи на него, чтобы служить им и подчиняться было бы так сладко? Не свободы хочет мое сердце, не равенства, оно хочет быть отданным самому сильному, а он здесь только один, тот, который пришел на Луну с Земли! Почему он горячими устами не сожжет цветок моего тела? Ведь я же цветок прекрасный и душистый, самый душистый из тех, которые выросли на лунной планете, которая видится с Земли серебряной и светящейся, похожей на большую звезду… Неужели потому, что ему понравилось быть Богом, я должна умереть от пожара в крови?
Ведь я поклялась служить ему, но он во мне не нуждается! Я боюсь этого, дедушка, потому что я от безмерной любви готова его возненавидеть и добраться до его сердца, чтобы убедиться, такая ли у него красная кровь, как у меня…
Говоря это, она откинула голову назад и сверкнула белыми зубами, как золотая пантера, которая готовится к прыжку.
Старик медленно поднялся.
— Плохо, как плохо, — сказал он скорее самому себе, не глядя на внучку, — кто знает, может быть, мне следовало остаться там и проследить…
Он посмотрел на девушку, которая не отрывала взгляда от его лица, и грустно улыбнулся.
— Не за тобой, нет! Здесь слежка ничего бы не дала. Я уже знал, что ты погибнешь, еще когда ты вошла в сокровищницу и застала меня над книгами. Боюсь, что мне нужно было бы следить за ним, которого вы уже сегодня зовете Победителем, и которому сверх меры поклоняетесь. Потому что, думается мне, если он вправду победит и порядки, которые на Луне неправильно сложились, захочет, как хозяин, исправить, все обратится против него. Даже ты, даже ты! Но теперь уже поздно. Я выбрал другой путь и не поймаю уже в руки того, что выпустил из них.
Они еще долго сидели молча, тихо обмениваясь отрывистыми фразами, до тех пор, пока солнечные лучи, проникшие туда сквозь трещины, не возвестили им, что буря закончилась, и мир, освеженный струями дождя, снова радуется жизни.
Тогда Малахуда взял золотоволосую Ихезаль за руку, и они вышли на солнце. По свежеумытой траве, еще скользкой от дождя, ласкающей их босые ноги, они поднялись на вершину холма, издавна называемого Могилой Марты. Здесь был большой камень со следами букв, вырубленных, быть может, много веков назад, которых никто уже не мог прочитать…
Именно об этот камень Малахуда оперся рукой и сказал:
— Не знаю уже сегодня, правда это или нет, но в книгах написано, что в этой могиле лежит мать всего лунного народа, благословенная родительница первого мужчины и сестер его, а также прорицательницы Ады, которая в девичестве служила Старому Человеку. Но предание гласит, что Старый Человек не был отцом лунного народа, а только его опекуном… Конечно, некоторые утверждают, на основании каких-то бумаг из его сожженного дома, сохраненных в течение многих веков (не знаю, правда ли это?), что сюда его привела любовь к земной женщине, и что он страдал, пока не ушел на Землю… Почему ты не должна страдать?
Он говорил это прежним тоном жреца, привыкшего издавна слова, содержащиеся в Писании, применять для повседневной жизни, извлекать из них науку или утешение, но вскоре опомнился и понял: то, что он говорит, трудно применить в этой ситуации и переубедить… Впрочем, он сам не верил в то, что говорил…
Тогда он замолчал, особенно потому, что понял: Ихезаль его не слушает. Побледневшее лицо она повернула в сторону юга и вглядывалась в клубящиеся белые облака на горизонте, которые были похожи на войско, сражающееся в воздухе над морем в серебристо-серой дымке. Заметил, видимо, это сходство и Малахуда, потому что неожиданно сказал, думая о реальном сражении, которое в эти минуты, может быть, развертывалось в той стороне.
— А если Победитель погибнет?
В первый момент, услышав эти слова, Ихезаль побледнела еще больше, казалось, ни одной капли крови не осталось в ее теле, но сразу же после этого с улыбкой покачала головой.
— Нет! Он не может погибнуть!
Она сказала это с таким глубоким убеждением, что старик не нашелся, что сказать в ответ, только опустил свою седую бороду на грудь и задумался, глядя покрасневшими глазами на светлое и широкое море…
А в эти минуты в стране шернов Марек как раз отдыхал после захвата первого города.
Всю ночь их нес шальной порыв ветра, дующего в натянутые паруса. Руководствуясь показаниями компаса, они миновали острова, черневшие в свете звезд на сверкающем льду; некогда Нузар предостерегал его, говоря о горячих морских течениях, где вода не замерзает даже ночью… На простирающейся поверхности сани, растянувшиеся в широкую цепь, давали друг другу знать о себе блеском красных светильников, укрепленных впереди. Так они мчались без остановок и отдыха в течение одиннадцати земных дней…
Под утро, когда через сорок часов уже должно было взойти солнце, и серый свет начал распространяться со стороны востока, Нузар дал знать Победителю, что они приближаются к побережью. И Марек действительно заметил далекую, белую от снега линию на горизонте, тут и там прерываемую чем-то вроде башен.
Морец стоял около него и показывал рукой в сторону берега.
— Это их самый, большой город, в котором сегодня уже почти никто не живет. Половина его обвалилась в море вместе с грунтом, и когда на море затишье, можно увидеть утонувшие башни, над которыми плавают рыбы. Шерны ушли в глубь материка, дальше на восток. Вон там их поселок, где находится пристань…
Он показывал на едва видимую группу домов на побережье, у далеко углубившейся на территорию побережья затоки.
Сани, на которых ехал Ерет, начали приближаться к Победителю. Молодой воин был бледен, губы сжаты, но лицо спокойное.
— Победитель, — сказал он, — ветер несет нас прямо на поселок, через несколько часов мы будем там.
Марек отдал распоряжения. Сани, направляемые крепкими руками, заскрежетали, вся эскадра начала разворачиваться огромным полукругом по отношению к берегам затоки. Ближе всех к материку подошли сани, на которых размещалась большая часть воинов, которые в нужный момент обрушили огонь на спящий поселок шернов. Еще была видна пыль, поднимающаяся над падающими домами, а люди уже спешили снова зарядить свои пушки и вновь посылали туда разрушительный огонь.
Прежде чем захваченные во сне, обезумевшие от страха жители смогли отдать себе отчет в том, что происходит, утренний ветер уже подхватил нападавших и унес дальше, к тому месту, где, по словам Нузара, они могли без помех пристать к берегу.
Солнце уже вставало, когда все сани, вытащенные на берег, превратились в укрепленный лагерь.
Вдали уже показывались шерны, удивляясь неожиданному нападению, они изредка подлетали на тяжелых крыльях к лагерю и гибли от точных попаданий охраны. После этого они удалились, дав противникам некоторое время на отдых.
Марек знал, что им нужно спешить и не давать шернам время для того, чтобы опомниться, но он был вынужден ждать утренней оттепели, чтобы начать свою страшную охоту. Пока он держал свой лагерь в оборонительной позиции, а сам с интересом знакомился с окружающей его страной.
Она была обширной и плоской. Насколько он знал из рассказов Нузара, относительно небольшое количество шернов в настоящее время жило на Луне: большинство городов лежало в развалинах, вокруг простирались широкие пустые поля, потому что не было морцев для их обработки. Ленивые шерны неохотно брались за работу, считая это постыдным для себя.
Тем больше Марека удивляла их сила, благодаря которой они смогли подчинить себе более многочисленное, нежели они сами, племя людей.
Грунт был еще вязким и мокрым от растаявшего снега, когда Ерет обратил внимание Марека на приближающуюся толпу. Это шли морцы, согласно обычаю подставляемые шернами под первый огонь. Но до сражения дело не дошло. Несколько залпов огнестрельного оружия, направленных в плотную массу идущих, в мгновение ока ликвидировало их. Молодая трава, на глазах вырастающая из-под снега, почернела от множества трупов, упавших на нее. Люди пошли добивать раненых.
Это было страшное зрелище для Марека, который, видя в шернах звероподобные существа, не чувствовал угрызений совести при их убийстве, но содрогался при мысли о вырезании безоружных морцев, как бы то ни было, носящих человеческое обличье. Но он не мог позволить себе колебаний, поэтому отдал приказ, чтобы раненых лишали жизни быстро и без мучений.
Двух или трех слегка покалеченных морцев выбрал Нузар и, пообещав сохранить им жизнь, уговорил, чтобы они вместе с ним служили проводниками. Останки погибших были скормлены собакам, привезенным для упряжи.
Вскоре началась охота, которой так ждало кровожадное сердце Нузара.
Были приведены в движение сани, к ним привернули колеса, и весь лагерь медленно двинулся вперед. Иногда он останавливался, тогда из него выходили охотники. Марек шел впереди, держа при себе трех морцев и несколько собак с хорошим нюхом и привычкой к охоте, за ним шли воины, с руками на спусковых крючках, с быстрыми и зоркими глазами, внимательно наблюдавшие за каждым возвышением на земле. Если появлялся морец или шерн, его убивали и двигались дальше, к стенам обстрелянного утром поселения.
Солнце уже ярко разгорелось на небе, и море медленно колыхалось, набегая волнами на песчаный берег. От распустившихся удивительных лунных растений шел упоительный аромат, минутами была такая тишина, что Мареку хотелось лечь навзничь среди зелени и смотреть на огромное голубое небо, раскинувшееся над этим печальным и удивительным краем. Но лаяли собаки, или стрела морца втыкалась у его ног, и Марек поднимал оружие к лицу, чтобы уничтожить убегающего шерна, либо отдать приказ произвести залп по морцам, работающим в поле и еще не знающим о нападении. Жилища, которые попадались им по дороге, поспешно сжигались, а если они были из камня, старательно разрушались. Шерны до сих пор не выказывали серьезного сопротивления, казалось, что страна будет завоевана без лишних усилий и избыточных жертв, и род древних жителей Луны уничтожен под корень.
Тем временем приближался полдень долгого лунного дня. Во время самой большой жары Марек со своим отрядом остановился у стен города.
Новое поселение, заранее разрушенное снарядами, было совершенно пустым. Видимо, все его жители спрятались в старом городе, заброшенные и наполовину ушедшие в грунт стены которого ослепительно сверкали в полуденном солнце.
Победитель чувствовал, что здесь они встретятся с отчаянным сопротивлением. Он смотрел на разрушенные временем башни мощных очертаний, на арки и огромные ворота со сводами, часто разошедшимися по причине оседания грунта, за которыми город каменной волной сплывал к морю, чтобы, в конце концов, утонуть в его глубинах — и думал о сообщении, сотни лет назад переданном Старым Человеком, что и в Великой Пустыне есть похожие города — в развалинах и руинах.
Кто знает, какие сокровища, какие тайны хранит в себе этот погибший город? О чем он мог бы ему рассказать, если бы он не был вынужден через несколько минут превратить его в бесформенную гору развалин?..
На короткое мгновение ему пришла в голову мысль: отправить туда парламентария, Нузара например, и постараться спасти этот старый город от разрушения, но он сам посмеялся над этим. Какое тут могло быть понимание, какое согласие? Перед ним была дилемма: или люди будут вечно служить шернам на Луне, либо шерны будут истреблены все до одного. Опыт веков уже научил людей, что никакие договоры и соглашения с вероломными шернами ни к чему не ведут, так как в ту же минуту, когда они усматривали выгоду в нарушении этого соглашения, они без всяких колебаний его нарушали. Мог ли он предложить им выйти всем и добровольно утопиться в море, оставив свою планету пришельцам с другой звезды? Или он должен был забрать всех людей обратно на Землю? Иного выхода не было!
В то время, когда он думал об этом, его ловкие воины поспешно ставили орудия, разворачивая их сверкающие жерла к тихим и как бы замершим стенам города. От страшной солнечной жары в воздухе висело марево, превращающее камни в нечто нереальное, колеблющееся и на глазах меняющееся. Были минуты, когда Мареку казалось, что весь город — это только отражение какого-то сна в движущейся и полной блеска воде и вот-вот расплывется, как сон, на этом пустом морском побережье.
Он даже не заметил, как головой дал знак Ерету, спрашивающему, можно ли начинать? Только страшный грохот выстрелов отрезвил его. Он смотрел на выветрившиеся стены, которые падали под ударами снарядов, на мощные с виду башни, неожиданно шатающиеся у основания. Орудия ударили снова, с более близкого расстояния, и столб пыли поднялся вверх от падающих домов.
Одновременно у его ног послышался резкий крик Нузара. Он посмотрел в направлении, в котором указывала вытянутая рука морца, — и ему показалось, что тяжелая, низко плывущая черная туча движется на него с невероятной скоростью.
— Шерны! Шерны! — послышались крики воинов.
В одну минуту воины рассыпались, чтобы не представлять своей массой прекрасную цель для снарядов, пускаемых сверху шернами. Затрещало ручное оружие, зазвучали отдельные выстрелы. Из тучи шернов каждую минуту стали падать на землю тяжелые тела… Началась охота за пустившимися в бегство чудовищами.
Большая часть их спряталась в стенах города, и снова в ход были пущены орудия. Обстреливались еще стоящие дома, наполовину разрушенные башни и арки, построенные много веков назад, потом обстреливались развалины и в конце концов уже просто беспорядочная масса камней. Тем временем разразилась буря, которая, громыхая, помогала людям в деле разрушения.
Иногда из груды развалин вылетал какой-нибудь шерн, делая отчаянную попытку убежать, но сразу же падал, сраженный пулей, не успев даже долететь до кольца противников. Некоторые, охваченные безумным страхом смерти, взлетали над разбушевавшимся морем и погибали, падая в волны.
Победа была одержана убедительная — не был потерян ни один человек.
Однако когда Марек по истечении определенного времени хотел направить своих людей на дымящиеся развалины, чтобы обыскать их, Нузар схватил его за край блузы и покачал головой.
— Этих еще не следует убивать, — сказал он, показывая на ряды победителей, — они еще пригодятся тебе, господин.
Марек вопросительно посмотрел на него.
— Шерны еще там, они укрылись в ямах; подо всем городом тянутся глубокие пещеры. Кто войдет туда — погибнет.
— А входы в эти пещеры? — спросил Марек.
— Их много. Некоторые из них морцы замуровали, чтобы туда не поступала морская вода.
— Где они находятся?
— Взятые морцы безошибочно тебе укажут их. Они знают эти места слишком хорошо, потому что стены под ударами волн разрушаются и их нужно постоянно восстанавливать и ремонтировать.
Марек даже не стал ждать окончания бури. Море еще бушевало и бешено колотилось о развалины, когда, по приказу Победителя, поспешно закладывались мины, которые должны были устранить каменную преграду для волн.
В самом скором времени загремел мощный взрыв, и вверх взлетели брызги и осколки камней. Море на мгновение замерло, отброшенное назад, но в ту же секунду заклокотало и ринулось через освобожденный проход внутрь таинственных пещер.
Шерны, под угрозой затопления, начали выбираться из укрытий через боковые входы, где их безжалостно убивали, чтобы оправдать слова Писания о том, что на Луну придет Победитель.
А он сам, усевшись над развалинами, смотрел на море, успокоившееся после бури и в новом, ярком свете солнца, выглянувшего из-за туч, смотрел в глубину, на затопленный там город, единственный след того, что тут, на этих развалинах, когда-то жили живые существа.
Воины наконец-то смогли отдохнуть…
Какая-то удивительная птица с золотистыми крыльями вылетела из ближайших зарослей и, сверкая на солнце, начала кружиться над головой Победителя, все больше и больше расширяя круги.
IV
Сначала появилось сообщение, неизвестно откуда пришедшее, передаваемое людьми из уст в уста. Рассказывалось об удивительных победах Марека, и несмотря на то, что их одерживал Победитель, люди удивлялись и не очень этому верили, особенно потому, что никто не мог указать источник информации… Указывали на полудиких рыбаков из окрестностей Перешейка, которые в обществе какого-то сумасшедшего старика объявились поблизости от Теплых Озер: вроде бы один из их земляков, покинув войско, по неведомой причине вернулся домой и принес хорошие новости, но поскольку все эти новости шли из неизвестного источника, их принимали осторожно, хотя и внимательно выслушивали, поглядывая на Великое Море, за которым находилась страна шернов.
Этот поход людям, привыкшим за много веков к господству шернов, казался чем-то настолько неправдоподобным, что они до сих пор не могли освоиться с мыслью, что он произошел в самом деле, и вопреки благоприятным известиям, ожидали неудачи, бегства воинов и нападения преследующих их шернов. Уже были такие, которые отсутствие точных сообщений объясняли гибелью смелых безумцев и злословили на счет Победителя, еще недавно чрезмерно ими восхваляемого…
И когда наконец в сером свете наступающего утра на берегу замерзшего моря появилось двое саней, народ с тревогой вышел навстречу прибывшим, не смея даже спросить их, не последние ли они из тех, кто остался в живых и еще успел избежать разгрома. Но из саней вышли люди усталые, но веселые и, смеясь, направились к городу, приветственно махая руками… Раздался вздох облегчения, и все кинулись к ним навстречу, окружая их шумным и любопытствующим кольцом… Они рассказывали вещи совершенно неслыханные: как Победитель триумфально движется через земли шернов, безжалостно истребляя их население, как он покорил уже все города, расположенные на побережье и на равнинах, наполнив страну смертью и страхом, а теперь отправился на юг, в горы, поднимающиеся к полюсу, где в недоступных городах укрылись оставшиеся в живых шерны. А их он послал сюда, чтобы они привезли запас боеприпасов, которые были уже на исходе.
Толпа, охваченная безумной радостью, подняла прибывших на руки и триумфально с громкими криками понесла их к храму.
Утро было морозным, и половина снега еще не сошла, когда это все произошло. Большинство жителей поселения при Теплых Озерах еще спали или в закрытых домах ждали теплых лучей солнца. Однако нарастающий шум разбудил их, и они выходили из тихих домов с еще не пробудившимися ото сна глазами, но, услышав, что происходит, присоединялись к толпе, которая в такой ранний час заполнила уже всю площадь перед храмом.
Элем, услышав шум из своего дворца, сразу подумал, что это вернулся Победитель, и поспешно приказал облачать себя в одежды первосвященника, но Севин доложил ему, что это всего только посольство, прибывшее с радостной вестью. Поэтому, не дожидаясь, пока его оденут, он вышел в домашней одежде с наброшенным на плечи мехом — и с порога потребовал, чтобы послы сначала поклонились ему и доложили, как обстоят дела. Они, однако, видимо, по поручению Победителя, отправились искать девушку с золотыми волосами и, найдя ее в переходе из старого дворца в храм, упали перед ней ниц и вручили ей дорогие подарки. А именно: розовый жемчуг, содранный со старинных торжественных одежд шернов, предметы, вырезанные из кости, золотые украшения, похожие на удивительные цветы.
Ихезаль молча приняла подарки с одной только бледной улыбкой на губах, а когда все руки были уже заняты драгоценными предметами, послам вдруг показалось, что в ее глазах загорелся какой-то злой отблеск, подобный отблеску стали. Но она быстро опустила ресницы, милостиво и обольстительно улыбаясь, и обратилась к удивленным послам:
— Неужели вы не привезли мне того, что для меня ценнее всех самых дорогих вещей, ценнее этого розового жемчуга? Неужели никто не взял с собой для меня того, что краснее всего на свете и, как колокол, звонит в стране шернов? Почему вы не привезли мне самого дорого подарка, который я хотела бы иметь?
Так она говорила, не помня себя от волнения, а когда послы стали допытываться: что же это такое? чего бы она желала получить? Уж они постараются доложить об этом Победителю, она добавила совершенно непонятные слова:
— Я бы хотела получить его сердце, его алое сердце!
Среди послов был один молодой юноша, почти мальчик, который сам попросил у Марека о возвращении, соскучившись по семье. Он с самого начала — видимо, с восторгом — смотрел в лицо Ихезаль, а когда она кончила говорить, он неожиданно выхватил из-за пояса кинжал и вонзил его в себе в горло. Кровь из раны полилась потоком, и он в судорогах упал на пол.
Возникло замешательство. В неслыханном удивлении послы кинулись к нему на помощь, но он жестом отстранил всех, глядя с угасающей улыбкой в лицо золотоволосой девушки… Только когда Ихезаль, преодолев отвращение, склонилась над раненым, он с трудом прошептал хриплым голосом:
— Я должен был умереть, потому что понял слова твои и, оставшись жить, выполнил бы твое желание!
Больше ему ничего сказать не удалось. Ихезаль также его ни о чем не спрашивала. Она отвернулась от умирающего и, слегка пожав плечами, отошла вглубь с выражением жалости и неудовольствия на лице.
Ее собственные слова и смерть, которая непосредственно после них наступила, показались ей чем-то отвратительным: теперь у нее было впечатление, что это не она сама, а какой-то злой дух говорил ее устами, глаза ее налились слезами, а сердце наполнилось неукротимой любовью к тому далекому и ясному богу… Горсть холодных жемчужин она прижала к груди, шепча исступленно:
— Нет, нет, нет! Пусть твое сильное сердце бьется и живет, пусть лучше я погибну от тоски! Я первая отдала бы твоего убийцу на муки вечные, о любимый! — и хорошо, что этот юноша сразу же наказал себя, осмелившись подумать о том, что я сказала!..
Одновременно в ее глазах возник образ подвешенного Авия: четыре кровавых глаза и черные крылья на полированной стене пониже золотого Знака Прихода. Она почувствовала непреодолимое желание взглянуть в эти страшные и зачаровывающие глаза, чтобы увидеть в них огорчение при виде присланных ей даров…
Машинально, не думая о том, что делает, она спустилась по лестнице и отворила дверь темницы.
Авий поднял голову. А она медленно, не спеша зажгла все светильники и под потолком и на стенах, и начала молча играть розовым жемчугом, пересыпая его из ладони в ладонь, радуясь тому, что ее ногти похожи на него и блеском, и цветом. А потом неожиданно кинула несколько жемчужин в лицо чудовищу и громко, серебристо засмеялась. Авий втянул голову в плечи и следил за ней горящими глазами. Ихезаль подошла к нему еще ближе.
— Что, узнаешь? — сказала она, показывая ему золотые украшения, присланные ей Победителем из-за моря.
На губах ее играла невинная улыбка.
Он узнал драгоценности, которые она пересыпала перед его глазами — и на мгновение его лоб затянулся темно-серой, мутной краской и погасли кровавые глаза, прикрытые веками. Вскоре, однако, он снова открыл их и быстро взглянул на девушку.
— Узнаешь? — повторила она. — Это для развлечения прислал мне всемогущий Победитель в знак того, что он с победой прошел вашу страну и поразил шернов своим оружием! Он завоевал города и истребил их жителей! Разрушил стены, а башням приказал упасть к его ногам! Пусть будет благословен Победитель, истребитель шернов, и благословенна звезда Земля, которая его прислала!
Что-то вроде усмешки появилось у ороговевших губ чудовища.
— Да, — сказал он через минуту, — сильный человек, которого вы называете Победителем, действительно прошел через нашу страну и разрушил города наши, а жителей их поубивал. Вижу в твоих руках драгоценности, часть несметных сокровищ наших, которые мы собирали веками с тех пор, когда людей еще не было даже на Земле, и она светила нам ясно, как солнце… Прошел ваш Победитель над морем и через равнину, но дальше произошло то, о чем ты не говоришь, а я знаю: он дошел до высоких гор и остановился перед ними, бессильный! Не поможет ему ни огнестрельное оружие, ни железные столбы, бьющие огнем: остановился ваш прославленный Победитель перед высокими горами, где города шернов расположены на вершинах скал и внутри их! Он смотрит наверх, как собака, у которой из-под носа ускользнула уже настигнутая птица, взлетев на ветку высокого дерева. Вот какова мощь вашего Победителя, вот какова его сила! Широкие крылья шернов поднимают их сегодня, как и много веков назад, на вершины скал, в неприступные дома, откуда они могут смеяться над врагами и их непомерной спесью!
Шерн рассмеялся своим скрежещущим голосом, прикованный железными цепями к стене, и уставился кровавыми глазами на девушку, руки которой медленно опали вдоль бедер, рассыпая розовый жемчуг на каменный пол темницы.
— Кто вы такие, существа жалкие и несовершенные? — снова начал он через минуту. — Кто вы такие по сравнению с нами? Хвалитесь своим умом, а мало чем отличаетесь от собак, которые размножаются здесь, на Луне, подобно вам. Прибыл к вам человек с Земли и рассказывает о событиях и изобретениях, которые там существуют…
Мы давно уже прошли через все это, мы, шерны, и уже успели забыть обо всем, придя к мудрому выводу, что нужно только жить и приказывать другим работать за себя! Иди! Расскажи своему Победителю, пусть он пойдет в Великую Пустыню и обыщет развалины городов, которые превращаются там в пыль, — и узнает, о чем мы знали много веков назад, когда на Земле еще не существовало жизни! Пусть приделает себе крылья и завоюет за морем наш самый большой город, на скалах расположенный, пусть научится читать книгу, которая там укрыта, книгу, написанную красками — и убедится, что мы уже знали о Земле, когда мы ей даже не снились, и какой груз знаний уже отбросили, как ненужную вещь! Все то, чем вы стараетесь нас покорить, то, чем сейчас хвалитесь на Земле, что считаете самым ценным и только вам присущим!
Девушка слушала поток этих скрежещущих слов со странным ошеломлением, не смея оторвать глаз от фигуры шерна, который показался ей внезапно не только страшным, но в то же время каким-то высшим существом… Он, видимо, заметил это, потому что его глаза блеснули нескрываемой гордостью, неприличной для военнопленного, и насмешливо сказал:
— Какое имеет значение временное преимущество вашего Победителя? Если он не вернется на Землю, то сдохнет здесь, а вы будете нам служить по-прежнему!
Он замолчал и впился пронзительным взглядом в изменившееся лицо девушки.
— Племя человеческое будет служить нам, исключение будет сделано лишь для той, которая захочет стать госпожой и пойдет добровольно за шерном в чудесный город, построенный в горах, чтобы там с ним вместе управлять и иметь морцев, более послушных, чем собаки, и людей, выбранных для услуг, а еще несметные сокровища, сверкающие ярче, чем звезды в ночи! Царить там будет человеческая женщина, выбранная шерном — будет царить с той минуты, когда поймет и узнает, что нет ни добра, ни зла, которое придумали слабые люди, нет ни правды, ни лжи, ни наказания, ни награды, есть только одна сила, сосредоточенная в высшем творении мира — в шерне!
Испуганная Ихезаль, собрав все силы, отступила, дрожа всем телом от странного, непонятного для нее самой чувства…
— Подойди! — крикнул Авий.
Она громко закричала и бросилась к двери. На лестнице она упала, обессиленная, и разразилась рыданиями.
Придя в себя, она услышала голоса множества людей, наполнявших храм. Ей доставило облегчение, что она здесь не одна, и, поднявшись, она почти с радостью побежала, чтобы смешаться с толпой.
На амвоне, давно пустующем, снова стоял первосвященник Элем и пересказывал собравшимся слова послания от побеждающих воинов, привезенные из-за моря. Он славил силу и храбрость человеческого племени, славил его превосходство над всеми остальными творениями в мире, одновременно говоря о звериной темноте и дикости обреченных на погибель шернов… Голос его, не слишком громкий, но пронзительный, резко отдавался между колоннами храма, вызывая иногда сильно произнесенным словом звучащее где-то под куполом эхо.
Он говорил долго и в конце концов закончил гимном в честь веками ожидаемого Победителя, который прибыл с Земли, а когда исполнит свое предназначение, снова вернется на Землю. Когда он перестал говорить, наступила минутная тишина — и тогда от входа в храм неожиданно прозвучал голос:
— Неправда! Неправда! Победитель не прибыл!
Все лица повернулись в ту сторону. На широком основании колонны, прислонившись к ней спиной, стоял старик в старой одежде Братьев Ожидающих, с наголо обритой головой и пылающими глазами. Худую руку он поднимал над головами людей и, потрясая ей в воздухе, кричал, не помня себя:
— Неправда! Лжет Элем, предатель, опозоривший орден! Победитель не прибыл на Луну! Это говорю я, последний и единственный из Братьев Ожидающих! Этот победитель — фальшивый! Мертвые не встали, не встали мертвые!
Начался шум и всеобщее замешательство. Большинство со страхом слушали слова старца, как слова пророка, стоящего на пороге смерти, другие бросались к нему с ненавистью, чтобы стянуть его и выбросить за двери храма. Однако ему на помощь подоспели полудикие жители из окрестностей Перешейка. Они заслонили его мощными телами, крича:
— Правду говорит пророк Хома! Прочь Элема! Прочь фальшивого Победителя!
У дверей началась драка, и рыбаки, несмотря на отчаянное сопротивление, вынуждены были покинуть храм вместе со старым Хомой, выброшенные наружу. На площади они, однако, окружили монаха плотным кольцом, а он, поднятый на их плечи, снова начал говорить:
— Проклятие Луны лжи и лицемерию! Орден священной девицы Ады растоптан ногами, а тело ее сожжено в прах! Ограблена сокровищница и осквернена шерном, запертым в месте, где хранилось Слово! Бедствия падут на Луну из-за этих грехов! Неприятель прислал сюда фальшивого Победителя, который увел всех людей, чтобы они больше уже не ждали! Несмотря на сражения, о которых вы слышите, он не принесет избавления — придет еще худшая неволя, еще большее зло и угнетение!
Люди с ужасом слушали его, однако в ту же минуту послышался мерный звук шагов стражников, присланных первосвященником. Они, обученные Победителем, двигаясь плотным строем, в мгновение ока расчленили толпу и, отрезав Хому от его защитников, окружили его, как железным кольцом. Защитники старца собирались начать отбивать его, но он сам сделал знак, чтобы они не мешали ему принять мучения. Тогда стражники заковали его худые руки в цепи и повели к новому дворцу первосвященника.
Он сам, первосвященник Элем, уже сидел внутри, пройдя через крытую галерею, соединившую с недавних пор его дворец с храмом, и разговаривал с Севином. Его приспешник стоял перед ним с виду покорный и испуганный гневом хозяина, но его хитрые глаза часто с пониманием смотрели на разбушевавшегося первосвященника, говоря больше, чем уста.
— Почему ты не исполнил то, что я приказал? — кричал Элем. — Почему позволил Хоме прийти сюда?..
Севин низко склонил голову.
— Ваше Высочество, вы несомненно правы и всегда отдаете мудрые приказы, но в этом случае трудно было исполнить их, потому что Ваше Высочество не позволило арестовать Хому…
— Существовала тысяча способов, чтобы его задержать!
— Конечно. Это моя вина, как начальника полиции Вашего Высочества, что я не смог найти среди этой тысячи ни одного результативного… Впрочем, дальнейшее пребывание этого безумца среди рыбаков грозило серьезной опасностью. Его последователи усиливались и объединялись, на теле нашего государственного устройства мог образоваться нарыв. Поэтому мы позволили ему переходить с места на место и везде разбрасывать зерна, это лучше, нежели он ожидал бы урожая в одном месте. Теперь все зависит от воли Вашего Высочества. Мы можем вытоптать эти редкие ростки или позволить им разрастись, если Ваше Высочество признает это разумным… Хома выполнил свое предназначение, и сегодня он в наших руках. Признаюсь даже, что умышленно позволил ему сегодня дойти до храма, именно сегодня, когда в дошедших до нас сообщениях из страны шернов мы имеем опровержение словам этого безумца…
Элем задумался. С минуту он сидел неподвижно, разглаживая белыми руками длинную черную бороду, и смотрел на Севина — уже, разумеется, без гнева, даже с некоторым удивлением. Начальник полиции стоял опустив глаза, на губах у него играла едва уловимая усмешка.
— Пусть его приведут сюда, — приказал неожиданно Элем. — Я хочу поговорить с ним наедине.
Севин поклонился и вышел, и через несколько минут солдаты привели в зал старика с закованными руками. Первосвященник дал им знак, чтобы они удалились, оставив его с узником.
Хома стоял с нахмуренными бровями и высоко поднятой головой, с удовлетворением ожидая мучений, которые он предрекал себе с давних пор. Он непомерно удивился, когда увидел, что первосвященник дружески приближается к нему и совсем не угрожающим, а доверительным жестом кладет руку ему на плечо. Тень сожаления промелькнула по его морщинистому лицу — однако он сразу подумал, что, наверное, его слова тронули твердокаменное сердце первосвященника и что наступила подходящая минута, чтобы окончательно смягчить его. Он поднял окованные цепями руки и заговорил:
— Несчастья падут на Луну, каких до сих пор еще не было! Шерны опоганят всех женщин наших, потом высохнет море, а поля перестанут приносить урожай. Все будут поочередно умирать, раз не стали ждать истинного Победителя, воскресителя мертвых, а дали обаламутить себя самозванцу! Голодная пустыня выйдет из границ своих и погребет под собой страну, где жили люди, чтобы даже следа не осталось от этих грешников!
Он говорил долго, придумывая все новые и новые кары и угрозы, пока наконец замолчал, измученный, надеясь, что уже достаточно тронул сердце первосвященника. Его только удивляло, что Элем не падает на колени перед ним и не кается. Рыбаки, выслушав даже четвертую часть таких угрожающих слов, давно бы уже бились головами об землю, раскаиваясь не только в совершенных грехах, но и в тех, которые им до сих пор даже не снились.
Элем спокойно и внимательно, хотя со странной усмешкой на губах, выслушал слова пророка — казалось, что он оценивает в уме их значение и доходчивость.
— Неплохо, неплохо! — сказал он, похлопав Хому по плечу. — Я даже не думал там, в Полярной Стране, что ты такой оратор, то есть я хотел сказать: пророк!
Хоме такое поведение первосвященника показалось непристойным, однако, не желая отталкивать в самом начале тянущуюся к нему душу, он не ответил ни слова, взвешивая в уме, каким путем вести дальше дело обращения.
Тем временем Элем уселся и приказал ему приблизиться. Пророк невольно, благодаря усвоенной в течение многих лет покорности по отношению к главе ордена, подошел к нему и уже готов был отдать ему поклон, как вдруг вспомнил о своем изменившемся в настоящее время положении. Однако у него не было времени на дальнейшие размышления, так как первосвященник неожиданно спросил его:
— Скажи мне, какие у тебя основания говорить, что прибывший с Земли Победитель не является истинным Победителем? Только не пророчествуй, а отвечай ясно и по порядку.
Хома вытянул руки, насколько ему позволяли кандалы, и начал считать на пальцах:
— Прежде всего, не встали мертвые, чтобы приветствовать его, как написано. Во-вторых, не наступил вечный день, и ночь по-прежнему опускается, вопреки предсказаниям древних пророков. В-третьих, не расступилось Море, чтобы открыть ему дорогу в страну шернов. В-четвертых, он побеждает шернов не сам, а приказывает сражаться с ними людям. В-пятых… не встали мертвые…
— Это уже было! — воскликнул Элем. — Придумай что-нибудь новое!
Хома рассердился, и снова его охватило желание пророчествовать, тем более, что это было легче, чем кропотливо считать. Однако теперь первосвященник уже не слушал его так терпеливо, как раньше. Он достаточно грубо прервал поток его слов и вызвал стражников, чтобы они отвели его в тюрьму.
— И придумай что-нибудь получше на всякий случай! — громко крикнул он ему вслед.
После этого солдаты вывели пророка из дворца, он стал сопротивляться, не потому, что хотел остаться здесь дольше, а из принципа, предчувствуя, что его мученичество уже начинается. Он снова был почти горд, когда его поместили в сухую и светлую камеру и предоставили все удобства, которые требовались при его здоровье и возрасте. Оглядевшись в своем новом месте жительства, он удивленно покачал головой и робко спросил стражника через окошко в двери: когда его будут забивать камнями? Стражник громко рассмеялся и посоветовал ему, чтобы он съел кусочек хлеба, который лежит на столе, потому что, наверное, голоден. Хома по привычке стал обращать его, уговаривая отречься от фальшивого Победителя, но стражник хотел спать и не особенно прислушивался к его словам. Вскоре он зевнул и заснул в тот момент, когда старик был только на середине своей проповеди о неизбежном и страшном конце лунных жителей.
Тем временем перед дворцом на площади стоял Севин и разговаривал с людьми, по удивительной логике толпы, возмущенными как выступлением Хомы, так и его пленением…
Приспешника первосвященника приветствовали криком и градом оскорблений, однако он пресекал эти вспышки спокойно, с застывшей на худом лице улыбкой, и когда наступила тишина, он немедленно воспользовался ею и закричал:
— Его Высочество первосвященник Элем прислал меня, чтобы узнать о вашей воле относительно судьбы арестованного старика!..
Эти слова произвели удивительное впечатление. Народ привык обычно узнавать о воле первосвященника и тогда уже больше не колебался относительно того, что должен делать: если был в хорошем настроении, слушал, если в плохом — отвечал громко и крикливо. Вопрос Севина привел толпу в полное замешательство. Сегодня все хотели поступить наперекор Элему, но было неизвестно, каковы его намерения.
Крики прекратились, вместо этого начались раздоры в маленьких группах, на которые разделилась толпа. Севин и это спокойно пресекал и наконец сказал, несмотря на то, что толпа еще не объявила своей воли:
— Его высочество будет рад, что его воля в точности совпадает с вашей. А он постановил именно то, чего вы требуете: допросить Хому, который сейчас удобно размещен во Дворце, а потом отдать его вам, чтобы вы сами свершили над ним свой суд…
Толпа разошлась, восхваляя Элема.
Под конец этого долгого дня Ихезаль снова навестила Малахуду. Когда она рассказала ему обо всем, что произошло, старик мрачно задумался.
— Я не должен был допускать, — сказал он через некоторое время, — чтобы Элем взял колпак первосвященника. Произошла ошибка.
Но на замечание девушки, что все еще можно исправить, что достаточно ему показаться толпе, чтобы его снова приветствовали как господина, он протестующе покачал головой.
— Я уже говорил тебе один раз и теперь повторяю: слишком поздно! Появившись сейчас, я только еще больше осложнил бы положение. Я должен ждать здесь — в укрытии.
Ихезаль не настаивала. Вообще, в этот день она была странной: глаза ее смотрели на мир как бы из-за какой-то дымки, губы побледнели и дрожали…
Когда перед наступающим вечером она возвращалась через холодное море, повернувшись лицом к золотому, заходящему солнцу, щеки ее горели нездоровым румянцем, откуда-то изнутри просвечивающим через белую кожу, а черные глаза, обведенные темными кругами, казались еще глубже, чем обычно.
Пристав к берегу, она услышала гул толпы, все еще находящейся на площади и перед домами: клятвы, призывы, песни, ругань, все то, что наполняло сегодняшний день, — и губы ее сжались в гримасе непреодолимого отвращения. Она закрыла глаза, стараясь вызвать перед собой образ Победителя, но вопреки ее воле под опущенными веками замаячила только крытая черная тень шерна Авия, уставившегося на нее четырьмя глазами, пылающими кровавым огнем.
V
Все произошло именно так, как предсказывал шерн Авий.
Равнинную страну, расположенную между берегом Великого Моря и горами, поднимающимися поблизости от южного полюса, Победитель завоевал полностью. Он уничтожил около тридцати городов и перебил шернов, так что на этой территории их совсем не осталось. Долгих четырнадцать лунных дней прошло с той минуты, когда воины высадились на таинственном берегу, и до сих пор воинское счастье шло за ними вслед. Но на четырнадцатый день, через год с лишним (если считать по земным меркам), год трудов и постоянных сражений, они очутились вдали от моря, в стране горной и недоступной.
Солнце здесь стояло днем довольно низко, описывая на небе пологий полукруг, и ночью долго светилась вечерняя заря, свидетельствующая о том, что дневное светило спряталось неглубоко за линией горизонта. Дни были менее жаркие, а ночью мороз докучал не так сильно.
Огромные кольца гор возвышались перед ними, как крепости. Над непроходимым поясом лесов и зарослей, покрывающих подножия, блестели на солнце крутые зеленые луга, покрытые глубокими расселинами… А выше был уже один сплошной камень, изорванный острыми скалами и накрытый сверху сверкающей ледяной короной…
Рядом с этими гигантскими кольцами возвышались покрытые лесом холмы, низкие и широкие.
На узких, зеленых долинах между горами нельзя было найти ни одной живой души. Тут и там встречались только брошенные жилища, преднамеренно разрушенные. Однако развалины эти выглядели довольно неказисто, видимо, это были только пастушеские шалаши, поспешно и без сожаления уничтоженные при отступлении перед неприятелем.
Но куда спрятались шерны? Марек невольно посмотрел на эти мощные природные каменные твердыни, которыми страна шернов была покрыта к югу, насколько мог охватить глаз. Горы тянулись за горами, гигантские укрепления, грозные и неприступные. И Победитель понял, что здесь его триумфальный поход должен закончиться, что с этой минуты единственная его задача — до такой степени не давать покоя шернам в их недоступных чертогах, чтобы они сами наконец потребовали мира…
Он нахмурился и уселся на камне, глядя на удивительную страну перед собой… Мир с шернами! Мир с шернами! Он знал, что это равносильно поражению, потому что не принесет никакой выгоды, и ничего людям не гарантирует… Когда он улетит отсюда, шерны снова войдут в силу, и вновь начнут беспокоить людей, не заботясь об обещаниях, которые он сумеет с них получить. Какое-то время их будет сдерживать память о страшном поражении на равнинах и угроза имени Победителя, но потом? Потом? Не захотят ли они жестоко отомстить за неожиданное нападение?
Дав людям огнестрельное оружие, Марек оставил себе тайну производства взрывчатого вещества — при этом он собирался, возвращаясь на Землю, после полного истребления шернов забрать с собой и оружие, чтобы лишить людей возможности использовать это в братоубийственных войнах…
Но теперь он видит, что полностью истребить шернов не удастся. Что же тогда? Нужно будет дать людям на будущее достаточно средств для борьбы, нужно будет научить их изготовлять взрывчатые вещества и, улетев отсюда, постоянно думать, какие гибельные результаты могут эти знания принести людям серебряной планеты…
Он беспокойно оглянулся назад, на пройденные обширные равнины, тянущиеся отсюда к далекому морю, над которым плыло солнце, низко склонившееся над горизонтом. Оставить эту покоренную страну — значило бы дать возможность шернам снова занять ее, восстановить свои силы на этих плодородных нивах, которые, видимо, были их житницей… Тогда весь поход был предпринят напрасно, и лучше было бы его не начинать… А если привести сюда людей из-за моря? Разделить между ними эти поля? Помочь им выстроить дома и поселения?
И все-таки когда он, Победитель, уйдет отсюда, они окажутся первыми жертвами мстительных шернов! На многие века, быть может, навсегда, эти люди были бы обречены на военную жизнь, с руками, сросшимися с оружием, с бдительными глазами, постоянно вынужденными следить, не направляется ли на них вражеское войско со стороны недоступных гор. И кто знает, смогут ли они обосноваться здесь, отделенные морем от своих собратьев, предоставленные собственным силам в непосредственной близости от шернов? Кто знает, не станут ли со временем мужчины, поселившиеся здесь, невольниками шернов? Не вынуждены ли будут их женщины рожать морцев для нового угнетения рода человеческого? Люди, живущие в старых городах за морем, вместо того, чтобы помогать своим братьям, не станут ли со временем брезговать ими, как существами нечистыми, враждебно относясь к тем, которые должны будут стать преградой, отделяющей род человеческий от шернов.
И это было бы Благословением, которое ожидаемый Победитель принес лунным жителям? И это был бы подвиг, за который будущие поколения стали бы восхвалять его имя?!
Марек вскочил и посмотрел на возвышающиеся перед ним горы. Нет! Здесь остановиться нельзя! Начав игру, нужно довести ее до конца: либо победить окончательно, либо пасть в борьбе — другого выхода нет!
Он вызвал Ерета и Нузара. Когда они пришли, чтобы выслушать его распоряжения, он прежде всего обратился с вопросом к морцу:
— Где находятся шерны?
Нузар поднял на него удивленные глаза, не зная, спрашивает Победитель потому, что действительно хочет получить ответ, или потому, что хочет еще раз испытать его.
Помедлив, он показал рукой в сторону гор.
— Там…
— Чтобы туда попасть, нужно иметь крылья, как у них, шернов. Скалы неприступны.
Победитель задумался. Тогда морец, убедившись, что отвернувшийся Ерет их не слушает, встал на камень и шепнул Мареку:
— Может быть, сейчас уже время… изменить, господин? Шерны уже спрятались: мы могли бы теперь начать охоту на людей.
Марек, даже не отвечая, отослал его движением руки. А потом посмотрел на Ерета.
— Ну что?
Ерет неуверенно пожал плечами.
— Нужно иметь крылья…
Говоря это, он смотрел в лицо Мареку. А тот все молчал, только брови медленно стянулись у него перед глазами. Потом наконец он решительно заявил:
— Значит, у нас будут крылья. Наша воля станет нашими крыльями.
Лицо Ерета прояснилось. Быстрым движением он склонился к ногам Марека.
— Ты в самом деле для нашего блага прислан в этот мир, Победитель!
Вскоре только что разбитые палатки уже складывались и велась подготовка к дальнейшему походу. Марек понимал, что прежде всего он должен продемонстрировать шернам свою силу, напав на них и разгромив их там, где они чувствовали себя в полной безопасности. В этих кольцевых горах, без сомнения, находились их тайные города, но которую из этих скалистых преград необходимо было преодолевать? Или шерны жили везде? А если после неслыханного труда, преодолев с воинами эту преграду, они увидят перед собой только пустую котловину?
Расспрошенные морцы, которых некогда подобрал Нузар, не могли дать определенного ответа. Они были не из этих мест, поэтому давали противоречивые и путаные показания… Умозаключения тоже ни к чему не привели. Если бы шерны в этой стране издавна подвергались нападениям, они выстроили бы свои города в центре самых недоступных гор, но если здесь всегда царил мир и не было необходимости укрываться от врагов, что могло вынудить их выбирать труднодоступные места? Почему бы им не поселиться на этих пологих, покрытых лесом холмах? С другой стороны, однако, они могли теперь, оставив старые поселения, укрыться от нападения в горах, дающих им надежное и безопасное укрытие.
Во всяком случае Марек почувствовал, что перед ним проблема, которую одними размышлениями разрешить не удастся. Нужно будет пробовать, искать, узнавать. С этой невеселой мыслью он отправился в сторону южного полюса, предоставив пока дальнейший выбор пути случайности.
В течение дня им удалось обойти обширное, покрытое лесом подножие одного из горных колец, и перед заходом солнца они остановились в том месте, где этот вал прерывался, как бы открывая широкие ворота для удобного пути внутрь. Это была гигантская котловина, несколько заглубленная по отношению к окружающей ее почве, на ней изредка рассыпанные холмики, не соединяющиеся друг с другом, и несколько тихих и лишенных жизни прудов.
Долгая, хотя и не слишком морозная ночь была проведена у этого входа, в постоянном ожидании нападения шернов. Но они не появились. Поэтому с первым светом дня, едва серый контур гор обрисовался на звездном небе, Победитель повел свое войско внутрь котловины.
Они прошли ее вдоль и поперек, исследуя каждый бугорок. Однако были найдены только брошенные поселения, как и там, в завоеванной стране, поля, недавно обработанные, и следы поспешного бегства… Шерна они не встретили ни одного…
Не подлежало сомнению, что обитатели здешних мест затаились поблизости и готовятся к обороне. Взгляд Марека невольно обратился на гигантское, скалистое кольцо, возвышающееся напротив этих ворот по направлению к югу. Несколько десятков километров отделяли хилый отряд завоевателей от этой непоколебимой твердыни, которая сверкала перед ними в ярком свете утреннего солнца.
Победитель поднял руку и показал Ерету на возвышающуюся до самого неба вершину.
— Я поведу вас туда.
Юноша склонил голову в знак послушания.
— Мы пойдем за тобой куда угодно, — сказал он.
И началось трудное восхождение. С северной стороны стены, возвышающиеся над лесом, показались Мареку такими неприступными, что он решил, несмотря на потерю во времени, обойти кольцо в поисках такого места, по которому легче было бы попасть внутрь. Но чем дальше они продвигались, тем выше вздымались скалы, и у Марека создавалось впечатление, что он вместе со своими людьми идет вокруг неприступной крепости. При этом они опасались засады и не смели забираться в чащу лесов, чтобы вблизи поискать возможного для перехода места.
На Земле уже заканчивалась вторая неделя с тех пор, как они начали кружить вокруг гигантского «кратера», и приближался лунный полдень, когда они подошли к склону, свободному от леса и, как показалось, менее отвесному. Туда и направил Победитель своих воинов.
Они поднялись на некоторую высоту — по лугам, вначале поросшим густой зеленью, а потом более скупым на растительность, где часто встречались каменные лысины, выступающие на поверхности. Потом им пришлось пробираться через огромные площадки, усыпанные кусками горной породы, перепрыгивать с камня на камень в постоянном, изнурительном напряжении… Стекающие с вершины горы, покрытой снегом, потоки воды бесследно исчезали здесь среди камней, так что жажда постоянно мучила поднимающихся вверх людей. Некоторые уже почти падали от усталости, но ни один не посмел потребовать отдыха: все глаза смотрели только на Победителя, идущего во главе отряда — пока он шел, никто не хотел останавливаться.
Марек распорядился устраивать частые остановки, но отдых продолжался недолго, он хотел как можно быстрее подняться над осыпями, туда, где они могли найти стекающую по скалам воду. Но площадки, засыпанные горной породой, казалось, продолжались бесконечно… После нагромождений из огромных, как дома, камней, между которыми были такие большие расщелины, что только благодаря небольшой силе притяжения на Луне, воины могли их перепрыгивать, пришла очередь осыпей тяжелых и движущихся, они при каждом шаге уплывали из-под ног, таща людей за собой. Тогда люди сместились в сторону возвышающейся каменной гряды.
Она была потрескавшаяся и ненадежная благодаря множеству неустойчивых камней, втиснутых в расщелины. Ноги тут уже не помогали, нужно было спасаться при помощи рук.
В какой-то момент идущим впереди показалось, что они видят шернов, но вскоре оказалось, что это была иллюзия. Какой-то горный зверь промелькнул между камнями и исчез… У изнуренных жаждой и тяжелым путем людей начались видения. Силы были на исходе.
В одном месте, где нужно было перебраться на другую сторону гряды, чтобы миновать гладкие утесы, один из воинов закачался и рухнул в пропасть. Идущие следом за ним остановились, у некоторых задрожали ноги, а пальцы рук так судорожно вцепились в камни, что утратили всякую чувствительность. Люди начали оглядываться назад и садиться, если место позволяло это сделать. Наступила минута подавленности, кто-то застонал, с другой стороны ему ответил судорожный вдох… Послышался шум еще одного падающего тела. На этот раз какой-то воин сам прыгнул в пропасть: головой вниз, с раскинутыми руками…
Еще минута…
Затем впереди, в группе наиболее смелых и ловких воинов, которые не заметили падения двух своих товарищей, усиленно взбираясь вверх, послышался спасительный крик:
— Вода! Вода!
Обо всем было забыто — воины в безумной спешке кинулись вперед. Люди, минуту назад совершенно обессилевшие, с невероятной ловкостью поднимались по зубчатой и отвесной грани — даже у ослабевших откуда-то появились новые силы.
Гряда заканчивалась здесь плоско, примыкая к широкой и обширной площадке, большей частью поросшей травой и разрезанной глубокой расщелиной, на дне которой бежал поток воды, исчезавший ниже в осыпях.
Марек смотрел, как люди толпятся, зачерпывая воду руками, ртом, шапками и жестянками — в общем, кто как может… Нападение шернов в этот момент могло быть просто губительным, но, к счастью, ни одной живой души вокруг не было… Несмотря на это, Победитель понял, что так он не может дальше двигаться, если не хочет потерять этих людей и самого себя. Теперь, когда была утолена первая жажда, он приказал воинам отдыхать, а сам, отобрав себе несколько самых смелых воинов и прихватив Нузара, отправился в горы, чтобы найти подходящий переход на гребень — а кроме этого, поднявшись, убедиться, стоит ли вести туда воинов, то есть есть ли внутри кольца поселение шернов…
Ерет тоже хотел идти с ним, но он приказал ему остаться с войском и позаботиться о том, чтобы внезапное нападение не застало их врасплох.
Восхождение в горы было невероятно сложным. Марек не переставал думать о том, что ему нужно будет преодолеть этот путь со всей громадой вооруженных и навьюченных людей, поэтому он выбирал самые легкие переходы, что требовало значительного времени… Проходили долгие, часы; солнце, укрывавшееся за острым выступом скалы, склонилось к западу и, выглянув с левой стороны, начало обжигать лица идущих золотыми лучами… Трудность перехода увеличивалась с каждым шагом. Они были вынуждены перебираться на узкие площадки посредине утесов, нависающих над пропастями, подниматься в гору по расщелинам, усыпанным камнями, которые значительно затрудняли восхождение… Они оставляли на пройденном пути метки в виде маленьких холмиков из камней на видных местах.
Они все еще не дошли до линии вечных снегов. Характер пути вынуждал их продвигаться на восток, с небольшим подъемом в гору, поэтому они кружили под их границей, преодолевая засыпанные снегом расщелины, которые, однако, были слишком узкими и слишком круто подымались в гору, чтобы служить дорогой наверх.
Наконец им попалась расщелина не шире, чем предыдущие, но значительно менее крутая и поднимающаяся вверх прямо до широкой снежной пелерины. Кроме того, Марек заметил на снегу какие-то следы. Это было что-то вроде отпечатков пальчатых ног шернов и борозд, видимо, образованных тяжелыми, втягиваемыми наверх предметами.
Теперь Победитель не сомневался, что он на правильном пути и что внутри горного кольца встретит шернов.
Не было уже необходимости продолжать путь одним и тратить на это время. Оставив при себе только Нузара, он отослал остальных обратно, чтобы они привели сюда весь отряд уже знакомым им путем.
Наступили долгие часы ожидания, еще более мучительные, нежели подъем в гору. Нузар свернулся в клубок под каким-то камнем, подобно зверю, и спал прямо на снегу; Победителя же в одиночестве начали мучить разные мысли и опасения. Он уже жалел, что не пошел за воинами сам: посланные могли не заметить меток, расставленных достаточно редко, и не попасть в нужное место… Он также боялся, что без его помощи и поддержки люди не смогут преодолеть трудности перехода, что при каком-либо неожиданном несчастном случае снова возникнет паника, что людей охватит страшная горная болезнь при виде неприступных скал и зияющих повсюду пропастей.
Наконец он подумал и об опасности, грозящей со стороны шернов, о которых во время тяжелого восхождения он постоянно забывал. Ведь в любую минуту они могли выскочить из засады и уничтожить их маленькую группу, попросту сбросив на них с горы камни.
Он чувствовал, что при этой мысли дыхание у него перехватывает. Только теперь он понял, насколько легкомысленным и безумным был его поступок, когда с горсткой преданных ему и верящих ему людей он отправился к вершине.
Он посмотрел на спящего Нузара и поколебался, не, разбудить ли его… Но вскоре отказался от этого намерения, которое ему самому показалось смешным и ненужным. Чем мог ему быть полезен этот морец с почти животным разумом?
Однако его охватывало все большее беспокойство, не позволяя сидеть на месте. Он встал и отправился обратным путем на гряду, ограничивающую расщелину с запада. Когда он вышел из тени и остановился, солнце залило его своим горячим светом. Он сощурился от его блеска и начал внимательно оглядываться вокруг, пользуясь биноклем. Он осматривал каждый камень, каждую расщелину и впадину, каждый изгиб, но ничего кроме камней не заметил.
Видимо, шерны, не сомневаясь в неприступности скал, даже не подумали о необходимости устроить засаду… Вероятнее всего, они не верили, что Победитель отважится на этот безумный поход и тем более найдет эту, может быть, единственную доступную людям дорогу на вершину.
Он вздохнул свободней. По крайней мере, с этой стороны опасность им пока не угрожала.
Он уже собирался спускаться вниз, чтобы пойти навстречу своему отряду, но его охватила непреодолимая лень. Он растянулся на скале, залитой солнечным светом, намереваясь немного отдохнуть, но едва положил голову на сложенные руки, как его мгновенно сморил сладкий и глубокий сон…
Через какое-то время его разбудило легкое прикосновение. Он с трудом открыл сонные глаза. Нузар сидел около него и показывал рукой вниз.
— Они идут, господин.
Марек вскочил на ноги.
— Шерны?
— Нет. Твои люди идут, Победитель.
Однако напрасно Марек смотрел в указанном направлении. Острые глаза морца заметили то, чего он не мог увидеть даже через бинокль. Он уже думал, что Нузар ошибся, когда до него наконец долетел едва слышный шум голосов. Они, видимо, заметили снизу его, стоящего на высоком гребне на фоне белого снега. Послышались приветственные возгласы. Наконец он тоже заметил маленькие, двигающиеся фигурки среди камней. Это действительно были его люди.
Через несколько часов они вместе двинулись в гору. Самые сильные шли впереди, по очереди прорубая широкие ступени в снегу, на которые вступали идущие за ними; так они медленно продвигались по расщелине, местами более крутой, чем казалось снизу. Более слабых и склонных к горной болезни привязали к длинным линям, обезопасив их таким образом от падения. Кроме того, Марек строго запретил воинам смотреть по сторонам. Они шли вперед молча, боясь криком или песней раньше времени предупредить шернов о своем приближении.
Не раз идущим впереди казалось, что только несколько десятков шагов отделяют их от желанной цели, что еще немного усилий, и она будет достигнута — и они поспешно рубили еще более твердый снег, — но вскоре становилось ясно, что надежда оказалась напрасной: вершина, которую они считали самой высокой, была только ступенью, за которой возвышалась новая сверкающая плоскость, тянущаяся наверх… Усталые руки отказывались им служить, а в ослепших глазах снег временами казался черным и начинал колыхаться, как море… Тогда Марек сам встал впереди и, громко повторяя приказ: «Не смотреть вниз! Не смотреть вниз!» — повел падающих от усталости, загипнотизированных его волей людей все выше и выше.
Расщелина, собственно, уже закончилась, превратившись в обширное, поднимающееся вверх, несколько вогнутое снежное поле. Рубить ступени на отлогой поверхности было уже излишне, поэтому цепочка идущих рассыпалась, превратившись в широкий полукруг. Каждый находил себе дорогу сам, как мог и умел.
И вдруг, произошла удивительная вещь. Перед глазами воинов, идущих впереди, внезапно, когда они меньше всего ожидали этого, открылся вид внутрь гигантского горного кольца, в то время как идущие за ним даже не подозревали, что их товарищи уже достигли высшей точки… Они подходили маленькими группами и сами, в свою очередь, останавливались от удивления при этой картине, необычной даже для лунных жителей.
С огромной высоты они смотрели на огромную круглую долину, окруженную со всех сторон мощным горным валом с ледяными вершинами. Долина была покрыта густой зеленью, с которой контрастировали темные пятна многочисленных озер. Небольшие возвышенности, похожие на зеленые камни, изредка были рассыпаны на дне котловины, поднимающейся пологими террасами к лесистым склонам гор. На этих террасах и на возвышенностях, а также у берегов некоторых озер белели небольшие поселения, окруженные садами. А посередине находился тупо стесанный конус высотой примерно до середины окружающего долину горного кольца, поднявший на своей вершине большой и укрепленный город, ощетинившийся сотней башен и стрельчатых строений.
Тень от юго-западного хребта уже покрыла большую часть долины, укрывая сапфировым светом погасшие озера и подножие конуса, медленно поднимаясь к воротам города, который, золотой и пурпурный, сиял в лучах склонившегося к горизонту солнца…
Марек долго стоял и молча смотрел на этот красивый и тихий край, который он, еще до захода солнца, должен будет превратить в арену битвы, возможно, самой кровавой из тех, какие до сих пор были на Луне, пока его не пробудили от задумчивости голоса воинов, отрывистые и пронизанные каким-то священным испугом.
Он обернулся. Его люди стояли, отвернувшись от таинственной страны шернов, и с удивлением показывали друг другу что-то необычное на далеком южном горизонте. Над страной, как море волнами, покрытой идущими куда-то в бесконечность горами, в острую пилу самых дальних вершин вгрызалось какое-то неприметное, белесое облако, полукруглое сверху и удивительно не похожее на все остальное…
Марек долго не мог понять, что значит это странное явление, но потом губы у него задрожали… Да! Ведь они же находятся здесь вблизи от южного полюса и на такой высоте! Да, да! Этот небольшой кусочек, этот узкий белый серп, выщербленный внизу зубастым от гор горизонтом!..
— Земля! Земля! — уже громко повторялось среди воинов.
Некоторые падали ниц, другие поднимали руки кверху и стояли так, полные восторга, не в состоянии понять, как звезда с другого конца лунной планеты тут вдруг появилась перед их глазами!
— Земля идет за Победителем! — шепнул кто-то побелевшими губами.
— Земля пришла посмотреть на последний разгром шернов!
Ерет широко раскинул руки:
— Земля — везде! — крикнул он. — Глаза человеческие видят ее на одном месте и неподвижной, но она огибает диск Луны и стережет границы Великой Пустыни!
— Земля — везде! — хором закричали остальные.
И снова люди стали падать ниц перед Победителем, прославляя его, посланца священной Земли.
А он стоял неподвижно, забыв в эту минуту о шернах и о склонившихся к его ногам людях, и смотрел на свою отчизну — в первый раз повлажневшими глазами…
VI
В низкой и тесной комнатке стоял неописуемый гвалт. Ждали магистра Роду, который сегодня чрезмерно опаздывал, и старались сократить время ожидания горячими диспутами, переходящими каждую минуту в яростные споры. Молодые люди, возбужденные, с горящими глазами подскакивали друг к другу, крича и взмахивая руками, насколько это позволяли толчея и размер помещения.
Какой-то юноша с горящими глазами и всклокоченными волосами страстно доказывал:
— Поступки, которые так называемый Победитель совершает, не входят в расчет! Какое это может иметь значение против всей суммы вреда, причиненного нам людьми, живущими в Великой Пустыне… Мы должны туда попасть, жить там!
На краю стола сидел еще не старый, но уже почти совершенно лысый человек с лицом, лишенным всякой растительности, и с улыбкой, будто приклеившейся к его губам. Выпуклые рыбьи глаза он повернул к говорящему и сказал, слегка покачивая верхней половиной тела:
— А я повторяю: там уже нет места для нас…
— Должно быть! — запальчиво крикнул тот.
Лысый человек говорил спокойным и монотонным голосом:
— Там нет места для нас. Пещеры, в которых они ведут пусть даже райский образ жизни, несомненно слишком тесные для большого количества народа…
— Значит, пусть уступят нам место! Пусть они идут сюда, сражаться с шернами!
— Да, да! — послышались крики со всех сторон.
Лысый человек усмехнулся.
— Но как их заставить сделать это? Что? Не знаете?
Какой-то энтузиаст с худым, почерневшим лицом подскочил к нему с кулаками:
— Матарет! Замолчи! Ты подкуплен…
Шум еще больше усилился. Комната гудела, как внутренность улья, когда там находится рой; в воздухе кружились крики, доводы, восклицания. Минутами, когда шум на минуту затихал, слышались размеренные, упорно повторяемые слова Матарета.
— А я вам говорю, что места там уже нет..
Остальная часть предложения тут же исчезла во вновь поднимающемся гвалте.
В какой-то момент стоящий около двери закричал:
— Рода идет!
Все сразу повернулись, чтобы приветствовать магистра.
Когда он наконец вошел, а скорее вбежал, то сразу же бросился на ближайшее кресло. Он был без шапки, блуза на нем была разорвана; всклокоченные волосы и многочисленные синяки на лице и открытой груди свидетельствовали о происшедшей схватке.
— Что случилось, Учитель? — закричали ему со всех сторон.
Рода сделал знак, чтобы все замолчали. Он сидел, бессильно опустив голову на ручку кресла и тяжело дышал. Глаза у него были закрыты, а за приоткрытыми окровавленными губами была видна дырка, оставшаяся от двух выбитых передних зубов.
Один Матарет не тронулся с мета. Он все так же сидел на столе и со своей обычной усмешкой смотрел из-под полуприкрытых век на магистра.
— Разве я тебя не предупреждал? — сказал он через минуту. — Наверное, снова читал людям проповедь!
Рода вскочил. Глаза у него заблестели. Он поднял вверх кулак, торчащий из порванного рукава, и, грозно потрясая им, начал кричать опухшим от ударов ртом:
— Негодные! Негодные рабы! Подлая темная толпа! Быдло!
— Это правда, — спокойно засвидетельствовал Матарет, — но об этом ты должен был знать уже давно…
Рода бросил на него гневный взгляд.
— Да! Тебя ничего не касается! Ты, видимо, ничему не веришь в самом деле! Тебе бы только сидеть на столе и усмехаться, что тебе за дело до того, что жрецы баламутят народ? Что так называемый Победитель использует его для своих целей, что единственная минута, когда можно спастись, уйдет невозвратно и не будет использована! Разве тебя беспокоит, что люди живут в недопустимой и плачевной слепоте, не понимая собственной выгоды, что они постоянно обращают свои взгляды на бесплодную Землю, не желая искать принадлежащего им рая там, где он есть, тут — на Луне! Тебе это безразлично, но я, я хочу…
— Собрать все синяки! — закончил Матарет.
— Хотя бы! Во всяком случае, я уверен…
Снова начался такой крик, что в нем совершенно потерялись слова магистра. Некоторые кричали, что виноваты во всем первосвященник Элем и его приспешники, они настраивают народ против апостолов и правды — и нужно бороться против первосвященника; другие, более мудрые, говорили о невозможности выступления против власти, по крайней мере, сегодня, пока, преждевременно…
— Народ относится к нам враждебно, — говорили они, — мы не переубедим его и не перетянем массы на нашу сторону! Всякие наши попытки оказались напрасными! Нам надо действовать самостоятельно!
Через некоторое время с этим согласились все, но никто не мог ясно определить: в чем должны были заключаться эти самостоятельные действия.
Матарета, который выступил с предложением оставить всех в покое, так как народ, видимо, хочет остаться таким глупым и несчастным, немедленно обругали и чуть не побили камнями. Счастье еще, что в их пустом доме не было предметов, которые могли послужить для этого традиционного и немедленного восстановления так называемой справедливости.
Наконец слово взял магистр Рода. Все немного успокоились, и он начал пространно говорить, повторяя в сотый раз то, о чем все собравшиеся знали и во что непоколебимо верили. Итак, он говорил о необитаемой Земле и вечном пребывании людей тут, на Луне, о сказках жрецов, и о рае, который, несомненно, находится на той, якобы пустой стороне Луны.
Его слушали с надлежащим уважением, но не слишком внимательно, так как каждый из присутствующих знал эти вещи наизусть. Все оживились только тогда, когда он начал перечислять ущерб, который они, объединенные в Братство Правды, понесли от общества и властей. Их высмеивали и преследовали на каждом шагу. Собираться они могли только тайно, из страха перед палачами первосвященника.
— Однако, — продолжал Рода, — нам нельзя забросить свои обязанности! Сейчас на этой стороне Луны развлекается человек, прибывший из таинственных недр Великой Пустыни — и мы должны воспользоваться единственной возможностью открыть дорогу к отобранной у нас счастливой отчизне! Мы использовали все средства, чтобы пробудить народ и открыть ему глаза на истинные цели так называемого Победителя. Если бы нам это удалось, игра была бы закончена! Победитель после возвращения из страны шернов, где, говорят, благодаря крови наших людей одерживает необыкновенные победы, был бы схвачен и так или иначе вынужден открыть свою тайну. Вы же все знаете, что все наши попытки самим узнать обо всем кончились ничем из-за глупости людей, которые скорее готовы верить старой и наивной сказке о земном происхождении человека, чем наиочевиднейшей и плодотворнейшей истине! Теперь нам остается только один путь, которым Братство Правды должно идти самостоятельно, и без чьей-либо помощи достичь желаемой цели!
Он замолчал, а ученики и последователи столпились вокруг него и начали просить, чтобы он наконец открыл свои планы, что он уже давно намеревался сделать. Даже Матарет перестал усмехаться и слегка наклонился в сторону говорящего, чтобы лучше его слышать.
Рода раскинул руки, положил их на плечи двоих ближайших товарищей, его лицо, покалеченное и посиневшее, осветилось какой-то злой усмешкой.
— Мы должны завладеть машиной, — сказал он, — которая находится в Полярной Стране…
— Машиной Победителя! — раздались возгласы.
— Да. Победитель может убивать шернов и совращать народ, если ему это нравится, но без нашего разрешения отсюда не улетит!
Матарет недовольно скривился и махнул рукой.
— Глупости! Если он захочет отобрать у нас машину силой, мы не сможем оказать достаточного сопротивления!..
Рода засмеялся и оживленно зашептал что-то приглушенным голосом. Он рассказывал о своем плане обстоятельно и подробно. По мере того как он говорил, даже самые недоверчивые начали кивать головой, соглашаясь с его словами. Когда он закончил, собравшиеся издали восторженный крик.
Молодежь повскакивала с мест, как будто хотела уже сейчас бежать в Полярную Страну, охваченная восторгом и предвкушением победы. Тут и там громко обсуждались фантастические планы захвата и раздела таинственной страны «на той стороне» — в глазах энтузиастов вся безвоздушная пустыня вдруг приобрела вид какого-то чудесного рая, стала средоточием великолепных пещер, заключающих в себе города, луга, моря цветов, искусственных солнц и всевозможных богатств! Говорилось о светлых ночах, когда можно любоваться Землей сквозь трещины и глубокие ущелья, и о роскошных днях, когда жара смягчается во влажной тени каменных сводов.
Кто-то снял со стены карту Луны, срисованную с драгоценных кусочков карт, принадлежащих Старому Человеку, и бросил ее на стол. Головы склонились над ней, пальцы следовали по обширным равнинам Луны, которые освещаются по ночам светом Земли, указывая там трещины, расщелины, горы, возникали ссоры относительно расположения самых больших городов и способов сообщения между ними…
Матарет, недовольный тем, что его согнали со стола, отошел в угол комнаты и уселся на стопке книг, лежащих в пыли. К нему подошел Рода.
— Как тебе понравился мой план? — спросил он как бы невзначай, не желая показать, что его интересует мнение этого чудака.
Матарет, вопреки обыкновению, перестал усмехаться. Он только поднял брови и слегка пожал плечами:
— Машина, наверное, охраняется, — сказал он.
— Охрана немногочисленна, думаю, что мы легко с ней справимся…
— Да…
Он положил руки на колени и замолчал, погрузившись в мысли.
Потом поднял голову:
— Рода, когда мы отправляемся в Полярную Страну?
— Ты хочешь пойти вместе со мной?
— Естественно. Это будет любопытно…
— Я предпочел бы оставить тебя во главе Братства Правды… Ведь мы не можем уйти все. Это возбудило бы подозрения.
— Я пойду! — решительно заявил Матарет и повторил свой вопрос: — Когда мы отправляемся?
Рода посмотрел на календарные часы, висевшие в противоположном углу комнаты:
— Сейчас около полудня, лучше путешествие отложить до утра — у нас впереди будет целый день…
— А если тем временем Победитель вернется?
— Не думаю. А впрочем, это даже лучше для нас. В суматохе, которая, несомненно, наступит после его возвращения, мы можем незаметно исчезнуть…
Матарет покачал головой.
— Всякое может случиться. Может, наш Победитель вернется сюда, убегая от настигающих его шернов, тогда он, наверное, кинется в Полярную Страну, чтобы как можно быстрее оказаться в своей машине…
— Ты правда думаешь, что шерны могли бы победить? — обеспокоенно спросил Рода.
— Нет, я ничего такого не думаю, но лучше нам отправиться еще сегодня.
— В конце концов, мы можем сделать и так…
Он помолчал, потом громко рассмеялся.
— О! Это было бы здорово! Он захочет сбежать от нас и убедится, что сделать этого не сможет, потому что часть его машины отвинчена и спрятана! О, это будет отлично! Тогда он вынужден будет вступить с нами в переговоры, а мы будем диктовать ему наши условия…
Матарет, погруженный в свои мысли, казалось, не слышит слов магистра. Неожиданно он прервал его:
— Но ты совершенно уверен, что он прибыл… не с Земли?
Рода возмутился.
— Неужели ты еще сомневаешься? Почему же тогда ты не идешь смешаться с толпой, которая вечно таращит глаза на Землю? Почему ты вступил в Братство Правды?
— Потому что хотел любой ценой найти правду, — коротко ответил Матарет и встал с места, заканчивая разговор.
Тем временем у стола с картой началась ссора. Речь шла о значении линии, также перенесенной сюда с оригинала карты Старого Человека, на которой она была тщательно прорисована… Эта извилистая линия, нарисованная красной краской, начинаясь крестиком в месте, обозначенном странным названием Синус Эстуум с легкими изгибами, бежала через Море Имбриум до горы Платона, круто поворачивая здесь к востоку, чтобы дальше снова извиваться среди гор к северному полюсу Луны…
Члены Братства Правды с давних пор старались объяснить себе значение этого извилистого ужа, протянувшегося через четвертую часть лунной планеты. Некоторые предполагали, что это обозначение дороги, проделанной когда-то Старым Человеком, но магистр Рода, не согласный с таким определением, считал его отступничеством по отношению к правде.
— Для чего бы, — говорил он, — Старый Человек должен был передвигаться с таким трудом и со всевозможными опасностями по мертвой поверхности Луны, когда под поверхностью должны существовать удобные средства сообщения между поселениями?
Поэтому красная линия по-прежнему была беспокоящей загадкой для членов Братства, поводом частых и нескончаемых споров между горячими приверженцами Правды.
Один из них, юноша со всклокоченными волосами, который как раз говорил в тот момент, когда на собрание пришел Рода, выступил с новой теорией. Он высказал предположение, что это «линия опасности», как он выразился… Не путь, проделанный Старым Человеком, но дорога на поверхности, подходящая для перехода, которую жители Великой Пустыни охраняют, вероятно, в постоянном опасении возвращения «отделенных»…
Он бросил эту мысль, как предположение, однако, по мере того как ему стали возражать, говорил все более и более запальчиво, и в конце концов уже сам стал считать свой вымысел за несомненную и доказательную истину и даже потребовал, чтобы Братство сделало отсюда вывод, что они и без помощи «Победителя» достигнут таинственной страны под Великой Пустыней.
Для разрешения спора призвали Роду.
Матарет стоя в дверях несколько минут наблюдал за тем, как магистр с невероятной серьезностью оглашает свое мнение, водя пальцем по разостланной карте… Он даже сделал движение, как будто хотел подойти поближе и послушать, но только вздохнул и положил руку на дверную ручку…
Длинным, узким и темным коридором он незаметно вышел на улицу. Это было самое бедное место в городе, здесь жили убогие батраки, продавшиеся в рабство купцам и фабрикантам, живущим в прекрасных домах там, в центре города, поблизости от храма и дворца первосвященника. Убогие и кривые домишки теснились по обеим сторонам улочки, сбегающей к морскому берегу. Кучи мусора Валялись у порогов, подвергаясь гниению в лучах полуденного солнца. В тени прятались собаки, разленившиеся от жары.
Матарет быстро пробежал по улочке, оглядываясь, не видит ли кто его. Он догадывался, что тайное Братство Правды в этом районе ненавидят больше всего и что Победитель имеет здесь самых горячих сторонников. Люди, живущие в тяжелом и горьком труде, видели в этом светлом земном пришельце надежду на лучшее будущее и с нетерпением ждали минуты, когда, покорив шернов, он вернется из-за моря, чтобы установить здесь новый порядок.
Но сегодня никто из окна не выглянул и не бросил сквозь зубы проклятия, видя проходящего «отшельника», как брезгливо называли здесь членов Братства. Район, который обычно даже во время самой сильной полуденной жары роился от людей, вынужденных работать и в это время, сейчас как бы вымер. Только на площади, откуда уже начинались красивые мощеные дороги, ведущие к центру, Матарет встретил группу людей, состоящую из нескольких работников. Они стояли в тени какого-то пустого дома и оживленно разговаривали, с видимым беспокойством посматривая в сторону моря.
Из нескольких донесшихся до него слов Матарет понял, что произошло что-то важное, что имело отношение к походу Победителя на юг. Он ускорил шаги, поворачивая в сторону города, где надеялся получить более точную информацию.
Площадь перед храмом была запружена людьми. Говорили о прибытии послов, которые по причине изменившегося ночью направления ветра спутали дорогу и под утро пристали к берегу далеко на восток, за вершиной О’Тамора, им потребовалось полдня, прежде чем они смогли пешком добраться до города. Матарет с интересом прислушивался к выкрикиваемым словам. Из бессвязных обрывков разговоров ему удалось понять немного, но у него сложилось впечатление, что на этот раз послы принесли не такие приятные новости.
Он уже стал сомневаться, удастся ли ему узнать что-либо определенное, когда неожиданно на ступенях храма увидел Ерета. Он очень удивился, ему не приходило в голову, что тот, правая рука Победителя, мог быть использован в качестве посла… Если это произошло, значит существуют действительно серьезные новости, с которыми приехал воин.
Он был давно и хорошо знаком с Еретом. Они даже были приятелями, прежде чем их разделила граница в верованиях и во взглядах на приход Победителя. Однако он рассчитывал на прежнюю дружбу, поэтому, протиснувшись через толпу, потянул Ерета за рукав, давая ему понять, что хочет с ним поговорить. Молодой человек сразу узнал его и поздоровался.
— А! Матарет!.. Попозже! Немного попозже! — добавил он, услышав возрастающий шум вокруг себя. — Приходи через два часа в храм!
Последние слова он говорил, уже поднимаясь на возвышение около лестницы, с которого обычно говорили первосвященники.
Народ зашумел и заволновался, увидев его на возвышении. Снова послышались громкие выкрики и жалобы. Некоторые уже бранили Победителя.
Ерет набрал в грудь воздуха и начал:
— Стыдно мне становится, когда я смотрю на вас, когда слышу ваши слова, достойные скорее женщин, а не мужчин! Победа будет за нами, но нужны еще усилия и помощь! Я прибыл сюда не для того, чтобы слушать все жалобы, а чтобы собрать новый отряд, который мог бы оказать поддержку сражающимся! Оружие у нас имеется. Пусть молодежь явится и соберется в отряд, потому что на заходе солнца мы снова отправимся на юг по замерзшему морю.
Он говорил еще какое-то время, бросая в толпу короткие и твердые, как камень, предложения. Матарет тем временем отошел немного в сторону. В дверях храма он заметил Ихезаль. Она стояла опершись о косяк, глядя перед собой странными затуманенными глазами, которые, казалось, даже не видят того, на что смотрят.
Она похудела, лицо ее было бледным, белые руки были сложены на груди.
Матарет происходил из одной из самых старых и самых богатых семей в городе и когда-то был в близких отношениях с домом первосвященника Малахуды. Увидев теперь девушку, он подошел к ней и поклонился.
— Как дела, золотоволосая? — с усмешкой спросил он.
Ихезаль рассеянно посмотрела на него и, отвернувшись, вошла в храм, не сказав ни слова в ответ. Он пожал плечами и уселся на пороге, ожидая Ерета. Его уже не было на возвышении. Он кончил говорить и смешался с людьми. Матарет, глядя сверху, заметил, как он разговаривал с несколькими старейшинами, оживленно отвечая на какие-то вопросы. Потом к нему подошел Севин. Приспешник первосвященника что-то долго говорил ему с вежливой и хитрой улыбкой на губах, показывая несколько раз рукой на группу отдельно стоящих рыбаков, которые пришли сюда вместе с сидящим теперь в тюрьме Хомой.
Матарет заметил еще, как Ерет возмутился и рукой отпихнул слугу первосвященника от себя, потом ему надоело смотреть на все это, и он поднял глаза к небу, необычайно ясному в это время дня.
Полуденная буря опаздывала. Солнце уже перевалило с зенита и заливало своими лучами фасадную часть храма. Матарет прикрыл глаза; в жаркое время дня его охватывала сонливость.
Перед глазами у него как раз маячили какие-то входы в пещеры на той стороне Луны, когда его разбудило легкое прикосновение к плечу. Перед ним стоял Ерет.
— Ты хотел поговорить со мной…
— Ты, наверное, устал, — сказал Матарет, глядя сразу проснувшимися глазами в его почерневшее и похудевшее лицо.
— Это ничего, отдохну…
Они вошли в храм и присели в одной из боковых, сумрачных галерей. Ерет положил руки на камень и опустил на них голову.
— Я действительно измучился, — прошептал он через минуту, не поднимая головы.
Матарет молча смотрел на него, нервно моргая глазами. Ему казалось, что он читает по этому загорелому и запыленному лицу, едва видному сбоку над сложенными руками, всю историю похода: историю неслыханных трудов и усилий, боев, сомнений и надежд…
— Почему сюда прибыл именно ты? — спросил он наконец, как бы невзначай.
Ерет вздрогнул и посмотрел ему прямо в глаза. Он отсутствовал в то время, когда окончательно сложилось Братство Правды, поэтому не имел понятия о его существовании, однако издавна знал, что Матарет, врожденный скептик, с большим недоверием наблюдал за Победителем… Это даже послужило причиной того, что их отношения, некогда очень сердечные, со временем охладились. И несмотря на это, он никогда не мог избавиться от чувства некоторого удивления и даже какой-то покорности по отношению к этому странному человеку, который постоянно усмехался, постоянно возражал и размышлял, никогда не загорался и всегда как будто стоял где-то над событиями, а не в самой гуще их, как другие люди. Он, Ерет, умел только действовать, взрываться, радоваться или мрачно замыкаться в себе…
Поэтому теперь, спрошенный, он сначала заколебался, но в нем взяло верх желание откровенно поговорить с кем-то, перед кем ему не надо было разыгрывать роль вождя, посла или учителя…
— Я нужен здесь, — прошептал он.
— Плохи там дела? — спросил Матарет, не спуская с него глаз.
Ерет пожал плечами.
— Нет… нельзя сказать, чтобы плохо… Но…
Он оборвал фразу и замолчал. Матарет тоже немного помолчав, потом сказал, вставая:
— Если ты не хочешь говорить, я ухожу. Зачем мне вынуждать тебя лгать мне?
Ерет быстро схватил его за руку.
— Останься. Да. Я хочу говорить, только…
Он встряхнулся.
— Видишь ли, я сам не знаю, как это назвать. До сих пор нам везет, несмотря на то, что сейчас приходится тяжело… Мы сделали до сих пор все, что в человеческих силах…
Он поднял голову и посмотрел Матарету в глаза.
— Все, что в человеческих силах, — повторил он настойчиво, — но сверх этого — ничего.
Он покраснел, как будто против его воли у него с губ слетело слово, слишком много значащее… Матарет не усмехался. Его выпуклые глаза и сейчас смотрели куда-то вдаль — правда, с грустью. Он протянул руку и положил ее на плечо воину.
— Говори, — сказал он.
Ерет начал свой рассказ. Он рассказал о долгом и кровавом походе, как бы мысленно разворачивая его историю перед собой. Говорил о сражениях в долине, о завоеванных городах и сотнях и тысячах немилосердно уничтоженных шернов, сраженных огнестрельным оружием, утопленных в реках или в море или преданных огню. Он говорил обо всем ровно и спокойно, как работник, который вечером вспоминает тяжелую работу предыдущего дня…
А потом рассказал Матарету, как они пришли в неприступные горы и стали взбираться на вершину огромного горного кольца. Говорил о трудном переходе, об удивительном городе шернов внутри котловины и о Земле, которая предстала там перед их глазами.
— Мы посчитали это хорошим предзнаменованием и знаком того, что Победитель находится с нами. Тем временем, с минуты, когда мы на этой вершине увидели Землю, для нас начался самый страшный труд, страшный, потому что бесплодный. Я думал, что мы, как вихрь, обрушимся на этот город и обратим его в пыль; мне даже было жаль его удивительной красоты, но тут Победитель заколебался. Он поступил как человек: разумно. Поступил так, как поступил бы каждый из нас в этом случае…
И рассказал, что Победитель, пересчитав воинов, не осмелился вести их всех в котловину, чтобы не иметь в случае неудачи отрезанного пути назад.
— Части войска, — рассказывал он, — он велел вернуться и охранять дорогу (если это можно назвать дорогой), которой мы поднялись наверх, видимо, чтобы шерны из других городов не оказались у нас в тылу… Там я был военачальником. Остальные воины под его предводительством опустились внутрь котловины, почти до половины высоты горного вала — и там образовали укрепленный лагерь. На равнину вниз спускаются только маленькие отряды, беспокоят шернов и снова возвращаются назад, часто с потерями. Мы перестали побеждать — просто воюем теперь.
— И так до сих пор, без изменений? — спросил Матарет после недолгого молчания.
Ерет кивнул головой.
— Без изменений. С тем количеством войска мы ничего не сделаем, это ясно. Шерны увидели наше бессилие и расхрабрились. Теперь они на нас нападают. Не было часа, чтобы мне с моим отрядом не приходилось бы вступать в схватку… Казалось, вся страна пуста, а они тем временем повырастали откуда-то целыми отрядами и прут на нас. Скалы чернеют от них и шевелятся, как живые. Мы постоянно стреляем в них и убиваем, но должны беречь заряды в опасении, что их не хватит. Тогда мы бы погибли…
— И что будет дальше? — спросил Матарет.
— Не знаю. Рано утром вчера Победитель сам прошел разделяющий наши отряды переход и долго разговаривал со мной. Он еще не говорил об отступлении, но на его озабоченном лице можно было прочитать эту мысль. Он приказал мне отправиться сюда и привезти как можно быстрее подкрепление, оружие и боеприпасы. Мы прошли очень трудный путь к морю и саням, оставленным под защитой небольшой группы людей; нам приходилось прокрадываться, как пресмыкающимся. Но я знаю, что еще тяжелее нам будет возвращаться назад с грузом, потому что шерны хотят теперь любой ценой погубить Победителя и нас вместе с ним…
Наступила тишина. Оба смотрели перед собой, блуждая мыслями далеко от того места, в котором они находились.
— Да. Надо им сообщить, — наконец отозвался Матарет.
— Кому?
Он ничего не ответил, только усмехнулся своей обычной усмешкой и протянул руку Ерету.
— Меня интересует не Победитель… Это все неважно. Я сам не знаю что. Собирай подкрепление и держитесь, пока будет возможно. А я сделаю свое.
Он повернулся к выходу и тихо вскрикнул. Под резным наугольником в тени стояла Ихезаль. Увидев, что ее заметили, она сделала шаг вперед. Прошла мимо Матарета и остановилась около Ерета.
— Ерет! — воскликнула она, сложив умоляюще руки. — Ерет! Возьми меня с собой!
— Ты все слышала?!
Она утвердительно кивнула головой.
Ерет нахмурился и беспокойно шевельнулся. Он посмотрел на Матарета, как будто его присутствие удерживало его от ответа.
— Возьми меня с собой! — повторила она. — Я хочу быть рядом с Победителем!
Глаза ее радостно горели, отблеск какой-то надежды расцветил бледное, сжигаемое каким-то внутренним жаром лицо.
Ерет отвернулся.
— Стереги шерна, которого тебе оставили! Хватит тебе одного, который в оковах!
Ихезаль побледнела и отпрянула назад.
— Ерет! — закричала она.
Но он уже выходил из храма, не оглядываясь назад.
Девушка наклонила голову и какое-то время стояла не двигаясь. Ее охватил вихрь странных, в безумном танце пляшущих мыслей. В груди пели радостные гимны, что он является… что, может быть, как она, человеком, одновременно она ощущала боль, как будто кто-то наполнил ее душу неожиданной и непонятной пустотой…
Она тревожно осмотрелась. Из-за внутренней пустоты она невольно сильнее ощутила пустоту места, где находилась, пустоту огромного брошенного храма. Машинально она припала к основанию одной из колонн, втиснувшись между двумя большими каменными кадильницами.
Они были пустые и холодные. Много дней уже никто не бросал душистой травы во внутренние медные чаши, где валялись рассыпавшиеся в пыль угли, некогда священные. На основании колонны еще были видны следы дыма, который когда-то поднимался отсюда.
Она смотрела на окружающую ее пустоту удивленными глазами, как будто сегодня в первый раз ее заметила.
— Как это было? — прошептала она безотчетно. — Как это было? как было?..
Ей вспоминались ее детские сны, а потом появление светлого земного пришельца…
— Где он теперь?..
В ушах у нее зазвучали слышанные некогда скрежещущие слова:
«Прошел Победитель над морем и через равнинную страну прошел, но вот дошел до гор высоких и остановился перед ними бессильный…»
И снова:
«Служить нам будет человеческое племя — за исключением той, которая захочет стать госпожой и пойдет за шерном…»
«Нет! нет! нет!» — отчаянно закричало в ней что-то.
Она протянула белые руки, высунувшиеся из фиолетовых рукавов.
— Ерет! — громко кричала она, хотя около нее уже давно никого не было. — Ерет! Смилуйся надо мной! Возьми меня с собой! Я хочу к Победителю! Не оставляй меня одну под колдовскими чарами шерна! На его глазах нет цепей! Я хочу к Победителю! Хочу видеть, знать, что он самый сильный, что он…
Она упала на каменный пол, дорогие украшения, свисавшие с ее шеи, зазвенели.
Солнце заглядывало в окно храма, но послышался уже гром надвигающейся бури — громкий и угрожающий. Ихезаль не тронулась с места.
«Вот лопается надо мной потолок храма, — думала она, — валятся колонны, расходятся каменные стены…»
Пусть это произойдет! Пусть так будет!
Пусть обрушится весь мир и погребет меня под обломками!
Снова зазвучавший, близкий уже раскат грома потряс стены храма, и солнце исчезло за тучами. Ихезаль тихо плакала.
Тем временем Матарет, попрощавшись на ступенях с Еретом, которого вызвали к первосвященнику, задумавшись, пошел вперед, не отдавая себе отчета, куда идет. На углу какой-то улицы он неожиданно встретил Рода. Глаза у магистра блестели, покалеченное лицо прояснилось. Увидев товарища, он остановился и громко закричал:
— Матарет, ты уже знаешь?
Тот вместо ответа подошел к нему и сильно схватил за локоть.
— Собери людей, которые должны нас сопровождать, — сказал он, — мы отправляемся немедленно.
— Ты с ума сошел, — воскликнул Рода, — смотри!
И он показал рукой на потемневшее от туч небо, под которым уже поднялся ветер, со свистом проносящийся по опустевшим улицам, трепля одежду на них, единственных людях, которые еще не спрятались от бури в свои дома.
— Мы отправляемся немедленно, — повторил Матарет спокойно.
Решительный, почти приказывающий тон, к которому он до сих пор не прибегал, удивил Роду. Он ошеломленно посмотрел на товарища, не зная, что делать… Матарет, заметив его беспокойство, усмехнулся.
— Учитель, ты самый великий, и я никогда чтить тебя не перестану, но поверь мне, что теперь нам нельзя терять времени. У меня есть идея…
Дождь еще лил потоками, как будто небо утонуло в воде, когда одиннадцать человек, одетых в плащи, прокрались через ворота города в маленькой упряжке собак, направляясь старой дорогой на север.
— А если я не позволю собирать новое подкрепление?
Ерет медленно поднял голову и посмотрел на первосвященника.
— В таком случае я соберу его без позволения Вашего Высочества, — спокойно, но решительно заявил он.
Элем засмеялся.
— Ты нравишься мне, мальчик, — сказал он, — это была только шутка… Подкрепление отбудет сегодня ночью…
— Знаю.
— Победителю обязательно нужны такие слуги, как ты. Без них он, наверное, ничего не смог бы сделать…
— Ваше Высочество позволит мне уйти?
— Подожди. Я был бы рад узнать еще кое-что.
— Я уже все сказал Вашему Высочеству…
Первосвященник подошел к нему и уставился на юношу проницательным взглядом неподвижных черных глаз.
— Сражаетесь там, побеждаете, — медленно сказал он.
— Да.
— Благодаря Победителю? Правда?
Ерет утвердительно наклонил голову.
— И если бы Победителя с вами не было, — продолжал Элем, не спуская с него глаз, — то поход не мог бы удастся?
— Без сомнения. Без Победителя мы ничего не смогли бы сделать.
— Даже если бы у вас было огнестрельное оружие?
Ерет невольно поднял голову и посмотрел на первосвященника. Он не сразу ответил ему. В голове у него мелькнула мысль, что, пожалуй… в этом случае…
— Но огнестрельное оружие нам дал Победитель, — громко и поспешно сказал он.
— Да, его вам дал Победитель… — повторил Элем медленно и как бы рассеянно.
— Ваше Высочество… — Ерет снова посмотрел на дверь.
— Ты видел внучку Малахуды? — неожиданно меняя тон, спросил первосвященник.
Лицо Ерета помрачнело. Он нахмурился и не ответил ни слова. Элем тем временем говорил дальше с дружеской улыбкой:
— Я оставил ей старый дворец. Не потому, что этого хотел Победитель, эти дела не должны его касаться, а просто в память о ее достойной семье… Она по-прежнему ничего не видит, кроме Победителя, — добавил он, поворачиваясь к Ерету, — даже теперь, когда его тут нет?
Ерет недовольно пожал плечами.
— Я не спрашивал ее об этом. Мое дело — война с шернами. Остальное меня не беспокоит.
— Да, — сказал Элем, отступив немного, — да, правильно тебя считают здесь великим героем из тех, которые когда-либо жили на Луне… Предыдущие послы докладывали, что это именно ты ведешь воинов и именно ты побеждаешь врага.
— Ваше Высочество, — порывисто крикнул Ерет, — позвольте мне уйти!
— Иди уж, — с усмешкой бросил Элем, — и передай Победителю мой низкий поклон и скажи, что, как и ты, я его верный пес и слуга.
На этот раз молодежь уже без восторга, даже неохотно вступала в ряды воинов, и Ерету с огромным трудом удалось собрать триста человек, знакомых с огнестрельным оружием, которые согласились пополнить небольшой отряд Победителя. Это были преимущественно люди бедные, батраки и ремесленники, живущие в тяжком труде, для которых благословенное имя Победителя еще не потускнело. Люди, живущие в деревнях и дальних поселениях, посланникам Ерета отвечали уклончиво, рассказывая им о посаженном в тюрьму старце Хоме, на которого, похоже, сошел пророческий дух. Самые состоятельные, как правило, преданные каждому правящему первосвященнику, правда, высмеивали Хому, но тут же повторяли слова, которые Ерет услышал от Севина, что Победитель, если это истинный Победитель, должен обойтись без помощи и собственной рукой поразить шернов…
Братство Правды также сделало свое дело. Правда, оно насчитывало относительно немного членов, но это все были люди молодые, полные энтузиазма, на которых в ином случае Победитель мог бы опереться…
Вечером достаточно многочисленная толпа провожала добровольцев до приготовленных саней, но среди людей слышалось больше плача и прощальных слов, нежели восторженных криков, которые широко разносились вокруг, когда Победитель сам повел сани на юг.
С верхней террасы храма за отъезжающими следила Ихезаль. Тщательно завернувшись в белый мех от холодного морского ветра, она задумчиво смотрела, как огоньки саней тихо исчезают вдали — и даже когда они уже погасли, девушка долго еще смотрела в ту сторону. Потом вошла внутрь храма и медленным, сонным шагом приблизилась к входу в подземный склеп, где был заперт шерн Авий.
Тем временем на севере, на широкой равнине Рода, Матарет и девять их спутников образовали на ночь лагерь.
Магистр, по мере того как они приближались к цели путешествия, строил все более фантастичные планы. Он подробно рассказывал, как собирается овладеть машиной и каким образом сделать ее непригодной к употреблению. А потом перечислял условия, на которых будет готов заключить мир с прибывшим Победителем. Итак, прежде всего, открытие дороги в таинственную страну на «той стороне»…
Когда-то он требовал от пришельца, чтобы он открыл этот путь всему народу — сейчас, однако, после размышления он пришел к выводу, что будет лучше, если эту тайну узнают только члены Братства Правды, и только потом, по мере надобности, объяснят все людям… И даже не все их товарищи должны сразу узнать обо всем. Между ними есть разные люди. Пока будет достаточно, если услышат обо всем только они, одиннадцать человек… В конце концов, если Победитель и этому воспротивится, пусть расскажет только ему и Матарету, можно даже только ему одному. Но от этого уж он не отступит. Он, Рода, должен знать все, всю правду, которую знает и сегодня, но еще не так точно, как нужно. Вообще, как только Победитель вернется…
— А если он не вернется? — прервал его Матарет.
— Как это?
— Если в стране шернов погибнет и он, и его люди?
— Это было бы фатально! — обеспокоенно сказал Рода. — Действительно фатально! У нас тогда не было бы уже средства, чтобы узнать…
— И больше ничего? — спросил Матарет.
— Не понимаю тебя?
— Но ведь это ясно. Что с нами станет тогда, когда шерны одержат верх? Ты думал об этом?
— Зачем же допускать такие вещи!
— В том-то и дело. Я просто подумал, не правильней ли было бы сначала помочь Победителю, а уж потом ставить ему условия…
— С каких пор тебе в голову приходят такие вещи?
— С недавних. Но это не имеет значения!..
Рода задумался.
— Но ведь Ерет, ты сказал, что должен собрать подкрепление, — сказал он через минуту.
— Да, подкрепление. Конечно. Не будем об этом говорить.
Рода несколько раз упорно возвращался к этой теме, но Матарет уже не отвечал. Он, по обыкновению, слегка улыбался и смотрел выпуклыми, рыбьими глазами на горы, чернеющие вдали на фоне неба, между которыми пролегла дорога, по которой они двинутся утром…
Ночь они провели спокойно в одном месте, не двигаясь вперед не только из страха перед морозами, к которым они, как и все люди на Луне, давно привыкли, а скорее по причине слишком обильно выпавшего снега, покрывавшего все вокруг. На этой пушистой, затрудняющей движение целине трудно было ориентироваться в непроглядной темноте «лунной» ночи.
Наступающий день уже не имел для них вечера, потому что, когда оно склонилось к западу, они уже находились в котловине вечного дня на северном полюсе Луны.
Перед заходом в эту страну они провели военный совет. Все они были вооружены тем оружием, тайну которого на Луну привез Победитель, и готовы к действиям. Они ни минуты не сомневались, что им придется выдержать тяжелое сражение. Было неизвестно, насколько многочисленна стража у машины, однако они предполагали, что она в любом случае более многочисленна, чем их маленькая группа. Эту стражу необходимо было разоружить или побороть.
Правда, магистр Рода какое-то время носился с мыслью выступить перед охранниками с пламенной речью, в которой он бы, несомненно, убедил их в правильности идей Братства Правды и склонил к поддержке своих планов, но Матарет решительно воспротивился этому.
— Это ни к чему не приведет, — сказал он магистру, — они только высмеют тебя и побьют, а это ты уже столько раз пробовал, что не стоит еще раз напрасно расходовать свое красноречие…
Рода вначале сопротивлялся, но в конце концов уступил, сам, видимо, не слишком убежденный в результатах своего выступления.
— Делаю это только потому, — сказал он, — что не уверен, являются ли стражники людьми достаточно разумными, чтобы понять мои слова, а если бы не это…
В конце концов было решено применить силу. По-дружески подойти поближе к стражникам и по возможности отобрать у них оружие, а если это не удастся, по данному Матаретом знаку убить их. Рода в принципе осуждал это решение и решительно заявил, что он сам никого убивать не будет, но признавал, что в данном случае другого выхода может и не быть. Впрочем, цели Братства Правды настолько высокие, заявил он, что для их исполнения можно пролить и кровь.
Прежде всего нужно было отыскать машину на обширном пространстве.
По рассказам свидетелей они знали, что она опустилась поблизости от старых поселений Братьев Ожидающих, которые находились у подножия гор, отделяющих полярную котловину от Великой Пустыни. Они прибыли с противоположной стороны и, чтобы попасть туда, должны были бы пройти через всю обширную и гладкую равнину, подвергаясь опасности раньше времени возбудить подозрения стражников. Чтобы избежать этой ошибки, было решено выбрать окольную дорогу, вдоль цепочки холмов, из-за неровности грунта представляющих достаточно хорошее укрытие для горстки людей.
Дорога была тяжелой. Они медленно пробирались между замшелыми камнями, по скользким, влажным склонам, никогда не освещавшихся солнцем. Из каждой расщелины тянуло холодом, бросая в дрожь усталых путешественников.
Через несколько десятков часов трудного пути по бездорожью, когда уже была пройдена большая часть полукруга гор вокруг котловины, перед глазами измученных людей показались яйцевидные и лысые горы, на которых когда-то были могилы Братьев Ожидающих.
На вершине, видные издали, еще чернели камни, служившие некогда опорой мертвым. По совету Матарета здесь закончился тяжелый путь по склонам, было решено подняться на гребень и двигаться там, потому что старых могильных камней вполне достаточно для того, чтобы укрыться за ними.
На вершине им ударило в глаза красное солнце, идущее уже над Великой Пустыней в сторону Земли, узким, выгнутым в сторону солнца серпом блестевшей на горизонте.
Кроме Матарета и Роды, только один из участников похода видел Землю, когда его, маленьким мальчиком, брали с собой в паломничество родители, отправляющиеся в Полярную Страну, где Братья Ожидающие ждали обещанного Победителя. Теперь вся группа остановилась в тихом удивлении, глядя на острый серебристый серп, врезавшийся в небо, почти черное с той стороны.
Какая-то неожиданная робость, похожая на страх, охватила этих людей. Протестуя против «сказок» о Земле, они постепенно и неосознанно начали считать сказкой и ее саму, и теперь стояли в невольном, для самих себя неожиданном удивлении, видя ее, огромную и светящуюся на небосклоне. Молодой человек, который когда-то ребенком видел ее, машинально поднял руку ко лбу, чтобы начертить знак Прихода…
Он быстро спохватился и смущенно оглянулся на товарищей в испуге, не заметил ли кто подозрительного движения. Но никто не обращал на него внимания, все молча смотрели на Землю. Наконец в тишине прозвучали слова Роды:
— Да, да, совершенно естественно, что возникла эта сказка, она обязательно должна была возникнуть…
Голос его прозвучал неуверенно, как оправдание, но вскоре, разбуженный звучанием собственных слов от зачарованного оцепенения, он заговорил со своим обычным красноречием и уверенностью:
— Человек, чтобы возвыситься в собственных глазах и подняться над окружающей действительностью, старался найти для себя происхождение более высокое, нежели то, какое есть на самом деле. Я не удивился бы, даже если бы узнал, что сказка о нашем земном происхождении старше, нежели наше изгнание из рая, куда мы ищем обратный путь. Может быть, уже там, в роскошных городах, спрятанных под пустыней, людям в долгие, освещенные серебряным светом Земли ночи, снилось, что они сошли на Луну с той пустой и бесплодной звезды, которая так пленяет взор своей удивительной красотой…
Он еще долго говорил подобным образом, а ученики и товарищи слушали его в благоговейном молчании, пытаясь бросать грозные взгляды на Землю-обольстительницу.
Рода вытянул руку:
— Посмотрите на эти камни вокруг нас и подумайте об удивительном безумии человека! Целые поколения проводили жизнь в этой котловине, молясь на мертвую серебряную звезду, поколения смотрели из-под этих камней погасшими глазами на ее меняющийся облик, вместе с живыми ожидая Победителя…
— Но разве он не прибыл на самом деле? — вполголоса буркнул Матарет.
Рода услышал и сразу же повернулся к говорящему:
— С Земли?
Воцарилась тишина. Только через минуту Матарет покачал головой и усмехнулся.
— Нет! Несмотря ни на что, считаю это невозможным.
Рада хотел что-то ответить, но его остановил возглас одного из спутников.
— Машина! — крикнул он, показывая рукой в сторону лежащей в тени котловины.
Открытие это воодушевило всех присутствующих. Те, которые уселись было, вскакивали с мест и бежали к говорящему, они толпились вокруг него и напрягали взгляд, чтобы увидеть желанную цель путешествия.
Вскоре ее увидели все. Машина стояла у подножия горы, похожая издали на блестящий камешек, наполовину укрытый зеленью. Охраны не было видно. Невдалеке стоял неумело сделанный домик, похожий на пастушеский шалаш, также до половины заросший зеленью.
Невозможно было предположить, что в этом маленьком строении могли размещаться стражники — они, по-видимому, спрятались в выкопанные поблизости от машины скрытые ямы и наблюдают оттуда за машиной согласно приказу Победителя. Если не удастся захватить их неожиданно, следует приготовиться к тяжелой схватке.
После короткого совещания, не теряя времени, все отправились вниз. Каждый из одиннадцати участников похода, с оружием на изготовку, используя каждое возвышение на почве, каждый камень и расщелину, чтобы укрыться от бдительного ока стражников, медленно спускался в долину. Каждый из них замирал, когда какой-нибудь случайно задетый камень скатывался вниз, что могло возбудить подозрение стражников.
Согласно плану магистра Роды все должны были как можно быстрее приблизиться к машине, не возбуждая подозрения у охраны, а потом по знаку, данному свистком, броситься в драку… Знак должен был подать Матарет, который один не скрывался — он должен был идти прямо в сторону домика, увиденного с горы, и отвлечь на себя внимание людей, охраняющих машину.
Через час Рода подполз так близко, что едва ли несколько десятков шагов отделяло его от машины. Он спрятался за пышный куст, который вырос на пепелище, где некогда были сожжены тела умерших членов Ордена, и ждал условного знака, дрожа всем телом. Его беспокоило и расстраивало то, что он не видит противников. Он периодически осторожно высовывал голову из-за буйной зелени и беспокойно осматривал пространство, отделяющее его от машины. Однако никого так и не увидел — вокруг была совершенная пустота, и ничто не указывало на то, что здесь пребывало какое-либо живое существо. Везде свободно росла трава, не примятая ничьей ногой, кроме разваливающегося строения, по другую сторону машины не было видно ни одного укрытия, где мог бы спрятаться человек.
Наконец он увидел Матарета. Тот шел, бредя по колено в сорняках, по направлению к домику и удивленно оглядывался вокруг. Рода видел, как он останавливается и рассматривает землю под ногами. Наконец он дошел до домика и постучал кулаком в запертую дверь. Отворили ему нескоро. Кто стоял на пороге, Рода из своего укрытия увидеть не мог, ему видна была только спина Матарета, с кем-то оживленно разговаривающего. Через минуту Матарет отошел и спокойно уселся на камне у стены. Из дома вышла какая-то женщина и что-то рассказывала ему, показывая на машину руками.
Рода не мог дольше выдержать. Не думая о том, что может испортить весь план преждевременным появлением, он выскочил из-за куста и быстро побежал к ним. Матарет заметил его и стал делать ему знаки, крича, чтобы он подошел.
— Все идите! — кричал он. — Никакой опасности нет.
Женщина, заметив неожиданно выскакивающих из зарослей людей, с ужасом кинулась бежать, но Матарет схватил ее за рукав…
— Не бойся, уважаемая! — засмеялся он. — Они не сделают тебе ничего плохого!
Рода уже стоял около них.
— Что это? Что это? — кричал он.
Матарет патетическим жестом показал на все еще трясущуюся от страха женщину.
— Имею удовольствие представить тебе охрану машины Победителя! — сказал он.
Но Рода не смеялся. Его неожиданно охватило бешенство: он понимал только, что его «снова обманули», не отдавая себе отчета, что должен скорее радоваться, что вместо вооруженных охранников их встретила здесь только одна испуганная женщина.
— Кто ты такая? — крикнул он, поворачиваясь к ней.
— Нехем, господин…
— Меня не интересует твое имя! Что ты здесь делаешь?
— Сторожу машину…
В ответ ей прозвучал общий взрыв смеха.
— Одна? — бросил Рода, в бешенстве кусая губы.
— Да, господин. Те ушли.
— Кто? Куда? Как?
Женщина в страхе упала перед ним на колени.
— Не сердись, господин! Я все вам расскажу. Я не виновата…
— Говори!
— Господин! Победитель оказал мне великую милость. Давно, давно, в тот день, когда в полдень прошел отсюда к морю… Я всегда хотела служить ему, но он не нуждался в моих услугах. И когда я услышала, там, у Теплых Озер, что вышла охрана сюда, в Полярную Страну для того, чтобы стеречь его машину, я упросила людей, чтобы они взяли меня с собой, чтобы готовить им еду и чинить одежду, если потребуется… Я думала, что я пригожусь Победителю, находясь здесь…
— К делу, к делу! Где теперь охрана?
— Они ушли, господин. Сначала тут их было двадцать, но здесь скучно, только Братья Ожидающие могли здесь выдержать. Стражники тосковали по дому, тут им нечего было делать. Они уходили по двое, по трое, как будто на короткое время, оставляя охрану тем, которые еще были здесь. Но ни один из ушедших не вернулся. В конце концов я осталась здесь с двумя самыми младшими. Но и им здесь наскучило. Они не выдержали. Когда солнце стояло на полудне, ушли и они. А мне приказали охранять машину, вот я и охраняю…
— Это великолепно, не правда ли? — засмеялся Матарет. — Уважаемая Нехем единственная непреклонная охранница священной машины!
Рода возмутился.
— Это безобразие! Такое пренебрежение своими обязанностями!
— Что тебя собственно возмущает? — спросил Матарет вполголоса, глядя на него искренне удивленными глазами. — Ведь из-за этой небрежности охранников у нас все получилось лучше, чем могло бы.
— А могло получиться хуже! — возмутился магистр. — Подумай только, если бы кто-то пришел сюда до нас и испортил машину…
— Я бы не дала этого сделать! — крикнула Нехем и сверкнула зубами, готовая как зверь броситься на каждого, кто осмелился бы повредить собственности Победителя. — Не позволила бы этого сделать, даже если я осталась здесь одна! Скажите Победителю, который прислал вас, что все в порядке…
Рода хотел что-то ответить, но Матарет схватил его за руку, делая ему знак, чтобы он молчал.
— Да, Победитель послал нас сюда, — сказал он, обращаясь к женщине. — Мы должны проверить состояние машины и доложить ему, все ли в порядке…
— О! Еще в каком! — закричала Нехем с радостной гордостью. — Смотрите! После ухода стражников я присматриваю за ней и даже чищу ее. Она сверкает, как золото…
— Некоторые части машины Победитель велел нам забрать с собой, — вставил Рода.
Нехем подозрительно посмотрела на него.
— Забрать некоторые части, вы говорите, господин?
— Нет, нет! Успокойтесь! Только в том случае, если что-то не в порядке, — быстро сказал Матарет, после чего, оттянув Роду в сторону, так, чтобы Нехем не могла услышать, с упреком обратился к нему:
— Зачем ты пугаешь эту бабу? Она готова нам помешать…
Рода сделал пренебрежительное движение.
— Я прикажу сейчас ее связать.
— Этого не потребуется.
— Конечно. Тем более, что больше всего я опасаюсь измены, засады. Стражники могут, вернуться. Может быть, они где-то поблизости…
— Поэтому нам надо действовать незамедлительно.
Говоря это, он посмотрел наверх, на горы. Их вершины были освещены со стороны севера, солнце, видимо, приближалось к Земле.
— Смотри! На той стороне сейчас день…
— Ну и что из этого?
— Ничего. Просто мы должны поспешить…
— Без сомнения, — сказал Рода. — Но Нехем помешает нам разбирать машину, если ее не связать…
Матарет снова схватил его за руку.
— Подожди. Сначала машину нужно осмотреть. И внутри также. Ведь Победитель объяснил тебе ее устройство?
— Да.
— Тогда пошли…
Они приблизились к машине, около которой стояли девять их спутников, с немым обожанием смотрящих на необыкновенное сооружение. Перед их глазами предстал огромный стальной цилиндр, глубоко врытый в грунт, из которого торчала конусообразная вершина снаряда, со свешивающейся оттуда ветхой веревочной лестницей.
— По ней, наверное, спускался Победитель, — заметил Рода, показывая на нее.
— Войдем туда, — предложил Матарет.
Губы у него дрожали от нервного напряжения, глаза непривычно блестели. Рукой он уже схватился за лестницу, поспешно, жадно. Его трудно было узнать, он выглядел так, как будто его впервые в жизни что-то заинтересовало.
Но магистр Рода не смотрел на него в эту минуту. Окруженный учениками, он снова читал им лекцию о том, что Земля — планета необитаемая, и, показывая на снаряд, говорил, насколько глупым является предположение, что такой стальной колосс мог долететь до Земли, несомненно очень отдаленной от Луны. Матарет нетерпеливо прервал его:
— Ты что, ждешь, чтобы вернулся какой-нибудь охранник?
Рода посмотрел на машину.
— Не представляю, как взяться за дело… — прошептал он.
— Увидим. Сначала надо изучить все…
Говоря это, он снова сделал попытку подняться по лестнице, но веревки, истлевшие во влажном воздухе, рассыпались у него в руках прежде, чем он мог поставить ногу в петлю. Тогда началось совещание, из чего сделать лестницу. Никакого материала под рукой не было, но один из присутствующих обратил внимание на домик, в котором жила Нехем. Было решено разобрать крышу и из многочисленных жердей сделать сооружение, по которому можно было бы достать до вершины снаряда, где находилась входная дверь.
Женщина подняла шум, но теперь на нее никто не обращал внимания. Сильные молодые руки поспешно разрушали убогую хижину. Рода участия в работе не принимал, он только отдавал приказы.
Наконец все было готово. Было построено что-то наподобие ступеней, по которым можно было с некоторым трудом добраться до верха стального цилиндра и торчащего в нем снаряда.
Матарет поднимался первым, за ним шел Рода. После долгих безрезультатных попыток им удалось наконец открыть дверь, ведущую внутрь. Металлическая лестница опускалась оттуда до самого дна снаряда. Рода, посмотрев вниз, заколебался:
— Нам незачем туда спускаться, там темно…
— Иди, — слегка подпихнул его Матарет.
Когда Рода углубился вниз, Матарет, еще стоя на ступенях, захлопнул за собой дверь. В тот же момент включился электрический свет, автоматически зажигающийся при закрытии двери.
— Что ты делаешь? — крикнул Рода.
— Ничего, — спокойно ответил Матарет и спустился вниз.
Рода был странно обеспокоен, оказавшись наедине с товарищем внутри таинственного снаряда, но старался не показать этого. Он начал осматриваться вокруг и тоном наставника объяснять Матарету механизм и устройство, о котором сам некогда услышал от Победителя.
Матарет рассеянно слушал его, одновременно обследуя стены снаряда.
— Это та самая кнопка, не правда ли? — неожиданно спросил он, показывая на костяную кнопку в металлической оправе, торчащую в стене под колпаком из тонкого стекла.
— Какая кнопка? — спросил Рода.
— Эту кнопку надо нажать, чтобы… отправиться в дорогу?
— Да. Мне кажется, да… Осторожнее! Не трогай! — быстро добавил он, заметив, что Матарет протягивает руку в сторону кнопки. — Мы можем нечаянно взлететь…
— Почему нечаянно? — сказал Матарет со странной усмешкой.
Рода пожал плечами.
— Пойдем отсюда. Мы уже достаточно здесь сидим.
Матарет остановил его.
— Подожди. А если бы мы в самом деле вылетели «на ту сторону» вдвоем?
— Ты что, сошел с ума?
— Нет. Как бы то ни было, ведь Победитель сражается на нашей стороне, и ему нужна помощь, потому что иначе он погибнет в войне с шернами… Можно было бы получить эту помощь на «той стороне»… Наверное, они окажут ее, когда узнают…
Рода встал между Матаретом и зловещей кнопкой в стене.
— Выходим отсюда немедленно! — заявил он. — Иди вперед и отворяй дверь!
Матарет засмеялся.
— Испугался? Не бойся! У меня нет намерения… Это была просто шутка…
В ту же секунду, однако, он быстрым движением проскользнул под рукой магистра и, разбив стекло, нажал на кнопку, вдавив ее в металлическое кольцо.
Легкая дрожь сотрясла снаряд.
— Что ты делаешь?! — закричал Рода.
Матарет побледнел.
— Не знаю, не ошибся ли ты, — сказал он. — По-моему, мы стоим на месте…
— Ты нажал кнопку?!
— Да.
Рода ринулся к лестнице, но Матарет остановил его.
— Если мы уже летим в пространстве, нельзя отворять дверь. Тут где-нибудь должно быть окно…
После долгих поисков они нашли металлическую плиту в полу, закрывающую толстый стеклянный блок.
Матарет выругался и уставился в него. Когда он поднялся, был бледным, как мертвец, в глазах его застыло невероятное удивление.
— Кажется, мы летим на Землю, — прошептал он.
Рода бросился к окну и взглянул в него. Там, у них под ногами, Луна уплывала с поразительной скоростью — была видна только большая часть Великой Пустыни, от которой они быстро удалялись.
Рода без сил упал на пол.
— На Землю, на Землю… — шептал он помертвевшими губами.
— Да, — тихо сказал Матарет. — Победитель говорил правду. Я не предполагал…
Тогда Рода неожиданно сорвался с места и закричал, подскакивая к нему с кулаками:
— Но Земля необитаема! Понятно? Необитаема! Сейчас я тебе докажу…
Часть третья
I
Нехем, вырвавшись из рук членов Братства Правды, в ужасе бежала через равнину, когда неожиданно услышала за собой ужасный грохот и почувствовала, что порыв ветра бросает ее на землю. Придя через некоторое время в сознание, она оглянулась вокруг, и ей показалось, что ничего не изменилось. По-прежнему среди зеленых кустов торчала машина, и стояла тишина. Тогда она начала медленно возвращаться, не понимая, куда делись люди, еще минуту назад цепляющиеся за стенки машины.
Однако подойдя ближе, она забеспокоилась, заметив перемену, которая произошла. Внутренний панцирь машины, правда, стоял в том же самом месте, что и раньше, но в нем не было конуса снаряда, торчащего перед этим наверху. Она также заметила, что сооружение, построенное из остатков ее домика, исчезло без следа. Она припомнила, что, убегая и один раз обернувшись, видела членов Братства Правды, смешно цепляющихся за входное отверстие машины. Теперь их нигде не было. Ее охватило какое-то нехорошее предчувствие, и она с замершим от испуга сердцем пошла к машине, осторожная и в любой момент готовая к бегству.
В нескольких десятках шагов от машины она споткнулась и, опустив глаза на предмет, за который зацепилась ногой, издала страшный испуганный крик. Это была голова, оторванная от тела и страшно изуродованная. Ноги отказались служить ей — от ужаса она не могла даже убежать. Она скользнула блуждающим взглядом вокруг: везде лежали куски разорванных тел вместе с остатками сооружения.
Нехем в немом ужасе смотрела на всю эту картину, не понимая, что произошло. Потом снова закричала от страха и бросилась бежать. Она неслась, сама не зная, куда бежит и для чего. Она спотыкалась о камни, падала, поднималась и снова бежала вперед, задыхающаяся, лишающаяся сил, ведомая только одной мыслью: оказаться как можно дальше от того места, где произошла такая страшная и непонятная для нее вещь.
Через несколько часов она достигла края равнины и, обессиленная, упала на мох. Немного отдохнув, она начала размышлять и собирать разлетевшиеся мысли, пытаясь связать в одно целое все то, что она заметила. Но это было так необычно, что просто превосходило возможности ее мышления. Машина, по крайней мере, ее самая важная верхняя часть исчезла — это несомненно. Исчезла в одно мгновение, как будто растаяла в воздухе. Она слышала при этом страшный грохот и ощутила какой-то ужасный порыв ветра, бросившего ее на землю. Она была почти уверена, что именно этот порыв послужил причиной ужасной смерти находившихся у верхней части машины людей, но дальше она уже ничего понять не могла. Что все это значит? Почему это произошло? С какой целью? По какой причине?
Нехем почувствовала, что никогда не сможет разгадать этой загадки, и страх охватил ее с новой силой. Во всяком случае произошло что-то, что не должно было произойти — и кто знает, не она ли ответственна за то, что произошло? О сбежавших стражниках она не думала, как не думала и о том, что если бы они были на своем посту, то, вероятно, смогли бы помешать нападению, которому она не в силах была сопротивляться. Она знала только то, что эти пришедшие обманули ее и намеренно или неумышленно вызвали этот страшный несчастный случай…
А Победитель? Предчувствие говорило ей, что это произошло без его воли и без его ведома. И что если это вызовет его гнев? Этот гнев, без сомнения, прежде всего обратится на нее, которая присутствовала при этом и не смогла ничему помешать. Может быть, ей пойти и признаться во всем? Или спрятаться и никому об этом не говорить? Даже Победителю…
Эта последняя мысль особенно прочно обосновалась у нее в голове. Еще более укрепило ее такое рассуждение: если Победитель всезнающий, то совершенно излишне оповещать его о событии, о котором он и сам уже знает — скорее надо только укрыться от его гнева. А если он не всезнающий, тем лучше, узнав при случае обо всем, он не будет знать, что она, Нехем, принимала в этом какое-либо участие. В любом случае — необходимо спрятаться.
Приняв это решение и немного отдохнув, она горным ущельем направилась на юг, намереваясь затем повернуть на запад, к затерянным среди гор поселениям, чтобы быть как можно дальше от города на Теплых Озерах, где, несомненно, находится Победитель…
Она даже не знала, что в этот момент он находится за морем, воюя с шернами поблизости от другого полюса Луны…
И Марек, стоя на горном хребте и вглядываясь в далекую Землю, виднеющуюся на горизонте, даже не предполагал, что его машина с закрывшимися в ней двумя людьми находится на пути к его родной планете.
Приближался вечер, и он ждал прибытия подкрепления во главе с Еретом. Борьба становилась все тяжелее, и падающим от недосыпания и усталости людям стало недоставать сил. Вопреки установившейся традиции они из нападающих превратились в обороняющихся. Никто уже не думал о том, чтобы уничтожить шернов в их гнездах — речь теперь шла только о том, чтобы удержаться на занятых позициях и дождаться подкрепления. Вслух об отступлении не говорилось, но большая часть воинов уже думала об этом, как о неотвратимом событии, которое отдаляется только по причине слишком слабых сил горстки людей, могущей просто погибнуть при тяжелом переходе через страну, недавно еще пройденную с триумфом. Поэтому они с беспокойством и тоской ожидали, когда явится Ерет с подкреплением, соединившись с которым, они с большей вероятностью смогли бы добраться до Великого Моря…
Звезда Победителя тускнела.
Он сам ничего не говорил и никому не рассказывал о своих намерениях. Он только приказал поднять на веревках по самой удобной «дороге», засыпанной снегом расщелине, орудия, оставленные внизу, направить их стволы на город шернов и ждал. Орудия стояли неподвижно, так как снарядов тоже осталось немного. Поэтому воины ограничивались только отбиванием атак все еще изредка нападающих шернов, трупами которых были засыпаны все скалы вокруг.
Так прошел еще один день, бесконечно долгий лунный день. Под вечер Победитель, до сих пор сохранявший невозмутимость, явно начал беспокоиться. С самой высокой точки вершины, окруженный группой лучших стрелков, он через бинокль осматривал окрестности, постоянно обращая взор в ту сторону, откуда должно было прибыть подкрепление. Лицо у него вытягивалось, и он мрачно хмурил брови, не видя среди ущелий ничего похожего на идущих людей… До захода солнца оставалось чуть больше пятидесяти часов.
Он уже собирался дать своим людям знак к возвращению на внутреннюю сторону горного кольца, где располагались главные силы, когда его остановило неожиданное устремление к долине шернов, до сих пор неотступно кружащихся вокруг его войска. У него мелькнула мысль, что появился Ерет с подкреплением, и шерны хотят помешать их объединению. Тогда вместо того, чтобы вернуться назад, он направился со своим отрядом вниз, туда, где находились люди, охраняющие дорогу, и приказал немедленно открыть огонь остатками снарядов.
Затрещали выстрелы из ручного оружия, и пули полетели в нависшую над снегами тучу шернов… И сразу же, как божественная музыка в ушах Победителя, снизу тоже послышались выстрелы — несомненно приближался Ерет.
Двумя часами позднее уже можно было увидеть их отряд, в сражениях поднимающийся по расщелине вверх. Люди шли медленно, часто отстреливаясь, обвешанные поклажей с оружием и боеприпасами. Марек выслал им в помощь часть своего отряда.
Когда наконец на снежном склоне войско объединилось и шерны исчезли в расщелинах, оставив после себя множество трупов, Ерет, залитый потом и кровью, приблизился к Победителю, чтобы дать ему отчет о своей поездке… Марек, однако, не стал его слушать.
— Потом, потом, — оборвал он его. — Это все, которые смогли прибыть?
— Я оставил за морем Анаша. Может быть, завтра он привезет еще людей… если они сумеют дойти…
— Хорошо. На отдых у нас времени нет. Принимай командование над всеми этими людьми и веди их за мной на ту сторону, к моему отряду.
— Разве не было бы лучше тех вызвать сюда? — спросил, думая о возвращении домой, один из подчиненных Марека, командующий одним из отрядов.
Марек, не ответив, направился в гору.
Они перешли через заснеженный перевал и спустились на расположенную между скал площадку, где отдыхала основная часть воинов. Новоприбывшие стали громко здороваться с воинами, те, в свою очередь, радостно принимали их, уверенные, что их приход сулит им скорое возвращение на родину. О присутствии еще недавно обожествляемого Победителя было забыто, всех беспокоило только то, что наступает долгая ночь, которую придется провести здесь.
Победитель тем временем быстро оборвал приветствия и, к безмерному удивлению воинов, приказал немедленно раздать оружие и разбиться на отряды. Солдаты по привычке выслушали его, но среди них прошел ропот недовольства. Некоторые уже громко жаловались, что падают с ног от усталости и вполголоса говорили о том, что весь этот поход был напрасным и кровавым безумством.
Марек услышал это и, как бы в ответ, отдал Ерету приказ расставить людей при орудиях, давно приготовленных. Потом, посмотрев на клонящееся солнце, обратился к войску:
— У нас есть сорок часов до захода. Этого достаточно. Мы будем ночевать в городе шернов.
Короткие и неожиданные слова как гром обрушились на солдат. С минуту все ошеломленно молчали, потом послышался громкий восторженный вопль. Люди, уже разочарованные и готовые к позорному возвращению, даже бегству, снова почувствовали, что ими управляет Победитель, с которым им следует идти на жизнь и на смерть.
Марек не дал остыть первоначальному возбуждению и не оставил своим людям времени на размышление. Громыхнули орудия, и под их защитой войско поспешно стало спускаться в долину.
К этому внезапному нападению шерны, видимо, не были готовы, особенно теперь, когда день двигался к концу. Они даже не смогли оказать сильного сопротивления. Только слетались отовсюду отдельными группами, бессильно кружились с криком над головами продвигающегося вперед войска и погибали в огромных количествах, не сумев задержать идущих. Победа, которая, казалось, осталась в тылу, на широких равнинах, снова шла впереди воинов, как в прежние добрые времена…
За несколько часов, не останавливая войско, Марек преодолел большую часть котловины, наполняя кровью и трупами шернов тихие сапфирные озера среди зеленых лугов. Встречавшиеся по дороге жилища поспешно разрушались, и воины шли вперед к городу, расположенному на центральном скалистом конусе. Тем временем орудия из-за их спин почти непрерывно били в уже шатающиеся стены…
Ерет смотрел на Победителя восторженными глазами. Он не говорил ни слова, но было видно, что он снова видит в нем светлого бога, присланного на Луну для разгрома человеческих врагов, он теперь поклонялся ему еще больше, помня о том, что совсем недавно осмелился усомниться в нем.
А он — Победитель — тем временем подведя свое войско к подножию горы, на которой поднимались стены и башни города, не остановился и здесь, лишь указал рукой на неприступные с виду скалы:
— Вперед! Вперед! Пока солнце не зашло!
Однако это легче было приказать, нежели выполнить. Воины буквально падали от усталости, в глотках у них пересохло, а глаза, ослепшие от постоянных вспышек выстрелов, едва различали дорогу перед собой.
— Надо отдохнуть, господин! — неуверенно сказал Ерет.
Но Марек протестующе покачал головой.
— Ни одного часа, — сказал он, — солнце от нас уходит, и шерны могут опомниться!
— Половина солдат погибнет…
— Да, но другая половина дойдет со мной туда!
Говоря это, он показал на вершину, освещенную последними лучами солнца, уже скрывшегося за окружающими скалами.
Снова загрохотали орудия, и войско начало подъем по крутому откосу под градом снарядов и камней, бросаемых сверху шернами.
Неизвестно, каким был бы результат этого безумного штурма, если бы не счастливая случайность. В тот момент, когда воины смешались, невольно отступив, и в любой момент среди них могла возникнуть гибельная паника, Нузар, идущий впереди рядом с Победителем, обнаружил в расщелине вход в пещеру, с ведущими внутрь горы ступенями. Это, видимо, была дорога в город для тех обитателей, которые хотели, по причине утомления или сильного ветра, воспользоваться не крыльями, а ногами.
В эту темную горловину, закрывающую людей от снарядов, бросаемых сверху, Марек немедленно ввел своих воинов. Кованые ворота, закрывающие на определенной высоте вход, без труда высадили при помощи подложенной мины, и воины бросились наверх, вслепую стреляя во все стороны, чтобы очистить дорогу от неприятеля.
Наконец вырубленный в скале коридор кончился, и воины вышли на обширную площадку, расположенную уже над скалами. Снизу ее не было видно, и они также не видели отсюда своих товарищей, оставленных около пушек, но зато постоянно слышали грохот выстрелов, бьющих по стенам города, которые поднимались в нескольких сотнях метров перед ними. Марек приказал дать трехкратный залп, условный знак, чтобы прекратить огонь, и пошел прямо в город через выбитый в стене пролом.
Среди шернов началась паника. Видимо, произошла совершенно неожиданная для них вещь, потому что, даже не пытаясь обороняться, они сорвались с места, как вспугнутая птичья стая, и начали слетать вниз, оставляя город победителям.
Солнце уже заходило, когда Марек, приказав втянуть на веревках оставленные внизу орудия, располагался на ночлег в опустевшем городе. Везде были зажжены огни и поставлена охрана, чтобы предупредить неожиданное ночное нападение шернов; часть воинов несла караул, внимательно следя, не промелькнет ли над головой тень пролетающего шерна, чтобы немедленно сразить его точным выстрелом.
Тем временем Марек вместе с Еретом в наступающей темноте закрылся в одном из огромных зданий, превратившемся от старости и от недавнего обстрела в развалины.
Он сидел на каком-то камне, похожем на старый алтарь, опершись локтями на колени и положив подбородок на сложенные ладони, всматриваясь широко открытыми, неподвижными глазами в пылающий костер. Неподалеку на разостланной шкуре лежал Ерет. Он был ранен в ногу брошенным с горы камнем; на похудевшем и потемневшем от усталости лице только глаза у него горели лихорадочным блеском. Он, приподнявшись на локте, рассказывал Победителю о событиях прошедшего дня, отчаянно жестикулируя другой рукой. Говорил о том, как от моря и до гор они шли по пустой стране, встречая по дороге только остывшие пепелища, которые оставили в первый раз, и как на входе в горную страну встретили отряды шернов, пытающихся остановить их. Он рассказывал о тяжелом труде и о неустанных сражениях, когда каждый метр дороги нужно было отвоевывать с кровью — и о грозящем им разгроме у подножия горы, от которого их спасла только своевременная помощь Марека…
Победитель слушал молча, мрачный и неподвижный. Только когда Ерет, рассказывая о своей посольской миссии, описывал беспокойство и недовольство там, в стране людей, брови у него на мгновение сошлись…
Наконец молодой воин замолчал и вопросительным взглядом посмотрел в лицо Марека. Было видно, что на устах у него дрожит с трудом сдерживаемый вопрос: что дальше? После совершенно невероятной последней победы он отказался от всяких сомнений, если они у него еще были, в том, что Победитель послан им Богом, и в его божественной силе, но тем не менее беспокойство о будущем мешало его радости. Он знал, если Победитель решит продолжать сражение дальше, воины падут от усталости.
И Марек чувствовал то же самое. Теперь в завоеванном городе шернов, горном, защищенном и все-таки завоеванном, он ясней чем когда-либо ощущал, что об окончательном и полном разгроме первых жителей Луны не может быть и речи. На это потребовались бы целые года и гораздо больше сил, нежели те, которыми люди здесь вообще могли располагать…
Его невеселые размышления прервал приход нескольких стражников. Они привели шерна, уже поседевшего от старости, которого захватили в одном из близлежащих зданий. Поскольку он не сделал даже попытки обороняться или сбежать, его не убили, а согласно приказу Победителя, который велел одиночек брать живьем в качестве языка, привели целым и невредимым к нему.
Старый шерн был одет в удивительную одежду, густо расшитую драгоценными камнями, на руках и ногах у него были золотые обручи. Поставленный перед Мареком, он смотрел на него с любопытством, но спокойно.
Марек обратился к нему, но тот только покачал головой в знак того, что не понимает, и лоб у него засветился тусклыми огнями. Среди присутствующих никто не понимал разговора светом — поэтому все бросились на поиски Нузара и двух подчиненных ему морцев, которые, воспитанные среди шернов, могли, вероятно, служить переводчиками.
Пока их не было, Марек стал расспрашивать солдат об обстоятельствах, при которых был пойман шерн. Те рассказали ему удивительную вещь. В круглой башне, поднимающейся невдалеке от здания, в котором сейчас находились, они в поисках ночлега набрели на замшелый склеп у самой вершины…
Весь город был пустым и заброшенным, никто в нем до сих пор не встречал ни одного шерна, поэтому и тут они не рассчитывали найти никого.
Склеп, однако, был заперт. Они решили, что шерны, улетев при наступлении врагов через окно, оставили дверь запертой. Поэтому было решено взяться за работу и высадить дверь, никому даже в голову не пришло, что ночлег можно найти и в другом месте…
— Мы, конечно, были очень утомлены, — сказал один из солдат, — но когда человек разгорячится в борьбе, то даже если с ног валится, радуется возможности уничтожить то, что попалось под руку. Кроме того, эта башня была странной и заинтересовала нас. [а стенах около лестницы были какие-то знаки, а снизу мы видели на крыше какие-то непонятные сооружения… Когда мы с трудом разбили эту дверь, которая была крепкой и толстой, я первым вбежал в комнату и там заметил шерна. Не знаю, как об этом сказать, но когда я его увидел, то сразу понял, что это какой-то сумасшедший шерн. Он совершенно спокойно сидел спиной к нам и красил камни.
— Что делал? — спросил Марек, не понимая.
— Говорю: красил камни. Он даже не пошевелился, когда мы вошли. Там вся комната была полна камней в виде шаров, размером чуть больше кулака и покрытых пятнами самых разных цветов. Они лежат на полках. Вот, я взял один, показать вам.
Говоря это, он подал Победителю большой шар, выточенный из камня, который от одного до другого полюса был покрыт мелкими разноцветными пятнышками, образовывающими спиральную линию. Марек взял шар в руки и долго всматривался в него, потом посмотрел на шерна. Тот весь дрожал, с беспокойством глядя на руки Марека. Победитель начал подбрасывать шарик кверху, как бы играя им — глаза шерна бегали за ним, следя за каждым движением шара.
В эту минуту как раз было доложено, что идет Нузар с товарищами. Морцы вошли и, заметив шерна, были так поражены его видом, что даже забыли отдать обычный поклон Победителю. Они, онемев, смотрели на старое чудовище, с видимым удивлением поглядывая на крепкие ремни, которые обвивались вокруг его запястий рядом с золотыми обручами. Неожиданно Нузар, бросив взгляд на шар, взлетающий в руках Марека, поднял вверх руки и упал ниц перед Победителем.
— Ты — господин, — воскликнул он, — ты — самый могущественный! Ты поймал Великого Шерна, о котором наши уши только слышали, потому что глазам нашим его видеть было нельзя! И вот мы смотрим на него, как он связанный стоит перед тобой, господином.
Два сопутствующих ему морца также упали ниц, бормоча что-то нечленораздельное. Только по прошествии длительного времени Марек сумел вытянуть из них какие-то объяснения…
Они издавна слышали от шернов, что в каком-то недоступном месте находится всезнающий старик, называемый Великим Шерном, хранитель великих тайн, веками записываемых шернами разными цветами на круглых камешках. Шерны считали его священным и неприкосновенным существом, хотя он не управлял ими и не отдавал никаких приказов. Они сами не хотели ничего знать, считая это непомерной тяжестью и больше всего ценя забвение, но он знал все и, чувствуя приближающуюся смерть, выбирал заместителя, которого посвящал во все, чтобы эти знания не пропали…
Великий Шерн также записывал все важное, что происходит, и охранял все это. Морцы узнали его по плащу и золотым обручам, а кроме того, по круглому камню, к которым в стране шернов нельзя, под угрозой смерти, прикасаться никому, кроме этого старика.
Марек с удивлением слушал эти рассказы, с любопытством глядя на старика. Потом спросил морцев, могут ли они поговорить с шерном?
Нузар растерялся.
— Если он будет разговаривать световыми вспышками, мы можем ошибиться, — заявил он, — а голосом он ничего не скажет, потому что никогда не жил среди людей. Шерны между собой голос употребляют только так, как люди движения рук или головы, для выражения самых простых вещей, когда не могут посмотреть друг другу на светящийся лоб. Что же мы тогда сможем понять?
Несмотря на это, Победитель потребовал, чтобы они сделали попытку выяснить у шерна, почему он не сбежал вместе с остальными? Нузар отступил, чувствуя, что не в силах этого выразить; тогда двое оставшихся морцев начали издавать дикие и скрежещущие звуки, помогая себе при этом определенными движениями. Шерн брезгливо посмотрел на них, а потом на лбу у него блеснула вспышка. Морцы, умолкнув, напряженно вглядывались в смешивающиеся цвета…
— Что он говорит? — нетерпеливо спросил Марек.
— Говорит, что ему так захотелось, — ответил Нузар с некоторым колебанием в голосе.
— Как это? И ничего больше?
— Нет, господин. Говорит, что ему так захотелось.
Марек встал и подошел к неподвижно стоящему шерну. Чудовищное лицо старика было спокойно, он с легким презрением смотрел на великана, в два раза превышающего его ростом. В нем не чувствовалось ни тревоги, ни смятения, только тень любопытства мелькнула в двух парах кровавых тусклых глаз…
— Скажите ему, — попросил Марек, повернувшись к морцам, — скажите ему, что он будет жив и свободен, если захочет ответить на мои вопросы…
Морцы снова начали выть и скрежетать, оживленно при этом жестикулируя, и когда, по прошествии некоторого времени, шерн что-то блеснул им, повернулись к Победителю с обеспокоенным выражением на тупых лицах.
— Он говорит, что если бы ему была нужна жизнь, он бы улетел вместе с остальными… Он только хотел увидеть…
Морец оборвал фразу.
— Победителя! — быстро сказал Нузар.
— Он так сказал? На самом деле?
— Он сказал иначе, но мы не смеем…
— Говори!
— Большого и глупого пса хотел увидеть, — закончил морец с неуверенной улыбкой.
Все дальнейшие попытки что-либо узнать у шерна кончились ничем. Казалось, он совершенно равнодушен к тому, что его ждет и что с ним сделают, ни угрозы, ни обещания вознаграждения не могли заставить его давать ответы на вопросы. Один только раз, когда Победитель спросил его о содержании каменных книг, находящихся в его распоряжении, он высокомерно усмехнулся и ответил:
— Пойди и прочти, — после чего хранил уже ничем не нарушаемое молчание.
Тогда Марек велел отвести шерна в его комнату в башне и поставить около него бдительную стражу. Сам же, отправив морцев и Ерета, вышел на улицу, чтобы вдохнуть немного свежего морозного воздуха.
Небо было ясное, усыпанное звездами. Снег еще не падал, только иней покрыл улицу и плоские крыши домов. Марек, при свете взятого с собой фонаря, обнаружил наполовину разрушенные ступени, ведущие на вершину купола здания, и начал медленно подниматься туда. Камни узкого прохода были еще теплыми, сохранившими жар прошедшего дня, в тусклом свете фонаря на них виднелись остатки какой-то резьбы и рисунков, выполненных, видимо, много веков назад и все это время гибнувших в забвении… В одном месте, где поднимающийся наверх коридор вдруг расширился и образовал низкую полукруглую комнату, Победителя остановила удивительная картина, сложенная из множества соприкасающихся колец. Он поднял фонарь и стал внимательно рассматривать поблекшие остатки…
— Я не ошибся… — прошептал он себе, — но это удивительно!..
Эти кольца были ничем иным, как картами земной планеты, сделанными с разных сторон. Уже стершийся рисунок не позволял различить подробности, но было видно, что карты должны были быть очень подробными. Контуры континентов, морей, ленты гор обозначены были безошибочно… А над всем этим тянулся волнистый пояс черного цвета с оранжево-желтыми на этом фоне языками. «Может быть, на цветном языке шернов это означает проклятие ненавистной планете?» — думал Марек, поднимаясь выше.
Через несколько шагов он снова попал в широкую нишу и вновь нашел в ней подобные рисунки, только, без сомнения, еще более древние, поскольку рисунки почти исчезли на серой поверхности камня. И это была, без сомнения, Земля, но какая-то иная, нежели та, которая известна людям. Внутри одного из колец можно было обнаружить нечто похожее на Европу, но Средиземное море было только узким замкнутым озером, а морской залив проникал далеко на север до самых Карпат…
Странное чувство охватило Марека. Он не сомневался, что перед ним карта его родной планеты в давние доисторические времена, когда даже люди еще не существовали, а глаза шернов уже наблюдали за планетой, висящей над пустыней в черном небе…
Его охватил какой-то страх; он ускорил шаги, чтобы скорее попасть из этого душного коридора на вершину купола…
Когда он остановился на маленькой площадке у вершины, на Луне уже была непроглядная ночь. Темнота заливала город, котловину и горы, скрывая даже белизну снега. Только в южной стороне он увидел легкий серебристый отблеск над зубцами торчащих вершин и узнал блеск далекой Земли, спрятавшейся там, за горизонтом…
Он с тоской протянул к ней руки — утешением ему служила только мысль, что еще несколько долгих лунных дней — и он полетит в своей сверкающей машине через небесное пространство туда, домой, оставляя позади себя без сожаления этот страшный мир.
II
Солнце еще было скрыто за окружающими горами и снежные вершины на западе только чуть розовели от первых золотистых лучей, когда Марек в обществе Ерета и нескольких старших воинов вышел на осмотр завоеванного города.
Он был рад, что ночь уже прошла, долгая тяжелая ночь, во время которой мрачные мысли, как зловещие птицы, все время сидели у его изголовья, ожидая, когда он пробудится от короткого мучительного сна, чтобы наброситься на него всей стаей. В эти часы бодрствования при свете пылающего на каменном полу огня все его действия и все «победы» представали перед ним в удивительно мрачном облике. Он понимал, что решился на безумное и, к сожалению, совершенно бесполезное дело. Он захватил этот город, но уже чувствовал, что против воли будет в нем узником… Заснув на короткое мгновение, он видел во сне ночное нападение шернов, срывался в ужасе с постели и бежал посмотреть, на месте ли стража и не блестят ли наверху под затуманенными звездами белые огоньки подлетающей стаи шернов. Вокруг, однако, была нерушимая тишина и покой. Но шерны, видимо, не хотели начинать схватку в ночной темноте, либо боялись холода, либо еще не опомнились от недавнего разгрома и не успели собрать достаточно сил, во всяком случае спокойного сна победителей ничто не нарушало… Тогда Марек возвращался в дом и, вглядываясь в пылающий огонь, пытался строить какие-то планы, прорваться мыслью за этот мрак безнадежности, окружающий его. Все было напрасно…
В конце концов он отказался от этих бесплодных размышлений. Под утро его сморил сон, длившийся около суток, от которого он пробудился сильным и успокоившимся. Правда, вдохновение на него так и не сошло, и он не смог придумать никакого плана дальнейших действий, но благодаря своей физический сильной и здоровой природе сохранял определенное безразличие к тому, что может произойти. Он думал только о настоящей минуте, о том, что находится в удивительном месте, где каждый камень и каждое строение могли открыть ему даже не снившиеся необыкновенные тайны.
Он поспешно оделся и, не ожидая восхода солнца, вызвал свиту, которая должна была ему сопутствовать. На выходе он, однако, получил неприятное известие: Великий Шерн, пойманный вечером, в течение ночи исчез без следа. Воины, охранявшие его, клялись, что его, должно быть, унесла какая-то нечистая сила, потому что несмотря на то, что узник не был связан, двери темницы были тщательно заперты и охрана не отлучалась ни на минуту. Кроме того, с ним вместе исчезли и разрисованные камни, которые заполняли комнату.
Марек, услышав это, задумался. Даже если допустить, что шерн сбежал из-за недосмотра стражи, то куда могла деться «библиотека» из камней, весящая слишком много, чтобы ее можно было унести не только одному, но даже ста шернам? А такую стаю, прилетевшую за камнями, стражники, несомненно, заметили бы…
Внезапно у него блеснула мысль, как луч неожиданного света. Он понял, что Великий Шерн остался здесь именно для того, чтобы спасти свои «книги», которые, видимо, не успел укрыть во время неожиданного нападения людей. Теперь же он выполнил свое задание и ушел. Выполнил задание, значит, поместил ценные камни в какое-то таинственное и невидимое глазу укрытие, может быть, выдолбленное где-то в стене и замаскированное полированным камнем, и, сделав это, каким-то тайным путем попал на крышу и, воспользовавшись темнотой ночи, незаметно спустился на широких крыльях в долину.
Первым побуждением Победителя было отдать приказ своим людям, чтобы они обыскали всю комнату и в случае необходимости разрушили стены, чтобы найти спрятанные камни, но это намерение вскоре испарилось, растворившись в странном, сложном и неприятном чувстве.
Он наклонил голову и молча посмотрел на окружающих его людей… Какое-то мгновение у него было впечатление, что он является сообщником всех этих разгромленных шернов и должен защищать сокровища их знаний от уничтожающих рук человеческих варваров. Он отряхнулся от него, но ему сразу же пришло в голову, что из этих камней, даже если он их найдет, он ничего не сможет узнать, не сможет прочесть их цветового письма, а разрушение стен займет много сил и времени, и, кто знает, не будет ли эта работа напрасной… Он ничего не сказал воинам, принесшим ему известие, и медленно пошел через город…
Дома везде были каменные, и редко какой-либо из них имел дверь на уровне улицы. У большей их части были только окна и перед ними плоские балконы, видимо, служащие шернам для взлета. Все строения были старыми и, видимо, в течение долгого времени не ремонтировались. С верхних этажей осыпались камни, внизу дома обрастали мхом и становились похожими на природные скалы.
В один из таких домов Марек зашел и, миновав мрачный и тесный коридор, неожиданно оказался в круглом зале, выглядевшем необычно роскошно. Каменный пол устилал постриженный и раскрашенный цветными узорами мех, на первый взгляд похожий на тканые ковры. На стенах висело какое-то удивительное оружие, ковры и украшения неслыханно искусной работы. На низких, квадратных диванах лежали брошенные пурпурные и мягкие ткани, распространяющие какой-то упоительный аромат… В шкатулках из резной кости ручной работы находились целые сокровища: драгоценные камни, жемчуг, украшения.
Двери, отворенные над высоким каменным балконом, указывали путь, по которому ушли обитатели этого дома.
Марек, склонившись, прошел через слишком низкую для его роста дверь и вышел на балкон, подвешенный в воздухе.
Солнце как раз всходило, половина его диска уже лениво выплывала из-за зубастых вершин. Лучи его золотили город, не принося пока с собой тепла. В долине, у подножия гор, поднимался беловатый туман, похожий на море, замкнутое в кольце гор, в центре которого торчал одинокий остров с выстроенным на нем городом.
Чувство безнадежного одиночества охватило Победителя. Он взглянул на спутников и по их лицам увидел, что они чувствуют то же самое. Вот они стоят здесь, горстка дерзких людей, — отделенные от своих домов долиной и горами, широкими просторами и морем; они являются хозяевами в захваченном вражеском городе, но даже не знают, что делается вокруг них под этой пеленой тумана, застилающей всю долину…
Об этом думал Победитель, когда на улицах города послышались беспокойные голоса — сначала отдельные, потом все более многочисленные. Воины в тревоге искали своего вождя. Первым их заметил с балкона Ерет и показал ему.
— Победитель, — сказал он, — произошло что-то плохое. Тебя ищут.
Марек повернулся и посмотрел в глубину улицы, напрасно стараясь понять что-то из доносящихся криков. Но у Ерета слух был лучше, или он лучше понимал голоса своих земляков, потому что, послушав немного, он сказал приглушенным голосом:
— Шерны наступают…
Нельзя было терять ни минуты. Марек отправился обратно на площадь пёред домом, в котором ночевал. Когда он снова проходил через богато убранную комнату, ему пришло в голову, что в городе осталось много сокровищ после сбежавших шернов, но продуктов очень мало, так как солдатам с трудом удалось собрать немного еды. Сначала он подумал об этом равнодушно, но потом эта же мысль вернулась к нему с пугающей ясностью. Вряд ли это можно считать случайностью! Шерны унесли с собой запасы продовольствия или уничтожили их, насколько им позволило время, отдавая в руки врагов сокровища и мертвое имущество! А теперь… теперь?
На площади войско с нетерпением ожидало вождя. Горсточка солдат, оставленная на ночь у подножия горы, вернулась, сокрушенная внезапным нападением шернов. Оставшиеся в живых рассказывали, что вся долина роится от чудовищ, которые окружают город плотным кольцом с явным намерением взять в плен дерзких захватчиков…
Марек, получив это сообщение, посмотрел в лицо Ерету. Тот стоял, опустив голову и нахмурив брови.
— Что будем делать? — спросил Победитель.
Молодой вождь пожал плечами.
— Ты меня спрашиваешь, господин? Ты совершил такой подвиг, завоевал неприступный город шернов, а теперь…
Он оборвал фразу и замолчал.
Марек больше ни о чем не спрашивал. Мрачный, но решительный, он отдал войску приказ готовиться покинуть ценой такой крови завоеванную твердыню.
Когда войско поспешным маршем спустилось по скалистому склону, туман внизу уже рассеялся, открыв всю обширную зеленую котловину. Теперь она почернела от шернов, заполнивших всю ее.
Победитель поднял руку, указывая спутникам на далекий горный хребет…
То, что произошло потом, было похоже на переполох, который поднимается в улье, когда через него хочет пройти жук-разрушитель. У обороняющихся людей буквально отваливались руки и немели шеи от постоянного подъема головы к падающим с неба врагам.
Каждую пядь пространства нужно было отвоевывать, каждый шаг покупать ценой крови. Они шли, прокладывая себе дорогу среди живых тел. А котловина перед ними, казалось, никогда не кончится…
Наконец они закрепились у маленького озера и тут, остановившись у прибрежных скал, стали плотным огнем пробивать себе дорогу к горам. А когда атака шернов ослабла на минуту и сбившиеся отряды стали разлетаться, не в силах выдержать огня, люди, не дожидаясь, пока враг опомнится, быстро ринулись вперед, уничтожая по дороге запоздавшие убежать группы.
Так медленно они продвигались к горам, глядя ослепшими от дыма и вспышек выстрелов глазами на касающийся неба горный хребет, как будто бы он мог служить им защитой…
Марек этих надежд не разделял; он был уверен, что с минуты выступления на горный склон битва только обострится, так как шерны захотят использовать невыгодное положение взбирающихся наверх воинов. Он часто поглядывал в сторону заснеженных вершин, стараясь выследить сидящих в засаде шернов, готовых сбрасывать сверху тяжелые камни… К счастью, опасения оказались напрасными. Или шерны, несмотря на численное превосходство, были изнурены сражением, которое и им дорого обошлось, или они просто не предполагали, что люди смогут пройти живыми через котловину: во всяком случае они не подумали о засаде на горном хребте. Они даже отступили от него, когда отряд Марека начал взбираться по склону, дав падающим от усталости людям минуту отдыха…
Солдаты передохнули немного и, набравшись сил, снова направились в гору, не задерживаясь. Марек шел впереди, бдительно глядя во все стороны — только назад оглядываться не смел, чтобы не видеть наполовину поредевших рядов. Преимущество им давало только огнестрельное оружие, поэтому теперь он дрожал при мысли, что шерны, обыскав убитых, могут забрать у них оружие и заряды и обратить его против оставшейся горстки. И тогда он шел еще быстрее, чувствуя, что их спасение только в бегстве.
Люди иногда окликали его: «Победитель!», но он каждый раз, слыша это обращение, только болезненно сжимал губы, как будто ему в лицо бросали оскорбление. Впрочем, тяжелый поход проходил в молчании, иногда только прерываемом редкими схватками с догоняющими отряд шернами. Тогда они ненадолго останавливались и стреляли по нападающим, а потом снова шли вперед, все выше и выше.
На перевале Марек решил отдохнуть подольше. Усталые воины, забыв обо всем, даже о все еще грозящей опасности, падали на снег и мгновенно засыпали, как будто их внезапно настигала смерть. Прошло немного времени, и Победитель остался только один, глядя на освещенную солнцем оставленную котловину.
Он протер рукой лоб и глаза, как будто хотел согнать с них сон. Потому что все происшедшее казалось ему теперь страшным сном: сражение, удивительный захваченный город и это кровавое отступление… Тихие заснеженные горы были здесь вокруг него, и там внизу лежала тихая зеленая котловина с множеством озер. Мысли его исчезали в какой-то странной пустоте.
«Зачем, зачем было это все?» — честно спрашивал он себя в душе и не находил ответа на этот простой вопрос…
Он медленно повернулся к югу, в сторону полюса.
Легкое, белое, клубящееся облако над горами.
Земля.
Она уже вышла из первой четверти и медленно приближалась к полной фазе, верхним краем своего диска представ перед глазами Победителя. Вокруг была невероятная чистота, весь лунный мир замер в блеске солнца, низким полукругом проходящего по небу.
Марек задумался. Широко раскрытыми глазами смотрел он теперь на Землю и думал, что его ждет тяжелая работа, прежде чем он сможет, закончив свой труд, вернуться туда — на родную свою планету. Еще он думал о том, что оставит лунным людям после себя. Он не завершил и уже знает, что не завершит начатого дела: истребить всех шернов на Луне — но с огнем и мечом он прошел через всю вражью страну и научил этих чудовищ бояться человека и его оружия, а отряд его вооруженных товарищей, хотя и понесший большие потери, умеет теперь поворачиваться лицом к шернам в открытом бою и побеждать их, если они когда-нибудь еще решат покуситься на завоевание людских земель…
Он утешался этими размышлениями и еще тем, что когда благополучно вернется к человеческим поселениям перед отлетом с Луны, упорядочит там отношения между людьми, введет справедливые законы, а сильных научит милосердию и справедливости…
Возвращаться! Возвращаться как можно быстрее!
Он вскочил с места и начал будить спящих воинов. Они поднимались неохотно, потягиваясь, еще не вполне пришедшие в себя после тяжелого сна. Марек, однако, не допускал никаких проволочек. Как только они поднялись на ноги, он приказал спускаться вниз к равнинам и к морю.
Полдень застал их уже у подножия кольцевидных гор, к вечеру они надеялись подойти к равнинному краю.
Они продвигались вперед очень бодро. Их отступление, видимо, мало беспокоило шернов, нельзя же было принимать во внимание несколько мелких схваток со случайно встреченными группами, которые после одного или двух залпов быстро рассеивались. Видимо, шерны, наученные кровавым опытом, не доверяли своим силам в пустом и открытом месте. В солдатах проснулось веселое настроение. Они радовались, предчувствуя (Марек им этого не говорил), что идут домой и смогут отдохнуть после неслыханных трудов. Только Ерет мрачно смотрел перед собой и старался избегать Победителя.
В один из часов послеполуденного времени, когда они уже входили в равнинные места, Марек во время привала подошел к нему. Они уже давно не разговаривали между собой, и теперь Ерет вздрогнул, когда неожиданно услышал голос Победителя.
— Ерет, — сказал он, — я хотел с тобой посоветоваться…
— Я нахожусь здесь, господин, чтобы слушать твои приказы.
Марек кивнул ему головой, и они оба вышли из лагеря и поднялись на небольшую возвышенность над лениво текущей речушкой. Отсюда были видны палатки и крутящиеся вокруг них воины. Они были ободранные и опаленные солнцем, на похудевших лицах явно читались следы пережитых сражений. Двигались воины, однако, довольно живо, одни носили в ведрах воду для приготовления пищи, другие с оружием в руках мерным шагом обходили лагерь — это была охрана. Марек молча смотрел на этот наполовину уменьшившийся отряд своих верных товарищей, потом повернулся к Ерету с вопросом:
— Что ты думаешь об этих людях?
— Мы были верны тебе и выполнили все, что было в наших силах, Победитель…
— Почему ты постоянно называешь меня «Победитель»? — спросил Марек.
Ерет ничего не ответил. Тогда Марек, помолчав, снова спросил его:
— А что ты думаешь обо мне?
Теперь молодой военачальник поднял на него глаза и честно сказал:
— Не знаю.
Марек усмехнулся.
— Ладно, это неважно. Я хотел поговорить не об этом… Я оказался среди вас на Луне и исполняю свой долг, который добровольно взял на себя. В этих местах, где мы с тобой стоим, на равнинах, которые тянутся отсюда к морю, когда-то жили шерны. Мы не смогли истребить их в горах, но эти равнины перед нами — свободны. Я отдам их во владение людям.
— Но прежде чем сюда придут люди, — отозвался через несколько минут Ерет, — шерны вернутся в свои города на равнинах, и нужно будет начинать новое сражение.
— Нет. Люди здесь уже есть, и они не должны позволить шернам вернуться.
Ерет удивленно посмотрел на него.
— Ты бы хотел, господин?..
— Послушай меня, — прервал его Марек. — Я долго думал о том, что нужно сделать, много сомневался… Это соседство шернов в горах ни безопасно, ни удобно, но нам уже нельзя оставлять завоеванной страны, для того чтобы наш поход был не напрасным. Там, по другую сторону моря, вам уже становится тесно — здесь богатые, плодородные земли… А от шернов вы теперь умеете обороняться… Эту страну нам покидать нельзя.
Глаза Ерета неожиданно блеснули.
— Победитель! Так мы не идем домой?
— Ты с такой радостью это сказал…
— Да, господин. С радостью. Потому что я… меня там ничего не ждет…
Он замолчал и сразу помрачнел. Марек понял, что Ерет думает о девушке. Он протянул руку и легонько прикоснулся к его плечу…
— Ерет, — сказал он, — поверь мне, что у тебя нет никакой причины…
— Не будем говорить об этом, господин. Я рад, что кровь наша была пролита не напрасно. Я боялся, что ты хочешь увезти нас отсюда…
— А разве вы хотите остаться?
— Люди устали, и им хочется домой. Но думаю, что они останутся, если ты им это прикажешь, Победитель. Сначала здесь будет тяжело, потому что шерны, наверное, не оставят нас в покое. Однако мы останемся здесь, пока не придут другие, чтобы поселиться здесь и построить оборонительные сооружения.
— И ты хочешь здесь остаться?
— Да. Навсегда.
— Как хочешь. Я думал взять тебя с собой.
— Нет. Возвращайся один, господин, и дай людям на Теплых Озерах новые законы…
— Я дождусь Анаша. Согласно тому, что ты говорил, он должен сегодня привезти подкрепление…
— Думаю, что завтра мы встретим его над морем или на нашем старом пути…
Он замолчал. Через какое-то время Марек снова обратился к нему, искоса поглядывая на задумавшегося молодого человека:
— Те, кто поселится здесь, захотят построить свои жилища и обзавестись семьей… А как ты?..
— Я?
— Да. Ты когда-то собирался жениться на… внучке Малахуды. Может быть, мне прислать ее тебе сюда, когда я вернусь за море?
Ерет открыто посмотрел ему в глаза.
— Неужели ты думаешь, господин, что внучку Малахуды можно кому-то прислать?
— Думаю, что она послушает меня, если я скажу ей, что такова моя воля…
— Даже если бы она тебя послушала, неужели ты думаешь, что я принял бы ее из твоих рук?
Больше разговора об этом не было.
Палатки были быстро сложены, и отряд снова пустился в путь на север, к морю. Над большими реками и поблизости от побережья было решено оставить гарнизоны.
Перед наступающим вечером они встретили Анаша с не слишком многочисленной, но хорошо вооруженной группой людей. Он рассказал, что его прибытие задержали трудности, создаваемые первосвященником Элемом, а также неожиданное нападение шернов со стороны Перешейка, которое, однако, с легкостью было отбито благодаря помощи Малахуды.
— Чьей, чьей помощи? — спросил Победитель.
— Малахуды, — отчетливо повторил Анаш, — прежнего первосвященника. Исчезнувший старик появился неожиданно в самую трудную минуту, именно тогда, когда все потеряли голову, и принял командование над воинами, которыми Элем не сумел распорядиться. Напавших окружили и полностью истребили.
Во время остановки на ночлег, прежде чем мороз начал охватывать страну, Марек вызвал объединенный отряд и объявил им о своем намерении оставить гарнизоны в завоеванных землях. Это известие было принято без восторга, но и без возражений. Все понимали, что нужно удержать то, что завоевано такой ценой — и что единственный способ сделать это — заселить людьми эти ранее недоступные места.
Тогда Марек дал слово Ерету, который вызвал добровольцев, желающих остаться вместе с ним на посту по крайней мере до того времени, когда из-за моря прибудут новые поселенцы. Люди постепенно соглашались, особенно те, которые только что прибыли с Анашем из-за моря, но и среди ветеранов хватало таких, которые не прочь были заложить основу для будущих человеческих городов и селений.
В конце концов набрался большой отряд, который уже можно было разделить на несколько, достаточно сильных. Победитель дал воинам возможность разделиться так, как они сами сочтут нужным, предупредив только, что некоторые территории должны всегда оставаться общей собственностью и никогда не быть чьей-то личной.
Воинам этот приказ показался странным. Однако они приняли его без протеста и поклялись свято соблюдать, особенно когда услышали, что это часть новых благотворительных законов, которыми Победитель хочет осчастливить людей новой страны.
Первое поселение было решено заложить на месте, где они провели эту ночь, — и тут, на природном пути, ведущем с гор в равнинные места, должен был остаться Ерет с группой отборных воинов, как главный охранник и управляющий.
Утром, когда остальная часть воинов отправилась в путь, Победитель простился с Еретом, огорченный мыслью, что в последний раз пожимает маленькую и худую ладонь воина… Когда он уже уходил, на его губах дрожал готовый сорваться вопрос: что передать золотоволосой Ихезаль, если она спросит о нем, но, посмотрев в мрачное лицо Ерета, он только еще раз горячо пожал ему руку и ушел, не говоря ни слова…
Так они продвигались к морю, оставляя на пути гарнизоны в местах, подходящих для поселения и защищенных, и когда в послеполуденное время увидели издали волнующуюся синюю поверхность моря, с Победителем оставалась только маленькая горстка людей. У моря они встретили отряд, охраняющий оставленные сани. Здесь в качестве управляющего остался Анаш, который сначала должен был отвезти Победителя в старую страну и вернуться с поселенцами.
Солнце заходило, готовые сани уже ждали на песке, когда мороз скует море льдом, образовав им скользкий помост. Марек, растянувшись на берегу, смотрел на закат солнца. По небу разливалось зарево более красное и кровавое, чем обычно, как последний и прощальный символ этих долгих дней, полных тяжелых усилий, смерти и огня… Победитель припомнил последний вечер перед отъездом и светлую головку Ихезаль на своей груди — и молча поднял руки, как бы благодаря Бога, что его самый большой труд уже завершен и что он возвращается в страну, откуда в скором времени навсегда улетит с Луны…
Закат тем временем становился все шире и кровавей, охватывая почти полнеба. И внезапно необычный страх охватил Марека, как будто этот небесный пожар и это кровавое зарево отражали не только прошедшие дни, но одновременно являлись предзнаменованием какой-то страшной судьбы…
III
Известие о нападении шернов на человеческие поселения на этот раз пришло с запада и вызвало неслыханный переполох. Беженцы из рыбацких селений на побережье в окрестностях Перешейка доложили, что приближается отряд шернов, неизвестно откуда взявшийся, который сжигает и убивает всех на пути… Никто даже не собирался оказывать сопротивление. Все бежали на восток, к городу у Теплых Озер с жалобами и проклятиями. Уже вслух поговаривали, что Победитель наверняка погиб, а вместе с ним и все его спутники, и теперь начнется осуществляться месть шернов, неизбежная и страшная. Люди ломали руки в бессильном отчаянии и теснились возле дворца первосвященника, напрасно вызывая Элема, чтобы он показался и спас свой народ.
Элем не выходил. Запершись в комнате, он совершенно потерял голову и не знал, что делать. Он не верил, что Победитель погиб, но слыша за окнами проклятия в адрес того, кого еще недавно считали божеством, и одновременно голоса, вызывающие его, как первосвященника, чтобы он в несчастье оказал людям помощь и защиту, чувствовал полное бессилие своей власти и положения.
Он не умел создавать войско, не мог стать во главе вооруженных людей, чтобы дать отпор страшному врагу, и чувствовал, что даже в случае отвращения угрозы трон первосвященника под ним зашатался и что он должен что-то посоветовать и что-то решить, если не хочет, в случае чудесного спасения, уйти в тень и лишиться своего нынешнего положения.
Народ тем временем бурлил в тревоге и отчаянии. Слышались голоса, что следует покориться шернам и молить их о прощении, особенно Авия, который мог бы стать посредником. Были такие, которые не долго думая и не ожидая приказа первосвященника, начали ломиться в храм, требуя, чтобы их пустили к бывшему наместнику…
Когда Севин донес Элему о происходящем, тот глубоко задумался. Какая-то мысль начала блуждать у него в голове. Он не верил, что Авий, столько времени проведший в темнице в подвешенном состоянии, после освобождения захотел бы стать доброжелательным посредником между людьми и своими побеждающими в эту минуту сородичами; это предположение явно было слишком оптимистичным… Однако он предполагал, что узник может послужить в качестве заложника и, может быть, захочет для спасения собственной, жизни путем какого-либо послания склонить нападавших К мирным переговорам. И он решил сам поговорить с шерном.
Севин из окна огласил людям волю первосвященника, а сам он тем временем приказал принести себе одежду для торжественных случаев. В сокровищнице от прежних первосвященников осталось много разных убранств, но Элем забрал оттуда только драгоценности, приказав изготовить себе новую одежду, более яркую и сверкающую, чем носили раньше. Он хотел великолепием и пышностью своей одежды ослепить глаза шерна, надеясь, что, продемонстрировав свою внутреннюю силу, сделает его более сговорчивым…
Авию о происшедших событиях донесла Ихезаль. Она спустилась в подземелье, не собираясь говорить с узником о чем-либо, скорее просто по привычке, которая стала уже внутренней потребностью. Люди все больше отдалялись от нее. По мере того как угасали чары Победителя, погибшего в сражениях в далекой стране, на нее все чаще начинали смотреть иначе, недобрым и подозрительным взглядом. Было забыто, что это внучка Малахуды, последний отпрыск древнего рода первосвященников, в ней видели только охранницу шерна, поэтому считали существом нечистым. Молодежь по-прежнему восхищалась ее обольстительной красотой, но в этом восхищении было какое-то опасение, почти ненависть.
На нее смотрели издали и шепотом рассказывали друг другу удивительные вещи. Были такие, которые приписывали ей сверхъестественные губительные силы. Говорили, что она, невидимая, может переноситься с места на место и взглядом насылать мор и болезни. Дошло до того, что люди, видя ее, чертили спасительный знак Прихода на лбу — знак, который по мере течения времени уже утратил свое давнее значение и сохранялся среди людей, как средство спасения от всевозможных злых чар.
Ихезаль не искала чьего-то общества; даже перестала навещать деда. У нее самой было впечатление, что в ней копятся яд и злость, как у пресмыкающегося, запертого там, где оно никого не может укусить. Отвергнутая людьми, она начала с удвоенной силой презирать их, особенно потому, что чувствовала свое преимущество перед ними. Она знала, что когда она показывается на ступеньках храма, те, которые убегают, чтобы не коснуться ее одежд, искоса поглядывают в ее сторону и по одному ее слову готовы были продать себя дьяволу, лишь бы только в минуту смерти почувствовать у себя на лбу ее ладони. И было удивительно, что чем больше ее боялись и избегали, тем больше возрастала ее сила.
Иногда ей нравилось испытывать эту силу. Она останавливалась на пороге храма и задерживала на одном из прохожих взгляд, приманивая соблазнительной улыбкой, чтобы в ту же секунду отвернуться от него как от неодушевленного и совершенно безразличного предмета… В ней часто поднималось презрение, безграничное и злое, даже болезненное, когда она проходила сквозь недоброжелательную толпу с застывшим лицом и стиснутыми губами, не соизволяя даже бросить взгляд вокруг себя или ответить на редкие приветствия… В эти часы она скрывалась в темной глубине пустого храма или, бросая вызов всем, осуждающим ее, шла в подземелье, где проводила долгое время в обществе Авия.
Сама она говорила редко, но охотно слушала удивительные рассказы шерна, который говорил ей о своей стране, о мертвых городах в пустыне и о живых городах среди гор, которые, может быть, лягут, покоренные, у ног Победителя, но никогда не откроют ему своих тайн… После таких разговоров она часто поднималась на крышу храма и смотрела на широкое море, на Кладбищенский Остров, лежащий темным пятном на сверкающей поверхности, на волны, которые бежали издали, на далекий горизонт в синём тумане, напоенном солнцем… И тогда ей в голову приходил Победитель. Иногда, как светлое и туманное воспоминание, а иногда как волна горячей девичьей крови, которая внезапно ударяет в губы и в грудь, сжигая сильнее, чем солнце…
Но чаще всего она думала о нем со странным, неотступным сожалением. Почему он продемонстрировал ей свою силу и ушел от нее, как будто даже не видел ее? Почему для него важнее были сражения и спасение людей, нежели она — прекрасный цветок и жемчужина? Губы ее кривились в язвительной улыбке; и она шла обратно в подземелье к чудовищу, чтобы слушать насмешки и оскорбления по адресу того, кто занимал ее мысли… А иногда укрывалась в закутке под алебастровой колонной и тряслась от рыданий, которые не могли выплеснуться слезами.
В один из дней известие о нападении шернов дошло до Ихезаль, когда она утром шла по берегу моря. Она не могла бы ответить, кто ей принес его и когда… Она видела бегущих людей, но ее совершенно не интересовало, почему они бегут и что кричат. Она едва слышала звуки их испуганных голосов… Она миновала одну группу, другую, десятую — и, ни о чем не спрашивая, ни к чему не прислушиваясь, заметила, поднимаясь на ступени храма, что уже обо всем знает.
Несколько прислужниц ждали ее у входа в храм, они хотели о чем-то ей рассказать, но она, не говоря ни слова, отослала их жестом руки и пошла прямо в древнюю сокровищницу…
Авий в этот день был мрачным и молчаливым. Он не отвечал на ее вопросы, не рассказывал обычных, долгих, страшных и удивительных сказок… Только несколько раз повторил требовательным тоном: «Отпусти меня, развяжи!»
И теперь это были первые слова, которыми он приветствовал входящую золотоволосую девушку. Он распростер давно зажившие крылья, насколько позволяли цепи — и сверкал кровавыми отблесками.
— Отпусти меня, — крикнул он в конце концов, — отпусти меня! Я чувствую ветер над морскими волнами и солнце! Отпусти меня, я хочу быть свободным!
— По моей милости?
— Я не нуждаюсь ни в чьей милости. Я стою высоко над всем тем, что вы называете милостью, жалостью или вредом. Я хочу быть свободным по своей воле, орудием которой являешься ты.
— Не являюсь.
— Значит, будешь им.
— Ты погибнешь, если я тебя освобожу.
— Не погибну. Если ты освободишь меня, я буду королем над тобой, буду королем Над всей этой толпой псов, а как долго? Разве это интересует тебя или меня?
— Победитель уничтожает твоих братьев.
— Камень, летящий с горы, валит деревья на своем пути, а потом упадет вниз и будет там лежать. А деревья вырастут. У нас есть сила.
— Тем не менее ты находишься в оковах, и я могу даже бить тебя, если захочу.
— Ты говоришь так, чтобы просто слышать собственные слова, ты сама чувствуешь, что ты ничто против меня.
Ихезаль медленно подошла к чудовищу и, подняв обломок палки, валяющийся в углу, замахнулась, чтобы ударить его по лицу. Шерн даже не дрогнул. Он только широко открыл свои кровавые глаза, похожие на четыре неподвижных огонька.
Ихезаль безвольно опустила руки.
— Авий! Авий! — крикнула она.
И отпрянула назад, прижав руки к груди.
— Твои сородичи напали на нашу страну, — через минуту совершенно неожиданно сказала она.
Шерн не выказал ни удивления, ни радости. Он молчал.
— Слишком рано, — отозвался он наконец. — Еще не время…
Дальнейшие слова были прерваны приходом посланцев первосвященника.
Их вошло в темницу шестеро, рослых и тупых юношей, которые, миновав Ихезаль, как будто не видели ее, приблизились к узнику, набросив ему петли на освобожденные от оков руки. Веревки держали по два человека с каждой стороны; остальные стали разбирать железо и цепи, которыми шерн был прикован к стене.
— Что вы делаете? — закричала Ихезаль.
Они даже не ответили ей, только потащили раскованного узника на веревках за собой наверх. Ихезаль медленно пошла за ними.
В центре храма на троне первосвященника сидел Элем в парадном убранстве, в одежде, украшенной драгоценными камнями. Вокруг него стояли сановники. Собрались все, как на праздник, но их взгляды, несмотря на внешнюю торжественность, беспокойно бегали к входу в храм и обратно, и было заметно, что их пугает малейший шелест. Когда привели шерна, они смотрели на него так, как будто это они были преступниками, а он судьей, держащим в своих руках их судьбы. Только Элем сохранял видимость достоинства.
— Ты знаешь, — обратился он к бывшему наместнику, — что твои братья в заморской стране покорены и уничтожены навсегда. Мы, однако, хотим проявить милосердие к побежденным, особенно к тебе…
Он остановился, чтобы глотнуть воздуха, которого не хватало у него в груди.
Тогда шерн неожиданно спросил:
— Далеко ли от стен вашего города находятся победоносные шерны? А то я вижу по вашим лицам, что вы боитесь, и ваши цветные одежды не могут скрыть вашего подлого страха.
Воцарилось глухое молчание.
Элем первым пришел в себя и, чуть приподнявшись на сиденье, сказал, как бы не заметив дерзкой насмешки в голосе связанного шерна.
— Действительно, твои недобитые сородичи, всполошенные разгромом, кинулись в нашу страну, но я готов даже даровать им жизнь…
— Ха, ха! — засмеялся шерн.
— Да, даровать им жизнь, если…
— Что?
— Они захотят покориться.
— Ха, ха, ха!
Лицо Элема помрачнело.
— Иначе погибнешь ты, прежде чем они достигнут стен города.
— Чего ты хочешь от меня?
— Предупреди их, напиши, задержи… Ты — наш заложник. Мы отправим посла…
— Кто из вас отправится с моим посланием?
Снова воцарилась тишина. Никто ничего не ответил, никто даже мысленно не мог назвать смельчака, который бы отважился стать послом, зная, что идет на верную смерть и на муки. Авий это понял.
— Освободите меня, — сказал он.
Элем заколебался.
— Кто нам поручится, что, освобожденный, ты захочешь нас защищать, а не будешь мстить?
— Я могу поручиться, — сказал наместник, — что если вы освободите меня, я буду мстить, а не защищать вас. Но если вы этого не сделаете, месть будет еще страшнее!
Первосвященник хотел что-то ответить, но ему помешало движение, внезапно возникшее у дверей в храме. Вбегают люди с криками и рыданиями — послышались голоса, утверждающие, что шерны уже жгут селения вблизи города — с городских стен виден дым… Началась паника. Сановники сорвались со своих мест, некоторые из них в испуге сгрудились у трона Элема, как бы ища у него спасения.
Элем стоял бессильный, не способный успокоить толпу…
Тогда шерн рванулся из веревок, вступил на возвышение трона и заскрежетал:
— К ногам моим, псы! Падайте к моим ногам! Скулите и молите меня о жизни, которой я вам не дам!
Неизвестно, что произошло бы дальше, потому что в безумном страхе некоторые из старейшин и толпы уже качнулись, чтобы упасть под ноги чудовищу, когда неожиданно у дверей храма раздался мощный, знакомый голос:
— Люди! Стойте!
Все обернулись. На невысокой плите амвона у входа стоял Малахуда. На нем была простая серая одежда, без всяких украшений, на которую падала только длинная седая борода, но от всей его фигуры веяло достоинством. Было видно, что он пришел взять власть в эту тяжелую минуту.
— Малахуда! Малахуда! Первосвященник! Чудом явился! — закричали со всех сторон, окружая его.
А он, окинув взором храм, сдержал напор и успокоил шумные голоса одним движением руки.
— Шерна отвести в подвал, — приказал он, — а народу идти на площадь перед храмом. Там я отдам распоряжение.
На Авия мгновенно набросились, оттащили его в подвал и снова приковали к стене. Толпа тем временем через широкие двери выливалась из храма на площадь.
Малахуда переждал, пока люди волной перекатились через него, и вышел из опустелого храма, даже не взглянув на Элема, неподвижно и одиноко сидящего в глубине.
С лестницы он сразу свернул на место первосвященника, возвышающееся над площадью. Его приветствовали прежними радостными выкриками. Ветер развевал его длинные белые волосы, не покрытые ни колпаком, ни стянутые золотым обручем, — рука, которую он поднимал над толпой, была без перстней и без жезла первосвященника, однако все увидели его жест и замолчали, чтобы выслушать распоряжения.
Старый первосвященник говорил коротко. Он велел женщинам, детям и старикам разойтись по домам, а на площади собраться всем, кто способен держать оружие. Отдельно он велел Анашу собрать мужчин, знакомых с огнестрельным оружием.
— Победитель, — сказал он (в первый раз перед народом назвав этим именем Марека), — Победитель не погиб и не сдался. Будьте уверены в этом. Если бы было иначе, шерны не маленькой группой, о которой я слышу, а огромным отрядом прилетели бы сюда, чтобы нас уничтожить. Это нападение — видимо, их последняя попытка спасения. Они надеялись вызвать здесь переполох. Пусть же вместо этого они встретят здесь воинов и свою погибель. Я не раз вел вас в бой — сделаю это и сегодня.
Через несколько часов собранное войско с Малахудой и Анашем во главе вышло из стен города, направляясь на запад, к рассеивающемуся в воздухе дыму.
В городе нетерпеливо ожидали сообщений. И они пришли раньше, чем ожидали. Уже после полудня, едва утихла буря, прибежали первые посланники, сообщая о победе. Горстка дерзких шернов была окружена и полностью уничтожена, ни одному из них не удалось уйти.
Началось всеобщее ликование. Люди выбежали за ворота, чтобы приветствовать победоносного старика, так вовремя вернувшегося — уже раздавались голоса, что он снова должен занять место первосвященника вместо никудышного Элема. Но радующиеся люди встретили только Анаша, возвращающегося во главе войска. Малахуда исчез.
Правда, теперь он не скрывал, что прячется на Кладбищенском Острове, но запретил кому бы то ни было нарушать его одиночество.
Анаш передал это людям и еще сказал, что Малахуда велел ему не отступать от первоначального намерения и отвезти ночью подкрепление Победителю за море. В городе было решено на всякий случай оставить только небольшую часть воинов для обороны.
Народ был обижен и возмущен уходом Малахуды. Это было расценено как презрительная выходка гордого старика, в гневе было даже забыто о том, что именно он несколько часов назад своим появлением спас город от возможного поругания. Этим настроением тут же воспользовался Элем, который распустил слух, что сам первосвященник вызвал старика, зная его большой опыт в военном деле.
Впрочем, все это произошло так быстро и на вид настолько легко, что люди вскоре вообще перестали верить в существование опасности, перед которой недавно дрожали, и со смехом, а еще чаще со стыдом вспоминали о переполохе. В тот день шерны попросту перестали быть страшными: люди не только не удивлялись, что Малахуда их победил, но даже о Победителе и его походе стали говорить пренебрежительно, хотя еще недавно считали его делом невероятной храбрости.
Слышались даже упреки в адрес Марека, что он так долго забавляется уничтожением ненавистного племени, и рассуждения о том, что не следует посылать ему подкрепления. И скорее всего Анаш, несмотря на ясно выраженный приказ Малахуды, никогда не отправился бы за море, если бы не соблазн, охвативший охотников за воинскими трофеями — ведь все же видели драгоценности, присланные Победителем внучке первосвященника.
Ихезаль все, что произошло, казалось странным сном, который оставил после себя неприятное чувство. Она видела, как шерна вытащили из подвала, видела страшную покорность людей, готовых в постыдном страхе упасть ниц перед связанным чудовищем… Она чувствовала, что была минута, когда в переполненном храме единственным гордым и высшим существом был именно этот шерн — злой и бесчеловечный. Ее неожиданно охватил горячий стыд, стыд за ничтожных, жалких людей, стыд за эти позорные минуты, даже за Победителя, который заключил в темницу безоружного шерна… И внезапно ее гнев обратился против самого шерна. Он, Авий, был свидетелем и непосредственной причиной всего этого…
Первым побуждением Ихезаль было убить его, но ее охватил непреодолимый страх, что перед этим она будет должна смотреть в его кровавые и насмешливые глаза. Тогда она закрылась в своих комнатах и не выходила оттуда в течение долгих часов… Малахуда прислал за ней, чтобы она приплыла на Кладбищенский Остров — она даже не ответила посланнику, даже не пустила его на глаза… Вечером с подкреплением отправился за море Анаш; весь народ высыпал на замерзший берег — она даже не повернула лицо к окну…
Ночью, в долгие перерывы между одним и другим сном, она сидела одиноко, еще более ожесточенно размышляя… Несколько раз она срывалась с места, собираясь идти в подвал, где был заперт шерн, но ей не хватало смелости — и она снова пряталась в запертые комнаты, не позволяя даже прислужницам заходить к себе.
IV
Над морем поднимался серый свет. Малахуда, одетый в теплую меховую одежду, вышел из своей пещеры на Кладбищенском Острове. Его сопровождали два верных пса, с некоторых пор делящие с ним его одиночество. Выбежав наружу за хозяином, они начали лаять и весело прыгать, разгребая белый снег и ища вокруг норки уснувших на ночь лунных зверей.
Старик долго смотрел на прыжки собак, обрадованных, что после долгого ночного заключения они наконец обрели свободу, потом пошел к горе, наклонившейся в сторону моря. Собаки, заметив, что он отошел, перестали играть и побежали за ним. Его ноги вязли в сыпучем снегу, идя, он опирался на длинный посох.
Дойдя до вершины, он сел и отдышался, глядя на широкое ледяное пространство, лежащее у его ног.
До восхода солнца было еще далеко. Снег блестел от света, льющегося откуда-то с белого неба, равномерно рассеивающегося, не дающего ни теней, ни полутонов… Под звездным небом только широкий перламутровый и серебристый отблеск на востоке предупреждал, что этот свет возвещает о приходе солнца, которое, пройдя долгий путь через Великую Пустыню, идет теперь над равнинами, морями, чтобы наконец появиться на горизонте из-под льда и в этой стране.
Малахуда посмотрел на юг, на безбрежное морское пространство. В раннем утреннем свете его лицо выглядело серым и усталым. Никто, увидев его, не сказал бы, что это тот самый человек, который два дня назад сумел укротить толпу и в минуту опасности встать во главе войска и громить врагов наравне с молодыми. Теперь, в одиночестве, его глаза утратили свой блеск, седая борода, которую некогда трепал полуденный ветер, свисала на грудь… Собаки в поисках тепла прижались к его коленям и вместе с ним смотрели на широкое море.
Так проходило время, когда вдруг до ушей старика долетел странный, едва слышный свист. Было похоже, что лед вдруг начал издавать тихий звон, разрезаемый металлом, или что ветер заблудился где-то подо льдом и теперь со свистом вырывался оттуда через какие-то щели. Малахуда вздрогнул и, поднявшись с места, быстро подошел к краю вершины, где берег обрывался, отвесной скалой спускаясь к морю. Он остановился на самом краю и устремил вдаль напряженный взгляд. Там далеко, далеко на ледяной, сверкающей плоскости появилось как будто несколько черных точек, на вид неподвижных, которые, однако, быстро увеличивались в размерах и отдалялись друг от друга…
Теперь старик повернулся направо, где на самом высоком месте была большая куча хвороста, покрытая заснеженными ветвями. Быстрым движением он стащил с нее эту защитную крышу и посохом поправил лучину, приготовленную у подножия. Через минуту разгорелся огонь, столбом поднимаясь вверх вместе с клубами дыма.
Черные точки тем временем стали еще ближе: уже можно было различить несколько саней, летящих по льду с развернутыми по ветру парусами. Малахуда, стоя около пылающего костра, пересчитывал их издалека… Тень упала ему на лицо, и губы беспокойно вздрагивали.
Он спустился с вершины окольным путем и сошел на берег, где море врезалось в него небольшой затокой.
Из саней заметили огонь и поняли, что должен означать этот костер в раннюю утреннюю пору, потому что вскоре они описали широкий полукруг и въехали в закрытую от ветра затоку. У берега паруса свернули, одновременно тормозя бег саней брошенными под полозья цепями. Из первых саней, которые приблизились к берегу быстрее остальных, из-под кожаной крыши выскочил Анаш. Малахуда быстро подбежал к нему.
— А Победитель?
— Он с нами. Вон в тех, средних санях…
— А остальные? Те первые и Ерет?
— Остались там.
— Они живы?
— Да. Хотя там полегло много. Живые остались гарнизонами на равнине в завоеванной земле… И я скоро туда вернусь…
В эту минуту сани Марека подошли к берегу, прорывая кованым носом борозду в прибрежном снегу. Воины начали выскакивать из-под кожаных укрытий, послышались радостные крики. Наконец вышел и Марек. Заметив Малахуду, он быстро направился к нему.
— Старик, я приказал везде тебя искать…
Бывший первосвященник поднял руку.
— Поговорим теперь. Раньше не было такой возможности. Прикажи, господин, этим людям ехать в город, пока еще держится лед. Тебя я отошлю туда позднее.
Марек отдал Анашу соответствующий приказ и смотрел, стоя рядом с Малахудой, как сани, остановленные на бегу, снова стали ставить паруса и рассыпаться широким полукругом для продолжения пути. Внезапно ему пришло в голову, что эти люди раньше, чем он, увидят золотоволосую Ихезаль, которая, наверное, выйдет на ступени храма и будет искать среди прибывших его…
Сани тем временем уже мелькнули на ледяной поверхности и исчезли.
— Холодно, — сказал Малахуда. — Пойдем.
И не дожидаясь ответа, пошел вперед с собаками, ни на шаг не отстающими от него. Марек последовал за ними. Так они шли в молчании довольно долгое время, пока не оказались у входа в пещеру старика у подножия горы.
Марек задумался, увидев это почти первобытное убежище первосвященника, некогда управляющего всеми людьми на Луне и привыкшего к роскоши, но, не сказав ни слова, вошел за ним низким скалистым переходом в пещеру.
Здесь Малахуда взял его за руку, давая знак, чтобы он сел.
— Я хочу поговорить с тобой, сынок, — сказал он. — Тогда, когда ты прибыл на Луну, для этого еще не наступило время, но теперь пора. Ты многое сможешь понять, когда я тебе расскажу… Не сердись, что я называю тебя сыном, тебя, который такой огромный и которого здесь называют Победителем. Я старик и желаю тебе только добра…
Марек наклонил голову.
— Старик, с той минуты, когда я первый раз услышал твои слова, я хотел быть вместе с тобой и разговаривать откровенно.
— Тогда это было преждевременно, преждевременно! Только теперь… Но сначала расскажи мне, где ты был и что делал, я хотел бы услышать обо всем из твоих собственных уст…
И Марек начал долгий рассказ. Сидя на камне, покрытом шкурой, во мраке пещеры, где огонек нефтяного светильника был гораздо более блеклым, нежели дневной свет, пробивающийся сквозь щели в потолке, он подробно рассказывал о всем своем походе, о сражениях, схватках, победах и неудачах. Он не утаил ничего, даже своих опасений, что неполный разгром шернов не принесет добрых плодов и не обеспечит долгого мира — не скрыл и того, что, по его убеждению, дальнейшая война с ними в их горной стране вещь невозможная… Рассказывал, как с большими сомнениями оставил гарнизоны в завоеванной стране, не уверенный, как сложится их судьба, если не в ближайшее время, то в будущем, когда соседство шернов будет висеть над новыми поселениями, как градовая туча, каждую минуту угрожая погибелью.
Малахуда глубоко задумался, слушая его рассказ. Несколько раз он тер ладонью высокий, изборожденный морщинами лоб, но не прерывал Марека, пока тот не кончил говорить. Только после нескольких минут тишины, когда Марек задумчивыми глазами устало смотрел на стелющиеся в углах тени, старик встал и произнес:
— Ты сделал все, что мог сделать, сынок. Теперь я должен дать тебе некоторые объяснения, чтобы ты мог лучше меня понять…
Он оборвал фразу, как будто изменил свое решение, и сказал:
— Впрочем, это не имеет значения. Даю тебе только один совет: возвращайся как можно быстрее на Землю, если можешь туда вернуться.
Марек удивленно посмотрел на него.
— Я хочу вернуться и вернусь, но я не понимаю…
Старик слабо улыбнулся.
— Видимо, нужно, чтобы я все тебе сказал, иначе ты мне не поверишь. Тогда слушай. Я был первосвященником и верил вместе со всем народом в приход обещанного Победителя. В тот день, когда ты прибыл на Луну, я перестал верить в это. Так уж получилось. Я сам не смог со всем этим справиться, потому что это была вера всей моей жизни, а я уже стар, очень стар. Но я знал, что если ты захочешь, то сможешь сделать больше, чем мы, поэтому оставил тебе открытое поле деятельности. Сам же ушел сюда, чтобы в одиночестве и в укрытии поразмышлять над тем, что произошло.
Он замолчал на мгновение, потом, вздохнув, продолжил:
— Утратив веру, что всемогущий Победитель, которого обещали наши книги, воплощение Старого Человека на самом деле придет, я ждал, чтобы ты, случайный пришелец с Земли, стал для нас Победителем, каким измученный народ сразу счел тебя. Я уже тогда был готов проклясть тебя, если бы ты не оправдал наших ожиданий, без твоего ведома, впрочем, связанных с тобой… Может быть, только из-за вины твоей, из-за того, что ты преодолел межзвездное пространство, которое с самого начала как стена существовало между мирами… И те, первые, могилы которых находятся около нас, нарушили этот закон отделения, и несчастье принесли себе и целым поколениям их потомков, вплоть до сегодняшнего дня… Уходи и ты, пока есть время.
— Ты странно говоришь, старик…
— Да, да. Не об этом я хотел с тобой говорить. Мысли у меня путаются и все время возвращаются к тому, что болит. В одиночестве я научился смотреть на вещи спокойнее и не требовать от людей того, что превышает силы человека, даже прибывшего с Земли.
Ты мог бы ничего для нас не делать, однако ты пошел и сражался вместе с нами и для нас. Потому что какое, в конце концов, тебе дело до того, что делается на Луне? Ты улетишь от нас в один из дней, и только легенда о тебе останется — светлая и ясная! Победа твоя, сынок, не окончательная, и ты прав, опасаясь за судьбу тех, которые остались там, и тех, которые пойдут вслед за ними обживать эти завоеванные земли. Но иначе сделать было нельзя… Твоя работа закончена, и я благословляю тебя.
— Не закончена, — сказал Марек. — Мне пора возвращаться на Землю. Однако я хочу еще какое-то время остаться тут, чтобы исправить ваши законы и изменить отношения между людьми. Плохо тут у вас.
— Плохо есть, было и так уж останется. Здесь ты ничем не поможешь, — мрачно ответил старик.
— Я хочу помочь.
Малахуда покачал головой.
— И не пытайся. Ты ничего не сможешь сделать, а для тебя это может быть гибельно. Я остановил своим костром ваши сани, потому что хотел говорить с тобой и предостеречь тебя. Возвращайся на Землю. Там, на Теплых Озерах и во всей лунной стране, уже другие люди, нежели в тот момент, когда ты сюда пришел или когда выезжал на завоевание земель шернов.
Но существуют завистники, и они теперь думают, что могли бы и без тебя сделать все то, что ты сделал. Они начнут тебя упрекать, что ты не сделал невозможного — вот увидишь! А если ты еще коснешься того, что, возможно, плохо, но освящено временем, против тебя восстанут самые богатые, которым ты не сможешь дать отпор, хотя все угнетенные будут на твоей стороне. Улетай, говорю тебе.
— Нет. Я добровольно принял на себя эти обязанности и исполнить их считаю своим долгом. Тем более, что самому мне очень хочется послушаться твоего совета, старик. Я улечу только тогда, когда выполню все, что задумал.
Малахуда долго молчал. Потом поднял голову и сказал:
— Лишь бы тогда не было слишком поздно!.. Но если ты хочешь так поступить, послушай по крайней мере моего единственного совета. Я был первосвященником и правил дольше, чем ты живешь на свете. Когда прибудешь в город на Теплых Озерах, постарайся сразу взять власть в свои руки. Прежде чем начнешь что-либо делать, научи людей, чтобы они чтили и боялись тебя. Уничтожь неприятелей твоих — открытых и тайных — и даже таких, которые могли бы стать ими в будущем; уничтожь даже тех, которые, может быть, даже симпатичны тебе, но могли бы отвлечь на себя глаза толпы. Сделай меня узником, чтобы я не мог покинуть этого острова, немедленно прикажи казнить Элема или закопай его в песок, уничтожь всех самых состоятельных и посмотри, чтобы не осталось человека, который не боялся бы смерти, глядя на тебя. А потом окружи себя охраной и приказывай, не спрашивая на это ничьего позволения. Только тогда ты сможешь помочь людям.
— Я верю в это, — через минуту отозвался Марек. — Это старые методы, которые много веков назад использовались и на Земле… Мы давно оставили их, потому что они не слишком результативны: не приводят ни к чему. Не буду спорить, я хочу чтобы мою волю сразу исполняли, но не через страх. Люди должны понять, что это нужно им самим…
— А если не поймут?
Марек пожал плечами.
— Вернусь на Землю.
— Ты вернешься туда раньше, чем предполагаешь в эту минуту.
Разговор оборвался, потому что Победитель, утомленный долгим ночным путешествием, уже закрывал глаза, прислонив голову к твердой стене пещеры. Малахуда указал ему на охапку мягких шкур в углу и, поставив у постели холодное мясо и кувшин с водой, тихо вышел из пещеры.
Солнце как раз всходило и окрашивало красными лучами лежащий снег, который быстро таял в утреннем свете. На вершинах холмов, которые называли Могилой Марты и Могилой Петра, зажглись первые лучи дневного света, искрясь и преломляясь в мелких кусочках льда. На горизонте, за морем перед глазами старика поднимался гигантский кратер Отамора, лениво пробуждающийся ото сна и еще укрытый сверху облаками, как занавеской, заслоняющей сонные глаза от солнечного света. Со стороны востока, подобно потоку лавы, наплывал золотой свет, доходящий до самого подножия горы, до моря, скованного льдом, но западная сторона утопала еще в густой синей тени. Тень была и за горой, на огромном пространстве побережья, только там, прямо на западе, сверкал освещенными солнцем окнами город, тут и там окутанный клубами пара, постоянно поднимающегося с Теплых Озер.
«Вот и пришел новый день, — подумал Малахуда, — и неизвестно, что он нам принесет. Но что бы не произошло, это не сможет изменить обычный порядок восхода и захода солнца, даже движения волн, которые бегут по морю, когда растает лед. Ветер может сорвать камень с вершины Отамора и бросить его в долину, но самое большое счастье или несчастье людей не повлияет даже на крупинку песка на берегу».
Далеко, далеко на востоке, где день уже наступил, на море начал трескаться лед, и глухой, приглушенный рокот распространялся вокруг, отражаясь эхом от далекой горы. С другой стороны от залитого солнцем города доносились едва слышные звуки ударов молота о большой, свободно висящий диск, это было знаком радости. Малахуде показалось, что он различает вдалеке звук труб, донесенный до него западным ветром. Там, видимо, встречали победителей…
День давно уже наступил, и лед давно растаял, когда старик, снова выйдя из пещеры на вершину горы, увидел целую флотилию лодок, плывущую от города к острову. Он догадался, что это приветственная делегация, направляющаяся к Победителю, и пошел предупредить его об этом.
Марек, досыта выспавшийся и отдохнувший, сидел у входа в пещеру и с интересом наблюдал за растительностью, быстро поднимающейся навстречу солнцу, когда Малахуда предупредил его, что пора готовиться в путь.
— Только выйди им навстречу к морю, — попросил он, — я не хочу, чтобы они мне вытоптали тут всю зелень. Они плывут за тобой; меня с этими людьми ничего не связывает, я слишком долго был одиноким.
Потом он с отцовской теплотой простился с Мареком.
— Мы только несколько часов были вместе, — сказал он, — а я уже полюбил тебя. Я думал не раз и сейчас думаю, что плохо сделал, удалившись от людей в минуту твоего прибытия, но тогда я не мог поступить иначе. Теперь я тебя благословляю: дай Бог, чтобы у тебя все получилось! Больше я уже ничего не могу для тебя сделать. Не возражай, не смейся! Тебе кажется, что ты сильный, но я хотел бы проститься с тобой словами: возвращайся сюда, ко мне, когда там у тебя больше не останется дел — если бы у тебя не было другого пути, на светящуюся над пустыней звезду, с которой пришли когда-то люди на Луну. Ты стараешься искупить вину тех наших предков и несешь нам силу и свет: только бы ты оказался счастливее, чем они, и не нашел тут могилу, подобно им…
Говоря это, он указал на холмы, покрытые весенней зеленью.
Марек хотел что-то возразить ему, но тот только махнул рукой и, не оглядываясь, вошел в свое жилище. Победитель медленно пошел к берегу моря, размышляя о странных словах старика.
Лодки были уже недалеко. Можно было различить черные корпуса под ослепительно белыми в свете солнца парусами и людей, стоящих на борту. Мареку сразу же пришло в голову, что среди этих людей может быть Ихезаль… Горячая волна радости ударила его в грудь. Да, да! Она, конечно, там и через минуту выскочит на зеленую траву и пойдет навстречу ему, похожая на цветок, с приоткрытыми улыбающимися губами… Он уже заранее чувствовал благодарность за то, что она плывет сюда, чтобы приветствовать его, и сбежал с пригорка туда, где лодки должны были причалить.
Но по сброшенному на берег трапу сошел только Севин, приспешник первосвященника Элема, а за ним несколько старейшин города. Марек обеспокоенно посмотрел на другие лодки: там было много незнакомых людей и женщин, приветствующих его пронзительными криками.
— Победитель… — начал Севин, сгибаясь в поклоне так низко, что почти коснулся лбом его ног.
— Где Элем? — резко оборвал его Марек.
— Его Высочество правящий первосвященник прибыть не смог…
— Почему? Он должен быть тут. Он мой слуга.
— Его Высочество занят делами…
Марек оттолкнул монаха быстрым движением руки и, не слушая ничего больше, вскочил в лодку.
— Поднимай парус! Выходим в море! — приказал он матросу.
Тот обернулся на Севина, который остался на берегу.
— В море! В море! — крикнул Марек.
Севин, видя отплывающего Победителя, сел с товарищами во вторую лодку, после чего вся флотилия с расправленными парусами понеслась к городу.
Прямо из затоки, расположенной вблизи от прежнего замка шернов, Марек отправился в храм. Оказавшись там, он немедленно послал людей, чтобы они привели Элема. Первосвященник явился не слишком скоро, и выражение его лица значительно отличалось от прежнего, уступчивого и покорного. Правда, он и теперь совершал перед Победителем низкие поклоны, называя его господином и властителем, но глаза его дерзко блестели, противореча произносимым словам.
Марек вспомнил совет, данный ему Малахудой. Глядя на бывшего монаха, он подумал, что поистине неплохо было бы укоротить его короткое тело еще на голову, так как он, несомненно, будет сопротивляться всем его планам, но он отбросил эту невольную мысль, чувствуя, что при таком начале ему не удалось бы свернуть с кровавого пути…
Поэтому он только грозно спросил его, не отвечая на приветствие: почему он так поздно пожаловал?
— Победитель, — сказал Элем, — я управляю народом и у меня мало времени. Я думал, что ты захочешь сам зайти в мой дворец первосвященника и дать отчет о походе…
Кровь ударила Мареку в лицо. Однако он сдержался и только сгреб карлика за одежду на шее, как берут за шкирку собаку, и одной рукой поднял на высоту своего лица.
— Слушай меня, — приглушенно сказал он, — может быть, это ты дашь мне отчет, что ты делал здесь, когда меня не было? Я слышал, что ты хотел вести переговоры с шернами?
Элем побледнел со страха и бешенства в этой неудобной и унизительной позиции, но едва Марек, слегка встряхнув его, поставил назад, дерзко ответил:
— Я догадывался, Победитель, что и ты отступил перед шернами, хотя точно узнал об этом только сейчас, поэтому я хотел выиграть немного времени…
Марек закусил губы.
— Возвращайся к себе, — сказал он, — и жди моих приказаний. Вскоре я тебя вызову. Теперь у меня есть другие дела…
Говоря это, он оглядывался вокруг, но только после ухода первосвященника спросил: где Ихезаль, которая до сих пор не вышла, чтобы приветствовать его? Никто не смог ответить ему на этот вопрос, зато было доложено о побеге шерна Авия. Марек беспокойно пошевелился при этом известии.
— Как это? — Он начал задавать вопросы и допытываться, но и тут никто не смог дать ему точных объяснений. От прислужников было известно, что внучка Малахуды истязала шерна, но что произошло потом, никто не знал. Люди, пришедшие туда, чтобы принести ему пищу, застали пустые оковы на стене и свисающие из них веревки. На полу, рядом со светильником, лежал стилет, который раньше видели в руках Ихезаль. Видимо, после ухода девушки, которая случайно оставила там оружие, чудовище смогло как-то освободить одну руку и развязать связывающие его веревки. Потом шерн воспользовался тем, что дверь была незаперта, и теперь поиски его напрасны.
Несмотря на малую вероятность поимки беглеца, Марек все же отправил людей на его поиски. Был образован целый отряд из людей и собак, который должен был обыскать все побережье и густые заросли на склонах Отамора. Нузар также присоединился к охотникам.
Тем временем Победитель сам отправился на поиски золотоволосой Ихезаль. Прислужницы ее сказали, что она находится в своих комнатах, но больна и никого не хочет видеть. Но он не обратил внимания на эти слова. Он отодвинул преградивших ему дорогу девушек в сторону и толкнул дверь.
Он прошел через целый ряд комнат, пустых и холодных, пока наконец, в последней из них, небольшой комнатке, не нашел девушку. Она лежала на низкой софе, совершенно обнаженная, с распущенными волосами, только ее бедра были плотно обернуты широкой шалью. Увидев входящего Марека, она даже не пошевелилась и только посмотрела ему в лицо широко открытыми глазами, в которых ничего нельзя было прочитать.
— Ихезаль! Птичка моя золотая! — воскликнул он радостно, протягивая к ней руки.
Она беззвучно пошевелила бескровными губами, по-прежнему тупо смотря на него широко открытыми глазами.
— Что с тобой? Что с тобой, девочка? — спросил он, опустившись на колени рядом с софой и положив голову на ее маленькую, почти детскую грудь.
Она легонько оттолкнула его.
— Почему только сегодня? Почему?
Она медленно встала и вышла в другую комнату, заперев за собой дверь.
Марек удивленно поднялся с колен. Какое-то дурное предчувствие стиснуло ему горло, и кровь тяжело застучала в висках. Он неподвижно стоял посредине комнаты, потом бросился к двери, за которой исчезла Ихезаль, и начал стучать в нее могучим кулаком.
— Ихезаль! Ихезаль! Открой!
Никто ему не отвечал. Он схватился за дверь и изо всех сил рванул ее, но металл выдержал. Он повернулся, ища взглядом какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы разбить ее, — и отпрянул, удивленный.
На пороге другой двери — сразу же за ним — стояла Ихезаль, спокойная, бледная, одетая в ниспадающую до пола одежду.
— Что ты прикажешь, господин? — спросила она странным голосом, в котором чувствовалась какая-то грустная насмешка…
Марек ничего не ответил. Эта девушка вдруг показалась ему настолько иной и чужой, что он с трудом пришел в себя.
— Что с тобой? — спросил он наконец…
— Что ты прикажешь, господин? — снова повторила она, на этот раз с мимолетной улыбкой, от которой странно дрогнули уголки ее губ.
Марек приблизился к ней и сел.
— Я оставил шерна под твоей охраной. Что с ним произошло?
— Не знаю.
Она стояла около него, маленькими бедрами, скрытыми под тонкой тканью, почти касаясь его колен. Медленным движением пальцев она развязала узел у горла и распахнула цветную душистую ткань. Она была совершенно нагой под верхней одеждой, как и раньше, вокруг ее бедер была повязана широкая шаль.
Неожиданно Марек почувствовал, что она берет его лицо в свои руки и прижимает его к своей груди. Одуряющий аромат охватил его, он закрыл глаза и губами коснулся ее тела, чувствуя, как ее острые ноготки вонзаются ему в кожу около ушей. Он хотел обнять ее, но вдруг пошатнулся от толчка. Ихезаль выскользнула из его рук; он услышал только серебристый издевательский смешок, и дверь захлопнулась. Он снова был один.
V
Установление новых законов шло с большим сопротивлением, как и предвидел старый первосвященник. В одно мгновение все оказались против него; Марек с удивлением заметил, что враги вырастают повсюду, даже там, где он меньше всего этого ожидал.
Началось это сразу в тот же день, когда он вернулся из заморского похода. Он приказал тогда в послеполуденное время людям собраться в храме, где он намеревался обнародовать план задуманных реформ. Собралась большая толпа, но с самого начала в ней чувствовалось какое-то беспокойство, отличное от того набожного ожидания, каким раньше встречалось каждое выступление Победителя. Толпа нетерпеливо ожидала его и шумела, как будто именно он был вызван, чтобы предстать перед людьми и дать им отчет. Когда он вошел на старый амвон первосвященника, его приветствовали шумными выкриками, в которых слышалось только небольшое количество голосов, восхваляющих его.
Марек не стал обращать на это внимания. Ему хотелось побыстрее объяснить людям, как он, перед отлетом на Землю, хочет упорядочить жизнь на Луне. Поэтому, отдав голосом приказ соблюдать тишину, поскольку жест его руки оказался безрезультатным, он начал говорить, сразу обозначив существующее зло, которое нужно искоренить. Говорил о существующем неравенстве прав, которые одним позволяют все, а других на каждом шагу сковывают, говорил о горьком рабстве, явном и тайном, что привело к тому, что большинство людей заняты тяжким трудом, чтобы увеличить состояние сытых, об угнетении женщин, об отсутствии просвещения и о власти, которую надлежит сменить, вырвать ее из рук хитрых жрецов и отдать людям, чтобы они сами заботились о своей судьбе.
Слушали его довольно спокойно, только изредка поднимался ропот, когда же он хотел перейти к позитивной части своего выступления и развернуть перед собравшимися план изменения существующих отношений, неожиданно послышался чей-то голос, задающий вопрос о судьбе заморского похода. По этому знаку начался страшный шум и гвалт, как будто заранее запланированный. Он был таким сильным и непрерывным, что Марек, несмотря на все свои попытки, так и не смог сказать ни слова. Однако, что было самым удивительным, как только поднялся Элем, сидевший напротив на троне, немедленно наступила тишина.
Элем говорил вроде в защиту Марека. Сначала он обратился к людям с просьбой выслушать слова Победителя с надлежащим уважением, так как в них несомненно содержится много важных мыслей. Он сам, Элем, несмотря на то, что по воле людей (он так и сказал) является правящим первосвященником, не осмелился бы сегодня говорить, если бы не был уверен, что говоря, он выражает мысли Победителя, который с самого начала признал его положение и благословил его.
— Победитель, — говорил Элем, — сделал для нас очень много и заслуживает нашей благодарности. Потому что, даже если военный поход на юг, несмотря на храбрые действия воинов и большое количество пролитой крови, не удался так, как можно было ожидать, однако все же завоевана большая территория, и если шерны спокойно отнесутся к новым соседям, там можно будет заложить новые поселения.
И теперь Победитель выступает с новыми проектами, которые во всяком случае стоит выслушать. Правда, людям, хорошо знакомым с обычаями жителей Луны, это все кажется излишне смелым и необычным, но он, Победитель, наш господин, и он может позволить себе проводить эксперименты со счастьем и имуществом людей, даже если они весьма опасны.
В конце концов он закончил так:
— Однако я вижу, что сегодня вы недостаточно сосредоточились, чтобы выслушать советы и распоряжения благословенного Победителя, поэтому приказываю вам разойтись теперь по домам, а мы вам назначим время, когда вы должны будете появиться здесь.
Люди с криком и шумом начали расходиться.
Марек был настолько удивлен содержанием и манерой выступления Элема, что даже его не прерывал. Он только уселся на амвоне и с интересом наблюдал за первосвященником, который, говоря, часто бросал мимолетные взгляды на Севина, стоящего рядом с покорным видом и согласно кивающего головой в такт словам хозяина. Когда же народ, выкрикивая благословения по адресу первосвященника, стал быстро покидать храм, не проявив никакого желания выслушать Марека, он подскочил к Элему и задержал его рукой, когда тот тоже хотел уйти.
— Что это значит? — грозно спросил он.
— Они уходят, — с невинной простотой ответил Элем.
— Это твои штучки, твои интриги! Я прикажу избить тебя палками, чтобы ты знал, кто ты такой, собака!
Первосвященник побледнел.
— Прикажи это сделать, Победитель, — сказал он, — только не пытайся потом искать в людях послушания…
Потом, видя, что в храме уже почти никого не осталось, он покорно склонился к ногам Марека.
— Господин, ты напрасно коришь и порицаешь своего нижайшего слугу и пса, который верен тебе. Ты же видел, что народ сегодня неспокойный и рассеянный, я не хотел, чтобы слова твои падали напрасно на неприготовленное поле. Я боялся, что если они хоть раз в чем-то ослушаются тебя, то это принесет большой вред тебе и твоей священной власти, а для них самих это будет грехом. Поэтому я приказал им сегодня разойтись, ты вызовешь их, когда сочтешь нужным.
Марек ни минуты не заблуждался в истинных намерениях Элема, но не мог не признать его правоты, по крайней мере, в том, что народ не был сегодня готов к тому, чтобы слушать его планы. И поскольку он был глубоко и искренне убежден в том, что такие реформы необходимы, он решил выбрать иной путь, который показался ему более удачным. Он решил создать совет из самых мудрых и самых старых жителей города, который под его личным руководством должен был разобрать все недостатки жизни лунных жителей и определить новые законы, которые были бы направлены на благо людей и не нарушались бы никем, даже земным пришельцем.
Элем отказался от участия в этой комиссии, объясняя это невозможностью совмещения этой деятельности со своим положением первосвященника и его обязанностями; вместо себя он прислал Севина, который должен был присутствовать на всех заседаниях и обо всем докладывать хозяину. Победителя же больше всего раздосадовал отказ от участия в совете Малахуды. Он был настолько твердым и решительным, что все усилия, направленные на то, чтобы переубедить его, кончились ничем. Он решил не покидать Кладбищенский Остров, а на настоятельные просьбы отвечал только одним:
— Я слишком устал от долгой жизни и не хочу вмешиваться в дела, где и без меня можно обойтись. Оставьте меня в покое…
Когда же Марек сам отправился к нему с просьбами, он сказал:
— Может быть, позже я понадоблюсь тебе, сынок. Постарайся обойтись сейчас без меня. Если когда-нибудь, в случае надобности, я выступлю на твоей стороне (а я сделаю так, потому что знаю, что у тебя добрые намерения), то, по крайней мере, не скажут, что я защищаю свое.
Совещания проходили без больших успехов. С самого начала оказывалось множество трудностей, с которыми нельзя было справиться. У Марека иногда складывалось впечатление, что за ним находится какая-то рука, которая разрушает все, что он делает или пытается сделать. Но он решил не отступать — по крайней мере пока. Он только негодовал и возмущался гораздо чаще, не замечая, что его гнев производит на людей все меньше впечатления.
При этом вокруг начали твориться удивительные вещи. О работе комиссии расходились неизвестно кем пущенные слухи, преувеличенные и чудовищные, которые заранее враждебно настраивали людей ко всему, что там будет решено. Говорили, например, что состояния будут поделены между всеми жителями, но те, которым не достанется ни земли, ни имущества, будут попросту зарезаны. В будущем тоже будет регулироваться рост семей путем топления сверхплановых младенцев… Власть первосвященников должна быть отменена, а вместо этого должен будет управлять тайный комитет, заочно приговаривающий к смерти всех, не согласных с его решениями. Женщинам будет дана самая широкая свобода, поэтому им не нужно будет ни подчиняться мужьям, ни хранить им верность. И морцы будут уравнены в правах с людьми…
Эти и подобные им басни постоянно кружили среди людей, возмущая их все больше, а все попытки Марека положить им конец не имели никакого результата.
Одновременно начались разговоры о появлении пророка Хомы, который неизвестно каким образом вышел из темницы первосвященника и теперь, подвергаясь его преследованиям, ходит среди людей и возвещает, что Победитель — не истинный Победитель, а самозванец, которому нужно перестать повиноваться. Тем самым он даже самых верных вводил в искушение и собирал толпы народа, которые тянулись за ним из поселения в поселение.
Не теряло времени также и Братство Правды. Хотя оно лишилось при неясных обстоятельствах своих самых исключительных членов, но тем более — предполагая, что это произошло не без участия «пана Марека», несомненно имеющего везде шпионов и соглядатаев, — старалось настроить людей против него. В некоторых кругах уже вслух заявляли, что он просто аферист, который хочет отправить людей на истребление в страну шернов, чтобы отвести внимание от недоступного рая на той стороне Луны. Кроме того, поскольку после исчезновения Роды, Матарета и их спутников в Братстве было мало людей ученых, в умах остальных начали рождаться гипотезы самые фантастические: никто уже не верил в Великую Пустыню, занимающую «ту сторону», предполагалось, что она только окружает широким поясом чудесную, богатую страну.
Вдобавок из-за моря также приходили не очень хорошие вести.
Новые колонии, постоянно подвергаясь нападениям шернов, постоянно требовали новое подкрепление в виде людей и оружия, ничего не давая своей стране взамен.
Марек, сраженный неуспехом дела, за которое держался уже только из упрямства, все с большей тоской оглядывался в поисках человека, с которым мог бы искренне и открыто говорить… У него было множество врагов скрытых и явных и небольшая горстка приятелей, которые теперь держались вдалеке от него потому, что все еще считали его божеством, а не человеком. Он чувствовал, что находится в странном положении человека, вынуждаемого ко лжи. Скажи этим немногочисленным последователям, что на самом деле он такой же, как они, человек, и он утратил был последних приверженцев. Те же, для которых он прежде всего действовал: самые бедные, самые убогие, живущие в рабском труде, гораздо охотнее верили злым сплетням и, либо опасаясь утратить благосклонность состоятельных людей, в свержение которых не верили, либо просто не понимая, что для них лучше, ни в чем не хотели помогать Мареку.
Тогда он собирал маленькую горстку своих приятелей и, размышляя о зерне, которое оставит им для посева после отлета, долго рассказывал им о добре, возвышенных стремлениях, знаниях.
Ихезаль не принимала участия в этих собраниях. Изменившаяся до неузнаваемости, она или избегала теперь Марека, или снова дразнила его своими неожиданными порывами, чтобы потом вдруг выскользнуть у него из рук с издевательским смешком. А Марек в самом деле стал тянуться к ее обществу, и чем более странной и дикой она становилась, тем больше он тосковал по той, какой он увидел ее в самом начале.
Он не хотел признаться даже себе, что эта девушка — одна из причин, может быть, самая главная, по которой он еще остается на Луне, не торопясь с вылетом…
В один из дней, после неожиданной ссоры с Элемом, который, чувствуя за собой почти весь народ, отбросил притворную покорность, Марек вышел на крышу храма, чтобы немного отдохнуть и посмотреть на широкое море. Неожиданно он увидел там Ихезаль. Она стояла опершись о балюстраду и задумчиво смотрела вдаль. Море шумело внизу и заглушало шаги подходящего, а может быть, она так погрузилась в свои мысли, что не услышала их…
Только когда он приблизился к ней на такое расстояние, что мог вытянутой рукой коснуться ее плеча, она неожиданно повернулась и громко крикнула от испуга, увидев его рядом с собой.
Она стояла в углу и не могла уйти, минуя Марека, тогда она еще глубже втиснулась туда и испуганно посмотрела на него. Марек отступил на шаг, давая ей проход.
— Ихезаль, ты хочешь уйти…
— Я должна, — прошептала она, опустив голову, но не двинулась с места. Лицо у нее было болезненным, но тихим, как когда-то давно, когда она проводила здесь долгие часы с Победителем, слушая его удивительные рассказы о Земле, о звездах…
— Что с тобой? — спросил Марек тихим и мягким голосом, как бы опасаясь спугнуть ее.
Она ничего не ответила, только плечи ее задрожали, а на ресницах повисли две большие слезы, медленно скатившиеся на побледневшие щеки.
Марек взял ее за руку и тихо потянул к себе. Она не сопротивлялась и уселась на каменной лавке. Он же, по своей теперешней привычке, опустился на пол и, оперев подбородок на руки, долго смотрел ей в глаза. Она выдержала его взгляд, только глаза ее стали какими-то мутными и погасшими. Потом она опустила ресницы.
— Ихезаль, — начал Победитель, — почему ты избегаешь меня? Ты так мне нужна…
Она едва заметно пожала плечами.
А он продолжал:
— Когда-то ты была при мне, как птичка, которая села мне на плечо, золотая райская птичка. Ты была совсем рядом, и мне стоило только протянуть руку…
Она подняла на него грустные глаза.
— Почему же ты не протянул тогда руку, Победитель?
— Не знаю, не знаю! Может быть, мне не было тогда так плохо, может быть, я еще не был так одинок… А сегодня перед недоброжелателями я должен изображать сильного, от друзей скрывать свою человеческую природу, а ведь я, хотя рожден на далекой Земле, хотя больше вас ростом и сильнее разумом, такой же человек, как вы, я здесь один, один, один! Ихезаль, будь со мной!
— Слишком поздно, — беззвучно сказала она, — слишком поздно. Я могла навсегда стать твоей тогда. А теперь я так страшно далека от тебя… Уходи, уходи, пока есть время. Улетай на Землю!
Он протянул к ней руки — она легонько отстранилась.
— О, почему ты принес мне такое несчастье! — снова заговорила она с каким-то странным ожесточением в голосе. — Почему ты мной пренебрег? Почему ты не смотрел на меня, когда я была у тебя перед глазами, или почему не оттолкнул меня сразу…
Она неожиданно замолчала и посмотрела ему в глаза блуждающим взором. Злая усмешка скривила ее губы.
— Ничего у нас не выйдет, Победитель… — сказала она. — А может быть, я — это Душа лунного народа и тебе нужно было позаботиться о том, чтобы я была с тобой?.. А ты прозевал минуту, а теперь ходишь с протянутой рукой за птичкой, которая уже улетела. Ха-ха, улетела… И теперь ты — Победитель…
Она засмеялась сухим и отвратительным смехом.
— Ихезаль!!
— Прочь! Я не хочу смотреть на тебя, не могу! Не могу! — повторила она, опускаясь на колени.
В глазах ее светился ужас. Она протянула к нему дрожащие руки.
— Сжалься надо мной! Уходи! Уходи! Улетай! Сделай так, чтобы я не видела тебя, чтобы забыла…
Марек медленно поднялся. Безбрежная тоска переполняла его душу и сковывала движения. Он постоял около девушки, собираясь протянуть к ней руки. Огромная усталость вдруг охватила его. Марек повернулся и тяжелой, ленивой поступью направился к лестнице, ведущей вниз. Ихезаль еще какое-то время слышала его шаги на лестнице, потом они затихли…
После его ухода она бросилась на каменный пол и забилась в страшных, неудержимых рыданиях. Она вся тряслась, как листок, билась светлой головой о пол, рвала руками волосы и одежду.
Но время шло, и она постепенно успокаивалась. Сначала она лежала совершенно неподвижно, похожая на мертвое тело, и только дрожь, изредка пробегавшая по ее телу, свидетельствовала о том, что она жива. Потом она встала, бледная, с посиневшими губами. Широко открытые глаза девушки запали, под ними залегли темные тени, на гладком лбу появилась морщинка. Она начала автоматическими движениями поправлять на себе одежду, приглаживать волосы.
Потом она спустилась в храм. Там она застала Марека, разговаривающего с несколькими людьми, среди которых был начальник дворцовой стражи первосвященника. Занятый разговором, Марек не видел девушки, и она остановилась в стороне, прислушиваясь.
Разговор шел о страшных событиях, которые с некоторого времени происходили в городе и его окрестностях. Неожиданно гибли люди, особенно если удалялись в одиночестве от жилищ, но случалось также, что в домах находили убитыми целые семьи. У всех на теле были синие следы от прикосновения убийственных рук шерна. Не подлежало сомнению, что это дело рук сбежавшего Авия, который, видимо, скрывается где-то и в подходящее время выходит на охоту. Ставили охрану, устраивали облавы, перетряхивая каждый уголок окрестностей, каждый куст зарослей, каждый изгиб скал — все было напрасно.
А чудовище, видимо, скрывалось где-то поблизости, об этом говорила территория, на которой проходила его деятельность, приходящаяся, главным образом, на город… Народ перед этим таинственным бедствием, постоянно висящим над его головой, был совершенно бессилен и только вспыхивал гневом против Марека, потому что это он когда-то поместил Авия в темницу вместо того, чтобы уничтожить его на месте. А Марек чувствовал, что этот единственный затаившийся шерн гораздо опаснее, нежели целые их отряды там, в заморской стране, где с ними, по крайней мере, можно было бороться открыто, — однако не мог найти средства воспротивиться этому злу.
Никто не предполагал, что чудовище могло получать от кого-то из людей добровольную помощь, но опасались, что он добился этого угрозами, поэтому все подозревали друг друга. Один человек на другого смотрел с недоверием и страхом. В конце концов общее возмущение обратилось против Нузара, которого Победитель постоянно держал при себе. Это он, этот проклятый морец, должен был охранять Авия и служить ему! Следует уничтожить его, вынудив вначале под пытками признаться, где скрывается шерн.
С этим люди и пришли сегодня к Мареку: потребовать, чтобы он выдал им Нузара. Ихезаль слышала, как Победитель решительно этому воспротивился, разрешив только на какое-то время запереть морца в темницу с сильной охраной, чтобы убедиться, не находится ли шерн в сговоре с ним и не попадется ли к ним в руки, лишившись помощи морца… Никаких пыток Победитель не разрешил, особенно потому, что в глубине души был уверен в невинности морца, который, как пес, все время находился у его ног.
Послам не показалось это достаточно убедительным, и они как раз начали ссориться с Мареком, когда Ихезаль, чуть усмехнувшись, вышла из храма, направляясь к своим покоям.
Однако, оказавшись в коридоре, она неожиданно повернула направо и, убедившись, что никто за ней не следит, изо всех сил уперлась в одну из каменных плит в стене. Та медленно отступила, открывая темный проход в стене, и снова закрылась за исчезнувшей в нем девушкой. Ихезаль быстро бежала, касаясь вытянутой рукой камней, торчащих из стены. Насчитав их семь, она снова повернула направо и стала что-то искать руками на влажном полу. Наконец она нащупала край отверстия и первую ступень ведущей вниз лестницы. Она спустилась по ней в глубину и после короткого кружения по переходам оказалась в просторных природных пещерах, освещенных слабым дневным светом. Они тянулись подсадом, под храмом, соединяясь со скалистым морским берегом. Дневной свет проникал сюда через несколько щелей, находящихся в отвесной скале, висящей над морем.
Существование этих пещер держалось в строгой тайне, и сейчас уже о них не знал никто, за исключением внучки Малахуды… Стоя в огромном гроте, наполненном фантастическими сталактитами, она троекратно ударила в ладоши. На этот знак из одной из боковых галерей вышел шерн Авий. На его плечах был пурпурный плащ, концы которого были переброшены на грудь, и старый золотой священный обруч первосвященника, низко надвинутый на лоб, прямо над парой верхних глаз.
Ихезаль задрожала всем телом, а он — удивительно похожий на властителя преисподней — приблизился к ней и протянул страшные белые руки. Девушка стояла, бессильно опустив руки вдоль тела, когда Авий начал раздевать ее. Он бросил на пол богатый плащ и расшитое платье, а когда наконец, стянув с нее белую рубашку, развязал шаль, обернутую вокруг бедер, на снежно-белых, атласных бедрах девушки показались два омерзительных синих пятна, похожие на отпечатки рук шернов…
Она упала перед ним на пол, а он, широко раскинув крылья, наступил ногой на ее светлую голову, погрузив шпоры в рассыпанное золото ее волос.
VI
Сообщение о смерти Малахуды как громом поразило Победителя. Все и так шло как нельзя хуже, и Марек как раз собирался, прежде чем покинет Луну, сделать еще одну, последнюю попытку: вызвать Малахуду, чтобы он вышел наконец из своего уединенного убежища и помог ему своим авторитетом, когда рыбак, служащий обычно послом старому первосвященнику, доложил ему, что тот мертв. Видимо, он был убит, — сказал рыбак, дрожа всем телом.
Марек сначала предположил, что это преступление совершено по приказу Элема, все еще опасавшегося давнего соперника. Он, как буря, ворвался во дворец первосвященника и выволок дрожащего от страха монаха, проклиная его и угрожая немедленной смертью. Бывший монах, ни о чем не зная, онемел от ужаса. Но когда, однако, через некоторое время уразумел, о чем идет речь, выказал такое удивление и так искренне поклялся в своей непричастности, что Марек невольно в нее поверил… Он отпустил его, пригрозив, что проведет свое расследование, и если окажется, что тут есть хотя бы тень вины его, Элема, он, несмотря на свою охрану и весь народ, будет так страшно наказан, что до тех пор, пока существует Луна, все люди со страхом будут вспоминать о мести Победителя. Он приказал немедленно приготовить себе лодку, чтобы отправиться на Кладбищенский Остров и там, на месте, выяснить, что произошло.
Было чудесное утреннее время, когда Победитель вместе с рыбаком и лодочником приблизился к маленькой зеленой пристани, к которой некогда приставала Ихезаль, навещая деда. Удивительные деревья и кустарники со свесившимися к воде ветками росли на берегу. Под ними из зеленой травы торчал большой камень, наклонившийся подобно падающей стене… Именно в этом месте лодка причалила к берегу. Марек первым выскочил из лодки, и пока те двое привязывали лодочную цепь к пню, торчащему над водой, он уже бежал наверх.
Под камнем в вытоптанной траве что-то блеснуло — Марек остановился и поднял с земли золотую застежку от платья, с еще висевшим на ней кусочком ленты. Она была маленькой и плоской, с большим камнем в центре. Он узнал украшение, которое когда-то послал золотоволосой Ихезаль из первой добычи, захваченной у шернов…
Двое тем временем, привязав лодку, приблизились к нему. Он быстро спрятал застежку, и они направились по дороге, ведущей к гроту Малахуды. Когда они приблизились, на дорогу выбежали собаки — оголодавшие, дикие, они с остервенением стали бросаться на приближающихся людей, особенно на Марека, хотя раньше относились к нему с симпатией. Марек, увидев, что успокаивающие слова на них не действуют, замахнулся на одну палкой, но в ту же минуту другая кинулась на него и схватила зубами за рубашку. Марек отпрянул назад, оставив кусок оторванного полотна в пасти разъяренного животного. И вдруг обе собаки, оставив Марека, бросились яростно рвать это полотно. Среди обрывков ткани заблестела золотая застежка с кусочком пурпурной ленточки…
Но Победитель этого не заметил. Радуясь, что избавился от назойливых собак, он бегом кинулся ко входу в пещеру. Здесь, у самого входа, лежал труп Малахуды. Глаза у него были остекленевшие, полуоткрытые, губы приоткрыты в последнем крике. Не вызывало сомнений, что его застали врасплох и убили прежде, чем он успел оказать сопротивление. Крови нигде не было, также не было никаких следов от удара по голове. Тогда Марек велел раздеть его, чтобы поискать рану. Но едва только была распахнута коричневая кожаная епанча, оба помощника со страхом отпрянули: на теле старика были видны два отвратительных синих пятна, характерные для людей, которые погибли от рук шернов. Марек молча закусил губы.
Вскоре они начали копать могилу между двумя холмами, обозначающими место последнего пристанища первых людей на Луне. Тело было обернуто в полотно, найденное в пещере, и засыпано землей, сверху были положены тяжелые камни, чтобы до трупа не добрались оголодавшие псы.
В молчании выполнил Победитель этот последний обряд и все еще молчал, когда лодка поплыла обратно к городу.
У пристани он встретил людей, которые донесли ему, что во время его отсутствия пришло сообщение из-за моря. Вскоре он увидел и посланников, присланных Еретом. Они уже на рассвете прибыли сюда, как они сказали, но их задержала стража первосвященника, не позволив сразу показаться на глаза Победителю. Также у них были отобраны письма, которые написал Ерет, поэтому теперь, когда их освободили, они даже не знают, что говорить. Они могут рассказать только то, что видели собственными глазами, но это немного и в этом нет ничего хорошего.
Тогда Марек взял их с собой в храм, чтобы там свободно поговорить. Но уже по дороге его остановило какое-то движение. Люди поспешно пробегали, бросая на него какие-то недоверчивые и испуганные взгляды — на площадях собирались большие группы, которые тоже быстро расступались, когда он к ним приближался. Но Марек был слишком занят мыслями о Ерете и о том, что ему скажут посланники, чтобы обращать на все это внимание.
Главные двери в храм были заперты, но он вошел через боковой вход, запертый недостаточно крепко, чтобы он не мог проложить себе дорогу через него своими крепкими плечами. Впрочем, и этому он не придал значения. Видимо, было еще неизвестно, что он вернулся и его жилище было заперто от непрошеных гостей.
Оказавшись один на один с посланниками в обширном главном зале, он немедленно стал расспрашивать их о судьбе оставленных за морем гарнизонов и новых поселенцев. Посланники, действительно, могли рассказать мало хорошего. Там шла ожесточенная борьба: люди, которым не давали покоя постоянные нападения шернов, вынуждены были отступить с самых дальних мест, чтобы сохранить остальную часть страны. Впрочем, шерны не рисковали вступать в открытый бой, вели против людей партизанскую войну. Мыслью Ерета было создать плотный, находящийся в постоянном контакте пояс застав, размещенных в укрепленных местах, но на это нужны были люди, люди и еще раз люди, которых все еще не хватало, несмотря на сильный наплыв из старых мест. Поэтому они оборонялись, как могли, устраивая время от времени походы на шернов, которых, в свою очередь, хотели держать в постоянном страхе. Но все это так измучило людей, что у них просто опускались руки, и было много таких, которые вслух говорили, что нужно бросать этот неприветливый край и возвращаться как можно быстрее за море на старые места.
Видимо, Ерет именно об этом писал в своих исчезнувших письмах. Устно он только велел сказать Победителю, чтобы он был спокоен о плодах своих трудов, пока он, Ерет, жив, страна будет в их руках. И приказал просить Победителя, чтобы тот устроил хорошую жизнь в старых поселениях и установил там обещанные законы, прежде чем вновь отправится на Землю.
Марек задумался, выслушав это сообщение. Посланники должны были возвращаться назад с новой партией поселенцев, он пообещал отослать с ними письмо к Ерету, предупредив, чтобы они его не потеряли. Он сразу же принялся за него.
Марек упомянул о трудностях, с которыми ему пришлось здесь столкнуться — и что с каждой попыткой люди все больше связывают ему руки, не желая новых порядков, так что временами он уже теряет надежду, что без употребления силы можно сделать какое-то добро. Но силы пока употреблять не хочет.
«Я рассчитывал еще на помощь и авторитет Малахуды, — писал он в конце, — но старик уже мертв… Он погиб таинственным образом, кажется, от руки плененного шерна, который ухитрился как-то сбежать. Я теперь один, и у меня только два пути на выбор… Бросить все и возвращаться на Землю, либо вызвать тебя с группой верных моих товарищей, с которыми мы вместе сражались с шернами, и установить тут порядок, устранив всех тех, которые мешают. Я все еще сомневаюсь и не знак), какой из них выбрать. Все это очень грустно. Несмотря на обиду, которую ты таил ко мне, а может быть, по-прежнему таишь, я верю тебе, потому что знаю, что ты не мне, а делу предан всей душой. И я верю, что если я дам знак: приходи! — ты придешь. И станешь на мою сторону. Но я не знаю, должен ли я это сделать…»
Он продолжил письмо, излагая Ерету подробный план нового порядка, который хотел установить.
«Если случайно, — заканчивал он свое письмо, — я буду вынужден покинуть Луну, ничего не сделав, пусть, по крайней мере, после меня останется то, что я рассказываю здесь моим немногочисленным приятелям — и что теперь пишу тебе. Если наступит подходящее время, приди сам, собери моих оставшихся приятелей и закончи начатое мной дело. Может быть, действительно, нужно, чтобы вы сами сделали все это, а не я, пришелец с далекой планеты? Не знаю сейчас ничего; дни у вас долгие, прежде чем этот день закончится, может еще многое произойти и многое измениться…»
Он отдал письмо посланцам, которые зашли проститься с ним, потому что торопились отправиться на запад, к расположенным там поселениям, и уже оттуда ночью отправиться на юг.
После их ухода Марек запер двери в храм и начал в одиночестве ходить большими шагами по залу, размышляя. Он отчетливо понимал, что наступила последняя возможность попытаться повернуть людей на иной путь, нежели тот, по которому они шли до сих пор, если он не хочет признать свое поражение и уступить. Ведь, — размышлял он, — среди людей много таких, которые поняли бы его добрые намерения и пошли бы за ним, если бы не коварство Элема. Действительно, Малахуда был прав: нужно было не ждать и не искать предлога, а сразу же после возвращения из-за моря приказать немедленно казнить Элема или, по крайней мере, заключить в тюрьму; и возможно, тогда все пошло бы по-другому.
Он стиснул зубы и нахмурился:
— Да, или я, или он! — громко сказал он себе. — Другого выхода у меня нет!
Он почти жалел теперь о том, что сразу не написал Ерету, чтобы он приехал немедленно с группой воинов, но подумал, что, в конце концов, может справиться и сам. Он отбросил волосы, спадающие ему на лоб, и с высоко поднятой головой повернулся к дверям храма.
На площади стоял гул от большого скопления народа. Победитель, погруженный в свои мысли, до сих пор не замечал его, хотя он был слышен и в храме, особенно тогда, когда раздавались громкие выкрики. Только отворив двери, запертые изнутри на железный засов, Марек услышал эти голоса, но даже не сразу понял, откуда они исходят и что означают, а потом обрадовался, что народ уже собрался и не надо его созывать, чтобы поговорить с ним.
Он уверенным шагом вышел на высокое крыльцо перед храмом и сразу же громко потребовал, чтобы все замолчали, потому что он хочет говорить. И, действительно, наступила глухая тишина, но только на одно мгновение, потому что он не успел еще открыть рот, как отовсюду послышались возмущенные голоса, словно гул разбушевавшегося моря.
В этом сплошном гуле трудно было что-либо понять: Марек выхватывал только отдельные, громче других звучащие выкрики, все они были направлены против него. Кричали что-то об убийстве Малахуды, о шерне, напущенном на людей, о войске, оставленном на погибель, тут и там слышались оскорбления, особенно из уст последователей пророка Хомы и членов Братства Правды.
Марек спокойно смотрел на толпу, думая только о том, какое произведет впечатление на людей, когда он вызовет сюда Элема и раздавит его на их глазах… Он уже знал, что в эту минуту не может рассчитывать ни на чью помощь и ни на какое послушание и должен сам совершить это отвратительное действие. Он был готов к этому. Посмотрел в сторону, где на ступенях нового дворца первосвященника появился Элем в окружении охраны и своих приспешников. Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы крикнуть на него так, как кричат на собаку, чтобы она лежала у ног, — он был даже готов, если бы тот не послушался, проложить себе дорогу через толпу и притащить Элема в руках…
Но внезапно его охватила безграничная тоска и бессилие, которые обычно приходят на смену возбуждению. Бесцельность этого поступка, бесцельность вообще всех его попыток ясно встала перед его глазами. И в его душе зазвучали единственные слова: на Землю, на Землю!..
Он уселся на плите, издавна служащей первосвященникам для выступлений, и тупым, усталым взглядом скользнул по толпе. Она утихла неизвестно почему, на одну минуту, и тогда он сказал своим мыслям скорее, чем людям:
— Чего вы хотите от меня?..
Видимо, программа этого народного собрания была заранее составлена мудрыми аранжировщиками, потому что шум стал медленно затихать; какие-то люди устанавливали тишину и руководили отдельными группами… Через минуту перед Победителем начали выступать делегации. Шли купцы и землевладельцы, жрецы, которые одновременно были судьями в селениях, и владельцы фабрик, пекари и мясники. За ними шли разного рода ремесленники, а за ними люди, весь свой день проводящие в тяжелом труде, — работники, рыбаки, ловцы жемчуга, даже охотники с лесистых склонов Отамора. Присутствовали и женщины, которые, собравшись в отдельную группу, испуганно направлялись к Победителю, подталкивая друг друга локтями.
Марек молча смотрел на эту процессию, и у него создалось странное впечатление, что все это происходит не на самом деле, а как бы во сне, как будто он уже находится на Земле и только его мысли блуждают еще в этом лунном краю…
Он даже удивился, услышав голоса, обращенные к нему. Предводители купцов и землевладельцев остановились перед ним и, протягивая руки, восклицали:
— Победитель! Подари нам прежнее спокойствие! Оставь в наших руках имущество, веками накопленное! Не уничтожай нашего благосостояния!..
А за ними уже двигались жрецы, выкрикивая своими громкими, привыкшими к выступлениям перед толпой, голосами:
— Победитель! Могущественный земной пришелец! Не ломай законов, которые мы установили много веков назад! Не отдавай власть в руки темных и непросвещенных людей!
И так все подходили к его ногам и просили, чтобы он все оставил так, как было, — по-старому. Владельцы фабрик не хотели никаких изменений в оплате труда работников, говоря, что это их разорит и уничтожит всякое ремесло, охотники и рыбаки протестовали против дани, пусть даже самой небольшой, в общественное пользование; сельские поденщики и городские ремесленники умоляли его не ссорить их с богатыми людьми, которые держат в своих руках их жизнь, давая возможность зарабатывать; наконец, ему в ноги упали женщины, умоляя, чтобы он позволил им сохранить их нынешнее положение, то есть полное подчинение мужьям…
С грустью и горечью слушал Марек все эти обращения, а глаза его избегали смотреть на толпящихся у его ног и искали в толпе людей, которые думали иначе и готовы были бы выступить против лжи самозваных предводителей. Он чувствовал, что если увидит в толпе таких, то, несмотря на усталость и подавленность, поднимется и растопчет ногами всех этих сгрудившихся у его ног и призовет друзей, которые захотят вместе с ним двигаться вперед…
Но вместо этого он увидел только грубые лица, с нетерпением ожидающие его ответа, и ожесточенных, возбужденных людей, готовых, если он не прислушается к их просьбам, открыто выступить против него. Было видно, что они даже хотят криков, оскорблений, драк, суматохи.
Он горько улыбнулся в душе, и взглядом, одновременно полным безграничного презрения и… жалости, обвел умоляющих его людей. Он видел лица тупые и хитрые, тусклые глаза, в которых горел огонь фанатизма, толстые губы и выступающие скулы людей, остановленных в своем духовном развитии.
Внезапное отвращение охватило его и страшная, невыразимая тоска: «На Землю! На Землю!» Безжизненным движением он отстранил толпящихся около его ног, готовых униженно целовать его одежды.
— Идите! Делайте, как вам нравится. Я возвращаюсь на Землю.
Радостный крик прозвучал в ответ на его слова. Он уже не слышал его, уйдя в глубь храма…
Но и здесь его не оставили в покое. Пришли посланники от первосвященника Элема с извинениями, что он сам не смог явиться, потому что в настоящий момент очень занят. Но он приказал им немедленно отправиться к Победителю и от имени первосвященника выразить сожаление, даже отчаяние, что благословенный Победитель собирается так скоро покинуть Луну, и одновременно узнать у него, какие имеются приказания, которые первосвященник готов немедленно выполнить с обычным послушанием.
Марек, слушая эти неискренние слова, даже не рассмеялся. Ему все было безразлично, он хотел только как можно быстрее избавиться от неприятных посетителей. Поэтому он сказал им, что к Его Высочеству первосвященнику у него не будет никаких приказаний, кроме одного, он хочет, чтобы ему дали людей, которые уже сегодня отправились бы в Полярную Страну, чтобы предупредить охрану, что он завтра прибудет. Он послал туда сразу же после прибытия из-за моря несколько доверенных людей, но они до сих пор не вернулись, и он не знает, все ли там содержится в надлежащем порядке, как он приказал.
После ухода посланников он стал собираться в дорогу. Привел в порядок записи и уложил фотографии, упаковывая все медленно и систематически — до отлета было достаточно времени: перед ним еще был остаток дня и целая ночь. Он думал, что когда-то собирался взять с собой на Землю связанного шерна и несколько лунных людей: теперь он только усмехнулся при этом воспоминании. Шерн исчез, а люди надоели ему здесь!
Он взял бы с собой одного Ерета, но он нужен здесь и слишком хороший человек, чтобы его на Земле разглядывали, как диковинку… Он рассмеялся в душе: может быть, забрать с собой Элема и показывать его в клетке? Но эта детская и злорадная мысль быстро погасла в нем. Он уселся и положил голову на руки.
Он вспомнил этого Элема таким, каким он впервые его увидел: в серой монашеской рясе, с бритой головой, сверкающими глазами фанатика, вместе с живыми и мертвыми ожидающего прихода Победителя с непоколебимой верой в то, что он придет… Неужели это тот же самый человек? Тот же самый? А другие? Все те, которые ждали? Были спокойные, тихие, верящие?.. Ведь Малахуда, приветствуя его, сказал: «Ты уничтожил все, что было, — теперь создавай…» Что же произошло?
Он сорвался с места и в ужасе схватился руками за голову. Только сейчас он четко осознал то, что до сих пор смутно ощущал: его приход на Луну вместо того, чтобы быть благословением, оказался страшным и неописуемым бедствием, насильственным вторжением в естественную, неторопливую жизнь этого мира, уже обжитого людьми. И это перевернуло все вверх ногами, разожгло страсти, помогло выйти наверх скрытой подлости…
Он пожал плечами:
— Ха, ничего не поделаешь! Так, видимо, должно было случиться!
Но он чувствовал, что эту фаталистическую фразу он произнес только для того, чтобы заглушить мысль, которая говорила ему нечто иное…
И эта мысль…
— Ихезаль…
Да, именно это имя звучит в нем постоянно с той минуты, когда он подумал об уже неотвратимом возвращении…
— Золотая птичка моя! Ихезаль!
И такая страшная тоска охватила его, что он зубами схватил себя за руку, чтобы не закричать…
— Прости меня, прости, — прошептал он тихо, как будто она стояла перед ним.
Он не очень четко представлял себе, за что просит у нее прощения, не мог определить своей реальной или воображаемой вины, только чувствовал, что речь здесь идет об уничтожении какой-то прекрасной мечты, о напрасно потраченной жизни, может быть, о погибшей… любви…
Какая-то самолюбивая мысль постоянно твердила ему, что он не сделал ничего плохого и даже не знает, откуда взялась эта странная перемена в девушке, на чем она основана, но, вопреки этой мысли, он чувствовал, что только от него зависело, чтобы она была самым благоуханным и прекрасным цветком, а не тем непонятным и страшным существом, каким она стала…
Он хотел заглушить этот внутренний раздор приготовлениями к возвращению и радостными мыслями о Земле, но работа у него не спорилась, а Земля перед его глазами затягивалась какой-то мертвенной, серой мглой.
В одиночестве он провел время до самой вечерней поры, когда Солнце уже начало склоняться на запад и небосвод окрасился в красный цвет. Он смотрел на Солнце сквозь покрасневшие стекла окон, когда его пробудил от задумчивости стук в дверь, сначала легкий, потом все более настойчивый. Он поднялся и отворил ее.
Перед ним стоял Элем в парадном убранстве первосвященника, в старинном высоком колпаке и с двумя кадильницами в руках, а за Элемом — на крыльце и широкой лестнице — цветастая свита сановников и старейшин, которые соединялись с огромной толпой, заполнившей всю площадь. Едва Марек появился на пороге, первосвященник упал перед ним на колени и начал махать кадильницами, окутав его клубами густого пахучего дыма. Примеру Его Высочества последовали другие члены свиты; народ, которого было слишком много, на колени опуститься не мог, он только склонил головы, приветствуя Победителя протяжным воплем.
А первосвященник говорил нараспев, непрестанно отбивая поклоны:
— Будь благословен, господин, с Земли прибывший, радость очей наших, который уже собирается возвращаться! О-ха!
— О-ха! — вторила ему толпа жалостливо.
— Будь благословен, Победитель, который шернов поразил и дал силу рукам человеческим! Плачут сердца наши, что ты уже возвращаешься! О-ха!
— О-ха! О-ха! — стонала толпа.
— Ты принес нам мир, мудрость исходила из уст твоих, чтобы просветить нас! Зачем ты нас теперь покидаешь, бедных сирот, слишком быстро возвращаясь на сияющую Землю? О-ха! О-ха!
— О-ха!
— Мы благодарим тебя…
Марек повернулся и вошел в храм, захлопнув за собой тяжелые двери.
Его глаза, ослепленные ярким солнцем, не сразу привыкли к темноте, окутывающей гигантский зал… Он не понимал, видение это или реальность: там, в глубине, опершись о черный амвон с золотой надписью, стояла Ихезаль… Он уже давно ее не видел, наверное, с того памятного дня на площадке крыши. Он медленно приблизился к ней.
— Ихезаль! Я возвращаюсь на Землю…
— Я знаю, что ты собираешься вернуться…
В полумраке он заметил, что глаза у нее испуганные и какие-то блуждающие, на губах застыла похожая на гримасу улыбка…
— Ихезаль!
Она быстро осмотрелась вокруг. Какой-то едва слышный шелест за амвоном…
С застывшей маской на лице, как бы под действием чьей-то чужой воли, она дрожащими руками распахнула на груди платье.
— Подойди…
Потом внезапно вытянула руки перед собой.
— Нет! Нет! Уходи от меня, — вскричала она приглушенным голосом, — позови сюда людей и уходи отсюда! Сжалься надо мной! Над собой! Беги! Возвращайся на Землю!
Он схватил ее за протянутую руку.
— Что с тобой, девочка?
Снова за амвоном послышался шелест — Ихезаль побледнела, в ее глазах появилось выражение ужаса.
— Подойди, — беззвучно сказала она, — спрячь лицо здесь, на моей груди, наклонись… Мое тело душисто и прекрасно — как смерть…
В эту минуту боковые двери отворились; несколько человек робко вошли внутрь храма. Ихезаль, заметив их, испуганно и вместе с тем радостно вскрикнула — и бросилась бежать. Марек с недовольным лицом повернулся к пришедшим. Но они покорно приблизились к нему и склонили головы:
— Приветствуем тебя, Учитель!
Это были его немногочисленные ученики, которые пришли проститься с ним — их печаль была искренней. Он уселся с ними на полу у подножия амвона и начал разговор. В какой-то момент ему показалось, что во мраке за ним промелькнула какая-то черная тень, быстро исчезнувшая в проходе, ведущем к прежнему дворцу первосвященника, но, видимо, это было просто видение…
Ученики плакали. Он утешал их, объясняя, что должен вернуться, потому что дальнейшее его пребывание здесь не принесет ничего хорошего — но он верит, что они являются тем зерном, которое он посеял в этот грунт и которое пусть через века даст свои плоды… Тем временем успокоятся все страсти, исчезнет недоброжелательность состоятельных людей к нему… К тому же он страшно измучен и тоскует по своему дому, который находится на сияющей звезде над Великой Пустыней…
И они начали спрашивать его о множестве вещей и советоваться, что они должны делать, когда его тут не будет, и требовать, чтобы он поклялся, что когда-нибудь снова вернется…
Так они разговаривали приглушенными голосами в наступающих сумерках, когда вдруг снова послышался у дверей стук и испуганные голоса, зовущие Победителя. Марек неохотно встал, чтобы отворить дверь.
На пороге с испуганными лицами стояли посланники, которых он недавно отправил в Полярную Страну.
— Господин, машины нет!
Марек в первый момент даже не понял этого страшного известия.
— Что? Что?
— Нет твоей машины, господин! — повторили они.
Это известие, видимо, уже разошлось среди людей, потому что беспокойство и переполох царили во всем городе. На улицах и площадях собирались толпы людей; все громко и удивленно разговаривали об исчезновении машины Победителя.
Марек стоял, пораженный этим сообщением, как громом, не в силах вымолвить ни слова.
Часть четвертая
На Луне существуют три сообщения о смерти человека, когда-то называемого Победителем, который прибыл неведомо откуда, во время правления первосвященника Малахуды, а во время правления его преемника Элема был публично казнен. Первое из этих сообщений — и, по-видимому, самое раннее, написано во время правления Севина, который, приказав казнить своего предшественника, Элема, занял место первосвященника. Тогда память Победителя еще не считалась священной, поскольку Севин только под конец своего правления приказал чтить его, как пророка и мученика.
Второе сообщение, написанное значительно позднее, исходит от историка Омилки, известною ученого, который в течение долгого времени возглавлял Братство Правды.
Что касается третьего сообщения, здесь мнения не совпадают: одни утверждают, что оно написано очень давно и исходит от одного из друзей и учеников казненного Победителя, другие, наоборот, говорят, что оно возникло в последнее время и основано на легендах, передаваемых из поколения в поколение.
Все три сообщения примерно совпадают в описании событий, сопутствующих смерти человека, называемого Победителем, однако сильно различаются во взглядах на саму его особу, поэтому мы считаем необходимым поместить здесь все три, не давая преимущества ни одному из них.
Согласно хронологии первым помещается сообщение, написанное в период первой половины правления первосвященника Севина.
I
ПРАВДИВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПОЗОРНОЙ КАЗНИ ПОДЛОГО ПРЕСТУПНИКА. КОТОРЫЙ ИМЕНОВАЛСЯ ОБЕЩАННЫМ ПРОРОКАМИ ПОБЕДИТЕЛЕМ И ЗА МОШЕННИЧЕСТВО СВОЕ ПОНЕС ЗАСЛУЖЕННУЮ КАРУ
Извлеки отсюда урок, читатель! Справедливо был задушен по приказу Его Высочества благочестивого Севина первосвященник Элем, так как он много сделал зла, из которого самое меньшее было сопровождение в страну самозваного Победителя и роспуск священного Ордена Братьев Ожидающих, который только первосвященник Севин по совету благословенного старца и пророка Хомы заново создал и подчинил его непосредственно правящему первосвященнику, на веки веков от всяческих неблагомысленных искушений обезопасив. При этом же Элеме (да будет забыто его имя!) понес заслуженную смерть человек, называемый Победителем, однако это было сделано не по приказу недостойного первосвященника, а по воле людей, возмущенных его гнусными поступками. Этот человек произвел большой переполох в целой стране и втянул весь народ в тяжелую войну с шернами, которая только благодаря необыкновенной отваге и храбрости одураченных Победителем воинов, не закончилась поражением. Он притворялся, что хочет вернуться на Землю, откуда, как сам говорил, он будто бы прибыл, но более правдоподобным представляется предположение, что это был морец огромного роста, который человеческой кровью хотел купить себе власть над шернами, отцами своими, и когда ему это не удалось, попытался взять власть над людьми. О нечистом его происхождении говорит и то обстоятельство, что он окружал себя морцами, при нем постоянно находился некий Нузар, который остался верным ему до последнего дыхания и вместе с ним нашел свою смерть — шернов же, хотя и боролся с ними, он щадил, как мог, видимо, из врожденной привязанности.
И вот этот человек, когда ему не удалось получить власть над шернами, притворился, что хочет улететь на Землю, в уверенности, что народ его как своего благодетеля и опекуна силой задержит, и он таким образом будет управлять всеми человеческими племенами. Эти расчеты, однако, не оправдались, и, кроме недостойного первосвященника Элема, который, видимо, был в преступном сговоре с этим Победителем, никто даже не пытался склонить его к тому, чтобы он остался, тем более, что все уже видели, сколько зла его коварные и неразумные нововведения могут принести людям.
Тогда он устроил себе для вида торжественные проводы, а сам тем временем послал людей в Полярную Страну, где он поставил огромную и непригодную ни для чего металлическую трубу, внушив легковерным, что это машина, на которой он прилетел с Земли и может вернуться назад. Людям этим он поручил проверить, есть ли в этой трубе нечто, и чтобы они дали ему знать, если ничего там не обнаружат. Сам же назначил день прощания как раз тогда, когда эти посланники могли вернуться.
Они пришли и доложили ему, что в трубе ничего нет, о чем упомянутому Победителю самому было хорошо известно, но, услышав это сообщение, он изобразил огромное смятение и стал кричать, что у него похитили его машину, и что теперь он не сможет вернуться на Землю. Все это было подстроено с той целью, чтобы люди думали, что он вынужденно остается на Луне, что обстоятельства заставляют его так поступить. А чтобы придать этому большую видимость правды, он какое-то время демонстрировал свою подавленность и даже делал попытки построить новую машину, из чего, однако, ничего не вышло.
Но вскоре его тайные намерения вышли наружу. Как только он заметил, что утратил свой прежний авторитет среди людей, он отбросил все свое притворство и предстал перед народом, от которого видел до сих пор только добро, во всей своей неприглядной сущности.
Он созвал большое количество людей, и, когда те, ведомые больше любопытством, чем послушанием, пришли, выступил перед ними со словами, заявив, что, поскольку вынужден остаться на Луне, не собирается сидеть здесь со сложенными руками, а будет продолжать свое дело, видимо, судьбой ему предназначенное, от которого чуть было не отступил, встретившись с непредвиденными трудностями. Теперь, однако, выбора у него уже нет, и он без колебаний выполнит все, что намеревался, а если не удастся сделать это по-доброму, он будет действовать силой. Все должны слушаться его, поскольку он так хочет.
После этого он показал всем, что представляет из себя и на что способен. Он подобрал себе палачей и, когда видел, что его глупые и коварные законы не исполняются, начал истреблять людей и страхом добиваться послушания.
В старом храме, который он осквернил, сделав там себе жилище, он создал свою свиту, состоящую из таких же, как он, негодяев, с помощью которой надеялся вскоре завладеть всей лунной страной, заселенной людьми. Однако он встретил неожиданное сопротивление, и оно постепенно довело его до безумия. Жестокий и необузданный, он кровью укреплял свое самозваное правление. Никто не чувствовал себя в безопасности от него; он все хотел изменить и никому не позволил пользоваться нашими давними законами. Он отобрал у уважаемых людей их родовые земли, якобы для того, чтобы заниматься общественным земледелием на них, а на самом деле для того, чтобы ослабить богатых, которые могли бы оказать ему стойкое сопротивление. Подобную же сумятицу он устроил на всех фабриках, запретил простонародью вносить плату за жилье, заявив, что каждый имеет право иметь крышу над головой. Однако эта голытьба оказалась умнее его и не выступила против своих благодетелей, владельцев жилищ своих, ибо знала, что они продержатся дольше, чем этот Победитель, который был никудышным защитником, зато сам награбил много всякого добра.
Он ни в чем себе не отказывал, этот необузданный человек, и менее всего это касалось женщин. В те времена жила здесь одна девушка по имени Ихезаль, внучка предыдущего первосвященника Малахуды, задушенного по приказу Победителя. Девушка эта, память которой почитается сегодня за огромную нравственную чистоту, имела несчастье попасться на глаза самозванцу и часто подвергалась его преследованиям. Однако она мужественно сопротивлялась его домогательствам и ни силой, ни обещаниями смутить себя не дала.
Стойкость этой девушки довела его до такого безумия и беспамятства, что для того, чтобы возместить себе эту потерю, он велел доставлять к себе различных женщин, большей частью легкого поведения (хотя не пропускал и честных!), и устраивал с ними необузданные оргии, о подробностях которых не годится даже упоминать. Он узнавал через своих шпионов, какие женщины попадали некогда в руки шернов и рожали морцев, и собирал их вокруг себя, пребывая в этом нечистом обществе.
Нужно упомянуть и о том, что, кроме нескольких морцев, из которых самым любимым был у него уже упомянутый Нузар, у Победителя находился и шерн, прежний наместник Авий. Этот злобный шерн, о существовании которого в подземелье храма долгое время никто даже не подозревал, выходил по ночам и по его приказу убивал людей и совершал всякие непристойности. Это все стало известно только после смерти Победителя.
В конце концов чаша человеческого терпения переполнилась. От этой грязи и мерзости следовало избавиться. Об этом давно говорили все достойные представители человеческого общества, и им вторил пророк Хома, призывающий к священной войне с самозванцем. Однако поскольку всем хотелось избежать большого пролития крови, которое было бы неизбежным, поскольку Победитель несомненно стал бы защищаться, было принято решение взять его обманным путем, если удастся, то спящим, и поставить, связанного, перед судом.
Преступник, видимо, чувствовал, что его ждет, так как именно перед той ночью, когда это намерение должно было быть выполнено, он со всей своей свитой выехал из храма и решил покинуть пределы города и отправиться в безлюдные места, где основать новое государство по своему плану.
Однако этого ему не могли позволить из справедливых опасений, что это государство могло стать большим злом и опасностью для мира и покоя, нежели близкое соседство шернов.
Поэтому судьбу преступника следовало решить в этом месте, где он уже совершил столько бесчинств. Ворота города были заперты, чтобы оттуда никто не мог выйти, а когда он хотел употребить силу, к нему подбежали специально посланные люди как будто от первосвященника и попросили его немедленно вернуться в храм, где старейшины и сам первосвященник хотят иметь с ним важный разговор. Он не очень в это поверил и провел рукой по поясу, проверяя, при нем ли его оружие; но, видимо, ему было стыдно показать свой испуг перед людьми и брать с собой охрану, в то же время он не хотел отказаться от приглашения, чтобы не сказали, что он отказывается от согласия, к которому сам призывал, поэтому он велел своим сообщникам ждать его у ворот, а сам вернулся в город, оставив при себе только морца Нузара, бегающего у его ног как верный пес.
Но ему не удалось далеко уйти, на одной из узких улочек на него из-за угла набросили веревки и тут же повалили на мостовую. Он пробовал обороняться и кричал морцу Нузару, чтобы тот позвал стоящих у ворот его людей, не зная, что и они в этот момент уже окружены воинами и пленены. Морец как бешеный пес кидался на людей, а когда ему связали за спиной руки, кусал всех, кого мог достать.
Упомянутый Победитель тем временем лежал на мостовой, весь опутанный веревками, не в состоянии даже пошевелиться, но люди все равно боялись приближаться к нему, такой страх возбуждал он всем своим обликом. В конце концов, когда все увидели, что он хорошо связан и не сможет ни освободиться, ни причинить кому-либо вред, стали потихоньку подходить к нему, смело пинать ногами лежащего на мостовой или дергать его за волосы.
Суд было решено устроить в тот же самый день, чтобы еще до захода солнца покончить с этим позором.
Первосвященник Элем отказался от участия в суде, видимо, стыдясь, что это он этого преступника и богохульника сюда привел, и хотел, чтобы его заменил Севин, который тогда еще не был первосвященником. Севин, человек неслыханно мудрый и добродетельный, отличающийся большой скромностью, долго отказывался, но в конце концов был вынужден собрать суд из самых старых и достойных граждан на площади перед опоганенным храмом и приказал привести арестованного. Его привезли на повозке, покрытого синяками и оплеванного. Никто не посмел развязать ему ног, чтобы он шел сам, из справедливого опасения, что он может сбежать или совершить какой-то неожиданный поступок. Итак, того, кто гордо именовал себя Победителем, привезли позорно, как охапку хвороста.
Когда Севин увидел его, он поспешно встал со своего места, которое возвышалось среди других, и громко сказал, что он своим разумом не хочет судить этого человека, но хотел бы послушать, какова в этом случае воля народа.
Людей на площади собралось великое множество. Среди них был и святой старец Хома, который, правда, уже ничего не видел, но еще хорошо слышал (позднее он, как известно, совершенно оглох). Так вот, этот пророк, услышав, что фальшивый Победитель предстал перед судом, начал кричать, что такого преступника не годится даже судить, а надо сразу, по воле народа, побить камнями. На этот голос со всех сторон закричали, чтобы узника отдали народу, который уже приготовил для него награду за все его подлости.
Уважаемый и достойный Севин долго в молчании слушал эти крики, размышляя, как ему следует поступить. Потом, так как народ не замолкал, все настойчивей требуя выдачи преступника, дал знак рукой, чтобы ему позволили сказать свое слово. И тогда сказал примерно следующее:
«Уважаемые граждане и братья! Мы собрались здесь по поручению правящего первосвященника, Его Высочества Элема, чтобы решить судьбу этого связанного человека, выдачи которого вы требуете!
Мы собрались все тщательно изучить, спокойно выслушать свидетелей обвинения и защиты этого несчастного и тогда вынести справедливый приговор, о котором я еще сам ничего не знаю. Но все мы только слуги народа, и ваша воля является для нас самым высшим законом. Вы в своем возмущении не хотите суда и не позволяете нам вести судебное заседание обычным порядком. Я не осмеливаюсь судить, насколько ваша воля правильна и справедлива, потому что я всего лишь ваш слуга.
Что же я должен делать? Я не могу поступить иначе — и думаю, что все остальные судьи со мной согласны — как только покорно выслушать ваш голос и осуществить вашу волю. Значит, я отдаю подсудимого в ваши руки; поступите с ним согласно вашему разумению и совести — я прошу вас только, чтобы вы были к нему милосердны.
И поэтому пусть забудут собственники, что он хотел лишить их состояния; пусть забудут уважаемые сановники, что он хотел нарушить их давние права; пусть мужья забудут оскорбления своих жен, а отцы — поругание дочерей; пусть верующие простят ему осквернение священной религии; пусть нуждающиеся простят ему невыполнение безумных обещаний, а солдаты — кровь своих товарищей, напрасно пролитую на далеких землях! Помните, что он, быть может, хотел только добра и что суд, возможно, оправдал бы его, если бы вы захотели дать делу установления справедливости обычный ход… особенно Его Высочество первосвященник Элем был бы рад защитить давнего своего приятеля и покровителя, благодаря которому он получил колпак отца вашего, Малахуды, сначала изгнанного, а потом убитого.
Вы, однако, хотите другого, и пусть исполнится ваша воля. Только никогда не забывайте, что не мы в эти минуты судим человека, называемого Победителем, а вы сами! Делайте все, что сочтете нужным, я, однако, умываю руки от этого дела и не буду виновен в пролитии его крови, пусть она падет на вас и на детей ваших, раз вы этого хотите!»
Сказав это, достопочтенный Севин закрыл лицо полой одежды и долгое время молча сидел так. Когда он снова открыл лицо, Победителя на повозке уже не было. Народ снял его оттуда и, привязав к ногам веревку, поволок по мостовой на морское побережье, где находилось место, называемое Пристанищем Доброго Ожидания. Здесь в песок был вкопан огромный столб, и, освободив фальшивого Победителя от одежд (которые пришлось разрезать, чтобы содрать из-за боязни развязать его), нагим привязали его к столбу так, что он не мог даже пошевелиться.
Одновременно сюда был приведен и его любимый морец по имени Нузар. Тому было обещано, что ему будет сохранена жизнь (конечно, никто не собирался выполнять обещания, данного морцу), если он деревянным ножом вспорет живот своему бывшему хозяину. Он, однако, отказался это сделать, нерушимо веря в то, что его хозяин, если захочет, вырвет столб из песка и всех поубивает. Тогда народ не стал терять времени и закопал его вниз головой в песок.
После этого начались споры, какую смерть приготовить знаменитому Победителю, который висел на столбе, как мертвый, даже глаза у него были закрыты, чтобы не видеть смерть своего морца.
Предлагалось множество разных пыток. Тем временем простолюдины, которым надоело долгое ожидание, стали бросать в него камни, сначала просто для развлечения, а потом все больше и больше приходя в ярость. Он сразу открыл глаза и дернулся, как будто хотел высвободиться из веревок, но, убедившись, что не справится с этим, бессильно обвис и ждал смерти, бормоча что-то про себя.
Это все продолжалось очень долго, так как у этого Победителя был очень твердый череп и кожа значительно толще, чем у жителей Луны, поэтому камни не причиняли ему большого вреда. И неизвестно, как бы все это закончилось, если бы добрый дух не прислал туда в это время упоминавшуюся уже девицу по имени Ихезаль.
Она, придя туда, остановилась прямо перед привязанным, так что он, открыв глаза, сразу увидел ее в толпе. И такая в нем была нечистая страсть к этой девушке, что, забыв о своей близкой смерти, он стал звать ее по имени.
Тогда она вышла из толпы и подошла к нему. Камнями бросать в него сразу же перестали из опасения повредить ей. Девица же спросила его: «Чего ты хочешь от меня, Победитель?» Сказав это, она вытащила нож, поднялась на цыпочки, так как была невысокого роста, и стала бить им в грудь висящего, в то место, где находилось сердце. Это была тяжелая работа, потому что, как уже говорилось, кожа у него была толстая, но в конце концов она вонзила нож ему в сердце.
И в тот момент, когда он уже испускал дух, на крыше оскверненного храма, которая была хорошо видна оттуда, появился шерн, укрываемый им там, втайне ото всех. Он затрепетал на ветру крыльями и, почувствовав, что его покровитель погибает, полетел в сторону лесов на склонах Отамора, где и исчез без следа.
В тот же день, под вечер, исчезла с человеческих глаз девица Ихезаль. Очень вероятно, что в награду за свою добродетельную жизнь она была взята живой на Землю, где обитают Старый Человек и добрые духи, покровительствующие людям, живущим на Луне, и откуда со временем придет настоящий Победитель!
Так скверно закончил свою жизнь человек, наделавший на Луне столько беспорядка, сколько никто до него и наверняка никто после него сделать не сумеет. Отсюда надо извлечь хороший урок, что нужно быть во всем послушным власти и не верить всяким пришельцам, которые склоняют людей ко всевозможному злу и несчастьям и ведут их сами не зная куда…
II
ИЗ СОЧИНЕНИЯ ПРОФ. ОМИЛКИ. ИСТОРИКА. ОТРЫВОК.
КАСАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАК НАЗЫВ. ПОБЕДИТЕЛЯ
…Одной из наиболее загадочных фигур в истории человеческой жизни на Луне несомненно является Марек, называемый Победителем, хотя множество сообщений о нем, и поныне кружащих в народе, следует отнести на счет легенды, не имеющей ничего общего с правдой. Рассказывают, например, что он был огромного роста, в два раза выше самых высоких людей на Луне, что был необычайно сильным, благодаря чему мог один сделать то, с чем едва ли справились бы шестеро мужчин — и тому подобные басни, свидетельствующие только о том, что народ склонен ко всевозможным преувеличениям и что в его пересказах реальность принимает совершенно невероятные очертания, особенно если это касается особ, пробуждающих его фантазию. Во всяком случае, это должен был быть человек крупный, хорошего роста и сильный, раз эти физические особенности его так хорошо отложились в памяти людей, что впоследствии его превратили в великана.
Но во всем этом есть вещь невероятно интересная: когда возникла байка о его земном происхождении? Еще при его жизни или уже после его трагической смерти? Существует много данных о том, что еще во время его пребывания на Луне простонародье, привыкшее к одурманивающим легендам жрецов о том, что люди много веков назад пришли с Земли, стало разносить слухи и об этом, как бы то ни было, незаурядном человеке, будто он пришел с звезды, представляющей самый интересный небесный феномен на Луне. Я лично не верю, что эти бредни распускал сам Марек; он был слишком умен, чтобы выставлять себя на смех. Гораздо больше я склонен предполагать, что, услышав эту легенду, он мог позволить ей вырасти и распространиться, видя для себя выгоду в том, что толпа будет считать его пришельцем с Земли. Тем более, что это пассивное разрешение не компрометировало его в глазах умных людей, а в глазах толпы придавало ему значительный вес.
Во всяком случае, происхождение этого удивительного человека — вопрос, до сих пор не до конца выясненный. Он появился неожиданно, в один из дней, насколько можно верить преданию, в Полярной Стране, вдали от всех человеческих поселений, и, забрав с собой Братьев Ожидающих, прибыл в столицу у Теплых Озер, где, выпроводив правящего первосвященника Малахуду, взял власть в свои руки.
Никто не знал его ребенком, никто не знал, где он воспитывался и откуда набрался всевозможных знаний, которые много помогли ему в дальнейшей деятельности. Предположение, что он по происхождению морец, не кажется достаточно правдоподобным. Морцы, как правило, довольно тупы, и трудно поверить в то, что один из них сам по себе смог додуматься до изобретений, неизвестных даже шернам, таких, например, как огнестрельное оружие, происхождение которого приписывают именно Мареку.
Разумеется, он вырос не в той части Луны, где живут люди, но ни один разумный человек не может принять всерьез басню о его чудесном прибытии с Земли, которая, как известно, весьма удалена от Луны и лишена всякой жизни на своей сверкающей поверхности; следовательно, не остается ничего иного, как признать фактом давно возникшее в кругу членов Братства Правды предположение, что родиной Марека Победителя является недоступная сегодня для нас другая сторона лунной планеты.
Не подлежит сомнению, что именно там, в стране, некогда обильной и богатой, находится древнее гнездо человечества. На эту истину первым обратил внимание преждевременно погибший мудрец Рода, который доказал в своих работах, что Земля не только не является колыбелью для людей, живущих на Луне, но что там вообще нет и не может быть никаких живых существ. Однако я не согласен с уважаемым основателем Братства Правды в том, что касается причин, по которым люди переселились на эту сторону планеты, веками занятую шернами. Основатель нашего учения Рода предполагал, что за легендарной фигурой Старого Человека скрывается изгнанник, по причине каких-то преступлений вынужденный покинуть цветущий край на той стороне, а что касается современника Роды Марека Победителя, то он предполагал, что это был просто посол, который должен был склонить людей к битве с шернами, беспокоящими людей и в той далекой, укрытой под поверхностью пустыни богатой стране.
Высоко оценивая авторитет Роды и ни минуты не сомневаясь в том, что у этого великого ученого были серьезные основания так считать, я тем не менее во имя правды вынужден заявить, что все это — чушь. Старые человеческие поселения в центре Великой Пустыни уже не являются сегодня цветущей страной. Людям там живется тяжело, особенно потому, что там становится темно, так как пустыня все больше и больше наступает на эти плодородные земли, где можно жить. Так называемый Старый Человек прибыл оттуда не один, он привел с собой несколько человек: это, несомненно, была пробная экспедиция, посланная проверить, можно ли переселиться на эту сторону.
Почему это намерение не было доведено до конца и почему за первой группой в течение многих веков не последовала следующая — на этот вопрос пока ответить не могу. Быть может, людям не захотелось покидать старые, удобные для жизни города и переселяться в новые, неизведанные места. Однако группа людей, прибывших вместе со Старым Человеком, осталась здесь и, расплодившись, образовала новое человеческое общество на Луне, не поддерживающее с первым никакой связи.
С течением веков, видимо, в старых поселениях вспомнили о давней экспедиции, и туда был отправлен Марек Победитель, чтобы проверить, как там обстоят дела и трудно ли переселиться туда в связи со все более ухудшающимися условиями жизни в центре Пустыни.
Марек прежде всего увидел, что шерны завоевали эту страну и что сначала нужно разобраться с ними, если люди, которые переселятся сюда, не хотят жить в неволе. Отсюда этот военный поход на юг, который в конце концов оказался не совсем бесполезным. Был отвоеван большой кусок земель, там заложены новые поселения, и хотя со временем они попали в зависимость от шернов, однако создали барьер для здешней страны, обеспечивая мир себе и нам ценой не слишком тяжелой, хоть и неприятной дани.
По-видимому, после окончания войны Марек Победитель действительно хотел вернуться к себе на родину. Предания о машине я не считаю сказкой. У Марека была такая машина, способная удивительным образом подниматься в воздух, в которой он прилетел из Пустыни. И вот эту машину у него кто-то украл или испортил так, что он уже не смог улететь.
С этого момента начинается его трагедия.
В другом разделе этого труда, где рассказывается об истории войн, проходивших на Луне, подробно описывается поход Марека на юг; здесь я только вкратце изложу события, предваряющие падение и смерть прославляемого некогда Победителя.
Все, что делал Марек Победитель, было направлено только на одну цель: приготовить здесь определенную почву для людей из пустыни, которые должны были прийти сюда вслед за ним. Для этого, как уже говорилось, он начал войну с шернами, для этого изгнал энергичного первосвященника Малахуду и постарался всю власть взять в свои руки. Первосвященник Элем, человек хитрый, посаженный им на престол, сначала подчинялся ему во всем, видимо, надеясь в определенный момент, может быть, уже после возвращения Победителя, обратить в свою пользу плоды его трудов.
Тем временем стала возрастать неприязнь к пришельцу, особенно по той причине, что он самовольно принялся за изменение вековых и священных прав, определяющих порядок жизни на Луне. Никто, правда, не догадывался, что он делает это с той целью, чтобы, распустив все узлы законов и ослабив наиболее состоятельных людей, облегчить покорение страны своим соплеменникам, но возмущение усиливалось день ото дня.
Я не хотел бы быть несправедливым к уже и так в некоторых кругах обруганному Мареку Победителю, но должен сделать одну оговорку. Что касается причин его нововведений, среди ученых преобладает взгляд вышеизложенный; однако хватает и таких, которые выступают в его защиту, не придавая его поступкам злого умысла. Быть может, этот человек действовал без намерения ослабить и отдать на растерзание здешнее общество, когда хотел установить порядки, сходные с существующими на его родине, не приняв во внимание только, что тут отношения иные, что могло быть хорошо в Пустыне, здесь могло оказаться погибельным.
Оставим пока эту проблему нерешенной. Во всяком случае, ясно, что он готовил почву либо для завоевания здешнего общества, либо для объединения обоих человеческих племен на Луне, но ему это не удалось.
В конце концов от него потребовали, чтобы он покинул эти места и быстрее убрался туда, откуда пришел. Он готов был это сделать, возможно, надеясь вскоре вернуться сюда вместе с сородичами, но тем временем кто-то испортил ему машину. Рассказывают, что после получения этого известия он впал в отчаяние. Вначале даже не хотел этому верить и сам отправился в Полярную Страну, где его машина находилась в мощной железной трубе. (Труба эта, вроде бы стоит по-прежнему на том же месте, наполовину заржавевшая.)
Убедившись в неприятной для себя правде, он вернулся в столицу у Теплых Озер, и это окончательно сгубило его. Это был человек самолюбивый, беспокойный и жаждущий власти. Если бы он поселился где-то в отдаленных окрестностях или отправился в новые поселения в стране шернов за морем, то, быть может, дожил бы до глубокой старости. Однако его характер не мог с этим смириться: он хотел любой ценой удержать власть — если не с помощью своих родственников, то сам — и на свой манер осчастливить людей, которые этого не хотели.
Он поселился в храме и оттуда начал отдавать приказания. Их не очень слушали, тогда он, окружив себя немногочисленной, но готовой на все горсткой сторонников, собрал определенное количество товарищей по оружию со времен похода на юг и с их помощью добивался послушания.
Неизвестно, правду или нет рассказывают об оргиях, какие он устраивал в своем жилище, однако образ его жизни был не таким, какой мог бы понравиться жителям этой страны, которые рады были бы видеть у пришельца, вынужденного остаться с ними, скорее сдержанность и покорность.
Первосвященник Элем, позднее, как известно, задушенный по приказу своего преемника Севина, недобрыми глазами наблюдал за всем происходящим, но будучи человеком умным и осторожным, боялся один открыто выступить против власти самозванца. Он отодвинулся в тень и старался настроить против него народ, делая это при посредстве Севина, в то время доверенного слуги его, а также преданного ему всей душой старика, некоего Хомы, которого позднее некоторые объявили пророком.
В конце концов наступил такой момент, когда каждую минуту могла вспыхнуть открытая борьба. Это, видимо, чувствовал и Марек Победитель, потому что собирал силы, какие мог, и даже написал письмо некоему Ерету, в то время главному управляющему в местах, отвоеванных у шернов, чтобы он прибыл к нему с помощью. Ерет этот, человек очень храбрый, но не отличающийся большим умом, Марека не любил по каким-то личным причинам, возникшим во время их военного похода, но был так предан делу его реформ, что готов был по его вызову прийти с воинами и убивать всех, на кого укажет Победитель.
Марек Победитель очень ждал его прибытия, когда вдруг вместо этого получил известие, что Ерет погиб по дороге от руки неизвестного убийцы. Некоторые утверждали, что на него напал какой-то шерн, но были и такие, которые говорили, что к этой смерти приложил руку первосвященник Элем, справедливо опасающийся прибытия подкрепления и вспышки гражданской войны.
И этот расчет безумного пришельца не оправдался. Теперь он наконец увидел, что остался один с маленькой горсткой последователей, и, хотя гордо именовал себя Победителем, на победу здесь больше не рассчитывал. Тогда он решил покинуть окрестности Теплых Озер. Однако этого ему не позволили. Он был обманным путем схвачен и связанным поставлен перед судом.
Велись долгие споры относительно того, какой приговор должен быть вынесен в этом деле. Первосвященник Элем, не любящий открыто высказывать своего мнения, может быть, опасаясь упрека, что судит человека, которого сам некогда привел и назвал Победителем, уклонился от участия в этом суде и хотел все свалить на плечи Севина. Это был очень хитрый и умный замысел; народ изменчив, и Элем, видимо, предвидел, что когда-нибудь казненного сегодня будут почитать — поэтому он хотел приготовить себе путь отступления, действуя через своего приспешника. Впрочем, Севин уже становился неудобным и даже опасным — поэтому думаю, что у первосвященника была также побочная мысль использовать в будущем против него этот приговор, который не мог быть иным, кроме смертного, как того хотел народ.
Но и Севин был не менее хитрым, чем Элем. Он провел это дело так, что не он вынес приговор, а сам народ. Он даже пошел дальше и сделал то, чего Элем совсем не ждал: вскоре после казни Марека Победителя, когда еще не угасло возмущение против него, Севин устроил Заговор и, осудив правящего первосвященника как сообщника упомянутого Победителя, посадил его в тюрьму и приказал задушить, провозгласив себя самого первосвященником. Это, впрочем, не помешало ему под конец жизни и правления объявить Марека мучеником, которому следует вечная память за его добродеяния.
О самих пытках Марека Победителя рассказы также весьма преувеличены. Правдой является то, что, согласно древнему обычаю на Луне побили камнями на берегу моря не более жестоко, чем всех остальных, которые в прежнее время выступали против установленных и признанных порядков на Луне. Говорят, что последний удар, нацеленный в сердце, и смертельный, нанесла ему внучка первосвященника Малахуды, отомстив за смерть деда, который был коварно убит по приказу Марека Победителя.
Если теперь мы окинем взглядом эти удивительные события, так просто и логично развивавшиеся, и захотим уложить в ряд суждений, ясных и бесспорных, то нам придется определиться по двум вопросам:
1. Марек Победитель заслужил смертный приговор:
а) учитывая реальное положение вещей,
б) учитывая идеальное положение вещей на Луне.
2. Смерть его стала несчастьем:
а) учитывая реальное положение вещей,
б) учитывая идеальное положение вещей.
Что касается пункта 1, следует заметить, что смерти заслуживает каждый, кому вынесен смертный приговор — по крайней мере, с точки зрения того, кто этот приговор выносит. Это ясно и не требует дальнейших доказательств. Тут может только возникнуть вопрос: соответствовал ли этот приговор определенному порядку вещей? и можем ли мы признать его правильность в данных обстоятельствах и в данный отрезок времени? Именно в этом я попытаюсь разобраться.
Сначала то, что касается пункта 1. а).
Реальным положением вещей мы называем сумму существующих отношений, из которых складывается общественное, хозяйственное и государственное устройство данного общества. Если подобные отношения утвердились, значит, они были нужны, следовательно, и обязательны. Каждый, кто пытается сломать существующее положение вещей, даже с самыми лучшими намерениями, выступает против вещей нужных и обязательных и тем самым становится виновным в попытке общественного переворота и навлекает на себя наказание.
Я без колебаний громко заявляю об этом, я — профессор Омилка, член и даже руководитель Братства Правды, которое многими подозревается в стремлении к перевороту. Быть может, когда-то, когда наше Братство было еще тайным союзом, подобные мысли и возникали в головах некоторых членов, но от этого периода нас отделяет уже много времени, и сегодня с гордо поднятой головой мы можем заявить, что хотим только постепенно улучшать имеющиеся отношения, а не переворачивать все с ног на голову.
Деятельность же Марека Победителя была очень неосторожна. Это самое подходящее определение. Своими нововведениями он разрушал существующий порядок и собирался установить новый, которого никто не желал, а следовательно, который был не нужен и тем более не обязателен. Поэтому не вызывает сомнений, что, как разрушитель веками создаваемых порядков и сложившихся отношений, он заслужил смертный приговор.
С идеальным порядком дело обстоит следующим образом. Я называю им здесь порядок еще не существующий, но к которому общество стремится, как к развитию существующих отношений. Такой идеальный порядок имеет, например, Братство Правды, которое старается приблизить его средствами (как и должно быть) дозволенными и легальными.
Так вот, главной необходимостью в будущем является для людей осознание той несомненной и до сих пор недостаточно распространенной истины, что человек произошел на Луне и должен здесь жить, все же сказки о звездном его происхождении необходимо признать вредными, потому что они отвлекают внимание людей от реальных потребностей жизни. Нездоровые мечтатели выбрали себе в качестве отчизны самую большую звезду, которую редко можно отсюда увидеть, называемую Землей. По-моему, уже настало время изменить это нелепое название. Землей мы на Луне называем грунт, который находится у нас под ногами: говорим, например, земля плодородная или бесплодная и т. д. Так вот, с того времени, когда люди вбили себе в голову, что эта звезда была «грунтом» для человека, ее тоже стали называть «Землей». Вот истинное происхождение этого названия, изменение которого могло бы положить конец многим заблуждениям.
Возвращаясь к делу Марека Победителя, следует заметить, что его появление отодвинуло появление этого будущего идеального порядка и правды, утвердив множество его последователей в смешной уверенности, что так называемая Земля — планета населенная и что люди своим происхождением обязаны ей. То, что сам Марек никогда не утверждал, что прибыл с Земли, не уменьшает его вины, так как на такие утверждения он не возражал, что являлось его первейшей обязанностью. И поскольку он являлся препятствием в расширении Братства Правды, то понес заслуженное наказание.
Это одна сторона вопроса. Другая тоже нуждается в рассмотрении. Я сказал, что его смерть стала несчастьем, и прежде всего для того, кто принял ее, будучи в добром здравии. Но здесь речь идет не об этом. Меня, как члена Братства Правды, прежде всего интересует реальное и идеальное положение вещей на Луне.
Марек Победитель, вводя новшества в общественное устройство, внес в него только беспорядок и, преждевременно казненный, ничего не смог довести до конца. Если бы он жил дальше и действовал, то в конце концов оказалось бы, что его намерения были добрыми и, осуществившись, могли принести пользу общественным отношениям на Луне, либо что они, несомненно, были злыми и вообще неосуществимыми.
И в первом, и во втором случае от этого была бы польза. В первом, который я, впрочем, считаю неправдоподобным, его смерть помешала усовершенствованию реального положения вещей на Луне, во втором — показала несомненное совершенство основ порядка, существующего ныне.
Судя с точки зрения идеального порядка, смерть также не была прекрасным завершением. Как известно, его тело из-под груды камней, которыми его забили, кем-то было выкрадено и сожжено или укрыто где-то, по крайней мере, потом его трупа никто больше не видел. Это дало возможность его необразованным сторонникам сделать вывод, что Марек Победитель после смерти каким-то сверхъестественным способом сам из-под этих камней вышел и вернулся на Землю, подобно Старому Человеку, о котором легенда говорит именно так. Это снова укрепило значительную часть людей в старой ошибке о земном происхождении человека. Если бы он прожил свою жизнь до конца и умер, как умирает на Луне каждый порядочный человек, такой басни о нем возникнуть не могло бы.
Впрочем, очень может быть, что, оставаясь в живых, он в конце концов решился бы открыть Правду, которой мы, объединившись в Братство, служим, и признался бы, что пришел сюда с той стороны Луны и что оттуда ведем мы свое происхождение. Это, я уверен, могло бы положить раз и навсегда конец всем заблуждениям и ускорить установление идеального, всеми желаемого порядка. В настоящее же время все, за исключением членов Братства Правды, снова устремляют свои глаза на Землю: последователи убитого псевдо-Победителя в уверенности, что дух его оттуда смотрит на них, а противники — Ожидая с этой пустой звезды нового, на этот раз истинного Победителя.
В любом случае это плохо.
ПОСЛАНИЕ К БРАТЬЯМ. ГДЕ БЫ ОНИ НИ НАХОДИЛИСЬ.
С ДОБРОЙ ВЕСТЬЮ О ПОБЕДИТЕЛЕ. КОТОРЫЙ ЖИЛ СРЕДИ НАС
Раздел пятьдесят седьмой
И тогда Победитель вечером собрал своих учеников у стен города, где некогда был разрушенный замок шернов, и, увидев, что все уселись вокруг него, сказал им:
«Пришло время мне покинуть вас и вернуться на светлую звезду Землю, откуда я прилетел к вам и где находится вечный дом Старого Человека, отца душ ваших.
Оглядываясь на дни, проведенные среди вас и на все сделанное, я вижу, что ничего уже добавить к этому не могу.
Я слишком устал, и душа моя требует отдыха, а сердце тянется к далекой звезде над пустыней.
Вы останетесь здесь одни, чтобы оберегать то, что я посеял, и если вас будут преследовать за верность моей памяти, утешайтесь мыслью, что ваши внуки соберут с посеянного обильный урожай…
А мне уже пора отправляться в Полярную Страну, где ждет меня моя крылатая машина, готовая отнести меня через просторы неба к моему светлому дому».
Когда он сказал эти слова, огромное огорчение охватило учеников: одни, закрыв лица, упали на камни, другие — хватали его за руки, пояс, чтобы он еще побыл с ними.
Особенно отчаивались некогда попавшие под власть шернов, а теперь милостью Победителя снова принятые в человеческое общество. Они падали к его ногам и с плачем умоляли его, чтобы он не покидал их и навсегда остался на Луне.
Победитель долго слушал этот плач и мольбы, ничего не отвечая, потом встал и произнес:
«Тоска моя влечет меня на мою родную Звезду, но я остался бы с вами, если бы знал, что вам это принесет какую-либо пользу.
Ведь не очень хорошо, если вы все время будете иметь пастыря вроде меня, который все время учит вас. Человек сам должен заботиться о себе. Если вы все время будете при мне детьми и подданными, как же вы потом станете хозяевами самих себя?
Будет лучше, если я уйду отсюда…»
Сказав это, он сошел с холма и пошел к городу, а ученики шли за ним, печальные и подавленные.
Уже наступал вечер, и солнце вот-вот должно было зайти, оно низко висело над равниной, по которой лежит дорога в Полярную Страну.
Когда Победитель вместе с учениками вошел в городские ворота, к нему подбежали люди, которых он когда-то выслал в Полярную Страну, и еще издалека стали кричать, что нет уже той чудесной машины, которая принесла его с Земли.
Победитель испугался и стал просить их, чтобы они рассказали ему все, что знают.
Они рассказали, что не нашли машины в том месте, где она была, и уже возвращались в страшном замешательстве, когда у первых человеческих поселений встретили некую женщину по имени Нехем, которую Победитель поставил охранницей при священной машине. И она с плачем и жалобами рассказала им, что в один из дней пришли духи и, окружив машину сверкающей молнией, унесли ее с собой в пространство.
Видимо, это был знак, что Земля хочет, чтобы Победитель навсегда остался на Луне и принял здесь смерть ради добра людей, которые в него верят.
Раздел пятьдесят восьмой
В течение восьми дней Победитель строил новую машину, а на девятый, убедившись, что духи не хотят, чтобы он улетел с Луны, он вызвал своих учеников и сказал им так:
«Решилась моя судьба, она велит мне остаться с вами до самой смерти. Я произвел только сев, плодов уже не соберу, но я хочу плугом вспахать землю, чтобы зерно в ней не погибло.
Вы же являетесь сохой и лемехом, которыми я вожу по твердой почве, отваливая пласты земли и уничтожая буйную зелень сорняков. Против вас будут восставать, называть вас разрушителями, но вы верьте мне и словам моим, которые я вам говорю.
Я пришел сюда не для того, чтобы вас учить покорности, безмерному терпению и жертвенности, которые не дают никаких плодов.
Говорю вам только одно: думайте больше о завтрашнем дне, чем о сегодняшнем, больше о будущем поколении, чем о том, которое живет около вас. Мы заложим здесь кузницу огня, который осветит будущие века и разрушит гниющий дом».
Так говорил Победитель своим ученикам, которые в молчании слушали его, стараясь сохранить в памяти слова, которые он произнес.
С того самого дня Победитель поселился в храме в центре города, который находился на Теплых Озерах, и заперся там с друзьями своими, чтобы не могли туда проникнуть коварные враги, которые и тогда уже задумали его убить.
Кто хотел слушать его учение, приходил туда и днем, и ночью, и он шел с ними на крышу и там, поблизости от неба и моря, рассказывал им обо всем том, о чем уже говорилось в этих книгах. А если слышал о каком-нибудь зле или какой-либо несправедливости первосвященника, сразу же посылал туда воинов и наказывал того, кто это совершил.
Победитель ожидал друга и слугу своего Ерета, который находился за морем; он написал ему письмо, чтобы тот прибыл сюда с подмогой, какую удастся собрать, чтобы установить мир и покой на Луне.
Но через три дня и три ночи на Ерета, направляющегося сюда, напал в дороге шерн, которого прятал у себя первосвященник Элем для того, чтобы уничтожать людей, и убил его. Услышав об этом, Победитель горько заплакал и на долгое время утратил свое оживление, скорбя о своем друге и верном слуге.
Однако когда наступил полдень, он позвал к себе учеников и сказал им так:
«Мы осаждены здесь и поэтому ничего хорошего сделать не сможем. Враги связывают нам руки, постоянно покушаясь на нашу жизнь.
Соберемся все и покинем этот город и отправимся в Полярную Страну, где на небосклоне виднеется Земля. Там я буду вас учить и скажу все, что еще не сказано, прежде чем свершится моя судьба».
Тогда все собрались, взяли с собой оружие и отправились вместе с Победителем к городским воротам, чтобы выйти оттуда на равнину.
Но ворота были заперты. Первосвященник Элем через своих шпионов уже узнал, что Победитель хочет уйти отсюда со своими учениками, и решил убить его, прежде чем он это сделает.
Люди стали биться в ворота, пытаясь проломить их, но в этот момент прибежали посланники от первосвященника и, сделав покорные лица, стали умолять Победителя, чтобы он не уходил, а пошел к Его Высочеству, который собрал большое количество людей, и там, перед лицом всего лунного народа, хочет помириться с ним.
Победитель чувствовал, что первосвященник затаил в сердце зло, но понимал, что это судьба его, которой не избежишь, и, приказав своим ученикам ждать его здесь, он пошел один, с обеих сторон окруженный посланниками Элема.
Когда он вошел в боковую улицу, и стоящие у ворот ученики не могли видеть, что происходит с их учителем, выскочили из-за угла палачи первосвященника и, набросив Победителю веревки на голову и руки, повалили его на землю.
Ученики, услышав его крик, хотели броситься ему на помощь, но тут войско, до сих пор скрывавшееся в соседних домах, неожиданно выскочило оттуда и, окружив людей, начало связывать их, растерявшихся от утраты учителя и вождя.
Раздел пятьдесят девятый
Итак, Победитель, обманом схваченный, должен был предстать перед судом первосвященника. Сначала, однако, для большего унижения, его заковали в цепи, стащили в подземелье и приковали к стене, там где был прикован Авий, бывший наместник, плененный Победителем после первого сражения с шернами.
Этот шерн сбежал с помощью Элема и скрывался под его защитой, как уже упоминалось.
Так вот, когда палачи ушли, оставив Победителя одного, этот шерн появился перед ним и, усевшись на кипе священных книг, в которых содержалось Обещание, начал унижать его.
«Освободись, — говорил он, — если ты на самом деле Победитель! Вот я был тобой тут прикован, а теперь я свободен и смотрю на тебя, который скоро погибнет.
Я мог бы сам убить тебя, и ты даже не смог бы защититься, но я предпочитаю, чтобы тебя убил народ, которому ты творил добро!
Я уже долго жду твоей смерти, и когда увижу ее, вернусь к братьям моим и расскажу им, как погиб тот, который посмел именоваться нашим Победителем!»
Так говорил шерн и смеялся. Но Победитель ничего ему не ответил, погруженный в свои мысли о Земле, на которую ему не суждено вернуться.
Тогда шерн, приблизившись к нему, стал искушать его:
«Ты обещал когда-то взять меня с собой на Землю и показать людям, которые на ней живут. Ты туда не вернешься даже один, но за морем многие из моих братьев тебя еще не видели. Покорись и поклянись, что будешь служить мне верно, как пес, и тогда я вырву тебя из рук твоего народа и возьму с собой в страну шернов, чтобы ты спокойно жил там и учил морцев пользоваться огнестрельным оружием, с которым мы пошлем их завоевывать твоих братьев…»
Тогда Победитель открыл глаза и, посмотрев на шерна, ответил:
«Напрасно ты искушаешь меня, чудовище. Даже если я погибну, ваше господство уже кончилось, потому что я сломал его своими руками, и никогда ни один человек не будет больше служить шернам!»
В то время, когда Победитель разговаривал с шерном, во дворце первосвященника собрались старейшины и вместе с Элемом обсуждали, что делать с плененным.
И пришли они к выводу, что нет другого выхода, кроме как умертвить его, чтобы погасить тот свет, который слепит их глаза, привыкшие ко мраку.
Таким образом, Победитель был обречен на смерть, к тому же на скорую, чтобы его друзья, собравшись, не освободили его из тюрьмы. Однако вынести ему смертный приговор никто не хотел, видимо, боясь, как бы впоследствии прозревший народ не восстал против добровольных палачей избавителя и учителя своего. И было решено устроить так, чтобы сама чернь потребовала смерти Победителя, якобы вопреки воле первосвященника и старейшин.
Тогда Элем направил шпионов и подстрекателей в народ, чтобы научить его, как и когда кричать во время судебного разбирательства, а своего приспешника Севина послал на площадь, чтобы он вместе со старейшинами судил Победителя.
Этот Севин был предан первосвященнику и сделал бы все, что он захочет, но в этот день милость Земли снизошла на его душу и он прозрел, к страшно ему стало судить и обвинять того, кто был светом для Луны.
Тем временем Победителя, связанного как преступника, привезли на повозке и поставили перед судьями, и начали выступать подкупленные люди, свидетельствовавшие против него.
И не было ни преступления, ни вины, которой не обрушили бы на его светлую голову. Сыпались обвинения и в грабежах, и в насилии, и в бунте, и даже в сговоре с шернами, которых он своими руками громил и уничтожал.
Победитель в ответ не произнес ни слова, только молча слушал, в чем его обвиняют, находясь мыслями на светлой звезде, Земле, откуда произошли люди и где пребывают их освободившиеся души.
Но в конце концов, когда замолчали все обманщики и фальшивые свидетели, он как бы очнулся и, приподнявшись на повозке, насколько ему позволяли веревки, громко обратился к людям:
«Я прилетел сюда с Земли, о люди Луны! даже не предполагая, что я такой щедрый! Я отдал вам мою жизнь и смерть мою отдаю вам! Я в самом деле стал Победителем, которого вы ждали, и сегодняшний день — это вершина моего триумфа! После моей смерти никто уже не сможет победить меня в ваших душах! А ученики и друзья мои, которые есть среди вас, пусть запомнят все преступления, в которых меня обвиняют, потому что придет время, когда они будут названы благодеяниями!..»
Он хотел говорить еще, но среди старейшин начался шум, который затем охватил и толпу, послышались крики, что он богохульствует. Тогда один из палачей повернулся к нему и, боясь подойти близко, ударил его по голове длинной палкой, которую держал в руке, крикнув: «Молчи собака!»
Тогда из ряда судей поднялся Севин с побледневшими губами и воскликнул:
«Я не буду судить этого человека! Мое сердце переполняется жалостью, когда я вижу его в таком положении, и вас я прошу быть к нему милосердными. Вы можете сами поступить с ним как хотите».
Сказав это, он отвернулся и отошел, закрыв лицо, а за ним встали и другие судьи, отдав Победителя в руки толпы.
Раздел шестидесятый
Тогда к его ногам привязали веревки, стянули его с повозки с связанными руками, за каждую веревку взялось по шесть человек, и его поволокли по улицам, так что его светлые волосы потемнели от крови, текущей из разбитой острыми камнями мостовой головы.
За ним бежала многочисленная толпа и криками побуждала тянущих его людей бежать быстрее. А сзади всех шли тайные последователи и ученики Победителя (потому что опасались толпы) и собирали платками его драгоценную кровь.
И была среди этой толпы одна развратная и безумная женщина по имени Ихезаль, которая была внучкой первосвященника Малахуды, убитого шерном, которого скрывал Элем для истребления лунного народа.
Ее давно заметил Победитель и хотел научить добру, жалея ее погибшую душу, так как девушка была очень красивой, подобной восходящему солнцу. Но она, охваченная безумием, хотела видеть в Победителе только мужчину, убедившись же в его божественной сущности, возненавидела его и поклялась отомстить.
Теперь она бежала вместе с толпой, оскорбляла несчастного, громко богохульствовала до тех пор, пока не устала, так как была нежной, как цветок.
Так ученики, собирающие кровь Победителя, и нашли ее, лежащую вниз лицом на каменной мостовой, рыдающую, с волосами, испачканными в его крови. Они испугались, как бы она их не увидела, но она, поднявшись, была охвачена новым безумием, поэтому стала кричать и плакать, изображая печаль огромную, и призывать их, чтобы они бежали и спасли Победителя из рук палачей.
А когда ученики остановились в замешательстве, не зная, что означают эти ее неожиданные слова, она, переменившись в лице, засмеялась и снова начала богохульствовать, обрушивая жестокие проклятья на светлую голову Победителя то со смехом, то со слезами. А затем отправилась домой, чтобы переодеться в новые одежды и волосы растрепанные прибрать.
Тем временем Победителя палачи приволокли на берег моря и, приведя его в чувство, потому что по дороге он потерял сознание, подтянули его на веревках, пропущенных под мышками, и привязали к высокому столбу, издавна служащему знаком лодкам, приплывающим к пристани.
Туда же привели некоего морца, который, отказавшись от шернов, служил Победителю, как верный пес, и был схвачен с ним вместе. Тому была обещана большая награда, если он убьет Победителя, так как для большего унижения хотели, чтобы он погиб от нечистой руки. Однако морец, добрым духом ведомый, отказался совершить это преступление, тогда его закопали вниз головой в песок прямо у ног Победителя, так, чтобы взмахивая ногами в предсмертных судорогах, он пинал привязанного в обнаженные и окровавленные колени.
После этого в Победителя начали с криками бросать камни, чтобы оправдались слова пророка: «Я дал вам милость, вы же за это вышли против меня с камнями».
Но духи земные, присланные с неба, окружили Победителя невиданным облаком, благодаря которому брошенные камни так мягко падали на его тело, что почти не причиняли ему вреда.
Поднялся сильный ветер, необычный в такое время (ведь дело шло к вечеру), который с шумом гнал на песок морские волны.
Людей стала охватывать тревога, были такие, которые советовали либо снять Победителя со столба и отпустить, либо уйти, предоставив его собственной судьбе и морозам наступающей ночи.
Когда велись эти разговоры, со стороны города появилась Ихезаль, одевшаяся в яркие одежды и причесавшая волосы. Она шла со смехом, как будто на свадьбу, хотя безумие виднелось в глазах ее, беспокойно бегающих по сторонам.
Победитель увидел ее и, поскольку всегда делал ей только добро, подумал, что и она идет к нему на помощь. Он напрягся, приподнял опущенную голову и позвал ее: «Ихезаль!»
Он сделал это совсем не потому, что ждал от нее спасения, так как знал, что своей смертью он должен утвердить дело свое и что ничья рука его от этого не избавит, но он думал, что это добрый дух пришел к нему, чтобы облегчить его жестокие мучения.
У этой же девицы сердце было необычайно жестокое, твердое, как камень, поэтому, подбежав к нему, вместо того, чтобы проявить жалость и сострадание, она взяла острый нож и, приподнявшись на цыпочки, вонзила его прямо ему в сердце. И когда она совершила это, безумие вновь завладело ей: она и танцевала, и рыдала, а потом кинулась к саду на побережье около храма и где-то там навсегда исчезла, видимо, унесенная злыми духами.
В ту минуту, когда Победитель умер, на крыше храма появился шерн с расправленными черными крыльями и, дерзко подлетев к столбу, к которому было привязано тело, уселся на его вершину.
Раздел шестьдесят первый
Толпа, испуганная появлением шерна и неожиданно начавшейся бурей, быстро разбежалась, оставив мертвое и окровавленное тело привязанным к столбу.
Только под вечер подошли слуги первосвященника и, разрезав веревки, сняли труп и засыпали его большой кучей песка и камней.
Однако среди ночи вдруг вспыхнул необычайно яркий свет и со страшным грохотом, подобным тысяче ударов грома, прилетела залитая огнем машина Победителя и остановилась над могилой на берегу моря.
Этот свет видело множество людей, которые, услышав грохот, выбежали из домов, встревоженные необычным явлением.
Тогда Победитель вышел из-под камней, которыми был засыпан, молодой и светлый, без каких-либо следов от ран на высоком лбу. Остановившись на вершине могильного холма, он махнул рукой, и машина, словно послушная собака, сделала большой круг и остановилась у его ног.
Победитель вошел внутрь и, пролетев в огне над городом, направился к звезде, которая является его и нашей родиной.
Не печальтесь, братья мои, не страдайте, что остались одни; нам надо радоваться, что он жестокой смертью своей укрепил свою правду, дал достойное завершение святой жизни своей, а нам оставил пример, как надо, не тревожась ни о чем, выполнять свое дело.
Он смотрит на нас с высокой Земли и благословляет действия наши. Пробьет час, когда он придет снова в небесном свете, но уже не провозглашать и учить, а карать строгой рукой врагов своих.
Так будет.
Старая Земля
Часть первая
I
Они потеряли счет времени. Проходили долгие часы, не зафиксированные ни на одном часовом механизме, а снаряд летел через межзвездное пространство, из океана солнечного света попав в громадную тень Земли. Внезапно наступившая ночь и холод заставили сжаться замкнутых в стальной скорлупе невольных путешественников… И вновь, через короткое мгновение, без всякого перехода, совершенно неожиданно, когда они замерзали от холода и страха перед этой, казалось, вечной ночью, снаряд снова попадал в полосу солнечного света, который слепил им глаза и за короткое время раскалял стальную оболочку.
Движения они совсем не ощущали. Только Луна все уменьшалась и все больше становилась похожей на ту, которая освещает ночи на Земле. Они видели, как с одной стороны ее затягивала тень, врезающаяся в Великую Пустыню, в первый раз представшую перед их глазами… Земля же, наоборот, увеличивалась на черном звездном небе и вырастала до чудовищных размеров. Ее серебряный ночной свет бледнел, как бы редел, и когда она предстала перед их глазами в виде гигантского полумесяца, закрывавшего полнеба, было похоже, что она сделана из опала, сквозь молочную белизну которого просвечивали разноцветные краски морей и континентов. Только снег, покрывающий ее отдельные части, неизменно сверкал резким серебристым светом на фоне бархатной черноты неба.
Итак, внешне неподвижно, они неслись через пространство между двумя светлыми серпами: Земли и Луны, из которых один — вогнутый — постепенно увеличивался, другой же — выпуклый — становился все меньше и меньше.
Учитель Рода молчал на протяжении всего этого неожиданного путешествия. Забившись в угол снаряда, он сидел осовелый и помертвевший — щеки у него пожелтели еще больше, чем обычно, широко открытые, испуганные глаза ввалились. Матарет, напротив, расхаживал и хозяйничал в этом опрометчиво захваченном корабле Победителя. Он нашел воду и различные концентраты, которые тут же попробовал, приглашая и товарища последовать его примеру.
Рода ел неохотно, с испугом и ненавистью поглядывая на все увеличивающуюся перед ними Землю. В голове его клубились мысли, которые он тщетно пытался привести в порядок. Все теперь ему представлялось странным и непонятным. Он с самого начала думал о том, что произошло, и постоянно терялся в хаосе противоречий, опровергающих то, во что он до сих пор верил, как в очевидную и несомненную истину.
Потому что, действительно, во всем этом была странная и даже смешная неправдоподобность… Он родился и вырос на Луне, среди людей, хранящих предание о том, что много веков назад несколько их предков во главе с легендарным Старым Человеком прибыли на Луну с Земли и положили здесь начало новым поколениям. Это предание также гласило, что когда люди, угнетаемые страшными лунными жителями — шернами, окажутся в наихудшей ситуации, с Земли на Луну прилетит Победитель, чтобы избавить народ Луны от врагов. Этими баснями его кормили с самого детства, но он, едва достигнув разумного возраста, быстро перестал им верить. Разумеется, он был уверен, что Луна — это вековая колыбель человечества; а Земля, гигантская светящаяся звезда, висящая над мертвым и пустынным полушарием Луны, лишена всякой жизни на своей сверкающей поверхности.
Он так бесспорно верил в эту истину, открытую им самим, которую жрецы хотели утаить от людей, спрятав за золотыми сказками о якобы земном происхождении людей, что даже стал основателем братства, ставящего своей целью разоблачение этих легенд. И именно тогда, когда основанное им Братство Правды начало расти и крепнуть, собирая многочисленных сторонников, на Луну прибыл таинственный человек гигантского роста, которого народ быстро окрестил долгожданным Победителем, прибывшим с Земли.
Роде вспомнились его борьба и кровавые усилия защитить Правду от растущего превосходства странного пришельца…
Он ни минуты не сомневался, что этот огромный человек не пришел с Земли, а просто перелетел в своей машине с другой стороны Луны, якобы пустынной, а на самом деле скрывающей в глубоких ущельях богатую и роскошную страну, родину первых людей, ревниво прячущую свою счастливую жизнь от изгнанников.
Тогда и было решено захватить машину Победителя, занятого борьбой с шернами, и таким образом вынудить его показать дорогу в таинственную подземную отчизну. Машину они захватили, и он, Рода, наверняка достиг бы своей цели и вернул изгнанникам утраченный рай, если бы не этот чертов Матарет со своей лысой башкой, который теперь вместе с ним в этой металлической скорлупе летит через межзвездное пространство и насмешливо смотрит на него вытаращенными глазами.
Он же хорошо знал — ибо Рода сумел вытянуть из Победителя и передать ему сведения о том, что машина полностью готова к отправлению, и, несмотря на это, когда они, исполненные триумфа над ненавистным пришельцем, уже вошли внутрь, по неосторожности или умышленно нажал роковую кнопку — и теперь родная Луна странным образом уходит у них из-под ног, как будто проваливается в пропасть, а они летят в пространство — беспомощные, запертые внутри скорлупки, не знающие, что с ними может произойти в ближайшую минуту.
Его охватило такое безумие, смешанное со стыдом и отчаянием, что захотелось завыть в бессильном гневе и кусать руки. Однако от подобных вспышек его удерживал спокойный и, как ему казалось, насмешливый взгляд Матарета. Поэтому он, ученый Рода, любимец своих последователей, только прятался в угол машины и корчился там от стыда и мучающих его мыслей, не в состоянии, впрочем, прийти ни к какому разумному решению.
И сейчас, когда он снова сидел, в тысячный раз размышляя о своем безвыходном положении, Матарет приблизился к нему и показал рукой в окно в полу, за которым с пугающей скоростью увеличивалась у них под ногами Земля.
— Падаем на Землю! — сказал он.
Роде показалось, что в его голосе звучит насмешка, насмешка над его ученостью, знаниями, авторитетом, над всеми его теориями, согласно которым упомянутый Победитель ничего общего не имел с Землей, и кровь ударила ему в голову.
В эту минуту ему было уже все равно, что с ним произойдет через час или два, он охотно пожертвовал бы своей жизнью только для того, чтобы посрамить и устыдить своего товарища, которого внезапно возненавидел.
— Естественно, идиот ты такой! — закричал он. — Естественно, мы падаем на Землю!
Матарет на этот раз действительно усмехнулся.
— Естественно, говоришь, учитель, а ведь это значит…
— Это значит, что ты болван! — зарычал Рода, теряя контроль над собой. — Болван, если не понимаешь, что в этом-то и заключается коварство проклятого пришельца!
— Коварство?!
— Да! И только такой ограниченный и непроницательный человек, как ты, мог на это купиться… Если бы ты слушал меня…
— Но ты ничего не говорил, учитель!
— Я говорил тебе, чтобы ты не прикасался к кнопке. Неужели ты думаешь, что Победитель настолько глуп, чтобы оставить свою машину, готовую отправиться в путь при малейшем нажатии проклятой кнопки? Чтобы любого дурака, который нажмет на нее, тут же доставить в те места, откуда он прибыл, в счастливые края на той стороне Луны? Это просто смешно! Видимо, он специально настроил механизм так, чтобы непрошеных гостей выбросить на Землю!
— Ты так думаешь? — прошептал Матарет, не в силах отказать этому предположению в некотором правдоподобии.
— Думаю, сужу, знаю! Он избавился от самого опасного противника, от меня избавился из-за твоей глупости! Он любым другим способом, когда ему потребуется, доберется до своей страны, а мы с тобой погибли! Летим, как две козявки в ореховой скорлупке, брошенной в реку, — без воли, без смысла, без цели — и рано или поздно упадем на Землю, проклятую звезду, пустую и необитаемую, где в самом скором времени погибнем, даже если нам удастся уцелеть при падении. Ах, как же он должен теперь смеяться над нами, как издеваться!
При этом предположении его охватило бешенство. Он вытянул кулаки в сторону удаляющейся Луны и стал осыпать грубыми ругательствами проклятого пришельца, угрожая ему так, как будто мог его еще когда-либо встретить и уничтожить.
Матарет уже не слушал эти крики. Он задумался, а потом заметил:
— Ты все еще уверен, что Земля необитаема и что жизнь там невозможна для живых существ?
Рода уставился в лицо товарищу, казалось, не веря собственным ушам, что подобные кощунственные сомнения могли выйти из уст Матарета, а потом горько рассмеялся.
— Уверен ли я! Смотри!
Говоря это, он показал на окно, лежащее у их ног.
Выброшенные в пространство силой взрыва, они, описывая огромную параболу, падали на Землю, которая вращалась с запада на восток перед их глазами, показывая им все новые и новые моря и континенты. Они были еще далеко от нее, и это движение, почти незаметное вначале, и теперь еще казалось им очень медленным. Однако континенты, которые были видны еще недавно, уже исчезли за линией горизонта — они пролетали над Индийским океаном, занимающим почти все поле их зрения, простираясь до лукообразной линии тени на западе, образованной уходящей ночью…
Матарет, проследив глазами за движением руки учителя, вгляделся в эту безнадежно пустую, серебристо-синюю поверхность. Обычная усмешка исчезла с его пухлых губ, высокий лоб покрылся мелкими морщинками. Он смотрел долго, потом обратил к Роде мрачные, но спокойные глаза.
— Мы действительно погибнем, — коротко заметил он.
А с учителем Родой происходило нечто странное. Он совершенно забыл, что выражение «погибнем» означает смерть, неизбежную смерть для них обоих, и ощущал только радостный триумф, что он все-таки был прав, называя Землю пустой и негостеприимной планетой. Глаза у него заблестели, и он, встряхивая буйной шевелюрой, начал громко вещать, как тогда, когда, абсолютно уверенный в себе, поучал своих последователей на Луне.
— Да, да! — говорил он. — Погибнем! Я был прав, и надо было быть таким глупцом, как ты, чтобы хоть на минуту допустить, что эта распухшая, светящаяся планета может быть источником какой-либо жизни! Я очень рад, что ты наконец убедишься, вы все убедитесь, что я всегда говорил…
— Все не убедятся, — вставил Матарет, пожимая плечами. — Мы умрем…
Он оборвал фразу и глянул на товарища, в котором под влиянием повторенных слов внезапно пробудилось страшное сознание безнадежности положения, в котором они оказались. Он вскочил, кипящий от гнева, подскочил к Матарету со стиснутыми кулаками, бормоча проклятия и оскорбления.
— Ты, глупец, что ты наделал! — повторял он постоянно, потом схватил себя руками за голову и бросился на пол, стеная и вопя, проклиная тот день и час, когда принял этого идиота в члены уважаемого Братства Правды, которое теперь осталось на Луне осиротевшим без своего учителя…
Некоторое время Матарет смотрел на содрогающегося в спазматичных немужских рыданиях учителя, но будучи не в состоянии найти ни одного слова, которое могло бы его успокоить, скривил губы и презрительно отвернулся.
Время для него тянулось бесконечно. Делать ему было совершенно нечего. Они летели к Земле, скорее, падали на нее со скоростью, которую Матарет даже не мог определить. Ему хотелось выглянуть в окно, но какой-то невольный страх удерживал его от этого. Он заложил руки за спину и молча вглядывался в стены их корабля, без мыслей, без чувств — только с холодным и неотступным сознанием того, что, может быть, уже через несколько минут произойдет нечто ужасное, чему никто не в силах помешать.
Приближение Земли уже можно было почувствовать по возрастающей силе тяжести. Матарет с его карликовым ростом и слабыми силами человека, родившегося на Луне, ощущал, как с каждой минутой все его члены становятся все более тяжелыми; предметы, которые на Луне он передвигал рукой без всякого усилия, оставались неподвижными, когда он пытался их сдвинуть. Ему казалось, что невидимые нити связывают все окружающее и превращают в одну неразрывную массу, которая под воздействием собственной фатальной тяжести падает на страшную Землю. Еще несколько минут — и он стал сгибаться под тяжестью собственного тела. Руки его бессильно обвисли, колени дрожали.
Он сполз на пол, туда, где было круглое окно, и посмотрел вниз…
То, что он увидел, было так страшно, что только невероятная тяжесть во всем теле помешала ему отпрянуть назад. Земля увеличивалась теперь перед его глазами с непонятной, неправдоподобной скоростью, одновременно он чувствовал отвращение, которое вызывало у него приступы головокружения.
Пред их кораблем с головокружительной скоростью около четырехсот метров в секунду вращалась уже близкая поверхность Земли, и с каждым мгновением, по мере того как корабль опускался, это чудовищное вращение все возрастало, и через несколько минут то, что было у него перед глазами, слилось в какой-то вихрь мелькающих картин.
Весь горизонт закрывала эта безумная планета, в которую внезапно превратился еще недавно сверкающий у них под ногами серп. Океан уже скользнул за горизонт, только какие-то материки мелькали внизу и сразу же исчезали, как будто их уносил космический ураган! Они достигли земной атмосферы, и их корабль, до сих пор неподвижный, внезапно закачался и замедлил ход — под воздействием воздуха какие-то защитные крылья автоматически выскочили из его боков… Матарет ощутил жар моментально раскалившихся при прохождении через атмосферу стенок корабля и почувствовал нечеловеческий страх: он хотел закричать…
Внезапная темнота обрушилась на него.
II
«Неслыханные, неправдоподобные открытия и изобретения уходящего столетия ставят нас перед проблемами, которые переполняют человека гордостью, но вместе с тем и страхом. Мы идем к прогрессу настолько быстрыми шагами, что уже опасаемся скорости этого движения вперед; ничего нам уже не кажется неправдоподобным или неслыханным. Для одних по той причине, что настолько велика была область знания и такие тайны бытия раскрыты, что любое новое открытие воспринималось как совершенно естественный и неизбежный результат того, что уже есть, как очередное применение в жизни вечных и неизменных сил природы…
Для других же в этом тоже не было ничего удивительного по той простой причине, что они ничего не знали и ничего не хотели знать, ежедневно пользуясь новыми удивительными открытиями, которых не понимали, но воспринимали как нечто вполне естественное, так как самому большому чуду, доступному человеческому мозгу: развитию организмов, образованию планет и факту самой жизни никто, за исключением самых мудрейших, не удивлялся.
Неизвестно, куда мы придем, вероятно, подойдем к самому пределу человеческих возможностей, если таковой вообще существует. Существуют люди, которые утверждают, что осознание сил природы и разнообразное их применение для потребностей человека является не чем иным, как созданием их в новой форме в душе человеческой, а это создание не имеет и не может иметь конца, до тех пор пока существует их основа.
Во всяком случае, не подлежит сомнению, что через несколько десятков или сотен лет человечество может получить такую абсолютную власть над природой, что то, что мы можем сегодня, будущим поколениям покажется ничем.
Думаю об этом с гордостью, но одновременно, как уже сказал, и со страхом. Существуют удивительные противоречия в духовной жизни человека — неизбежные, неотвратимые и фатальные по своим результатам. Кто же через несколько сот лет — а может быть, даже через несколько тысячелетий, будет в состоянии охватить умом всю сумму знаний, добытых человечеством? Не сломится ли эта мощная сила духа каким-либо страшным и неожиданным образом?
Когда-то, много веков назад, прогресс шел более равномерными шагами и между ученым человеком и наполовину диким не было такой разницы в уровне духовного развития, какая сегодня существует между передовыми людьми и толпой, повсеместно пользующейся их открытиями и изобретениями и выглядящей вполне цивилизованно.
Римский цезарь, живущий в мраморном дворце в роскоши и разврате, несмотря на это, мало отличался своими знаниями от простого грязного крестьянина, грызущего луковицу в тени колонн амфитеатра, защищающих его от жары, что не мешало ему презрительно и высокомерно относиться к Платону. Сегодня мой сапожник живет точно так же, как я, даже, может быть, в большем достатке, пользуется всеми изобретениями и орудиями наравне со мной, так же защищен законами, придающими его особе общественную ценность, тем временем он не знает ничего, а я знаю все…
Знание — это тяжелое бремя для жалкой горстки избранных, способных вынести его. Мы несем свет всем остальным, учим народ всему, но чем может быть это „все“ по отношению к огромному количеству знаний, которых уже нельзя охватить человеческим умом и памятью? Кроме истинно знающих, которые являются творцами науки, искусства и бытия, невольно отделенных глубочайшей пропастью от остального человечества, существуют два типа людей, и неизвестно, который из них хуже. Одни — это поверхностные люди, знающие всего лишь заголовки и названия открытий, но способные говорить обо всем этом и считающие себя мудрецами, и в то же время не зная ничего; другие — посвятившие себя какой-то одной области знаний, работающие только в одном направлении и с презрением отбрасывающие все, не имеющее отношение к их работе, как будто это было ничем. Они также считают себя умнейшими, но, в сущности, тоже ничего не знают.
Пока они создают многое и, вероятно, еще долго будут это делать. Долго, но не всегда. Потому что уже начинается время, когда им станет тесно в узких кабинетах, где мало воздуха для дыхания.
Мы медленно приближаемся к сердцу бытия, где соединяются все артерии, и тот, кто не знал их всех, потеряется в их переплетении, не способный двинуться дальше, разве только ощупью.
Следовательно, лишь маленькая горстка знающих все людей несет на своих плечах, сгибающихся от тяжести, прогресс и судьбы человечества — а если и их нечеловеческих сил не хватит, чтобы нести это бремя?»
Яцек отложил книгу. Белой, узкой ладонью он провел по высокому лбу и слабо улыбнулся бескровными губами. Пылающие черные глаза его затуманились от размышлений…
Да, так писали уже в конце двадцатого века, а сколько столетий прошло с тех пор! После периода невероятных, неправдоподобных открытий, когда одно из них рождало десять новых, и казалось, человечество находится на пути какого-то сказочного бесконечного развития, которое поражало своей величиной, наступил период неожиданного застоя, как будто таинственные силы природы, могущие служить человеку, исчерпали себя и, полностью впрягшись в триумфальную колесницу человечества, больше ничего не скрывали в своих недрах. Наступило время использования и всестороннего применения тех открытий человеческого ума, которые как будто достигли уже наивысших глубин знания.
Тем временем ученые, действительно немногочисленная группа всезнающих людей, с каждым днем все больше и больше убеждались, что на самом деле ничего не знают, как и те, в самом начале полета человеческой мысли.
В то самое время, когда череда открытий, до того как неожиданно прервалась, казалось, растет с головокружительной быстротой, идет гораздо большими шагами, знания, истинные знания о том, что существует, наоборот, замедлили свое продвижение вперед. Это выглядело так, как будто к сумме знаний, уже добытой с веками, постоянно прибавлялась только часть того, что еще оставалось открыть, показывая вдали четкую границу возможностей, достичь которую было невозможно: к ней можно было приближаться, приближаться очень медленно, чтобы в конце концов остановиться перед неразгаданными загадками, перед которыми останавливались еще древнегреческие мудрецы.
Чем в своей глубокой сущности является то, что существует, и для чего оно существует вообще? Чем является человеческая мысль и дух познания? Каковы нити, соединяющие человеческие мысли с окружающим миром, на каких путях и каким образом бытие превращается в осознанную жизнь, и, наконец, что происходит в минуту смерти?
Легкая усмешка скользнула по красивым, почти женским губам Яцека.
Да, было время, именно тогда была написана книга, которую он отбросил минуту назад, когда люди, не в силах справиться с этими вопросами, просто отбрасывали их, отказывая им во всяком смысле и значении. Тогда человеку, ошеломленному знаниями, казалось, что имеют смысл лишь такие вопросы, на которые можно ответить, либо те, на которые рано или поздно можно рассчитывать найти ответ… А по поводу всего остального только пожимали плечами — «метафизика»!
А тем временем эта «метафизика» возвращается и по-прежнему предстает перед человеком с неизменно закрытым лицом и дразнит его, потому что пока он не знает этого, не знает, собственно, ничего!
И как много веков назад, так и сегодня появляются пророки и возвещают Откровение, могущее облегчить людям, способным верить, их раздумья, успокоить сердце и ответить на все вопросы. Как и раньше, существуют религии, несмотря на то, что им столько раз предсказывали гибель — сегодня они, быть может, сильнее, чем когда бы то ни было, сменилась лишь их сфера деятельности и значение. Толпы перестают верить и искать божество в небесной лазури, но эти же толпы, озаренные знаниями, недоступными их уму, ослепшие от блеска сокровищ, собранных благодаря высочайшему разуму, пользуются ими, не прибавив к ним ни крупицы своей мысли.
Зато самые мудрые, те, которые в часы наибольшей веры в свои собственные силы клеймили религию как «суеверие», как вещь темную и ненужную, теперь один за другим прятались под ее крыло с каким-то испугом в глазах, быть может, вызванным сознанием, что слишком близко подошли к неразгаданным тайнам и заглянули в них.
И рядом со всем этим — по-прежнему, откуда-то с поднебесных вершин, из глубины лесов, скрытых в Азии, приходят удивительные люди, никогда не изучавшие тайн природы, но имеющие над ней почти невероятную власть, которой не пользуются, ничего не требуют и с огромным спокойствием в душе и загадочной усмешкой на устах с жалостью смотрят на «всезнающих», которые обнаружили ничтожность своих знаний…
Ножом из слоновой кости, зажатым в белой ладони, он машинально перелистывал страницы лежащей передним книги… В тишине комнаты, отгороженной стенами, не пропускающими голоса и свет, слышался только шелест пожелтевших страниц и тиканье электрических часов, которому в углу комнаты вторил жук, грызущий старую деревянную мебель.
И вот он — Яцек — один из этих немногих «всезнающих»… Он даже не понимает, когда и каким чудом ему удалось объять необъятное и осилить это громадное количество знаний, добытых за несколько столетий, и иногда спрашивает себя: а зачем были нужны такие нечеловеческие усилия? Природа как будто открыла перед ним все свои тайны и подчиняется ему, как своему хозяину, но он слишком хорошо знает, что это всего лишь иллюзия, и даже не его собственная, а лишь тех, кто издали смотрит на него и удивляется его мудрости и могуществу.
Сам он прекрасно знает, что его распоряжения так же смешны, как у вождя давно вымерших и забытых ирокезов, который перед каждым рассветом поднимался на гору и, указывая пальцем на восток, приказывал солнцу взойти оттуда и также пальцем проводил по небу линию до запада, по которой солнцу следовало проделать свой дневной путь. И солнце слушалось его. Конечно, познать что-то, значит получить власть над ним, ибо ты знаешь, как распорядиться этим чем-то, однако все его знания, вся власть, которой человечество обязано стольким открытиям и изобретениям, ничего не стоит по сравнению с одним только взглядом некоего азиата, встреченного им неделю назад, который на его глазах опрокинул чашку с водой лишь глядя на нее, даже не зная, как он это делает и не принося никому пользы этим смешным действием…
Впрочем, разве он намного больше, чем этот чудотворец, знает о том, что делает сам, о сущности сил, которыми управляет с меньшим усилием воли, а только через познание? Доходит уже третий год с тех пор, как, не выходя из этой комнаты, он сделал для своего друга Марека чертеж машины, на которой тот мог долететь до Луны, и обозначил путь через межзвездное пространство, а потом, сидя за этим же столом, даже не трогаясь с места, одним нажатием кнопки отправил машину вместе с закрытым в ней путешественником к звездам. И совершенно уверен, что в рассчитанное время и в назначенном месте она беспрепятственно опустилась на поверхность старого спутника Земли. А что в действительности он знает о движении, которое здесь с такой точностью рассчитал?
И принимая во внимание это, разве он не находится примерно на том же месте, что и Зенон Элеата, который много веков: назад пытался на наивных примерах доказать, что в самом понятии движения имеется противоречие, которое ему бросилось в глаза. Элеата утверждал, что Ахилл не догонит черепаху, так как за то время, которое потребуется для того, чтобы преодолеть разделяющее их пространство, черепаха еще продвинется вперед… А он — через несколько десятков веков — знает только, что то, что двигается, одновременно стоит, а то, что стоит — двигается, потому что всякое движение и покой относительны, и движение — это неуловимая реальность, только смена положения в пространстве, которое само по себе является нереальным…
Он встал и, чтобы прервать ход мучающих его мыслей, подошел к окну. Легким прикосновением к помещенной в стене кнопке он раздвинул шторы и заставил окна открыться. В комнату, освещенную скрытыми под потолком лампами, влилась волна серебряного лунного света. Легким движением руки Яцек погасил искусственное освещение и устремил свой взор к Луне, которая была почти в полной фазе.
Он думал о Мареке, о мужественном человеке, как будто не из этого столетия, храбром, веселом, решительном в поступках… Дальние родственники, они выросли вместе, но какими разными путями пошла их жизнь! В то время, когда он лихорадочно накапливал знания, с горячностью, которой и сам тогда не понимал, Марек безумствовал, искал невероятных приключений, бросался в водовороты флиртов и общественной жизни, участвовал в больших собраниях и защищал множество дел, ему, Яцеку, абсолютно безразличных, потом снова неожиданно исчезал с глаз, просто ради удовлетворения любопытства отправившись на какую-то недоступную вершину Гималаев или погрузившись на несколько недель в любовный дурман.
И вот этот дорогой ему безумец, видящий все сквозь розовые очки, в один из дней пришел к нему с заявлением, что — ни больше ни меньше — хочет отправиться в путешествие на Луну.
— Я знаю, что ты все можешь и все умеешь, Яцек, — просил он, как ребенок. — Построй мне такой корабль, которым я мог бы полететь туда и вернуться!
Яцек рассмеялся: только и всего!.. Ну, такую ерунду он, конечно, сможет сделать и очень благодарен Мареку за то, что ему захотелось отправиться только на Луну, а не на одну из планет солнечной системы, потому что тогда проблема была бы гораздо сложнее…
Они оба смеялись и шутили.
— Зачем тебе нужно туда? — спрашивал он Марека. — Разве тебе так уж плохо живется на Земле?
— Нет, но знаешь, мне интересно, что стало с той экспедицией, несколько веков назад возглавленной О’Тамором, который в обществе, насколько я помню, двух мужчин и одной женщины полетел туда, чтобы основать там новое общество…
— С О’Тамором было трое мужчин и одна женщина…
— Неважно! Впрочем, у меня есть и другая причина. Мне уже надоела Аза.
— Аза? А кто это?
— Как? Ты не знаешь, кто такая Аза?
— Твоя новая охотничья собака или лошадь?
— Ха, ха, ха! Аза! Это невероятно! Певица, танцовщица, которая покорила оба полушария… Займись ей, Яцек, когда я улечу!
Так тогда говорил Марек, смеющийся, веселый, кипящий молодой, бурной жизнью…
Яцек нахмурился и торопливо потер лоб рукой, как будто хотел отогнать какие-то неприятные воспоминания.
— Аза… Да, Аза, которая покорила оба полушария…
Он медленно поднял глаза к Луне.
— И где же ты теперь? — прошептал он. — Когда вернешься? Что расскажешь? Что ты там нашел, с чем встретился? — Впрочем, тебе везде хорошо, — добавил он вполголоса.
Да, ему везде хорошо, потому что в нем еще есть эта первобытная неудержимая жизненная сила, которая помогает достичь желаемых результатов, и даже в самом плохом увидеть хорошие стороны…
Ведь он, Марек, и здесь чувствовал себе свободным, веселым и никогда не жаловался, хотя это так трудно, принимая во внимание, что их окружает… И он был совсем не похож на всех остальных, довольных жизнью…
Он закрыл окно и, не зажигая света, вернулся к столу, стоящему в центре круглой комнаты. Тихо пройдя по мягкому ковру, он упал в высокое кресло. В голове у него теснились воспоминания обо всех переменах, произошедших в течение веков, которые должны были осчастливить, освободить, возвысить человечество…
Как же удивился бы человек, много веков назад в двадцатом веке написавший книгу, отброшенную минуту назад, если бы смог взглянуть на карту Объединенных Штатов Европы! Тогда это представлялось весьма отдаленным и недостижимым идеалом, а ведь произошло относительно легко и неуклонно.
Только вначале, видимо, были необходимы эти потрясающие человечество перевороты, о которых рассказывает история: страшный, неслыханный, беспримерный разгром Немецкого государства Восточным царством, в которое превратилась прежняя Австрия после захвата польских областей России и соединения с южнославянскими государствами… Никем не ожидаемая трехлетняя война Англии, владеющей половиной мира, с Союзом Латинских государств, после которой Британская Империя не покоренная, но и не победившая, распалась, как созревший гороховый стручок, на несколько десятков самостоятельных государств, и сколько еще было войн, волнений!
Но в один прекрасный день все вдруг неожиданно поняли, что нет никакой причины для борьбы, и стали удивляться, зачем было пролито столько крови? Народы Европы после нескольких десятков веков исторического развития дозрели до объединения и объединились по принципу самостоятельного существования народов.
А шаг за шагом вслед за этими изменениями произошло развитие общественных и государственных отношений. Некогда опасались внезапных переворотов в этой области, и все, казалось, указывало на неизбежность какой-то катастрофы, а на самом деле все прошло так гладко и… до отвращения скучно. Необыкновенное разрастание всевозможных обществ и товариществ сделало этот переход почти незаметным. Использование новых открытий, с одной стороны, требовало объединения гораздо большего количества сил, а с другой — быстро поднимало общий уровень жизни… В самом скором времени уже не имело смысла увеличивать свои заботы обладанием личным состоянием.
Но все это не привело к всеобщему равенству, о котором мечтали некоторые утописты. Права всех были одинаковые, и достоинство человека было высоко поднято, все жили в достатке и просвещении, но не достигли равенства человеческие души, а следовательно, ценность и сфера влияния отдельной личности. Ах, как же далеко все это было от того ожидаемого рая!
По-прежнему существовали богатые и почти нищие. Люди, занимающие важное и «полезное» для общества положение, зачастую получали гигантскую зарплату, которая после относительно недолгого времени службы давала им возможность посвятить все оставшееся время развлечениям. Редко случалось, чтобы эти освободившиеся добровольно продолжали отдавать себя работе.
Правительство обладало полной властью, но о своем кармане заботилось не меньше, чем в старое время представители частного капитала. Огромные города были переполнены изысканными отелями; театры, цирки и залы развлечений купались в золоте, выступления артистов разного рода оплачивались, как и во все времена, неправдоподобными суммами. Этими путями деньги из карманов сановников и «пенсионеров» возвращались обратно в государственную казну.
Огромное же количество «бесполезных» людей не знали голода только потому, что имели обязательную работу, и если не были в состоянии обойтись тем немногим, что получали за принудительный труд, поступали на государственное обеспечение… А среди них были и молодые люди, будущие изобретатели и ученые, писатели и художники, вынужденные зарабатывать ручным трудом, часто погибающие и становящиеся знаменитыми только после смерти, а при жизни отодвинутые в тень своими более счастливыми и модными «коллегами»…
Яцек, размышляя об этом, снова взял в руки книгу, которую читал недавно…
Не на две, как опасался этот, некогда проклятый за свой пессимизм, писатель двадцатого века, а на три части распалось человечество. Посредине — толпа. Это огромная величина. Стадо сытых, в меру пользующихся отдыхом и, по возможности, старающихся не думать. У них есть права, благосостояние и просвещение — то есть они изучают в школах все, что для них сделано. Они осознают свои обязанности и большей частью всегда добродетельны. Все они делятся на народы, и каждый горд тем, что принадлежит к своему народу, хотя если бы родился в другом месте, то так же бы гордился этим. Некогда были народы, нерушимо соединяемые узами крови, — сегодня все эти узы выродились в разницу в убранстве, не имеющую глубокого значения. Духовные же различия сгладились. Несмотря на разницу языков, доходов и степени обладания властью, все они до отчаяния были похожи друг на друга!
Различия рас и племен еще, возможно, сохранялись в среде тех, «знающих», которые стояли над блистающей европейской толпой, отделенные от нее непреодолимой пропастью духовного развития. Но и они мало говорили о народности, связанные в единое братство духа и познания.
Но внизу, под толпой сытых и довольных, имелась международная чернь, также отделенная от нее пропастью. Эти люди постоянно и громко возражали против этого, однако все так и осталось. И здесь не помогали ни самые красивые и искренние слова о равноправии, о праве всех на жизнь и благосостояние, об отсутствии слоя угнетаемых! Впрочем, они и не являлись угнетаемыми.
Миллионы машин, служащие людям, в свою очередь нуждались в большом количестве работников для своего обслуживания, работников внимательных, умелых, преданных металлическим безжалостным чудовищам и не думающих ни о чем, кроме как о том, что в данный момент нужно нажать определенную кнопку или переключить рычаг. Эти люди работали сравнительно недолгое время, работа их хорошо оплачивалась, но их мозг, работая только в одном направлении, был удивительно невосприимчив ко всему остальному, делая их совершенно безразличными к тому, что происходит за стенами фабрики, завода и вне круга их ближайших родственников.
Знаменательно то, что они не бунтовали и не поднимались, как рабочие минувших столетий. Им давалось все, что они хотели, поэтому в конце концов они уже перестали желать чего-либо, даже тех вещей, которые с легкостью могли бы иметь. У них не было ни отчизны, так как по обстоятельствам, связанным с работой, их постоянно перебрасывали с места на место, ни своего языка, они общались на неком международном жаргоне, склеенном из разных языков.
Значит, все осталось так, как было! Только границы, за которые некогда так боролись, стали четкими, широкими и более трудными для преодоления с той минуты, когда их существование было в принципе отвергнуто. Прекратился обоюдный напор наружу; общественные слои стали сосредотачиваться и замыкаться в себе, невольно и неосознанно все больше отходя друг от друга.
Все осталось точно так же, как и было. И несмотря на благосостояние, на знания, на свободу печати и почти совершенные законы — сегодня точно так же, как и много веков назад, на Земле жизнь становилась все более мелкой, темной и душной, а в конце ее по-прежнему ждала Смерть с вечно закрытым, неразличимым лицом.
А счастье? Личное счастье человека?
О, человеческая душа, ненасытная и неисправимая! Ни наука, ни знания, ни ум — ничто не могло истребить в ее глубине неразумные, смешные желания, пожирающие, как разгоревшийся огонь.
В комнате стало темно из-за туч, которые закрыли Луну. Яцек почти машинально протянул руку и коснулся кнопки, спрятанной в украшающей столик резьбе. На овальном диске из матового стекла в бронзовой рамке засветился цветной портрет: маленькое, почти детское на вид личико под пышной волной светлых волос и темно-голубые, огромные, широко распахнутые глаза…
— Аза, Аза… — шептал он в тишине, ловя взором этот неясный облик.
III
Придя в себя, Матарет в течение долгого времени не мог понять, где он находится и что с ним произошло. Он неоднократно протирал глаза, стараясь понять, действительно ли вокруг полная темнота или его глаза все еще закрыты. Вспомнив, что находится в снаряде, который летел с Луны на Землю, он безрезультатно пытался зажечь электрический свет. Сначала долго не мог найти кнопку — в снаряде все было странным образом перевернуто, а когда наконец нашел, напрасно нажимал на нее пальцем. В проводке, видимо, что-то испортилось: темнота не отступала.
Он начал звать Роду. Долгое время никто не отвечал, но в конце концов он услышал стон, из которого понял, по крайней мере, что его товарищ жив. Ощупью он стал продвигаться в ту сторону, откуда доносился голос. Ориентироваться было трудно. Во время долгого путешествия снаряд, притягиваемый Землей, под собственной тяжестью так вращался, что пол находился у них над головами, а теперь Матарет обнаружил, что ползает по вогнутой стене снаряда.
Он нашел учителя и потряс его за плечо.
— Ты жив?
— Жив пока.
— Не ранен?
— Не знаю. В голове у меня все кружится. И тело болит. И такая тяжесть, такая страшная тяжесть…
Матарет ощущал то же самое, двигаясь с огромным трудом.
— Что произошло? — спросил он через минуту.
— Не знаю.
— Мы были уже рядом с Землей. Я видел, как она вращается… Где мы теперь?
— Не знаю. Может, мы пролетели над ней! Пролетели мимо Земли и теперь несемся дальше в пространство, погруженные в ее тень.
— А ты замечаешь, что снаряд приобрел какое-то странное положение? Мы ходим по стене.
— Какое мне до этого дело? Все равно. Так или иначе — нас ждет неизбежная смерть — на стене или на потолке…
Матарет замолчал, в душе признавая правоту слов учителя. Он вытянулся навзничь и закрыл глаза, поддавшись медленно охватывающей его сонливости, которая, видимо, была признаком приближающейся смерти.
Однако не уснул. В каком-то полусне перед его глазами представали лунные широкие равнины и город у Теплых Прудов, расположенный над берегом моря… Он видел людей, возвращающихся с какого-то торжества от ступеней храма, на которых стоял и смотрел вниз насмешливыми глазами высокий человек, называемый на Луне Победителем.
Он даже окликнул его по имени. Раз и другой.
Матарет открыл глаза. Действительно, его окликали.
— Рода?..
— Ты спишь?
— Нет, не сплю. Победитель…
— К черту твоего Победителя! Я зову тебя уже полчаса. Разинь глаза!
— Свет!
— Да. Становится светлее. Что это такое?
Матарет пошевелился и с трудом сел, задрав голову вверх. Действительно, круглое боковое окно при нынешнем положении снаряда находилось наверху и представляло собой медленно светлеющее пятно, окруженное полным мраком.
— Начинается день, — прошептал он.
— Не понимаю, — заметил Рода. — До сих пор мы переходили из света в темноту и обратно в один момент…
В эту минуту вместе со все усиливающимся светом до их ушей донесся какой-то сухой шелест — первый звук, который они услышали снаружи с момента отлета с Луны.
— Мы на Земле! — закричал Матарет.
— Чему ты радуешься?
Но тот уже не слушал. Борясь с огромной тяжестью собственного тела, он подобрался ближе к окну, над которым плыл как будто какой-то туман, иногда настолько густой, что снаряд вновь погружался в темноту. Матарет смотрел, не в силах понять происходящего. В какой-то момент ему пришлось зажмуриться от неожиданно яркого блеска. Туман исчез, и ослепительные лучи солнца упали на круглое стекло. Был явственно слышен свист ветра, пролетающего снаружи.
Когда он снова открыл глаза — вокруг было светло. Через окно виднелось темно-голубое небо, а не черное, как до сих пор.
— Мы на Земле, — повторил Матарет убежденно и стал откручивать винты, закрывающие выход из места их длительного заточения.
Работа шла нелегко. Все было невероятно тяжелым, а сам он казался таким вялым, ленивым, что приходилось отдыхать через каждую минуту. Когда наконец последние винты с шумом упали на пол и свежий порыв воздуха ударил его в лицо, Матарет зашатался, как пьяный, и, уставший от работы, был не в силах выйти наружу.
Только после длительного отдыха он пришел в себя и, схватившись руками за края окошка, просунул голову, а затем и все тело наружу. Рода уже стоял за ним и высовывал большую взлохмаченную голову из снаряда.
Оба молча смотрели вокруг.
— Разве я не говорил, что Земля необитаема! — наконец отозвался Рода.
Перед ними, насколько мог охватить глаз, тянулся желтый песок, вздыбленный волнами и залитый ярким солнцем. Их снаряд, спускаясь на Землю, упал на огромную дюну, утонув в песке, и сейчас ветер пустыни освобождал его от песка.
Матарет ничего не ответил Роде. Широко открытыми глазами он смотрел вокруг и старался привести в порядок свои впечатления. Все вокруг было тихим, мертвым, неподвижным: трудно было поверить в то, что это та самая Земля, которую он наблюдал раньше, в безумном вихре вращавшуюся под его ногами… Он протирал глаза и собирал разбегающиеся мысли, неуверенный, не спит ли он теперь или только что пробудился от непонятного сна?
Временами его охватывал страх, которого он и сам еще не знал. Дрожь проходила тогда по всему его телу, а в сердце было только одно страстное, безумное желание, чтобы все то, что произошло, — это путешествие и эта Земля — оказались только сонным видением… Он старался взять себя в руки и мыслить разумно.
В конце концов он почувствовал, что ему начинает докучать голод. Он вернулся в снаряд и достал остатки воды в мехе из непромокаемой оболочки и скудные запасы еще оставшегося продовольствия. Повернулся к Роде:
— Ешь!
Учитель пожал плечами.
— Непонятно, зачем нужно есть и продлевать еще на несколько часов эту жизнь.
Несмотря на это, он довольно жадно набросился на припасы. Матарету даже пришлось предупредить его, что провизию необходимо беречь.
— Зачем? — буркнул Рода. — Я голоден. Съем все, что есть, и повешусь на верхушке этого проклятого снаряда!
Но Матарет, не слушая, убирал в мешок остатки продуктов и выносил из снаряда различные мелкие предметы, которые могли им пригодиться. Собрав все, он завязал мешок и попытался закинуть его на спину, но понял, что не рассчитал своих сил, забыв о шестикратно увеличившемся весе предметов на Земле. Волей-неволей ему пришлось выбросить все, без чего можно было обойтись, а остальное поделить на два узелка.
— Бери, — сказал он Роде, указывая на один из них, — и пошли.
— Куда?
— Куда-нибудь. Пойдем вперед.
— В этом нет никакого смысла. Мне лично все равно, в какой точке этой песчаной пустыни я погибну.
— Когда Земля проносилась под нами, вращаясь, я видел и моря, и какие-то зеленые поля. Может быть, мы доберемся до таких мест, где можно будет жить.
Недовольно ворча, Рода закинул узелок за спину и двинулся за Матаретом. Они шли на восток, увязая в песке, обессилевшие от жары и от слишком густого для них воздуха Земли, а больше всего от непомерной тяжести собственных тел, которые, казалось, были налиты свинцом. Каждые несколько десятков шагов им приходилось отдыхать, вытирая струившийся по лбу пот.
На привалах Рода, пользуясь каждой новой замеченной подробностью, продолжал доказывать, что Земля необитаема и вообще не может служить источником жизни для каких бы то ни было живых существ.
— Подумай сам, — говорил он, — эта изнурительная тяжесть! Какое творение смогло бы выносить ее в течение долгого времени!
— Но если люди тут больше и сильнее нас, как, например, Победитель?
— Не мели ерунды! Если бы люди здесь были больше, и весили бы гораздо больше, и тогда вообще не смогли бы двигаться.
— Однако…
— Не прерывай меня, когда я говорю! — возмутился Рода. — Я не дискутирую с тобой, а рассказываю тебе только то, в чем я уверен. Ты слушай и учись.
Матарет пожал плечами и, подняв свой узелок, снова молча двинулся вперед. Учитель последовал за ним, не переставая прерывающимся голосом доказывать истинность своих убеждений.
— Погибнем, как собаки, — повторял он. — Здесь, говорю тебе, нет ни одного живого существа.
— Значит, мы будем первыми, — заметил Матарет, — и вся Земля будет принадлежать нам.
— Много ты с этого получишь! Песок и воду, которую мы видели сверху, если это вообще вода, а не какой-нибудь превратившийся в стекло камень…
Тем временем Матарет остановился и с интересом уставился на что-то, находящееся впереди.
— Видишь! — сказал он через минуту, показывая туда рукой.
— Что?
— Не знаю, что это такое… Подойдем ближе.
Пройдя несколько десятков шагов, ступая уже по твердому скалистому грунту, они смогли различить какую-то линию, пересекающую их дорогу, убегающую в обе стороны и исчезающую в бесконечности. Подойдя ближе, они увидели металлический брус, приподнятый над поверхностью, который, насколько мог охватить глаз, прорезал этот пустынный край от начала и до конца.
— Что это такое? — удивленно прошептал Рода.
— Однако здесь все-таки должны быть какие-то живые существа, — отозвался Матарет. — Эта странная вещь, мне кажется, сделана человеческой рукой.
— Не человеческой! Не человеческой! В конце концов… может быть, здесь и существует какая-то жизнь, но людей на Земле нет! Это совершенно точно, и ты убедишься… Впрочем, зачем бы разумному человеку делать такую вещь; перевести столько металла неизвестно на что?
— Следовательно, кто же заселяет Землю?
— Откуда я знаю? Какие-то существа…
— Шерны, — сквозь зубы выдавил Матарет, и оба почувствовали, как по их телам прошла дрожь при одном воспоминании о страшных лунных жителях.
Они с интересом рассматривали загадочный рельс, который с некоторых пор стал слегка позванивать, и вдруг!..
Они оба со страхом отскочили назад. Какое-то гигантское чудовище, сверкающее, с плоской головой, с шумом пролетело по рельсу с такой скоростью, что прежде чем они смогли прийти в себя, оно было уже далеко. Они с испугом и удивлением смотрели на него, не смея даже подумать о том, что это такое было?
Только по прошествии длительного времени Матарет, недоверчиво глядя в ту сторону, в которой оно исчезло, заметил:
— Какой-то земной зверь…
— Ничего себе, — буркнул Рода, — если тут живут такие чудища. Ведь в нем было не меньше ста шагов длины, а возможно, даже больше. А пронеслось, как ветер. Ты не заметил у него ног?
— Нет. Я заметил только вдоль всего тела до самого хвоста ряд глаз, похожих на окна… Мне, однако, показалось, что оно двигалось на колесах. Может быть, это не чудовище, а какая-то удивительная машина?
— Глупости. Какая машина могла бы так быстро нестись, если ее никто не тянет спереди?
— А кто нас тянул через пространство? — заметил Матарет. — Может быть, на Земле все так происходит.
Рода ненадолго задумался.
— Нет, это невозможно. По одному такому гладкому бруску машина не смогла бы ехать. Она несомненно перевернулась бы.
— Да, это правда, — подтвердил Матарет.
Они протиснулись под опорами, на которых прикреплялся рельс, недоверчиво поглядывая на него, и снова отправились вперед с тревогой и тоской в груди. Они чувствовали себя чужими на Земле, которая согласно легенде, против которой они так боролись на Луне, была колыбелью первых людей, но им показалась страшной и пустой. Рода, двигаясь быстрее, чем его спутник, каждую минуту останавливался и жаловался на несносную жару, которая, хотя и не достигала степени полуденной жары на Луне, казалась непереносимой в густом земном воздухе. Вокруг них всюду простирался золотой песок — не было никакой тени.
Только где-то далеко впереди маячили скалы какой-то удивительной формы, белые в ослепительном свете солнца, а среди них нечто похожее на гигантские потрепанные плюмажи на высоких, слегка изогнутых столбах.
Они двигались по направлению к этим скалам, напрягая остатки сил, в надежде найти возле них какую-то прохладу, когда вдруг их внимание привлекла какая-то тень, быстро скользящая перед ними на песке. Рода повернулся первым и увидел на небе, между собой и солнцем, как будто стаю чудовищных птиц с широкими белыми крыльями и плоскими хвостами. Матарет же заметил у некоторых, летящих ниже, колеса вместо ног. Они двигались по воздуху тихо, с неподвижными распростертыми крыльями. Зато перед головами, в некотором отдалении от тела, он заметил какое-то вращение, едва различимое глазом.
Птицы быстро исчезли в той же стороне, куда удалилось первое чудовище.
— На Земле все страшно! — прошептал Рода помертвевшими губами.
Матарет ничего не ответил. Когда он наблюдал за птицами, его ошеломило положение солнца на небосклоне. Оно стояло уже низко и начинало розоветь, заходя за какую-то золотистую пелену.
— Сколько прошло времени с тех пор, как мы вышли из снаряда? — спросил он через некоторое время.
— Откуда я знаю? Четыре, пять, а может быть, и шесть часов…
— Солнце тогда было в зените?
— Да.
Матарет показал на запад.
— Смотри, оно уже заходит. Это совершенно непонятно. Неужели оно так быстро пробежало по небу?
В первый момент и учитель не смог объяснить этого странного явления. Он снова страшно перепугался и ошеломленными глазами смотрел на солнце, которое, видимо, сошло с ума, пробежав за шесть часов половину небесного свода, тогда как на Луне ему требовалось на это несколько десятков часов. Но внезапно улыбка раздвинула его губы.
— Матарет! — воскликнул он. — Неужели ты и в самом деле не помнишь ничего из того, чему я учил вас в Братстве Правды?
Лысый ученик вопросительно посмотрел на учителя.
— Ведь на Земле, — продолжал Рода, — дни гораздо короче, они составляют только двадцать четыре наших часа, а потом…
— А, правда, правда.
Но несмотря на это объяснение, оба с удивлением смотрели на солнце, казалось, на глазах исчезающее с небосклона.
— Через час наступит ночь, — прошептал Матарет.
— Проклятие! — воскликнул учитель, забыв о том, что сам рассказывал минуту назад. — Проклятие! Триста пятьдесят часов темноты и холода. И что мы будем делать? Не надо нам было покидать снаряд…
Но теперь Матарет первым освоился в новых обстоятельствах.
— Двадцать четыре, вернее даже только двенадцать часов темноты, ведь это Земля.
— А, правда, правда! — в свою очередь сказал Рода.
— Однако это странно, — добавил он через какое-то время, — очень странно. Во всяком случае холод, наверное, будет достаточно докучать нам, прежде чем взойдет солнце. Вот только не знаю, как будет со снегом? У нас, то есть на Луне, снег выпадает только через двадцать или тридцать часов после захода солнца, а здесь в это время уже будет новый день.
— Может быть, здесь снег выпадает быстрее?
Разговаривая, они двигались вперед. Дневная жара несколько ослабела, а они уже немного привыкли к увеличившейся тяжести своих тел, поэтому идти могли быстрее.
Скалы были уже близко. Под ногами то тут, то там из песка торчали гранитные камни, в расщелинах которых росла какая-то слабая, пожелтевшая трава.
Оба они останавливались около камней и долго рассматривали ее, стараясь по этим травинкам определить, как может выглядеть растительность, на Земле, если она вообще существует здесь.
Солнце только что зашло, и два жителя Луны, достигшие скал, искали место для ночлега, когда в быстро сгущающейся темноте перед их глазами предстала какая-то гигантская каменная фигура, напоминающая одновременно зверя и человека. Тело этого чудовища из всех известных им живых существ больше всего напоминало собаку, единственного четвероногого, которое жило среди людей на Луне, но было более округлым и мускулистым, а на поднятой вверх шее возвышалась человеческая голова.
— Здесь, на Земле, есть мыслящие существа, люди, как мы, или шерны, — после долгого немого удивления заметил Матарет, — если они умеют создавать такие скульптуры из камня.
— Однако, если они выглядят именно так! — отозвался Рода, указывая на каменное чудище…
Им было страшно и невыразимо грустно. Они отыскали себе убежище в расщелине скалы, как можно дальше от жуткой статуи, и старались предпринять все для того, чтобы защитить себя от ожидаемого ночного мороза, когда восточная часть неба медленно осветилась и покрылась светлой дымкой, затмевающей сверкающие звезды. Потом из-за нее выплыл какой-то шар — огромный, красный, светящийся.
Это было так странно и удивительно, как все, что они встретили за этот самый короткий в их жизни день. Тем временем шар, как купол, наполненный светом, поднимался вверх, становясь гораздо меньше, но одновременно светлее. Темнота исчезла — мягкий, серебристый свет залил песок и скалы и как бы оживил страшное чудовище из камня.
— Что это за звезда?
Рода долго рылся в памяти и в конце концов покачал головой.
— Я не знаю этой звезды, — сказал он, глядя на Луну, с которой они прибыли всего несколько часов назад.
Но Матарету внезапно вспомнился вид, который он наблюдал из окна снаряда, летя в пространстве — и хотя то, что он видел там, было большего размера и не такое светлое, но однако… определенное сходство…
— Луна! — воскликнул он.
— Луна…
Оба со страшной, пожирающей тоской смотрели на спокойно плывущую по небосклону свою безвозвратно утерянную родину.
IV
Из молниеносного поезда Стокгольм — Асуан вышла молодая девушка со светлыми волосами и большими темно-голубыми глазами, все еще глядящими на мир с детским удивлением… За ней, неся в руках багаж, шел седой, но крепкий субъект с несколько выпуклыми глазами и лицом — одновременно патриархальным, хитрым, тупым и добродушным. Ему было неудобно в одежде, скроенной по последней моде, к которой он, видимо, не привык, и он чувствовал себя несколько утомленным от упорно разыгрываемой роли молодого человека, хотя старался этого не показывать.
К девушке, едва она ступила на перрон, быстро подбежал директор самого большого отеля Оулд-Грейт-Катаракт-Палас и с полным достоинства поклоном указал ей на ожидающий ее электрический автомобиль.
— Апартаменты готовы со вчерашнего дня, — сказал он с легким упреком в голосе.
Девушка усмехнулась.
— Благодарю вас, дорогой директор, что вы сами прибыли, чтобы встретить меня, но вчера я в самом деле не могла приехать. Я телеграфировала вам.
Директор снова поклонился.
— Вчерашний концерт был отменен.
Говоря это, он снова показал рукой на ожидающий автомобиль.
— Ах, нет! Подвезите только мой багаж… У вас где-то были билеты, — обратилась она к спутнику. — А я пойду пешком. Не так ли, господин Бенедикт? Это будет так приятно. Здесь совсем недалеко.
Бодрый старичок что-то буркнул себе под нос, ища в карманах билеты, а директор отпрянул назад, стараясь не выказать огорчения. У знаменитой Азы могли быть любые фантазии, даже такие невероятные, как прогулка пешком.
Певица, миновав железнодорожные постройки, бодро шла по аллее, усаженной низкими пальмами. Она с удовольствием набирала в грудь сладковатый воздух уходящего дня. Сегодня утром, завернутая в теплые меха, она села в поезд в Стокгольме, в течение нескольких часов пролетела через туннель под Балтийским морем и через Европу, и снова через туннель под Средиземным морем, через западную часть Сахары — и прежде чем солнце успело зайти, смотрит на него с берега Нила, с удовольствием расправляя в теплом воздухе свое молодое тело, несколько задеревеневшее от долгого сидения.
Радуясь движению, она шла очень быстро, забыв о своем спутнике, который едва успевал за ней, и не заметила, как оказалась перед огромным отелем. Ей был приготовлен номер на самом почетном верхнем этаже с видом на Нил.
Садясь в лифт, она спросила о ванне — она, естественно, была готова. Ужин она велела подать через два часа в ее собственную столовую, так как не желала спускаться в общий зал.
Поручив господину Бенедикту позаботиться о служащих, вносящих багаж, она закрылась в своей спальне, отослав даже горничную. В стене рядом с постелью была дверь в ванную; она широко распахнула ее и начала раздеваться. Уже в одном белье она уселась на софу и опустила голову на руки. Ее больше глаза утратили детское выражение, какое-то несгибаемое упорство горело в них холодным блеском, маленький пурпурный рот сжался. Она задумалась…
Потом быстрым движением сорвалась с места и подбежала к телефону, находящемуся на противоположной стороне кровати.
— Прошу соединить меня с Центральной станцией европейских телефонов…
Какое-то время она ждала в молчании.
— Да. Хорошо. Говорит Аза. Где находится доктор Яцек? Проверьте, пожалуйста.
Через несколько секунд был получен ответ:
— Его Превосходительство Главный Инспектор телеграфной сети Объединенных Штатов Европы находится сейчас в собственной квартире в Варшаве.
— Прошу соединить меня с ним…
Она бросила трубку и снова отошла к софе, вытянувшись на мягких подушках и закинув руки за голову. Губы ее расплылись в странной улыбке, глаза, глядящие в потолок, блестели.
Тихий телефонный звонок снова привел ее внимание к аппарату.
— Это ты, Яцек?
— Да, это я.
— Я в Асуане.
— Знаю. Ты должна была там быть еще вчера.
— Но не была. Не хотела, чтобы прошел вчерашний концерт.
— Вот как?
— Ты не спрашиваешь, почему?
— Хм…
— Ведь у тебя вчера было внеочередное заседание Академии…
Она быстро схватила протянутой рукой маленькую записную книжку с листами из слоновой кости, которую, раздеваясь, бросила на стул, и, посмотрев на запись, поспешно сделанную по дороге из какого-то ежедневника, продолжила:
— В восемь часов вечера, в Вене. Ты должен был говорить…
Она не смогла прочитать нечетко написанного слова, поэтому бросила записную книжку и закончила с легким упреком в голосе:
— Видишь, я знаю!
— И что же?
— Ты не смог бы присутствовать. Концерт будет завтра.
— Я и завтра не буду.
— Будешь!
— Я не могу.
— Но это всего несколько часов самолетом…
— Значит, не хочу.
Она громко засмеялась серебристым голосом.
— Хочешь! Ох как ты хочешь, Яцек… И будешь. До свидания! Нет… подожди… Ты здесь? Знаешь, что я делаю в эту минуту?
— Сейчас обеденное время. Видимо, скоро сядешь за стол.
— Нет. Я иду в ванную! На мне уже почти ничего нет…
Она со смехом бросила трубку и, одним движением сбросив с себя оставшуюся одежду, прыгнула в мраморную ванну.
Тем временем господин Бенедикт, отослав служащих, еще раз заботливым оком пересчитал сложенный багаж. Все было в полном порядке. Тогда он перешел в свой номер, который сразу же заставил его забеспокоиться. Он показался ему слишком большим и нарядным. Он поискал глазами ценник, но поскольку его не было, позвонил.
Вошедшего лакея он спросил о цене. Служащий удивленно посмотрел на него: такие вопросы были необычны для Оулд-Грейт-Катаракт-Паласа, однако почтительно ответил, назвав действительно весьма высокую стоимость номера.
Господин Бенедикт с выражением добродушной хитрости широко открыл свои выпуклые глаза и таинственно и доверительно сказал:
— Мой дорогой, неужели у вас нет более дешевых номеров? Видишь ли, этот для меня слишком дорог.
Хорошо воспитанный лакей старался сохранить каменное выражение лица.
— На этом этаже нет дешевых номеров.
— Почему же вы не посоветовались со мной?
— Мы думали, что в обществе госпожи Азы…
— Да, да, друг мой, но я всю жизнь тяжело трудился совсем не для того, чтобы теперь набивать вам карманы золотом.
— Разве что этажом ниже…
— Что поделаешь! Вели перенести мои вещи, дорогой.
Он спустился вниз и поселился в номере, зловредно подсунутом ему лакеем, который был незначительно дешевле, но совершенно темным и наполненным отвратительным бензиновым запахом, долетающим сюда от какого-то двигателя, работающего во дворе. Господин Бенедикт тяжело вздохнул, распаковал свои вещи и вышел на прогулку, не забыв тщательно запереть за собой дверь на ключ.
Напротив отеля находился большой игорный дом. Пожилой господин медленным шагом направился в ту сторону. Правда, он никогда бы не рискнул поставить ни одной золотой монеты на такую сомнительную вещь, как игра в рулетку, но любил наблюдать, как свои деньги тратили другие. Он испытывал при этом какое-то странное возбуждение. Он чувствовал себя взволнованным и почти растроганным при мысли о собственной разумной осторожности в сравнении с некоторыми легкомысленными или хваткими людьми. Потому что сам господин Бенедикт ни хватким, ни скупым в принципе не был. У него была страсть к пению, и он охотно странствовал по свету в дорогих поездах, только бы находиться в обществе певиц, приводивших его в восторг. Он серьезно размышлял над тем, чтобы завести какое-либо любовное приключение, но поскольку в этом вопросе ему недоставало навыка, вопрос откладывался на более подходящее время.
В дверях игорного зала его остановил изысканный лакей.
— Вы не во фраке, — заметил он, окидывая его критическим взглядом.
Господина Бенедикта охватило бешенство.
— Да, я не во фраке, глупец! — ответил он как можно более высокомерно и, оттолкнув преграждающего ему путь служащего, вошел внутрь.
Но это мелкое происшествие испортило ему настроение. Он покружил по залу, его сердило то, что люди, на которых он сегодня смотрел, преимущественно выигрывали, без труда приобретая деньги, тем самым доставляя ему огорчение, и когда, наконец, какая-то раскрашенная кокотка обратилась к нему с просьбой одолжить ей немного денег, он, не говоря ни слова, развернулся и отправился обратно в отель.
Аза уже ждала его в столовой.
После обеда, съеденного вдвоем, господин Бенедикт протянул певице портсигар. Она отклонила его легким движением руки.
— Нет, благодарю вас. Я не буду курить. И вас тоже прошу не курить сегодня при мне. Я берегу горло для завтрашнего концерта.
Старичок поспешно спрятал портсигар, хотя на его добродушном лице промелькнуло грустное выражение.
— Пойдите в свой номер и выкурите там сигарету, — предложила Аза, — и через минуту вернетесь сюда. Это же рядом.
— Нет. Я переехал на этаж ниже.
— Почему?
— Здесь для меня было слишком дорого.
Аза разразилась смехом.
— Вы просто великолепны! Ведь у вас куча денег.
Господин Бенедикт почувствовал себя задетым. Он с отцовской снисходительностью посмотрел на смеющуюся девушку и с легким упреком произнес глубокую сентенцию:
— Дорогая мой госпожа, кто не относится к деньгам с почтением, того деньги тоже не любят. У меня они есть, потому что я не бросаю их на ветер.
— Зачем же тогда вам они?
— Это мое дело. Хотя бы затем, чтобы после каждого выступления осыпать вас цветами. Я тяжело трудился половину своей жизни… Если бы я поступал так, как вы…
— Как я?!
— Конечно. Вы телеграфом отменили вчерашний концерт и теперь будете должны заплатить Обществу гигантскую неустойку…
— А мне так нравится!
— Ах, если бы это вам действительно нравилось! Но вы, дорогая госпожа, опоздали только по легкомыслию — вы по рассеянности пропустили последний поезд, засидевшись на приеме в клубе. А ведь я вам говорил!..
Певица вскочила на ноги. Ее детские глаза вспыхнули от гнева.
— Ни слова! Ни слова об этом никому! Впрочем, это неправда. Я не приехала вчера, потому что не захотела.
— Но, дорогая госпожа, к чему этот гнев? — мягко сказал испуганный старичок. — Я совершенно не хотел рассердить вас и даже не думал…
Но Аза уже смеялась.
— Ничего не случилось. Ах, какое у вас обеспокоенное лицо!.. Господин Бенедикт, — вдруг неожиданно спросила она, — как вы считаете, я красива?
Она стояла перед ним выпрямившись, в легком, цветном домашнем платье с широкими рукавами, с угловым вырезом у шеи. Голову, с короной светлых волос, она откинула назад, руки сплела на шее, выставив вперед белые округлые локти. На ее губах дрожала манящая улыбка…
— Красива, красива! — шептал мужчина, глядя на нее восторженными глазами.
— И очень красива?
— Очень…
— Прекрасна?
— Прекрасна! Великолепна!
— Я устала, — она неожиданно снова изменила тон. — Идите к себе.
Однако после его ухода она не пошла отдыхать. Поставив белые локти на стол и опустив подбородок на руки, она сидела, задумавшись, нахмурив брови и твердо сжав губы. Недопитый бокал шампанского стоял перед ней, играя топазовой радугой в бьющем отовсюду электрическом свете. Стекло было венецианское, старое, тонкое, как лепесток розы, слегка зеленоватого цвета, как будто окутанное легкой опаловой и золотой дымкой. Рядом на белоснежной скатерти лежали огромные, почти белые грозди винограда из Алжира и более мелкие, цвета запекшейся крови, привезенные с греческих островов. Наполовину разломленные персики, как женщина раскрывали свои душистые, жадные к поцелуям, но холодные уста.
На пороге остановился лакей.
— Вы позволите забрать все?
Она вздрогнула и встала.
— Да, да. Прошу вас прислать мне с горничной еще бутылку шампанского в спальню. Только не слишком замораживайте его..
Она перешла в будуар и, вынув дорожную металлическую шкатулку, открыла ее маленьким золотым ключиком, висевшим у нее на поясе среди брелоков. Оттуда она высыпала на стол сверток записок и счетов. Какое-то время она производила расчеты, быстро записывая карандашом цифры на табличках из слоновой кости, а потом взяла в руки пачку телеграмм, сложенных отдельно. Она просматривала их, выписывая иногда с них даты и названия местности. Это преимущественно были приглашения из разных городов со всех сторон света выступить в каком-либо из самых больших театров. Телеграммы были короткие, написанные почти в одних и тех же выражениях, и отличались друг от друга только суммой, названной в конце, всегда довольно высокой.
Аза отбрасывала некоторые из них с презрительным либо недовольным выражением лица, над другими же долго размышляла, прежде чем записать дату на табличках.
Между телеграммами оказался случайно попавший туда листок бумаги. На нем было написано только одно слово: Люблю! — и имя. Певица усмехнулась. Красным карандашом она подчеркнула имя два раза и, подумав минуту, дописала дату две недели спустя, после чего снова стала рыться в шкатулке.
Из-под ее руки высыпались письма и записки, выдранные из записных книжек листы, на которых было наспех набросано несколько слов. На некоторых были сделаны заметки ее рукой: даты, цифры, какие-то знаки. Она рассматривала их теперь, усмехаясь или нахмурив брови, как будто хотела что-то вспомнить. Одну записку она поднесла к свету, читая неразборчиво написанное имя.
— Ах, это он, — прошептала она. — Он умер.
Она разорвала листок и бросила в угол.
Теперь она держала в руках старый билет, уже несколько пожелтевший и как бы отшлифованный частыми прикосновениями пальцев. От него исходил аромат ее одежды и тела — видимо, он долго находился при ней, прежде чем оказался в стальной шкатулке среди других бумаг.
Губы ее задрожали — она настойчиво продолжала вглядываться в несколько слов, написанных карандашом на билете и уже почти стершихся…
Только несколько слов, где рука сильней нажимала на карандаш, еще были видны… ты прекрасна — и внизу имя: Марек.
Аза долго смотрела на эти слова, сначала думая о том, кто их написал, о дне и минуте, когда они были написаны, а потом — углубившись памятью в более далекие времена, — о всей своей жизни от первой молодости, от затерявшегося где-то в воспоминаниях детства.
Ей вспоминались дни, проведенные в нужде рядом с вечно пьяным отцом и постоянно плачущей матерью, работа на какой-то кружевной фабрике — и первые взгляды мужчин, бросаемые вслед юной девушке на улице.
Она вздрогнула от отвращения.
Перед ее глазами возник какой-то цирк, и танец на натянутой в воздухе проволоке, и аплодисменты… Да, аплодисменты в ту минуту, когда в вульгарной любовной пантомиме, удерживаясь за проволоку пальцами одной ноги, подняв в воздух другую и прогнувшись, она протягивала свои девичьи губы для поцелуя омерзительному клоуну, который стоял за ней…
Театр содрогался от аплодисментов, а у нее сердце сжималось от ужаса, потому что каждый раз клоун, глядя на нее покрасневшими глазами, шептал сдавленным голосом: столкну тебя отсюда, мартышка, и сломаешь себе шею, если не согласишься…
Ужины в огромных ресторанах и снова взгляды, и улыбки сановных пенсионеров, улыбки, которые она уже научилась обращать в золото — совсем юная девушка…
Ненавистный благодетель, омерзительный благодетель, имя которого она уже почти забыла, — обучение пению и первое выступление — а потом… цветы — слава — богатство. Люди, которыми она научилась помыкать и приманивать их, будучи сама холодной, как лед, и бросать сразу же, как только необходимость в них отпадала.
Она снова посмотрела на клочок бумаги, который держала в руках. От этого единственного человека она убегала, боялась его. Помнится, она писала ему, как писали раньше в давние смешные времена: «Если бы у меня за спиной не было целой жизни, если бы, целуя тебя, я могла сказать, что ты первый, кого я целую…»
Она вскочила на ноги и, беспорядочно сунув все бумаги обратно в шкатулку, нервно захлопнула ее. Какое-то время она быстро ходила взад и вперед по комнате, сверкая глазами из-под нахмуренных бровей. Красивые маленькие губы кривились в усмешке, которая должна была быть насмешливой, но при этом уголки их так опускались, как будто она хотела заплакать.
Она протянула руку к бокалу и уже несколько минут ожидающей ее бутылке шампанского. Она налила его в бокал до самого верха и одним глотком выпила искрящийся напиток, слегка замороженный и белой пеной стекающий у нее по пальцам.
И сразу же ей захотелось свежего воздуха. Она вскочила в лифт, для ее удобства размещенный тут же в стене, и приказала поднять себя на крышу.
На плоской крыше гигантского здания располагался сад, полный карликовых пальм, удивительных кустарников, изысканных кактусов и цветов с сильным, опьяняющим ароматом. Она быстро прошла по дорожкам, выложенным тростниковыми матами, и остановилась у балюстрады.
Свежий ночной ветер дул со стороны пустыни. От него сухо шелестели карликовые пальмы и вздрагивали листья фиговых деревьев. Она стояла, с наслаждением втягивая его расширенными ноздрями. За ней была огромная, неизведанная пустыня, а впереди гигантский разлив Нила, над которым откуда-то со стороны Арабии, далекого Красного моря поднималась огненная луна.
Вода заискрилась и заблестела в лучах серебряного света, и только далеко-далеко на ней чернели какие-то точки, как будто камни или пни, торчащие из воды и обнаружившие себя только при свете луны… Развалины храма, посвященного некогда Изиде, на острове, затопленном уже много веков.
Блуждающий взгляд девушки задержался на этих руинах, и улыбка триумфа чуть раздвинула ее губы.
V
В глубине души Хафид презирал всю эту цивилизацию с ее выдумками. Он, как его отец, и дед, и прадед в давние времена, когда пустыню еще не пересекали рельсы, и над ней не летали металлические птицы, переносящие людей, по-старому, на горбах верблюдов поставлял на рынок финики.
Он также, пожалуй, был единственным человеком в мире, который от всей души радовался, что, несмотря на необыкновенные усилия, не удалось намеченное орошение Сахары. Ему вполне хватало родной финиковой рощи в оазисе и людного рынка в городке над Нилом.
Было раннее утро. С двумя помощниками, сидя на горбе старого дромадера, он вел караван из восьми верблюдов, сгибающихся под тяжестью груза, и заранее тешил себя мыслью, что, сдав товар в магазин, он на полученные за него деньги вместе с товарищами напьется до бесчувствия. Потому что вино — это была единственная вещь, которую во всей цивилизации он ценил и уважал. Аллах на старости лет тоже стал более понимающим и, чтобы не лишиться остатков слабо верящих сторонников, не запрещал уже так строго употребление горячительных напитков.
Итак, Хафид в глубине своей простой души тешился при мысли о том, что в оазисе растут пальмы, на которых родятся финики, и что он возит эти плоды в Асуан, где люди охотно их покупают, а более всего радовался тому, что всемилостивый Аллах разрешил неверным собакам построить кабаки и закрывает глаза на то, что ими пользуются и верные. Он как раз размышлял над этим совершенным устройством мира, когда его батрак Азис, прервав долгое молчание, сказал, указывая на запад:
— Люди говорят, что вчера где-то там с неба упал огромный камень.
Хафид философски пожал плечами.
— Может, какая-нибудь звезда сорвалась со своего места или одна из этих проклятых искусственных птиц свалилась…
И он рассмеялся.
— Очень приятно видеть, как сваливается человек, который напрасно пытался летать по воздуху вместо того, чтобы сидеть на спине верблюда, которого Господь дал нам для удобства.
Но, будучи человеком практичным, он обернулся и спросил с интересом:
— А ты не знаешь, где он упал?
— Не знаю. Говорили, что где-то за железной дорогой, но, может быть, это неправда.
— Может быть, правда, может быть, неправда. Во всяком случае, когда будем возвращаться, надо будет там поискать. Кто падает, тот разбивается, а кто разбивается — уже не нуждается в деньгах, которые, быть может, имел при себе. Было бы жаль, если бы их забрал какой-нибудь плохой человек.
Они продолжили свой путь в молчании. Солнце уже сильно припекало, когда они подъехали к скалам, за которыми виднелись стены города над Нилом. Хафид с удовольствием смотрел на скалы: они представляли собой одно из важных звеньев в цепи божественной гармонии мира. Когда, будучи пьяным, несмотря на усталость, движимый чувством долга, он стремился скорее вернуться домой, его верблюд, животное беззаботное, в известном месте опускался на колени и сбрасывал своего хозяина в тень, на скудную траву под скалами. Таким образом, Хафид, не испытывая никаких угрызений совести, мог отоспаться и отдохнуть.
Он как раз размышлял об этом мудром предначертании Провидения, когда верблюды вдруг начали фыркать и вытягивать длинные шеи к потрескавшейся скале, торчащей из песка. Азис вместе со вторым батраком Селимом забеспокоились и пошли посмотреть, что там может быть. Через минуту оба стали звать Хафида.
Среди скал они обнаружили дрожащих от страха пришельцев с Луны…
Когда Рода открыл глаза в этот день, у него было впечатление, что он заснул только минуту назад, поэтому он очень удивился, что солнце уже вышло из-за горизонта и начало сильно пригревать. Только через некоторое время он вспомнил, что находится на Земле и что здесь все происходит иначе. Его спутник спал очень чутко и сразу же вскочил на ноги, когда он зашевелился.
— Что случилось? — спросил он, протирая глаза.
— Ничего. Солнце светит.
Они вышли из укрытия, все еще удивленные тем, что ночь прошла без снега и мороза. Окрестности при свете дня показались им не менее пустынными и страшными, чем в вечернем мраке. Они лишь смогли убедиться, что Земля не лишена буйной растительности — в нескольких десятках шагов от них качались одинокие деревья с высокими стволами и зеленой шапкой огромных листьев наверху. Это вызвало у них некоторую надежду, что они сумеют найти здесь условия для жизни, и только воспоминания о виденных вчера чудовищах наполняло их сердца беспокойством.
Острожно, оглядываясь на каждом шагу, они стали приближаться к деревьям. По дороге, огибая угол скалы, они остановились, ошеломленные новым, неожиданным видом. Перед ними возвышалось нечто похожее на дом для великанов, превратившийся в руины. Они смотрели на колонны неслыханной толщины и на камни, нагроможденные на них, которые должны были служить потолком.
— Существа, которые жили здесь, должны были быть значительно больше Победителя, в шесть, а может быть, и в десять раз, — сказал Матарет, задирая голову вверх.
Рода сложил руки на груди и стоял, рассматривая руины.
— Это все давно покинуто и разрушается от времени, — заметил он. — Смотри, в трещинах стен растут какие-то кусты…
— Разумеется. Однако, учитель, это доказательство того, что Земля не так пуста, как ты всегда учил нас. Тут должны быть люди, хотя бы и огромные. О, на стенах какие-то рисунки! Ведь это явно человеческие существа. Правда, у некоторых из них собачьи или птичьи головы на плечах…
Рода невольно прикусил губу.
— Мой дорогой, — отозвался он через минуту, — я всегда утверждал, что людей на Земле нет в настоящее время, но когда-нибудь они вполне могли тут быть. Об этом я ничего не говорил. Разумеется, можно предположить, что когда-то на Земле все было иначе, и прежде чем она стала бесплодной пустыней, по ней ходили люди или, по крайней мере, существа подобные людям. Теперь, как видишь, их старые дома находятся в руинах; всякая жизнь здесь угасла и…
Он замолчал, встревоженный каким-то звуком, долетевшим до них со стороны пустыни. К ним приближались какие-то странные и пугающие существа с четырьмя ногами и двумя головами, одна из которых, на длинной шее, находилась впереди, а другая, очень похожая на человеческую, торчала над хребтом животного.
— Бежим! — закричал ученый, и оба они кинулись в укрытие, в котором провели ночь. Тут, зарывшись в сухие пальмовые листья, они в смертельном страхе ожидали, пока чудовища пройдут мимо.
Надежда эта, однако, не оправдалась: верблюды почуяли их, и вскоре батраки Хафида откопали путешественников, в неслыханном удивлении зовя своего хозяина.
Араб медленно приблизился, его помощники были чернокожими, поэтому не следовало слишком спешить на их зов, и увидел поистине необыкновенное зрелище.
Около груды камней и сухих листьев стояли две фигурки, похожие на людей, но до смешного маленькие и невероятно перепуганные. Один из этих человечков был лысый с глазами навыкате, другой вертел во все стороны не по росту большой головой с растрепанными волосами и бормотал что-то, чего ни один разумный человек не в состоянии был уразуметь. Батраки замахивались на них палкой с деланной угрозой и умирали со смеху, глядя на их безумный страх.
— Что это такое? — спросил Хафид.
— Неизвестно. Может быть, ученые обезьяны, а может, люди. Они что-то говорят.
— Разве люди могут так выглядеть! Это ни на что не похоже.
Он медленно слез с горба верблюда и, взяв растрепанного человечка за шею, поднял его на высоту лица, чтобы рассмотреть получше. Человечек заверещал и заколотил ногами, что снова привело батраков в состояние безумного веселья.
— Заберем их с собой в город или как?
— Может, кто их купит…
Хафид покачал головой.
— Продать не трудно. Больше можно заработать, если показывать их в клетке. Что они делали, когда вы подошли?
— Лежали, спрятавшись, — ответил Азис. — Я едва смог их вытащить. Оба страшно перепугались, смотрели то на меня, то на верблюда и что-то бормотали.
Лысый человечек тем временем взобрался на камень, чтобы быть выше, и начал что-то говорить, помогая себе руками. Все трое молча смотрели на него, а когда он закончил, взорвались от неудержимого смеха, уверенные, что это одна из штук, которой карлика обучили где-нибудь в цирке.
— А может, они голодные? — заметил Хафид.
Селим вынул из мешка горсть фиников и протянул их карликам. Они недоверчиво смотрели на него, не смея протянуть руки за плодами. Тогда жалостливый батрак левой рукой схватил волосатого карлика за шею, а правой стал запихивать финик ему в рот.
Однако в ту же минуту страшно выругался. Человечек укусил его зубами за палец.
— Кусается еще, — проговорил Азис и, оторвав кусок грязной тряпки от бурнуса, крепко перевязал ей голову опасного создания. Потом они привязали обоих карликов на спину верблюдам и двинулись к городу со своей неожиданной добычей.
— Надо будет сначала купить клетку, — заметил Хафид по дороге. — Так их показывать нельзя. Еще убегут.
Он немного подумал и добавил:
— Не нужно также, чтобы люди на базаре видели их раньше времени задаром. Будет лучше, если мы пока спрячем их в мешок.
И до того как приехали в город, они набросили обороняющимся карликам мешки на головы и тщательно запаковали их.
Днем, занятый торговлей, он почти забыл о них, особенно потому, что это был день, когда было чему удивляться. Какая-то знаменитая певица собиралась в этот вечер давать представление, и со всех сторон света приезжало множество людей. С каждого поезда, останавливающегося на вокзале, высыпались толпы, самолеты опускались целыми стаями, как осенью ласточки, летящие из европейских стран. Много было разряженных мужчин и женщин, у которых, видимо, не было другого занятия, кроме того, чтобы несколько раз в день менять наряды и показываться остальным в другой одежде, как будто играя в маскарад.
Хафид, сгрузив с верблюдов финики, таскался по городу, смотрел и удивлялся. Только вечером, в кабачке, он вспомнил о найденных днем существах. Он позвал работников, чтобы они принесли их. Селим тотчас побежал к верблюдам за добычей, а Азис тем временем рассказывал, что ему с большим трудом удалось завоевать такое большое доверие этих человечков, что они позволили ему накормить их молоком кокосового ореха.
— Они не такие уж глупые, — говорил он, — и у них есть имена! Они поочередно показывают друг на друга и повторяют: Рода, Матарет!
— Ага! Так их, наверное, звали в цирке, откуда они сбежали. Это какие-то очень ученые обезьянки, — заметил Хафид.
И, заранее предвкушая, какие большие деньги он получит за показ этих зверьков, Хафид приказал подать полную бутылку водки. Он почувствовал себя щедрым и пригласил нескольких приятелей, чтобы угостить их и для начала бесплатно показать карликов, которых Селим принес ему.
Со стола все убрали и поставили их на середину. Погонщики верблюдов, ослов, перевозчики с интересом наблюдали за карликами, вертя их во все стороны и грязными пальцами прикасаясь к коже лица, проверяя, похожа ли она на человеческую. Хафид демонстрировал собравшимся смышленость карликов.
— Рода, Матарет, — говорил он, указывая на них пальцем.
Они подтверждали это наклонами головы с явным облегчением, что их наконец поняли. Им задавали множество вопросов, не получая, естественно, в ответ ничего вразумительного. Помогая себе жестами рук, все особенно интересовались, откуда они прибыли. В конце концов карлики, видимо, поняли, чего от них хотят, и один из них, Рода, наклонившись к окну, через которое в комнату заглядывала Луна, стал упорно показывать на нее, при этом произнося какие-то непонятные слова.
— Упали с Луны, — в виде шутки заметил Хафид.
В ответ ему прозвучал дружный смех. Для развлечения карликам показывали на Луну и с помощью жестов объясняли, что они упали с нее. И каждый раз, когда те наклоняли голову в знак подтверждения, среди собравшихся и уже несколько опьяневших мужчин вспыхивал долгий, неумолкаемый смех.
В конце концов кто-то подсунул лысому, который называл себя Матаретом, рюмку с водкой. Тот, видимо испытывая жажду, неосторожно сделал большой глоток и, ко всеобщей потехе, начал кричать страшным голосом. Тогда другой человечек вспыхнул от гнева и прокричал что-то, топнув ногой о стол и взмахивая руками. Это было так забавно, что когда он закончил и немного остыл, один из присутствующих взял перо индюка и стал водить им по носу карлика, чтобы довести его до нового взрыва возмущения.
Тем временем Матарет, отравившийся водкой, лежал на столе и стонал, держась руками за лысую голову.
VI
Мягко, свободно, как птица, которая парит на широких крыльях, опускаясь на землю с неба к тихому в вечернее время Нилу, спускался белый самолет. Яцек летел один, без пилота. Удержавшись несколько минут назад от попадания в воздушный вихрь, он плавно скользил теперь на распростертых крыльях, как гигантский воздушный змей, слегка покачиваясь в такт воздушному дыханию. Далеко внизу перед ним, где когда-то был священный остров Фили, горело зарево от тысяч огней, заливающих руины.
В ту минуту, когда он уже почти коснулся воды, Яцек снял руки со штурвала и дернул за два рычага, находящиеся по бокам. Под днищем самолета расправилось полотно лодки, которая своей острой грудью ударилась о волны, разбрызгивающиеся серебристыми каплями, окрашенными лунным светом.
Затем снова движением двух рычагов Яцек поднял белые крылья наверх, так что они образовали два паруса, как и у других лодок.
Душистый мягкий ветер дул откуда-то со стороны Арабии, и мелкие блестящие волны шли вслед за ним по воде. Яцек отдался на волю волн и ветра, прислушиваясь к шуму брызг, разлетающихся от носа лодки. Только когда перед нам замаячил близкий уже берег, он как бы очнулся от задумчивости и стал ловить парусами ветер, поворачивая свою лодку к руинам, виднеющимся вдали.
Какое-то время он одиноко плыл в лучах Луны, но по мере приближения к древнему храму Изиды, ему попадались все более многочисленные лодки, и в конце концов он оказался в толпе, в гуще которой воды почти не было видно. Все лодки направлялись в сторону развалин, теснясь и отпихивая друг друга, тут и там слышались проклятия лодочников или восклицания женщин, испуганных неожиданным креном утлого суденышка, ударенного веслом. Многочисленные моторные лодки, движущиеся с помощью электричества едва могли передвигаться в этой толчее, с трудом прокладывая себе дорогу сверкающими носами.
Яцек, по счастливой случайности отыскавший несколько метров свободного пространства, вновь расправил крылья самолета и продолжил свой путь по воздуху. Легко, как чайка, взлетающая с волны в воздух, он поднялся наверх и закружил над толпой. Под ним сверкали разноцветные огоньки лодок, как горсточка драгоценных камней, выброшенных из реки. Там, где места было больше, эти огоньки отражались в воде и, разбиваясь мелкими волнами, превращались в золотые полосы.
Храм Изиды светился изнутри, как будто в нем за пурпурными занавесями, натянутыми между безголовых колонн, пряталось солнце.
У остатков пилонов у входа стояли охранники, отбирающие у прибывших входные билеты и отдающие их под опеку проводников, показывающих людям места в залитом водой храме. Яцек сверху бросил им обернутый в платок билет и опустился на своем крылатом челне на воду в первом зале храма.
Огромных размеров колонны торчали здесь из воды половиной своего тела, внизу, на границе с водой уже покрывшиеся плесенью, но наверху все еще сверкающие неистребимой красотой красок, выдержавших уже столько веков, что невозможно было сосчитать их. От входа до ряда дальних гигантских нефов, затянутых теперь пурпурной материей, на маленьких балкончиках, приподнятых над водой, стояли дозорные, которые следили за тем, чтобы кто-нибудь незаконно не проник внутрь. Здесь Яцек окончательно убрал крылья своей лодки и поплыл дальше в неприметной лодке, в которую превратился его самолет.
Храм напоминал ярмарочный павильон, он был полон цивилизованных и богатых варваров со всех частей света. Вся эта толпа зевак плыла в разнообразных лодках: в барках, моторных лодках, в венецианских гондолах, сновала по металлическим галереям, подвешенным между колоннами, отираясь локтями об иероглифы и изображения богов, много веков назад вырезанные из камня, часто наполовину затопленные водой, залившей этот священный остров.
В неприметной, дорожной одежде, не привлекая к себе чьего-либо внимания, Яцек миновал этих людей, пробиваясь вглубь между более густым лесом резных колонн, увитых у капителей венцом электрических огней.
В последнем зале ламп уже не было. Под сводом, уцелевшим на протяжении многих веков, тяжелыми гранитными плитами покоясь на гигантских бутонах лотоса, которыми заканчивались колонны, под тяжелым каменным потолком плыла только светящаяся голубоватая мгла, как будто замершая и подвешенная летняя молния, расходящаяся во все стороны от головы гигантской статуи таинственной богини… Вода, мелкая здесь, на полу древнего храма, тоже была пронизана волнами голубого цвета, как будто бы каким-то сказочным озером, колдовским источником…
Древняя статуя Изиды неподвижно чернела в этом свете, огромная, с поднятой рукой и странно приоткрытыми губами, где, казалось, много веков назад застыли таинственные слова, которых за это время так и не сумели понять.
У ног же статуи, на огромном, искусственно сделанном листе лотоса стояла женщина. Светлые ее волосы были спрятаны, как у египетской богини, в полотно и увенчаны тиарой в виде птичьей головы и солнечным диском наверху. Узкие плечи окутывал только серебристый газ, бедра были стянуты жестким покрывалом и поясом, скрепленным огромным бесценным опалом. Из-под покрывала виднелись голые белые ноги, с золотыми обручами на щиколотках, такие же обручи были и на запястьях рук, поднятых вверх.
Яцек опустил голову, видя, как смотрят на нее жадные глаза толпы, и стиснул губы.
Аза пела, помогая себе едва заметным движением плеч и бедер. Она пела удивительный, ритмичный гимн о богах, которых уже много веков никто не почитал.
О борьбе света с темнотой, о высшей мудрости, погруженной в таинственные глубины, о жизни и смерти.
Пела о героях, и о крови, и о любви…
Стройная музыка, идущая, казалось, откуда-то из глубины, послушно следовала за ее голосом, как бы дрожа в священном испуге, когда она пела о тайнах жизни, вздымаясь бурей звуков, когда воспевались победы героев, звучащая тихим и страстным шепотом, когда уста певицы говорили о счастье любви…
Она пела в наполовину разрушенном, подмытом водой храме Изиды, перед толпой, не верящей ни в богов, ни в героев, ни в жизнь, ни в смерть, ни в любовь… и пришедшей сюда только потому, что это было неслыханное и небывалое событие, чтобы в старом храме давали концерт и в нем выступала бы Аза, известная во всем мире — и еще по той причине, что за вход нужно было заплатить сумму, которой бедняку хватило бы на год жизни…
Здесь было немного таких, что действительно прибыли сюда из-за огромного таланта артистки и теперь наслаждались ее чудесным и выразительным голосом, каким-то удивительным волшебством возвращающим все то, что было, прошло и уже почти забылось. Зато очень внимательно толпа смотрела на ее лицо, на голые колени и плечи, подсчитывала стоимость немногих, но превосходных драгоценностей, которые были на ней, и нетерпеливо ждала, когда закончатся песнопения, и она затанцует перед их глазами.
Однако постепенно происходило чудо. Артистка достигала своим голосом человеческих душ, укрытых где-то внутри, и пробуждала их… И тогда открывались человеческие глаза, впервые задумавшиеся о своей сущности, и тела начинали покачиваться в ритм гимна. Тот и другой, прижимая руки к груди, широко открытыми глазами ловил странные воспоминания, давно уснувшие в закоулках его мозга, и на короткий миг воображал себя действительно преданным божеству и готовым ради него идти на борьбу, идти туда, куда зовет его этот голос… И тогда от него не ускользали ни один звук этого голоса, ни одно движение ее почти нагого тела. В короткие мгновения, когда она переставала петь, кружась и колыхаясь в танце, ритм которого доносила до нее музыка, идущая откуда-то изнутри — в эти мгновения в старинном храме устанавливалась такая тишина, что был слышен только плеск волн, которые много веков подмывали мощные колонны и смывали таинственные знаки, вырезанные в граните…
Яцек медленно поднял глаза. Свет медленно менялся из голубого в огненно-кровавый, светлые полосы, блуждающие под сводами, погасли неведомо когда — горела только вода, как море холодного огня, и какие-то застывшие молнии шли из-за спины статуи Изиды, которая на этом фоне почернела еще больше и, казалось, еще увеличилась… В темноте уже не была видна таинственная усмешка на губах богини, только рука, поднятая на высоту лица, напрасно таинственным жестом призывала к молчанию или просто давала какой-то знак, неразгаданный в течение веков…
Внезапно Яцеку показалось, что на темном лице божества он видит живые глаза, обращенные к нему… И не было в них гнева или обиды на тех людей, которые устроили себе развлечения в месте, некогда посвященном наиглубочайшим тайнам, не было ни сожаления о прежнем преклонении, ни грусти, что храм распадается в пыль, только удивительное, тысячелетия длящееся ожидание, как будто человек, который послушает жеста богини, призывающей к молчанию, и из ее уст услышит самую значительную тайну, должен скоро появиться… завтра, через столетие или через тысячу лет…
Изида со своего высокого трона не видела царящего вокруг нее ничтожества, не видела толпы, не слышала шума, криков, как когда-то не замечала ни паломников, ни жрецов, не слышала молитв, просьб. Она смотрела вдаль, жестом призывала к молчанию и ждала…
Идет ли? Идет ли уже тот, кого она ждет?
Придет ли он когда-нибудь?
Внезапно яркий свет вместе с внутренним напевом ошеломили Яцека. Аза пела теперь о погибшем боге Осирисе, любимом Изиды, языком танца и пения передавая страсть и упоение, тоску и отчаяние…
Дрожь пробежала по телу Яцека; он отвернулся, чувствуя, что лицо у него горит от какого-то непонятного стыда. Он пытался взять себя в руки, вспоминая усмешку и увиденные им глаза богини, но вместо этого перед ним возникали мимолетно схваченное взглядом движение груди танцовщицы, ее маленькие, детские, полуоткрытые губы… Горячая волна ударила ему в голову; он поднял глаза и напряженно, страстно вглядывался в нее, забыв обо всем, обо всем…
Ее белые плечи вздрагивали, и дрожь пробегала по всему телу, когда с ее губ, как бы припухших и еще болящих от поцелуев, срывались слова, говорящие об упоительных объятиях, о пламенной страсти… Развеялись чары, еще минуту назад держащие людей в заколдованном кольце. Души, наполовину вылетевшие из тел, спрятались, как лесные зверята в дуплах деревьев; невозможно было слушать это пение иначе как в волнении, разгорячившем застывшую кровь. Глаза заволоклись туманом, губы искривились в болезненной усмешке.
Теперь уже толпа была хозяином, а она — ее невольницей, купленной за деньги и обнажающей свое тело, под видом искусства позволяющей рассматривать себя грязным и липким взглядам и раскрывающей перед публикой тайну своих чувств…
Яцек невольно поднял глаза к лицу богини: она была невозмутима, как всегда, усмехающаяся, ожидающая…
Неожиданно наступила полная тишина, а потом весь храм затрясся от грома аплодисментов, которые неслись со всех сторон. Аза кончила петь и устало оперлась о колени статуи Изиды. Две служанки набросили на нее белый плащ, но она не трогалась с места, благодаря губами и глазами за невероятные аплодисменты, которые не прекращались, а лишь усиливались. Люди без конца выкрикивали ее имя, бросали цветы ей под ноги, так что вскоре она стояла как будто в цветущем саду — властная, триумфальная. Над ней возвышалась рука богини, таинственным жестом напрасно призывающая к молчанию…
В какой-то момент Аза, как будто вспомнив о чем-то, стала искать кого-то в толпе — и внезапно ее взгляд встретился с глазами Яцека. Мимолетная усмешка скользнула по ее губам, и она отвернулась в другую сторону. Яцек видел, как к ней приблизился известный ему господин Бенедикт, — постоянно таскающийся за ней по свету. Она что-то сказала ему, потом разговаривала с другими, которые теснились вокруг нее, улыбающаяся, величественная и вместе с тем кокетливая. Было видно, что, убедившись в его присутствии, она теперь умышленно избегала его взгляда…
Тогда он проплыл между гигантскими колоннами и протиснулся к выходу. Его гнал какой-то стыд и раздражали взгляды людей, удивленных тем, что кто-то покидает театр именно тогда, когда Аза, закончив первый номер программы, предстанет перед публикой в образе Саламбо, своем самом известном образе, и нагая исполнит танец со змеями…
Ему было душно и тесно в этом огромном зале. Он хотел как можно быстрее выбраться на свободу, увидеть звезды и водное пространство, залитое лунным светом.
Толчея перед храмом уже прекратилась. Часть лодок находилась внутри, остальные, которым не нашлось места, вернулись в город. Только несколько пароходиков ожидали тех, кто размещался в храме на галереях. Яцек миновал их и медленно повернул к берегу. Ему не хотелось ни выпускать крылья, ни приводить в движение мотор, поэтому он плыл с легким ветерком, дующим от Арабии, тихо покачиваясь на волнах.
Неподалеку от берега ему показалось, что кто-то окликнул его по имени. Он удивленно обернулся в ту сторону — там было тихо и пусто, город был далеко, только в свете Луны на фоне неба виднелись три высокие, стройные пальмы. Он уже хотел плыть дальше, когда вновь услышал тот же голос, зовущий его…
Он пристал к берегу и выскочил на землю. Под пальмами сидел человек, наполовину нагой, одетый только в потрепанный бурнус, с непокрытой головой, длинные черные волосы спадали ему на плечи. Он сидел неподвижно, вглядываясь в звездное небо, с руками, сплетенными на груди.
Яцек наклонился и посмотрел ему в лицо.
— Ньянатилока!
Странный человек медленно повернул голову и дружелюбно улыбнулся, не выказывая удивления.
— Да. Это я.
— Что ты здесь делаешь? Откуда ты взялся? — восклицал Яцек.
— Просто я здесь. А ты?
Молодой ученый ничего не ответил — или не захотел ответить… Только через минуту спросил снова:
— Откуда ты знал, что я здесь?
— Я не знал этого.
— Но ты звал меня. Два раза.
— Я не звал тебя. Я просто думал о тебе в эти минуты.
— Но я слышал твой голос.
— Ты слышал мои мысли.
— Однако это странно, — прошептал Яцек.
Индус усмехнулся.
— Неужели более странно, нежели все, что нас окружает? — спросил он.
Яцек молча уселся на холодный песок. Буддист смотрел на него, но у него было такое впечатление, что он не только видит его, но даже читает его мысли. Это было угнетающее чувство. Яцек недавно познакомился с эти странным человеком в одной из своих частых поездок, и он, который располагал всеми современными знаниями, имел в руках такую силу, как немногие в мире, и со своей духовной высоты с невольным презрением смотрящий на человеческую толпу, чувствовал странную робость в присутствии этого таинственного пустынника с душой такой же простой на вид, как душа ребенка. И одновременно что-то непреодолимо тянуло его к нему…
Со времени первой встречи он довольно часто и порой необъяснимо встречал его в разных частях света. И сегодня эта странная встреча на берегу Нила…
Ньянатилока усмехнулся и, не поворачивая головы, сказал, как бы почувствовав его удивление:
— Ты прилетел сюда самолетом, как вижу?
— Да.
— А зачем?
— Мне так захотелось.
— Почему же ты удивляешься, что я нахожусь здесь, разве я не мог захотеть этого?
— Да, но…
— Ты думаешь, у меня нет самолета?
— Да.
— А что такое машина? Разве не средство, с помощью которого твоя воля вызывает изменения в положении твоего тела в картинах, которые предстают перед твоими глазами?
— Наверное.
— А ты не думаешь, что воля может сделать то же самое без всяких искусственных средств?
Ученый наклонил голову.
— Все, что я знал до сих пор, заставляет меня ответить: нет! Однако с тех пор, как я познакомился с тобой и тебе подобными…
— Почему ты не хочешь сам испытать силу своей воли?
— Я не знаю, каковы ее границы.
— Она безгранична.
Какое-то время они оба молчали, глядя на Луну, плывущую наверху и казавшуюся более светлой. Через несколько минут Яцек снова заговорил:
— Я видел уже удивительные вещи, которые ты делаешь. Ты опрокидываешь взглядом бокал воды и проходишь через закрытые двери… Если у воли нет границ, скажи, ты мог бы Луну на небе заставить двигаться в другую сторону или без защиты и различных приспособлений преодолеть пространство, которое нас отделяет от нее?
— Да, — ответил индус спокойно, с обычной улыбкой на губах.
— Так почему же ты этого не делаешь?
Ньянатилока вместо ответа в свою очередь спросил Яцека:
— Над чем ты сейчас работаешь?
Ученый наморщил брови.
— В моей лаборатории — удивительное и страшное изобретение. Я уничтожаю то сосредоточение сил, которое называется материей. Я нашел ток, который при пропускании через какое-либо тело, разлагает его атомы на первичные составные части и попросту уничтожает их…
— Ты проводил испытания?
— Да. С неслыханно мелкими частицами миллиграмма. Такая пыль, разлетаясь, вызывает взрыв, как горсть воспламеняющегося динамита…
— И с такой же легкостью ты мог бы заставить разлететься и большие массы? Уничтожить дом, город, континент?
— Да. Самое удивительное, что это можно было бы сделать с той же легкостью. Достаточно было бы пропустить этот ток…
— Почему же ты не делаешь этого?
Яцек встал и начал прохаживаться под пальмами.
— Ты отвечаешь вопросом на вопрос, но это не одно и то же, — заявил он. — Я причинил бы этим вред, несчастье…
— А я, — ответил Ньянатилока, — не произвел бы замешательства в мире, который, по-видимому, должен быть таким, каким есть, если бы заставил звезды идти по иному пути?.. Я знаю, — продолжил он через некоторое время, — вы смеетесь над освобожденными, которые демонстрируют только мелкие фокусы… Не возражай! Если ты не смеешься, то смеются многие другие ученые и над этим, и над нашими физическими и дыхательными упражнениями, долгими и кропотливыми и такими простыми на вид… Однако нужно уметь владеть собой, нужно знать все о своей воле. Эти упражнения, эти посты, это самозабвение и одиночество ведут именно к этому. А когда воля уже освобождена и умеет сосредоточивать свои силы, разве не все равно, в чем она проявляется?
— Думаю, что нет. Вы могли бы использовать ее…
— Зачем? Только сам человек может принести себе пользу. И основная польза — это очищение его души. Освобожденная воля не стремится ни к какой цели. Как же ты хочешь, чтобы я делал вещи, которые мне безразличны и могли бы вернуть меня обратно в те формы жизни, от которых я уже избавился?
— Удивительно все, что нас окружает, — через некоторое время заметил Яцек, — однако у меня такое впечатление, что самое удивительное из всего, что я знаю, — это именно те вещи, которые ты делаешь.
— Почему?
— Я не знаю, как ты это делаешь.
— А ты знаешь, каким образом ты двигаешь рукой или что происходит, когда камень с твоей руки падает на землю? Ты слишком умный человек, чтобы отвечать мне ничего не значащим словом, которое таит в себе новую неизвестность.
Молодой ученый молчал, задумавшись, а индус тем временем продолжал:
— Объясни мне, как это происходит, что твоя воля поднимает веки твоих глаз, а я объясню тебе, как я могу перемещать звезды. И в том и в другом — одинаковое количество труда. Воля — это нечто большее, чем сознание, но она подчиняется телу, и в этом ее обычные границы. Нужно отважиться выйти за границы тела, нужно не требовать ничего для тела, но подчинить себе все, и тогда для твоей воли уже не будет разницы между «я» и «не я».
— И тогда не будет границ?
— Их не должно быть. Есть границы для движения, для желаний, даже для познаний, но для воли их не может быть, потому что она с самого начала стоит над телом, над любой формой, над любым существованием… Ведь это ваш поэт сказал много веков назад: «Я чувствую, если бы у меня была воля… я, может, погасил бы сотню звезд, а другие сто зажег!». И он был прав. Здесь лишнее только одно слово «может». Это было сомнение, и поэтому он упал.
Яцек удивленно посмотрел на него.
— Откуда ты знаешь наших поэтов?
Индус какое-то время помолчал.
— Я не всегда был тем, чем теперь, — с некоторым колебанием заметил он.
— Ты не индус по крови?
— Нет.
— А твое имя?
— Я принял его позднее. Ньянатилока, Трижды посвященный, когда познал тайны трех миров: материи, формы и духа…
Он замолчал, и Яцек ни о чем не стал его спрашивать, видя, что индус отвечает неохотно. Он снова уселся на траву у стволов пальм и стал смотреть на воду, где вдали блестели слабые огоньки лодок и между двумя гигантскими пилонами сверкал вход в храм, издали похожий на топку горящей печи…
Вдруг, как бы очнувшись от задумчивости, он поднял голову и быстро посмотрел в глаза Трижды посвященному.
— Зачем ты меня ищешь?
Индус медленно повернул голову и посмотрел на него светлыми, широко открытыми глазами.
— Мне жаль тебя, — сказал он. — Ты такой чистый, но не можешь выбраться из трясины материи, хотя сам уже знаешь, что она является всего лишь иллюзией.
— Чем же ты мне поможешь… — прошептал Яцек, опуская голову.
— Я жду минуты, когда ты пожелаешь отправиться со мной в пущу…
Яцек собирался что-то ответить, но в этот миг его отвлекло движение на воде и доносящиеся издали голоса. Перед храмом засветились огоньки лодок и медленно стали образовывать длинный хвост, тянущийся к берегу — в город.
Голоса далеко разносились в тихом ночном воздухе: крики лодочников, смех женщин. Видимо, представление было закончено.
Яцек быстро повернулся к буддисту, не в силах скрыть нервного замешательства.
— Нет, в пущу… я не пойду, — сказал он, — но я хотел попросить тебя, чтобы ты навестил меня в Варшаве.
Ньянатилока отступил на шаг и взглянул на Яцека с мягкой улыбкой.
— Я приду.
— Боюсь только, — усмехнулся Яцек, — что непривычно будет тебе, привыкшему к одиночеству, слышать гул жизни.
— Нет. Это не имеет значения. Сегодня я уже могу быть в одиночестве в толпе, тогда как ты не можешь быть в одиночестве даже тогда, когда с тобой никого нет.
Говоря это, он слегка кивнул головой и углубился в тень пальм на побережье.
Триумфальный кортеж Азы стал уже гораздо ближе. Яцеку даже показалось, что он слышит ее серебристый голос.
VII
Клетка, помешенная на спине осла, была, правда, достаточно просторной для двоих людей такого роста, но сидеть в ней было не на чем. Там висели двое качелей, прикрепленные к верхней решетке, но как Рода, так и Матарет считали непристойным пользоваться ими.
Изменчивая поступь осла не давала им возможности стоять, поэтому они вынуждены были усесться на дно клетки, устланное пальмовыми листьями, избегая, насколько это было возможно, смотреть друг на друга.
Стыд и отчаяние, охватившие путешественников, лишили их всякого желания жить. Они совершенно не могли понять, что с ними происходит. Огромные злые жители Земли посадили их в клетку, как неразумных зверюшек — их, еще недавно бывших красой и гордостью почтенного Братства Правды на Луне, и возят их теперь по людным местам, неизвестно для чего, с какой целью. К тому же им добавили третьего товарища, по поводу которого они не могли ясно определиться: был ли это зверь или человек. Роста он был примерно такого же, как они, лицо — похожее на человеческое, но тело его было покрыто волосами, а там, где обычно бывают ноги, у него была вторая пара рук.
Этот товарищ чувствовал себя весьма довольным своей судьбой и даже прибрал в собственность качели, перескакивая периодически с одних на другие. Рода попытался с ним объясниться, одновременно и словами и жестикуляцией, но он выслушал его слова не прекращая делать какие-то неприятные гримасы, а потом прыгнул ученому на шею и начал рыться в его волосах.
Тогда они признали его животным, хотя и очень похожим на человека. Это общество, однако, еще больше унижало их, тем более, что они были вынуждены есть из одной миски с этим удивительным созданием, чтобы не страдать от голода.
Наконец, около полудня, после долгого молчания Матарет заговорил с учителем, искоса взглянув на него:
— Так что? Земля необитаема?!
Рода опустил голову.
— Сейчас не время для насмешек. Во всяком случае это ты во всем виноват, потому что из-за тебя мы здесь оказались.
— Не знаю… Если бы ты не настаивал на своей теории, что Победитель прилетел не с Земли…
— Ну, это еще неизвестно, — буркнул учитель, чтобы спасти остатки достоинства.
Матарет горько рассмеялся.
— Впрочем, это неважно, — заметил он через минуту. — Я ошибся или ошиблись мы оба — не имеет значения. Иногда я и сам готов допустить, что Победитель прилетел к нам откуда-то из другого места, потому что он, по крайней мере, разумный человек, а ведь с этими невозможно договориться. За что они нас мучают?
— Откуда я знаю?
— А мне кажется, что я догадался. Они просто принимают нас за зверюшек или нечто в этом роде… Ты же видишь сам, как на нас смотрят.
Рода ходил по клетке на хребте осла, как маленький лев, потрясая лохматой головой. Гнев, отчаяние, обида переполняли его так, что он не мог выдавить из себя ни слова. А Матарет насмешничал, как будто хотел поиздеваться над ним.
— Попробуй забраться на качели, — говорил он, — и перевернись так, как этот косматый зверек; увидишь, как эти люди обрадуются! Ведь они же этого ждут. А если еще зарычишь и язык высунешь, они дадут тебе целую горсть фруктов, которые, кстати, очень бы пригодились нам, потому что мы голодны. Эта четверорукая скотина съела все, что тут было.
Вдруг Рода остановился.
— А знаешь, мне кажется…
Он замолчал.
— Что именно?
— Может, они нас наказывают? Может быть, они догадались, что мы украли машину Победителя? Ведь они могли найти ее там, в песке…
Матарет нахмурился…
— Да, это было бы самое плохое. Тогда у нас не было бы никакой надежды…
— А ведь это ты виноват во всем, как всегда — ты! Зачем ты давал понять этим людям, что мы прилетели с Луны? Нужно было делать вид…
— Какой вид? Какой?!
— О Земная Сила! — простонал Рода, по детской привычке обращаясь к силе, которая на Луне считалась божественной. — Что же нам теперь делать?
Матарет пожал плечами: он действительно не имел понятия, как выйти из этого более чем ужасного положения.
Они стояли задумчивые и обеспокоенные. Обезьяна, находящаяся в клетке вместе с ними, тоже приблизилась к ним, стараясь подражать их поведению. Но эта неподвижность зверушек наскучила одному из зрителей, поэтому он бросил в лицо Роде остатки финика, а когда это не помогло, начал щекотать его тростинкой и тыкать туда, где у настоящих обезьян расположен хвост.
Хафид позволял такие фамильярности только тем, которые особо платили за это, но на этот раз это был мальчишка, который заплатил всего один грош, чтобы посмотреть на обитателей клетки, поэтому он впал в гнев и прогнал нападающего кнутом.
Вообще, араб не был сегодня в хорошем настроении. Интерес к зверюшкам, правда, был достаточно большой, и за полдня он не только вернул деньги, истраченные на покупку клетки и наем осла, но и набил ими оба кармана. С этой стороны не было причины для беспокойства. Речь шла о другом.
У Хафида было врожденное и непреодолимое отвращение к тому, чтобы иметь дело с властями и вообще с существами рода человеческого, представляющими общественный порядок, а неясное предчувствие говорило ему, что рано или поздно его схватят и начнут допытываться, где он взял этих карликов и по какому праву показывает их в городе? Вначале он не подумал об этом, но теперь понимал, что ничего хорошего это не принесет. Его приятель, перевозчик, человек очень разумный, только покачал головой сегодня утром, когда он собрался на рынок, а полицейский, стоящий на углу площади, как-то слишком долго смотрел в его сторону.
В конце концов Хафид решил избавиться от своей добычи и хлопот как можно быстрее, то есть продать обоих карликов, но как назло покупателя не находилось. В том районе, где он ходил с клеткой, жили люди, которым явно не хватало денег на свои потребности, а к большим и сверкающим отелям, где проживали иностранные богачи, Хафид не смел даже приблизиться.
Он как раз раздумывал, что ему делать: подарить ли кому-нибудь этих обезьянок или вечером утопить их в Ниле, потому что брать с собой их не было смысла, когда вдруг увидел какого-то приличного господина с седыми волосами, который не торопясь приближался к площади. Это был господин Бенедикт, который решил купить для Азы, уезжающей на следующий день, большую корзину фруктов и рассчитал, что будет дешевле, если он сделает это сам, а не поручит недобросовестной прислуге.
Заметив его, Хафид начал окликать его на всех известных ему языках, то есть стал издавать звуки, которые, по его мнению, означали на этих языках обращение к особе достойной и уважаемой. Господин Бенедикт заметил араба и приблизился к нему, решив, что тот собирается продать ему бананы.
Он очень удивился, увидев клетку с запертыми в ней людьми и обезьяной.
— Что это такое? — спросил он.
Хафид сделал таинственное лицо.
— О, господин! Это… это такие существа…
— Какие существа?
— Очень редкие.
— Откуда они у тебя?
— О, господин! Если бы я сейчас начал рассказывать вам о трудах, с которыми мне удалось раздобыть этих двоих как будто людей, вокруг нас выросла бы молодая трава, а мы бы еще с места не двинулись, вы слушая, а я рассказывая!
— Поэтому говори короче: где они живут?
— О, господин! В центре Сахары, в песках, по которым проносится один самум, есть один оазис, который никогда не видел никто из людей! Только я и мой верный дромадер были первыми, которые туда…
— Не лги. Где ты нашел этих карликов?
— Господин, купи их у меня.
— Ты что, с ума сошел?
— Они правда очень потешные. Умеют много разных штук, только теперь очень устали и не хотят ничего показывать. Тот с длинными волосами вертится на качелях, а лысый делает вид, что умеет читать, в точности подражая человеку! Даже обезьяна смеется над ними. Она живет с ними в большой дружбе…
У господина Бенедикта в голове промелькнула какая-то мысль.
— Ты думаешь, они научатся прислуживать в комнате?
— Конечно! У меня дома они подметают пол и чистят обувь моей жене, которая, правда, ходит босиком, но только из упрямства, потому что я для нее ничего не жалею. Она уже старая…
— Перестань молоть!
— О, господин, я буду молчать, если тебе это нравится.
— А смогли бы они прислуживать за столом?
— Как самый лучший лакей в Оулд-Грейт-Катаракт-Паласе, который является моим приятелем и может подтвердить…
— Сколько ты хочешь за этих обезьянок?
— О, господин, я только хотел бы оправдать мои труды…
— Говори, только быстро.
Хафид назвал сумму и после получасового торга согласился отдать свою добычу за десятую часть запрошенной цены. Господин Бенедикт заплатил, араб прежде всего спрятал деньги, а потом, приготовив две петли из толстой веревки, открыл клетку и стал ловить перепуганных лунных жителей. Наконец ему удалось сделать это. Он привязал каждому веревку к ноге и, высадив их на землю, сунул концы в руки господина Бенедикта.
— Пусть Бог благословит вас, господин! — сказал он, собираясь отъехать.
— Подожди, подожди! Ведь я не могу их так вести! Ты должен занести их мне в отель.
Хафид покачал головой.
— Так мы не договаривались, господин! У меня уже нет времени.
Говоря это, он пришпорил осла и исчез в толпе, радуясь, что за хорошие деньги расстался с опасным приобретением.
Уличная толпа окружила обеспокоенного господина Бенедикта. Он не знал, что ему делать. Отовсюду окликали карликов, снова страшно обеспокоенных поворотом в своей судьбе. Раздавались взрывы хохота, когда их новый владелец грозил палкой нападавшим на них. Вокруг создалась такая сутолока, что невозможно было продвинуться.
Через некоторое время господин Бенедикт, будучи не в силах ничего предпринять, стал предлагать скачущим вокруг него подросткам хороший заработок, только бы они помогли занести этих удивительных зверьков в отель. Но те, развеселившись, делали вид, что боятся их, и с криком убегали, как только кому-нибудь из них он совал в руку веревку.
Волей-неволей ему пришлось идти в отель самому, ведя на веревке человечков в окружении толпы детей, прохожих и местного простонародья.
По дороге он зашел в магазин детской одежды и, выбрав для своих пленников бархатные брюки и матросские блузы с золотыми галунами, велел их тут же переодеть. Когда с переодетыми таким образом членами Братства Правды он вновь показался на улице, радости общества, терпеливо ожидающего его возвращения, не было границ. Особенно их восхищал Матарет с его лысой головой и широким белым жабо на шее. Впрочем, забавлялись и при виде Роды, бросающего вокруг гневные взгляды.
Так триумфально они двигались к отелю, в котором жила Аза.
VIII
С погасшей сигарой в зубах поверх раскрытой газеты Грабец поглядывал через открытое окно на толпу перед кафе. Недопитая чашка уже остывшего черного кофе стояла перед ним; рукой, небрежно опершись о поверхность мраморного столика, он вертел пустую рюмку из-под коньяка. Высокий лоб, переходящий в большую лысину на хорошо вылепленной голове, покрывала со стороны висков сеть маленьких морщин, нижняя же часть странно помятого лица скрывалась в густой светлой бороде. Только губы блестели под поникшими усами — полные, молодые, неспокойные, соперничающие своим выражением с погасшими на вид глазами, в холодном стальном блеске которых сквозь усталость просвечивала неистощимая сила и упорство.
Газету он уже давно не читал, но все еще держал ее в руке, возможно, чтобы заслониться от посторонних взглядов или отделить себя бумажной стеной от сидящего за столиком товарища. Его безразличный взгляд скользил по стройным, смеющимся женщинам, которые в обществе мужчин сидели возле столиков, выставленных перед кафе, или шли на другую сторону устланной газонами площади, где перед огромным и отвратительно украшенным игорным домом уже началось послеполуденное движение. По широкой лестнице, разделенной несколькими блестящими перилами, по узорчатой дорожке наверх поднимались мелкие игроки с незначительными суммами в карманах, видимо, намеренно выбравшие это время, когда их не будет стеснять присутствие набобов, бросающих целые состояния на зеленое сукно. Сквозь гуляющую внизу толпу, не глядя по сторонам, протискивались также профессиональные шулеры, едва позавтракавшие в спешке, чтобы не терять дорогого времени и той минуты, которая может принести счастье. Несколько автомобилей остановилось у портала: среди выходящих оттуда Грабец узнал некоторых постоянных и серьезных посетителей игорного дома, которые прибыли раньше, чтобы никто не занял их излюбленных мест. Скучающие лакеи стояли на ступеньках, перебрасываясь между собой отдельными словами.
Каждую минуту от столиков тоже кто-нибудь поднимался или удалялся в сторону широкой лестницы. Иногда это был какой-либо нарядный молодой человек, но чаще — сановный пенсионер или одна из дам, внимательно выслеживающая тех, у кого карманы набиты золотом. Этих ловцов фортуны с первого взгляда можно было отличить от шулеров, спешащих, чтобы попытать счастья у волшебных столов: они шли медленно, спокойно и слишком хорошо представляли свою цену, чтобы поощрять прохожих ласковыми взглядами, однако и выражение их лиц и походка безошибочно говорили, что они не являются легкой добычей, особенно для желающих и могущих сорить деньгами охотников.
Грабец скользил по прохожим рассеянным взглядом, который, казалось, настолько безразлично касался человеческих лиц, как будто это были деревья или камни. Иногда, на один миг, его глаза задерживались на лице какого-либо сановника и снова скользили дальше по толпе стройных и громко смеющихся женщин, по этому людскому муравейнику, удивительно довольному собой и жизнью — только губы его кривились в едва заметной презрительной усмешке, которая так приросла к его губам, что в конце концов стала выглядеть естественной гримасой.
— Что вы думаете о современной литературе?
Он слегка вздрогнул, как будто муха уселась ему на лицо. В своей задумчивости он совершенно забыл о своем непрошеном спутнике, который сидел напротив него, по другую сторону столика. Он был среднего роста, пузатый, с противной еврейской головой на тонкой шее, и держал в веснушчатых, унизанных бриллиантами пальцах какой-то еженедельник. Доверительно наклоняясь через стол, он с достоинством смотрел на Грабца своими выпуклыми, чуть рыбьими глазами через толстые стекла очков, сидящих на горбатом красном носу. Редкие, жирные волосы его были зачесаны вперед с явным намерением скрыть под ними прыщи, покрывающие лысину. Мясистые, хотя и тонкие губы, все еще двигались, как будто он тихо повторял и пережевывал только что заданный вопрос.
— Ничего не думаю, господин Халсбанд, — ответил Грабец через минуту, вынуждая себя говорить дружески вежливым тоном.
Еврей бросил еженедельник и, живо жестикулируя, начал говорить гортанным голосом с характерным акцентом, сохранившимся в течение тысячелетий.
— Вы всегда даете удивительные ответы! Как будто любой ценой хотите избежать разговоров. Но ведь я спрашиваю вас — и если спрашиваю…
— Я знаю, слышу, — усмехнулся Грабец. — Но это такой неопределенный вопрос…
— Как же я могу сказать иначе? Речь не идет о каком-то единичном случае, меня интересует ваше общее суждение, синтез вашего суждения. Я как раз читал в этом «Обозрении»…
И он хлопнул рукой по отброшенному еженедельнику.
Грабец слегка пожал плечами.
— Я не разбираюсь в этом, — сказал он, с притворным интересом следя за людьми, толпящимися перед кафе.
Халсбанд загорячился.
— Это не ответ, это увертка! Ведь вы сами литератор. Как же можно…
— Нет. То, что я сам иногда пишу, не дает мне возможности выносить суждения, особенно такие, которые могли бы вам для чего-либо пригодиться. Скорее напротив… Для разговоров, для бесцельного, бесконечного обсуждения всего, что создано или написано, существуете вы: редакторы больших журналов, критики, историки литературы и искусства. Я не знаю даже названий произведений, о которых вы можете разговаривать часами.
— Излишняя скромность, — ядовито усмехнулся Халсбанд. — Всем известно, что вы просто эрудит. Но вы ошибаетесь, считая, что мне нужно знать ваше мнение. Если я задаю вам подобный вопрос, то только потому, что мне интересно, в какой сплав превращаются определенные факты в линзе вашей индивидуальности… Вы меня интересуете, — добавил он с оттенком нежности в голосе.
Грабец не слушал его. Его что-то явно заинтересовало на площади перед кафе, потому что он напряженно смотрел через открытое окно в ту сторону, где у столика одиноко сидел необыкновенно странный человек. Он не был горбат, но производил такое впечатление из-за своих длинных рук и огромной головы, глубоко втиснутой в плечи. Одет он был старательно, но неумело; волосы его топорщились в разные стороны на голове, с которой он как раз снял шляпу. Он был бы просто смешон, если бы не огромные глаза, бездонные и непонятным образом приковывающие к себе, поэтому, заглянув в них, вы забывали о его почти уродливом теле.
— Кто это такой? — быстро спросил Грабец, прерывая поток слов своего спутника. — Вы случайно не знаете?
Халсбанд неохотно взглянул в указанном направлении.
— Как это, вы не знаете его? Это Лахец.
— Лахец?!
— Да, тот самый, который написал музыку для вашего гимна, который вчера пела Аза в храме Изиды. Он у меня работает. Я пригрел его…
Грабец, не мешкая, бросил деньги на стол и начал пробираться к выходу. Однако, прежде чем он смог протиснуться сквозь толпу входящих и пробраться к дверям, странный человек, сидящий за столиком, исчез, как будто провалился сквозь землю. Напрасно он искал его глазами. Видимо, благодаря невысокому росту он затерялся среди прохожих или успел уже войти внутрь игорного дома, на широкой лестнице которого народу было еще больше, чем раньше. Только теперь многие уже выходили оттуда, сталкиваясь на лестнице с прибывающими вновь. Некоторые возвращались с масками безразличия на лицах, так же как и вошли туда, но большей частью по движениям, по глазам, по всему облику можно было прочитать, какая судьба постигла их золото там, у зеленых столов: убегают ли они, потратив последние деньги, или уносят с собой желанную добычу, которую вновь придут потерять, прежде чем настанет вечер.
Какое-то время, стоя перед кафе, Грабец размышлял о том, не пойти ли ему в казино и не поискать ли там. Он не знал раньше его музыки: Лахец был молодым, еще только начинающим композитором, имя которого он слышал всего несколько раз, скорее как имя оригинала, чем мастера. Аза, прося разрешения использовать на концерте его «Гимн Изиде», правда, говорила ему, что Лахец, удивительный, феноменальный Лахец, переложит его слова на музыку, но Грабец не обратил на это внимания. Впрочем, ему было совершенно безразлично. Он был очень недоволен, что под давлением певицы принял участие в этом фарсе превращения развалин древнего храма в театр и в этой пародии, как он говорил, на древние искренние обряды — и не хотел иметь с этим ничего общего.
И только вчера… Он поддался долгим и упорным уговорам Азы (он был один из тех немногих, кому она не приказывала) и прибыл вечером с единственной насмешливой и горькой мыслью, что будет слушать собственные слова, как нечто чужое, что в обесчещенных руинах звучит смешно, ни для кого не понятно, не осознанно и поэтому кощунственно. Ведь Грабец воспевал в этом гимне величие, и героизм, и тайны, и силу страсти — все то, чему эта толпа была враждебна с рождения, ибо понимала все это только настолько, чтобы бояться и ненавидеть его.
Он размышлял об этом вчера с брезгливой улыбкой на губах, прижатый к гранитной колонне с иероглифами, пропитанными влажностью, когда услышал вдруг пение Азы, вначале почти заглушаемое мощными волнами оркестра, удивительного, необычайного. Он не слышал до сих пор этого пения и этих звуков — он умышленно не бывал на репетициях — и теперь испытал чувство неожиданного поразительного открытия.
Как будто кто-то, более сильный, чем он, надел его в орлиные перья и поднял высоко над землей, показав ему мир таким, о котором он мог только мечтать… Как будто слова его стали живыми существами, а мысли обрели божественную силу убийства и воскрешения! Он увидел херувимов, пляшущих в огненном вихре, почти не веря, что они берут свое начало от него, такими огромными и огненными они ему показались. Он увидел разбушевавшееся море, вспенившимися волнами бьющееся о берега!
Он невольно скользнул глазами по слушателям. На морском берегу был песок. Мелкий, сыпучий, ни сопротивления, ни отзвука не дающий волнам. Все следили глазами за певицей, смотрели на ее ступни и голые колени, довольно кивали головами, когда оркестр выдавал новую порцию сверкающих звуков — и не краснели от ударов бича, хлещущего ничтожества, не протягивали рук к величию, проплывающему перед ними на золотых облаках…
Он сбежал вчера из древнего храма от своего собственного крика, идущего в пустоту и бесцельно гибнущего — но шум крыльев, которые его мысли обрели с помощью музыки, постоянно звучал у него в ушах и в голове… Этот шум заглушал мелкие события целого дня, пустые разговоры разных навязчивых Халсбандов.
И в эту минуту сумасшедшим воспоминанием закружилась в его памяти оркестровая буря, поющие море и солнце, звуки, рассыпающиеся вместе с пеной набегающих волн.
— Это должно, это должно, это должно существовать! — почти вслух сказал он себе, погруженный в какие-то мысли. Внутри у него все клубилось и бушевало. Он снял с головы шляпу с широкими полями и, не обращая внимания на удивленные взгляды, начал расхаживать большими шагами вокруг газона с редкими пальмами. Он забыл, что собирался искать Лахеца в казино, впрочем, его охватывало отвращение при одной мысли о том, что он мог бы сейчас оказаться в толпе, в давке, среди людей, занятых наблюдением за падающим шариком рулетки, точно так же, как вчера они наблюдали за движениями певицы… Он машинально свернул влево, в сторону садов, раскинувшихся на волнистом грунте между игорным домом с золочеными отелями до самого берега Нила.
Весеннее солнце пригревало, но под пальмами была душистая прохлада от только что политых газонов и от цветущих кустов, группами разбросанных на всем огромном пространстве. Искусственные потоки давали жизненную влагу изысканным деревьям, привезенным сюда со всех сторон света — над маленькими прудами, полными лотосов, росли фиговые деревья с большими блестящими листьями и висящей в воздухе сетью корней. На пригорках, созданных рукой человека, среди камней торчали кактусы разнообразного вида и происхождения: похожие на столбики, шары, змей, колючие опунции с чудовищно грубыми стеблями и серебряно-зеленые агавы. В гротах, укрытые от излишнего солнца, в воздухе, охлажденном водой, проходящей через искусственные ледники, прятались северные растения, удивленные соседством пальм, колышущихся у входа на фоне темно-голубого неба.
Грабец миновал главную, широкую аллею и стал блуждать по боковым тропинкам, бегущим среди лесочков и рощ, по берегам маленьких ручьев, густо заросших бамбуком и другими растениями. Люди встречались здесь очень редко; полуденная жара росла и тяжело повисала в неподвижном воздухе, перенасыщенном горячей влажностью. Грабец шел вперед с опущенной головой, погруженный в собственные мысли. Он даже не заметил, как оказался в большом зверинце, расположенном на возвышенности над садами. Он не глядя миновал огражденные лужайки, на которых среди искусственно уложенных камней паслись антилопы, огромными, испуганными глазами глядящие сквозь ограду куда-то в сторону их далекой, родной пустыни, прошел мимо водоемов, полных крокодилов, до самых ноздрей углубившихся в теплую от солнца воду, мимо мощных клеток, в которых дремали львы, одуревшие от неволи, с погасшими глазами, со свалявшейся и грязной шерстью.
В самом высоком месте зверинца в тени финиковых пальм стояла большая клетка. В средней, узкой части, отделенной блестящей решеткой от боковых крыльев, на ветвях какого-то высохшего дерева сидели четыре королевских сипа, на удивление огромных. Головы, вооруженные мощными клювами, они втиснули между обвисшими крыльями, взъерошили перья у основания голых, мускулистых шей, круглые глаза обратили к солнцу и сидели неподвижно, застывшие, как древние египетские боги, ожидающие страшных и таинственных жертв.
Но вокруг них царил непристойный и бесстыдный гвалт. Скорее всего по недомыслию, удивительно зловредному недомыслию, в обоих боковых крыльях огромной клетки были помещены стаи попугаев и обезьян, подвижных, пестрых, верещащих. Каждую минуту какой-либо гиббон или маго с отвратительным голым красным задом протягивал через решетку косматую руку, пытаясь ради озорства ухватить перо из хвоста королевских птиц; попугаи же висели на решетке и, разевая клювы, карикатурно напоминающие орлиные, вторили шумными криками воплям обезьян.
Сипы выглядели слепыми и глухими в своем каменном спокойствии. Ни один из них ни разу даже головы не повернул, ни один не пошевелил пугающе крыльями. Когда до одного из них дотянулась длинная рука надоедливого маго и выдернула из крыла горсть перьев, он только отодвинулся на полшага дальше на ветке, даже не взглянув на нападавшего, точно так, как отодвигался некогда на скалах от брошенной ветром ветки.
Грабец вначале меланхолично наблюдал за птицами, погруженный в свои мысли, потом в нем пробудился растущий интерес. Он осторожно просунул руку между прутьями и попробовал перегородку.
— Крепкая, — прошептал, он про себя, — жаль.
Одна из обезьян, большая по размерам и более зловредная, чем остальные, снова просунула свою косматую руку и длинными, сплющенными на концах пальцами старалась схватить за перья на груди сипа. Птица подняла шею и откинула голову назад, склонив ее в сторону. Кровавые глаза ее уставились на обезьянью руку, шевелящую перед ней пальцами. Она еще больше откинула голову и приоткрыла клюв, как для удара.
— Бей! — воскликнул Грабец, глядя на эту сцену.
Но сип, видя, что, несмотря на все усилия, обезьяна не может до него дотянуться, решил не трудиться и, прикрыв глаза, снова втянул страшную голову в плечи, не обращая уже внимания ни на что.
Грабец презрительно усмехнулся.
— Глупец! — шепнул он вполголоса. — Ты думаешь, что это и есть величие.
— Да, это величие, — прозвучало у него за спиной.
Он обернулся, нахмурившись, недовольный тем, что кто-то следит за ним и слушает его слова.
За ним под балдахином огромных листьев растущего поблизости бананового дерева стоял стройный молодой человек в облегающей одежде авиатора с завитками кудрявых волос, выбивающихся из-под сдвинутой немного в тыл шапки.
— Доктор Яцек!
В его возгласе вместе с удивлением прозвучало невольное почтение, хотя и без тени унижения.
Ученый протянул писателю руку. Тот молча пожал ее.
Они, не говоря ни слова, какое-то время просто стояли рядом. Яцек смотрел на клетку, кишащую обезьянами, с обычной насмешливой улыбкой в печальных глазах; Грабец смотрел в сторону, где между вершинами ниже растущих пальм сверкал огромным зеркалом далекий разлив Нила. Посередине только солнце плавало на глубине, как бы разлитое поверху, но у берегов было множество лодок, уснувших на полуденной жаре, с обвисшими парусами. Блестящие моторные лодки спрятались где-то или их просто было не видно издали между черными корпусами барок. Пальмовые листья загораживали от глаз новый город, опостылевший своим обычным богатым стилем жизни… На мгновение у Грабца создалось впечатление, что время отступило назад и он является свидетелем жизни, известной только по древним преданиям, родившимся в те времена, когда еще существовали короли и боги…
— Я слышал вчера ваш гимн Изиде…
Он обернулся. Яцек не смотрел на него, говоря эти слова, глаза его устремились на Нил, в сторону руин, утопающих в позолоченной воде.
— Вы слышали…
— Да. И даже, если бы я не знал, что это вы написали, я бы все равно узнал… Этот крик, этот призыв…
Он говорил медленно, не глядя на него.
Писатель слегка пожал плечами. Он медленно поднял руку и положил ее на прутья клетки.
— Минуту назад, — начал он, — вы осудили меня за то, что я хотел увидеть сипа, разбивающего клювом нахальную лапу досаждающей ему обезьяны. Признаюсь, что я был бы рад отпереть этим птицам клетку, чтобы они устроили бойню. Но что бы вы сказали, если бы эти королевские сипы, даже не борясь, не могли хранить в неволе спокойствие и начали бы здесь, перед этой попугайской голытьбой, устраивать представление! Биться головами о прутья решетки и мести крыльями по земле? Призывать ветер, морские волны, которые не придут сюда? Чтобы было понятно, что величие знает свободу и тоскует по ней… Чтобы попугаи знали это и обезьяны.
— Мы теряемся в сравнениях, — ответил Яцек, — давайте оставим в покое зверей и птиц, хотя бы даже королевских. Это, быть может, звучит красиво, но не слишком точно и ведет к фальшивым выводам. Где бы вы ни находились, вы, как монарх, стоите над толпой, которая слушает вас…
Резкий желчный смешок заставил Яцека оборвать свою фразу.
— Ха, ха! Знаю, знаю эту прекрасную старую теорию, которую мы создали для собственного удовольствия! Я знаю, вы думаете: всякое истинное искусство является властителем душ, что художник передает людям собственные чувства, воображения, помыслы! Неужели вы верите, что это действительно так?
— Да, это действительно так.
— Было. Но это время так далеко от нас, что сегодня уже походит на легенду, и довольно неправдоподобную. А ведь было так. Здесь, где мы сейчас стоим, когда-то возвышались огромные храмы и фигуры таинственных божеств — тут, на месте этих отелей, заурядных домов, какими сегодня заполнен весь мир. Но тогда не только искусство, но и мудрость, и всевозможные науки царили в мире, а не были наемной служанкой, как теперь.
Яцек молчал, слушая. По выражению его лица было трудно понять, признает ли он правоту Грабца или только не хочет ему возражать. Тем временем тот, опершись спиной о ствол пальмы, медленно, как будто не заботясь о том, слушает ли его кто-либо, разворачивал перед самим собой свои мысли, давно обдуманные, томящие его.
— Так было в Греции, в Арабии, в Италии, в Европе еще до середины XIX века. Великие художники, гибнущие от голода, были властителями человеческих душ, они вели, возносили и обращали в прах. Они зажигали пламя и диких зверей превращали в разумные существа. У них были подданные, которые умели слушать, но они утратили их, как только сами попали под их власть. Теперь мы являемся наемниками, которых держат, чтобы они поставляли впечатления, волнения, значительные слова, звуки, краски, как вас, мудрецов, держат для знаний, а коров — для молока.
Яцек недовольно покачал головой.
— А кто виноват в этом?
— Мы. С той минуты, когда искусство перестало владеть миром, определять человеческую жизнь и призывать людей к действиям (ибо только о действиях в конечном счете идет речь!), нужно было отбросить его как использованную вещь и поискать иных средств для власти над душами, или создать новый мир, в котором снова были бы люди, способные ему подчиняться. Искусство было источником жизни и силы — а из него, вернее из его формы, сделали цель — мастерство, ловкость ремесленников, игрушку. Речь уже не идет о том, что оно обрушит на головы людей, в какую сторону взметнется вихрем, откуда Солнцу взойти прикажет или Луне, а о том, как будут звучать слова, как оригинально уложатся краски или звуки… Волшебство превратилось в жалкое фокусничество, потому что доступно теперь только ушам и глазам. Сегодня уже слишком поздно бить в песок молниями. Нам нужно океан выпустить, который затапливает, поглощает! Но искусство не может сегодня стать им.
— Однако и сегодня, как всегда, есть великие творцы, которые подобны солнцу, — задумчиво заметил Яцек.
Грабец кивнул головой.
— Да, есть. Но ценность их для общества уже изменилась. Они перестали вести за собой словом, потому что вести некого; и они говорят только для себя, чтобы выговориться. Нашли даже тряпье для того, чтобы скрыть свою нищету; искусство для искусства! Как это красиво звучит! Я не имею в виду разных ремесленников: слов, звуков, красок — я мыслю о творцах! Для них сегодня искусство (искусство для искусства, господа!) — это предохранительный клапан, чтобы свет, горящий у них в душе, не разорвал им грудь, раз у них нет силы, чтобы выпустить его наружу и преобразовать в поступки. Смотрите, мы всегда обнажаемся до глубины своей сущности творца и артиста, но тогда, когда Фрина появилась на морском берегу нагой, не слышалось похотливого причмокивания и на нее не таращили глаза, наоборот, все головы опустились, как перед откровением, и она заранее знала, что так будет, потому что в ее красоте была священная сила. А мы сегодня обнажаемся бесстыдно, как девицы, продающие себя в борделе, похожем на дворец, да даже на собор! — столько там золота, мрамора, огней! Но это только видимость: а по сути своей все та же грязная лавка!
Яцек слушал его, усевшись на каменной лавке, опершись подбородком на руки. Он не сводил с собеседника неподвижных, спокойных и глубоких глаз… Только улыбался чуть заметной грустной улыбкой.
— Но имейте смелость признать, — сказал он, — что только от нашей мысли и от нашего намерения зависит, чтобы каждое место, где мы находимся, превратилось в истинную святыню…
Грабец сделал вид, что не слышит его слов, или действительно не услышал их, занятый своими мыслями. Он помолчал, глядя вниз в сторону города, потом снова заговорил приглушенным голосом, переполненным ненавистью и презрением:
— Слишком хорошо живется на этом свете обезьянам, попугаям и всякой бездумной нечисти, которая так организована, что имеет единовластие! О бунтах мы сейчас знаем только из романов. Когда-то бунтовали униженные, угнетенные, самые бедные, растоптанные, своим трудом поддерживающие механизм жизни всего мира, они кричали: хлеба! Их предводители для приличия велели им еще добавить: прав! — но это чушь, а вот хлеб им был нужен на самом деле. Теперь его у них достаточно, поэтому они сидят спокойно, ибо чего же им еще желать? На свете слишком много равенства, слишком много хлеба, всевозможных прав и примитивного счастья!
Теперь он повернулся к Яцеку и проницательно посмотрел ему в глаза.
— Разве вы думаете, — сказал он, — внезапно изменив тон, — что уже наступило время для того, чтобы начали бунтовать люди, достигшие высшей степени духовности, которые как будто ни в чем не испытывают недостатка? Разве не наступило время, чтобы они действием выразили свой протест против установившегося равенства, которое для них является оскорблением?
Яцек привстал, лицо его сразу стало серьезным.
— Но какая же может быть потребность протестовать против того, чего нет. Мы не равны. И вы об этом знаете. А обществом мы пользуемся так же, как и оно нами…
— Ха, ха, ха! — засмеялся Грабец. — Вот одна из сказок, навязанных нам толпой! А я как раз говорю, что наступило время, чтобы самые высшие перестали наконец верить в мнимую доброту общества обезьян, которое якобы дает им возможность мыслить и творить, создавая условия для сытой жизни… И неважно, что подобное счастье достанется не всем, что половина высших умов по-прежнему умирает с голода в нищете, повторяю, это неважно, но для меня, для вас, для нас позорно получать как бы из милости и по мерке то, чем мы должны были бы распоряжаться сами, неограниченно! Любое богатство и все блага жизни принадлежат нам, потому что это наш ум создал все это, а этим облагодетельствована только толпа. Мир сегодня напоминает чудовищного зверя, у которого вырос огромный живот за счет ног и головы. И вместо того, чтобы приказать толпе работать на себя, что было бы правильным, мы все работаем на эту толпу — мерзкую, глупую, праздную, не имеющую никаких занятий, кроме профессиональных. На них работают мудрецы, а они только переваривают…
Он замолчал на середине фразы.
— На ум приходят только вульгарные выражения, — сказал он через минуту, — но ничего не поделаешь: вульгарно все, что нас окружает. Надо освободиться от этого или сдохнуть. Сейчас должно начаться и обратное движение — волна прилива отступившего много веков назад моря. Начнется новая мировая война и завоевание, вернее, осуществление высших прав, но отнюдь не всеобщих! Не свобода нам сегодня нужна, а власть и подчинение! Не равноправие, а различие! Не братство, а борьба! Мир принадлежит высшим!
— И какие же силы ставите вы в этой схватке против себя? — спросил Яцек, поднимая глаза. — С одной стороны все общество, прекрасно организованное, довольное тем, что есть, и готовое защищать существующее положение всеми силами, а с другой?
— Мы.
— То есть?
— Творцы, мыслители, знающие — кормильцы.
— Вы сочиняете драму.
— Нет. Мне нужна жизнь. Я создаю жизнь. Можно отбросить настоящих работников, гигантскую массу, держащую мир на своих плечах. Они скорее предпочтут служить высшим, нежели той толпе служащих, этим пенсионерам, безмозглым бездельникам и дармоедам.
— Это иллюзия.
— А впрочем…
— Что?
— Вы сами являетесь силой. У вас есть знания, у вас есть мощь.
Яцек медленно, но решительно покачал головой и сказал с какой-то внутренней гордостью:
— Нет. Только знания. Сила, которую они с собой несут, все изобретения и практическое их применение мы отдаем человечеству для общего употребления. Это именно то, что вы называете нашей службой. Знания мы оставляем себе, потому что в толпе их никто не осилит. И больше ничего.
Грабец с интересом посмотрел на Яцека, как будто у него были основания сомневаться в том, что он всю волшебную и страшную силу, проистекающую из знаний, отдает толпе, но он сдержался и спокойным на вид голосом спросил:
— И так будет всегда?
— Я не вижу выхода. По закону тяжести вода, стекающая с поднебесных ледников, поступает в долину.
— Хорошее сравнение. Вы знаете, что эта вода разрушает горы и смывает с поверхности Земли, чтобы общий уровень поднять на один палец, и морское дно чуть приподнять. В конце концов все здесь будет плоским. Не будет гор и ледников, а долины не поднимаются к небу.
— Угасают и жизнетворные звезды, исчерпавшие свои силы над бесплодной пустыней. Видимо, таков закон природы, управляющий и Землей, и миром, и человеческим обществом.
— Да, но он не единственный. По законам природы сталкиваются также погасшие светила, чтобы из них образовались новые, необходимые для будущих миров, по законам природы внутренним давлением новые горные хребты вытесняются на поверхность Земли. Но перед каждым рождением должно произойти уничтожение! И нам необходимо землетрясение, которое превратит в пыль города и перевернет целые континенты.
— А если после этого новая жизнь не возникнет?
— Должна возникнуть.
Яцек задумчиво наклонил голову.
— Власть, действия, сражения, жизнь… Вы не переоцениваете сил людей, которые все свое существо отдали работе мысли? Я даже не говорю о самой борьбе; допустим совершенно неправдоподобную вещь, что восстанут эти наивысшие и с помощью… чьей же помощью?., может быть, с помощью своих знаний и гениальности, а может, с помощью тех рабочих масс, спокойно ныне дремлющих и всегда эксплуатируемых, всегда обольщаемых — победят: и что дальше? Вы верите в то, что они будут властвовать? руководить? действовать? Вы говорите, что сегодня истинное и великое искусство является только жалким и бессмысленным выходом для энергии духа, которая могла бы вылиться в действия. Так вот, это только иллюзия, что она могла бы это сделать. Наша мысль отделилась от наших поступков и нам только кажется, что она могла бы снова слиться с ними. Останьтесь при вашем искусстве, дорогой господин Грабец, при драмах, играемых в театре, а нам позвольте остаться в том мире мысли, в который никто незваный вторгнуться не сможет. Не стоит спускаться вниз.
— Алорд Тедвен? — бросил Грабец.
Наступило молчание.
— Лорд Тедвен, — ответил наконец Яцек, — оставил власть и сегодня является только мудрецом. Это как раз доказывает, что сегодня уже невозможно соединить жизнь с мыслью. Оставьте нас в покое.
— Это ваше последнее слово? — спросил Грабец, мрачно сдвинув брови.
Яцека что-то удивило в его голосе и в выражении лица, потому что он быстро взглянул ему в глаза.
— Почему вы спрашиваете?
Грабец наклонился к нему.
— А если бы я сказал вам, что Земля уже содрогается, что там, под ее застывшей оболочкой, вздымается огненная волна, неужели и тогда? И тогда?
Яцек вскинул голову. Какое-то время они молча смотрели друг на друга.
— Неужели и тогда? — повторил Грабец.
Яцек долго не отвечал. Потом спокойно, но твердо сказал, вставая:
— Да. Даже тогда я не дал бы другого ответа. Я не верю в движение толпы. Послушайте меня: то, что есть — омерзительно, но если даже отвращение пересилит во мне все остальные чувства, если я окончательно усомнюсь во всем и признаю, что лучше погибнуть, чем жить так, и это уже последний шанс спастись от заливающей нас волны, то, что будет нужно, я сделаю сам.
Сказав это, он поклонился и направился к городу.
IX
— Пойду теперь срывать банк, — сказал себе Лахец, пересчитав золото, которое еще осталось от гонорара, выплаченного ему Обществом Международных Театров.
Его не так уж много осталось: что-то около двадцати монет, если отбросить серебро, которое не принимали за игорными столами. Он усмехнулся.
— Это как раз хорошо; много не проиграю.
Но его томила какая-то странная печаль. Он робел в присутствии стройных элегантных мужчин, толпящихся в вестибюле, женщин с обнаженными плечами, смеющихся, окутанных облаком дорогих духов… Ему казалось, что проходя мимо, они бросают на него короткие, пренебрежительные взгляды, насмехаясь над его не слишком хорошо сшитой одеждой и неуклюжей фигурой. Он напрасно пытался вернуть себе чувство свободы и уверенности в себе. Он уже забыл, что все эти люди сходили вчера с ума под впечатлением звуков его музыки — и чувствовал себя по отношению к ним маленьким, испуганным, смешным и ничтожным.
Ему хотелось быстрее затеряться в толпе. Он отдал в дверях вступительный билет и вошел в зал. В ушах у него зазвучал знакомый мягкий звук постоянно пересыпаемого золота. Столы были окружены плотной толпой. За рядом сидящих на стульях стояли другие и теснились там, делая свои ставки прямо через их головы. Здесь была целая галерея типов, обликов, «обнаженных душ», ничем не прикрытая жажда золота. Лахец любил иногда перед началом игры покружить здесь и понаблюдать за лицами, движениями игроков, поймать обрывки редких разговоров, коротких, но красноречивых. Но сегодня его гнало какое-то внутреннее беспокойство: ему нужно было скорее начать играть самому. Он быстро прошел через первый и второй залы, не бросив даже взгляда на играющих — и только осмотрелся вокруг: нет ли где свободного места.
Кто-то встал и уходя начал пробиваться через толпу, стоящую за стульями. Лахец воспользовался создавшейся сутолокой и приблизился к столу.
— Мсье, делайте вашу игру!
На зеленом сукне лежали груды золота и пачки бумаг, отмеченных продолговатым штампом игорного дома, их выдавали в особой кассе игрокам как квитанции на более значительные суммы. То с одной, то с другой стороны сыпались на сукно все новые и новые горсти золота. Старший крупье с колодой карт в руках ждал, когда будут сделаны последние ставки.
— Ставки сделаны!
Он выбросил первую карту.
Кто-то еще хотел поставить на красное несколько золотых монет, но сидящий рядом помощник крупье быстрым движением грабель отбросил его деньги.
— Вы опоздали, мсье, ставки сделаны! — повторил он.
В полной выжидательной тишине зашелестели карты, поочередно бросаемые на кожаную подкладку. Белыми пальцами, быстрыми и изящными движениями с абсолютным безразличием на чисто выбритом лице крупье выкладывал черные и красные значки, считая очки.
— Тридцать девять! — воскликнул он, закончив первый ряд.
Прояснились лица тех, кто поставил на красный цвет; по теории вероятности второй ряд не должен достичь этой цифры, только на одно очко ниже максимальной:
— Сорок! — прозвучало неожиданно. — Красный проигрывает.
Кто-то тихо зашипел; какая-то женщина нервным лихорадочным движением руки смела последний банкнот, лежащий перед ней; в другой стороне кто-то коротко засмеялся. Грабли крупье жадно упали на золото, сгребая его с половины стола целой волной; мелкий, дробный, тошнотворный сыпучий звук разнесся снова. На остальные выигравшие ставки начал сыпаться золотой дождь: один из крупье ловко бросал золото сверху, покрывая им лежащие на столе монеты и бумаги. Отовсюду потянулись руки игроков. Одни забирали выигранные суммы, другие передвигали их на иные поля, третьи — вместо утраченных — сыпали новые горсти золота.
— Мсье, делайте вашу игру! — повторял старший крупье священные слова, снова держа карты наготове.
Лахец до сих пор не ставил. Он стоял за стулом какой-то толстой матроны и блуждал глазами по игрокам, сгрудившимся за столом. Он знал некоторых из них. Они приходили сюда ежедневно и играли постоянно — когда бы вы сюда не зашли, их обязательно можно было встретить не за тем, так за другим столом с такими же серьезными лицами, с кучей золота и банкнотов перед собой и с белыми листами, на которых они скрупулезно записывали каждую игру.
Они выигрывали или проигрывали: казалось, это не производит на них особого впечатления. Лахец понимал, что эти люди играют только для того, чтобы играть. Без всякой цели, без всяких дальних мыслей. Он почти с завистью замечал, что их тешит и занимает то, что для него является скучнейшей работой: сама игра, наблюдение за картами, падающими из рук крупье, вид пересыпаемого золота. Проигрыш был для них неудачей, потому что мог помешать им продолжить игру, выигрыш радовал их, так как увеличивал капитал, который можно было снова бросить на зеленое сукно.
Было видно, с каким удивлением, не лишенным некоторого презрения, глядят они на тех, которые прибегают к столу, чтобы выиграть несколько монет золота и уйти, унося выигрыш в кармане, как будто там, за дверями, ему можно было найти лучшее применение, нежели здесь, бросив вновь на зеленое сукно.
А таких алчных здесь было много. Они-то и стояли тесными рядами за стульями, они кидались на каждое освобождающееся место у стола и они… обогащали банк. Некоторые из них играли считанными золотыми монетами, с беспокойством следя за каждой картой, падающей из рук крупье, от которых зависела судьба их мизерных ставок — другие сразу бросали целые состояния, горы золота и банкнот с видимым безразличием на лице, которое, однако, искривлялось судорожной гримасой, едва карты начинали падать на стол.
И во время каждой игры просто неправдоподобные суммы переливались через стол. Лахец смотрел на этот прилив и отлив, заливающий золотой волной зеленое сукно, и пальцами в кармане пересчитывал свои гроши, которые должен был бросить в этот поток, горький смех душил его.
Уже в течение долгого времени он ежедневно играл здесь, без азарта, без страсти, даже без охоты, отрабатывая эти несколько часов каждый день, как докучную обязанность. Его томило это и мучило, но он должен был выдержать.
Он хотел играть. Хотел просто избавиться от той душащей зависимости, которая, как кошмар, сопровождала его всю жизнь. Ему было все равно, какой ценой, каким способом достичь цели: пока этот казался ему самым простым и — последним.
Когда-то, когда он был еще мальчиком, ему казалось, что он быстро сможет выбиться наверх благодаря своему таланту, в который он непоколебимо верил, благодаря своим произведениям, которые снились ему, как птицы с широкими крыльями, летящими в солнечном ореоле славы… Снилось ему какое-то наступающее царствование, перед которым люди склоняли головы, какое-то радостное и священное волнение, но от этих снов его слишком рано пробудили.
Из-за своей нескладной фигуры и пугливого поведения он был посмешищем для своих коллег уже в начальной школе, которую, как и все, должен был обязательно пройти. Учителя не любили его по причине его вечной рассеянности, не позволяющей ему сосредоточиться на одном предмете; его называли дикарем и тупицей, который принесет мало пользы окружающему миру.
Он тоже ждал выхода из школы, как освобождения. Будучи сыном родителей, занимающих второстепенное положение, следовательно, небогатых, он не мог даже мечтать о том, чтобы, рассчитывая на собственные силы, заняться изучением музыки, единственного на свете, что имело для него ценность. Но общество, превосходно устроенное, в основных правилах имело параграф, признающий право на бесплатное обучение и содержание на государственный счет всех, кто в какой-либо науке проявил способности.
Закончив начальную школу, он надеялся, что ему удастся попасть под заботливую опеку этого параграфа; но на экзамене, который должен был определить его музыкальные способности, он позорно провалился.
Профессиональные музыканты, получающие высокие пенсии от государства, единодушно заявили, что ему лучше заняться чисткой кастрюль, потому что он довольно странный тип.
В правилах существовал и иной параграф, предписывающий всем обязательный труд. Впрочем, если кто-либо не захотел бы ему следовать, по крайней мере какое-то время, ему пришлось бы умереть с голоду.
Ему была предоставлена маленькая должность в Бюро Международных Коммуникаций, где в течение нескольких лет он вновь считался болваном, даром съедающим хлеб. Он делал нечеловеческие усилия, чтобы получить образование и со своей скудной зарплаты оплачивать частных учителей, которые могли открыть перед ними царство звуков; он страдал от голода, одевался в лохмотья. После отбывания обязательного срока «службы обществу» в Бюро Коммуникаций все в том же незначительном положении, как только наступил день, когда согласно законам он мог ее оставить — он как можно быстрее легкомысленно бросился на свободу с такой смехотворно маленькой пенсией, что мог питаться только один раз в три дня, и то довольно скудно, чтобы ему хватало на жизнь, и с портфелем, полным оркестровых произведений, которых ему никто не хотел сыграть.
Он сам, творец, только мечтал, с тоской глядя на нотные знаки, о все не наступающем дне, когда он собственными ушами услышит их, ставших живыми звуками, и дрожал от беспокойства и вожделения при одной этой мысли.
Он обращался то к одному музыкальному авторитету, то к другому, колотился в двери театров, консерваторских залов, разговаривал с виртуозами — все было напрасным. Все пожимали плечами, услышав о его самообучении: у него не было диплома об окончании государственной музыкальной школы, он даже не был в нее принят, так как не обладал талантом. Продолжать разговор больше никто не хотел.
Только один раз какой-то директор в приступе хорошего настроения пообещал выслушать его концерт. Лахец ждал несколько недель, пока его допустят к сановнику. Наконец наступил великий день. Он пришел в изысканный кабинет с папками в руках — робкий, испуганный, еще более дикий и неловкий, чем обычно. Директор небрежным движением руки указал ему на пианино.
— Играйте, — сказал он, — у меня есть пятнадцать минут времени.
Лахец покраснел и пробормотал нечто неразборчивое.
— Ну, быстрее, время уходит, — настаивал сановник, просматривая какие-то бумаги.
— Я не умею.
— Что?
— Я не умею играть, — повторил Лахец. — Я только пишу и дирижирую.
Директор позвонил.
— Следующего! — коротко бросил он лакею, показавшемуся на пороге.
Так закончилось это памятное прослушивание.
В конце концов он вынужден был обратиться с просьбой о помощи к господину Бенедикту, своему далекому родственнику со стороны матери; Господин Бенедикт, радуясь возможности в своем собственном мнении сойти за благодетеля, в помощи ему не отказал и несколько раз давал взаймы небольшие суммы, но щедрым не был, тем более что и он не верил в талант этого странного музыканта, не умеющего даже играть.
По прошествии некоторого времени Лахец попал в лапы Халсбанда, по заказам которого за незначительные суммы, только чтобы иметь возможность жить, он перекладывал на музыку разные стишки на заданные темы.
Халсбанд, поочередно посредник, репортер, журналист и владелец большого еженедельника, в настоящее время занимался историей искусства и литературы и одновременно стоял во главе огромного «Общества по распространению древних и современных шедевров с помощью усовершенствованных граммофонов». Этим-то усовершенствованным рычащим животным и служила музыка Лахеца. Он даже иногда писал для Общества «вновь открытые» произведения умерших мастеров. В бешенстве он как мог мстил слушающим эти чудовищные произведения, горько пародируя великолепные мелодии, но и на этом немногом познавая себя.
Кроме того, у Халсбанда, как теоретика искусства и литературы, к тому же старого журналиста, были свои претензии. Он всегда признавал хорошим и восхвалял перед иными то, чего не понимал, видимо, в убеждении, что это самый верный способ прослыть мудрым и глубоким. А так как он проявлял заботу о так называемом общественном вкусе, иногда делая для него «уступки», то Лахец получал от него для «художественной обработки» удивительный материал, который был просто хаосом, где случайно попадающиеся гениальные вещи мешались с жуткими банальностями, в которых, кроме бессмысленных звуков и напыщенных слов, вовсе ничего не было.
Ему уже грозила смерть от удушья в этой атмосфере, в которой он вынужден был жить, когда по случайности или благодаря какой-то своей фантазии на него обратила внимание Аза. Она из шутливых намеков господина Бенедикта узнала, что Лахец бессонными ночами оркестровал знаменитый «Гимн Изиде» высокомерного Грабца, и пожелала спеть его в развалившемся храме на Ниле, который никому до сих пор не пришло в голову использовать в качестве театра.
Это показалось всем просто неслыханным, но Аза преодолела все преграды и поставила на своем. Старые развалины, затопленные Нилом, на одну ночь были превращены в концертный зал. Люди съезжались со всех сторон света, чтобы быть свидетелями этого необыкновенного события, привлекаемые большой славой певицы и необычностью замысла, нежели известным именем Грабца и совершенно ничего им не говорящим именем молодого композитора.
Однако Лахецу была выплачена относительно большая сумма. Он долго вертел в руках и считал в первый раз в жизни выписанные на его имя чеки. Он вдруг почувствовал, что в этом золоте, которого он не мог получить, есть сила. Удивительная, на монетном дворе тяжелыми молотами выкованная сила, которая дает ее обладателю возможность заниматься тем, чем ему нравится…
Он стиснул руки… Бешеная жажда мести судорожно искривила его лицо и заставила сжать кулаки. За все унижения, за голод, за нужду, за то грязное тряпье, в которое он одевался, за поклоны Халсбанду, за работу граммофоном, за неволю, за половину жизни, прошедшей напрасно!
Неизвестно откуда долетевшие голоса звучали у него в ушах, какие-то ненаписанные песни, бури звуков и порывы ветра, гуляющего по засохшей степи… Он широко открыл глаза, подбородок втиснул между ладоней. Черты лица его постепенно разгладились: он смотрел в глубь своей души, на сокровища, укрытые там, которые в любую минуту готовы были вырваться на свет. Он вдруг почувствовал, что его совершенно перестало интересовать то, через что он не прошел, что у него нет обиды ни на кого, и что он даже не хочет, чтобы его слушали — ему нужно только одно — творить и жить, жить в звуках этой песни, что дремлет в его душе. Тихая радость переполнила его сердце и разлилась на губах светлой улыбкой.
Он долго сидел в молчании. Потом вдруг вскочил и начал снова пересчитывать деньги. Да, такой большой суммы никогда еще не было у него в руках, однако она мала, до отчаяния мала для того, чтобы купить себе покой и свободу и право на творчество… Ее хватит только на год, может быть, на два. А потом снова возвращение к нужде, к грязи, к унижениям или, в лучшем случае, к необходимости хлопот, купле-продаже, к мыслям об успехе у отвратительной ему толпы, о милости виртуозов, о поддержке певиц…
Волна крови неожиданно прилила у него к голове. В первую минуту он не мог понять, что это — стыд или какое-то иное, странное чувство. Для него было ясно только одно, что он не может согласиться когда бы то ни было благодарить Азу, как свою благодетельницу. В первый момент ему даже захотелось взять полученные деньги в горсть и пойти, бросить их к ее ногам…
Однако он быстро опомнился. Аза разразилась бы смехом, глядя на него, как на клоуна, и на эту ничтожную для нее сумму, которая, однако, является всем его достоянием.
Благодаря ей заработанным достоянием! Ей захотелось, чтобы у него были деньги — и она их ему просто подарила.
Он закрыл глаза, прижал к лицу ладони. Она стояла у него перед глазами такой, какой он видел ее на репетициях, дирижируя оркестром: надменная, царственная, прекрасная.
И пленительная, пленительная — как жизнь, как безумие, как смерть…
Иначе, иначе предстать перед ней, хотя бы раз в жизни! Быть хозяином, господином, богом — несмотря на неуклюжую фигуру, несмотря на отвратительную растрепанную голову, быть прекрасным своей силой и величием!
Надо работать, творить!
И нужно иметь на что жить.
С невольным пренебрежением он смял чеки, ослеплявшие его минуту назад, и сунул их в карман. В ближайшем банке он заменил их на золото и пошел прямо в игорный дом.
Он играл настойчиво, ожесточенно, но холодно. Он решил выиграть какую-нибудь неправдоподобную сумму, которая бы дала ему полную независимость на всю жизнь. Он не рисковал, не увлекался. Просто усиленно работал, добывая у зеленых столов одну золотую монету за другой или… тратил их точно таким же способом.
После долгих часов игры он выходил, чтобы глотнуть свежего воздуха, с таким смешным результатом, что временами его охватывало отчаяние, когда он видел, что не может даже проиграть своих денег, чтобы по крайней мере избавиться от томящей его призрачной надежды. Были моменты, когда он желал потерять все, чтобы не чувствовать себя обязанным снова бросаться в этот несносный для него вихрь игры.
Но такое настроение быстро проходило.
«Я должен выиграть!» — повторял он снова и возвращался в зал, продолжать «работать» в поте лица.
Он играл осторожно, можно сказать, по-крестьянски. Начинал от незначительных ставок и повышал их только тогда, когда выигрыш позволял ему сделать это. Удача играла с ним, как кот с мышкой. Когда после упорной борьбы, в которой он раздобывал по одной золотой монете, Лахец переходил к энергичной атаке и бросал сразу большую сумму — карты неизменно падали не в его пользу.
Иногда, когда он видел, как золото пересыпается перед его глазами целыми волнами, как люди в течение двух минут выигрывают совершенно фантастические суммы, его охватывала жажда рискнуть всем, что у него есть, и сделать одну-единственную ставку. Ведь выиграть так легко: поставить сумму на счастливый цвет и удвоить ее, в следующий ход увеличить в четыре раза, а в третий — в восемь раз…
Да, только нужно ухватить этот счастливый момент, только попасть!
Он поставил одну монету — для пробы: выиграл. Рука у него задрожала — он бросил десять монет: грабли крупье смели их в кассу. Он снова начал с одной монеты.
Так было до настоящей минуты — постоянно. Он боялся, что и теперь будет так. Он несмело, стыдливо протянул руку с блестящим кружком золота над плечом сидящей перед ним дамы, которая каждый раз оборачивалась и смотрела на него злыми глазами, опасаясь, что он заденет ее странную шляпу. Лахец скромно отодвигался, повторял: простите — и едва осмеливался потом потянуться за выигрышем.
Потому что удача начала ему улыбаться. На этот раз он все время выигрывал, сначала по нескольку монет, а потом, когда вошел в азарт, — целыми горстями. Через некоторое время он почувствовал, что карман, в который он ссыпал деньги, становится тяжелым. Он сунул туда руку и испугался. Карман был полон — среди золота шелестели у него под пальцами банкноты, которыми выдавали более значительные суммы.
— Пришел мой час! — подумал он.
Он геройски зачерпнул в кармане золота, сколько могла захватить его рука, немного поколебался…
— Поставлю на красный цвет, пять раз подряд!
Не считая, он бросил деньги на стол.
— Тридцать два! — прозвучал через минуту скучный голос крупье.
Лахец слегка побледнел.
«Проиграю!» — подумал он.
Еще секунда…
— Тридцать один!
Он неожиданно выиграл. В ушах у него зашумело.
Крупье пересчитал деньги и подвинул крупную сумму так безразлично, как будто это была горстка гороха, для развлечения перемещаемая по столу.
У Лахеца задрожали руки: он хотел взять выигрыш.
«Я же сказал себе, что пять раз подряд буду ставить на этот цвет», — подумал он и оставил все на столе.
Снова выиграл красный. На этот раз крупье, пересчитав его ставку, убрал золото и положил несколько продолговатых банкнот.
«Я же сказал себе, что буду ставить пять раз подряд», — повторял настойчиво Лахец, останавливая движение руки, которая хотела спрятать банкноты в карман.
И снова выиграл красный. И еще раз. Четыре раза подряд. На него уже начали поглядывать с завистью, как на счастливого игрока: сумма, лежащая на столе и принадлежавшая ему, его собственная, была и в самом деле огромна. Он ощущал вздувшиеся на шее вены, чувствовал биение в висках — ему хотелось схватить деньги и убежать.
«Пять раз подряд, я сказал!»
Пот каплями выступил у него на висках. Если и сейчас сумма удвоится…
Крупье, раскладывая карты, с колодой в руке осмотрелся, спрашивая взглядом, все ли ставки уже на месте. «Нет! Нет! Не может быть, чтобы еще раз не вышел красный!» — стучало в голове у Лахеца.
— Ставки сделаны!
Неожиданным движением он схватил грабельки и передвинул стопку банкнотов на соседнее поле в центре стола — в последний момент, когда уже падала первая карта.
Затаив дыхание, он ждал.
— Красный выигрывает.
А Лахец как раз с красного поля передвинул свою ставку на «черное». Он проиграл все.
Но его совсем не тронуло это. Он даже удивился. Только почувствовал какое-то страшное ожесточение.
«Так мне и надо, — подумал он. — Надо было оставить. Сейчас все исправлю».
Он снова набрал полную горсть золота и поставил на «красное».
Карты с знакомым ему легким шелестом начали падать из руки крупье на кожаную подкладку. Эти секунды казались Лахецу невероятно долгими. Он якобы безразлично поднял глаза и начал приглядываться к игрокам вокруг стола. Сначала его внимание привлек стоящий за стульями бородатый еврей, который сам ничего не поставил. Он с раздражением следил за руками крупье, нервно вертя головой и облизывая языком, видимо пересохшие, губы.
— Черный выигрывает.
«Ага, — подумал Лахец, видя, как его проигранные деньги ссыпаются в кассу, — нужно было тогда оставить на красном и только теперь поставить на черное».
Его удивила невероятная ясность этого открытия.
«Это так просто», — повторял он без конца, не в состоянии понять, как теперь должен ставить.
Он даже не знал, сколько игр прошло за это время. Он пытался вспомнить: ему казалось, что он постоянно слышал выигрывающий черный — одна игра еще не завершилась.
«Надо поставить на „черное“».
Он протянул руку, вновь полную золота.
Крупье остановил его любезным жестом. В середине стола карты перемешивались заново; во время этого священнодействия все ставки должны были быть убраны.
«Это хорошо, это хорошо! — засмеялся он в душе. — Снова бы сделал какую-нибудь глупость. Ведь разум сам подсказывает, что если черный выиграл несколько раз подряд, то теперь цвет должен измениться, значит, надо ставить на красное».
— Мсье, делайте вашу игру!
Он поставил на красное и проиграл. Семнадцать раз ставил он на красный цвет, и семнадцать раз выигрывал черный!
Он все смотрел на еврея, крутящего головой. Лахец заметил, что тот держит в руке золотую монету и не может решить, куда ее поставить. Глаза у него вылезли из орбит, он громко причмокивал языком.
Лахец усмехнулся.
— Этот будет долго мучиться.
Он полез в карман, чтобы сделать следующую ставку под последними монетами пальцы его наткнулись на полотно кармана. Лахец внезапно протрезвел, он как бы очнулся от сна, в котором не был собой. Его охватил ужас.
«Как же так? — мысленно повторял он. — Ведь у меня столько было…»
Ему казалось, что все смотрят на него и смеются. Он украдкой отодвинулся от стола, как будто убегал. Кровь пульсировала у него в висках — тошнотворные мурашки расходились по всему телу. Только теперь он хладнокровно подумал о своей игре — все моменты, на которые у стола он не обращал внимания, живо предстали перед ним. Он начал размышлять: нужно было перейти на черный цвет, это явно была «полоса». Достаточно было несколько монет положить на черный и ждать спокойно. У него было бы состояние. А если нет, то нужно было бы отступить, когда заметил, что ему не везет. Ведь так он делал всегда до этой минуты. Если бы он ушел четверть часа назад, все было бы в порядке.
Он считал в уме, сколько было бы у него четверть часа назад.
А теперь?
Он сунул руку в карман и, расхаживая по залу с опущенной головой, пересчитал оставшееся золото. Он толкал людей или неловко уступал им дорогу, наступая другим на ноги. Кто-то прошипел сквозь зубы, кто-то одарил его нелестным эпитетом. Он не обращал на это никакого внимания; просто ничего не слышал.
Монеты в кармане, пересчитываемые на ощупь, все время перемешивались, он постоянно забывал счет и начинал пересчитывать заново.
В конце концов он остановился и, не смущаясь уже присутствия смотрящих на него людей, последнюю горсть золота высыпал на ладонь и пересчитал. У него осталось примерно столько же, сколько было перед началом игры — собственно, он ничего не потерял, кроме выигранных денег.
Он сказал это себе почти вслух, как бы в утешение, но, несмотря на это, не мог избавиться от охватившей его подавленности, которая с каждым моментом все больше напоминала отчаяние.
Он был богат — всего несколько минут назад. Да, ведь то, что он выиграл, уже несомненно было его собственностью, а ведь это было состояние, которое могло дать ему ту свободу, ту вольность, ту жизнь, о которой он мечтал. Судьба усмехнулась над ним, и золото прошло через его карманы за такой короткий миг, что он не успел насладиться даже прикосновением к нему — а оно уже понеслось дальше, как легкие сухие листья.
Только для того, чтобы у него теперь осталось чувство утраты.
А что дальше?
Нужно снова начинать на эти остатки осторожную, скучную игру или отказаться от нее и, израсходовав последние гроши, по милости певицы доставшиеся ему, вернуться к Халсбанду, к граммофонам, к выстаиванию в приемных директоров театров, к работе для заработка, уничтожающей все, что рождается в глубине его души.
Он чувствовал, что ни на то, ни на другое у него уже нет сил; ему хотелось расплакаться, как ребенку.
И вдруг — какое-то удивительное безразличие.
— Все равно, — прошептал он, усмехаясь с чувством неожиданного облегчения, — ведь это такой пустяк, какая разница, что будет завтра! А сегодня… я могу еще выпить бутылку шампанского!
Он вошел в буфет и, бросившись на полукруглый диванчик в углу, приказал подать себе вино.
— Полбутылки? — спросил кельнер с чуть заметным оттенком наглости, окидывая быстрым оценивающим взглядом непрезентабельную фигуру Лахеца.
— Бутылку. Сухого шампанского.
— Слушаю вас.
Лахец положил длинные руки на подлокотники, ногу на ногу Его охватило чувство приятной беззаботности человека, которому нечего терять. Он усмехнулся, вспомнив о своей игре и о проигрыше, и усмехнулся еще раз при мысли, что он бедняк, а бросается здесь золотом и пьет шампанское, потому что ему нравится это.
Он налил бокал до краев и, не поднимая головы, поднес его к губам. Почувствовал на губах вкус микроскопических капелек пенящегося напитка, а в ноздри ему ударил свежий, возбуждающий запах.
С бокалом у губ он из-под приспущенных век наблюдал за людьми, кружащимися перед ним. Один глоток напитка сразу же ударил ему в голову.
«Я сам себе хозяин, — подумал он, — я проиграл, потому что мне так захотелось, это мое дело. Я пью хорошее вино здесь, на бархатном диванчике, потому что мне так нравится, а если захочу, то завтра плюну в морду всей этой разряженной черни, которая смотрит на меня, как на волка, — а если снова захочу, то повешусь, и все! Я делаю то, что хочу».
Ему было страшно приятно это ощущение абсолютной свободы, свободы, не имеющей границ. Он повторил это про себя несколько раз, удивляясь, как все это просто, ясно и как это раньше не пришло ему в голову.
Стройная фигура разговаривающей с кем-то женщины мелькнула перед его глазами. Она стояла к нему спиной, но он с первого взгляда узнал ее, узнал раньше, нежели успел увидеть ее движения, прежде чем заметил цвет ее волос.
В груди у него как будто стучал молот, в горле пересохло. Он встал, качнув столик, и тут же уселся обратно, подумав, что встает неизвестно для чего.
Тем временем женщина, обернувшись, видимо, на звук отодвигаемой мебели, заметила его и остановилась, обернувшись к нему и улыбаясь, ожидая, чтобы он поздоровался.
— Аза…
Он снова встал и неловко приблизился к ней. Руки у него дрожали, лицо покрылось потом; подавая ей руку, он вдруг подумал, что она, видя его здесь, наверняка думает, что он играет здесь на деньги, заработанные благодаря ей. Его охватил стыд и бешенство, и он утратил остатки самообладания. Он даже не слышал, как Аза представила его своему спутнику, услышал только выражение «мой композитор», которое его непонятным образом задело.
— Я оставляю музыку, — вырвалось у него глупо и бессмысленно.
— Что вы говорите? — засмеялась певица. — Неужели вы уже так много выиграли?..
Но едва сказав это, она тут же пожалела его. Он отступил и как-то странно улыбнулся, губы его скривились как будто для плача. Она коснулась его руки.
— Господин Генрик, — обратилась она к нему, назвав его по имени с чуть заметным оттенком добросердечности, — этого нельзя говорить даже в шутку! Вы великий творец, и жаль было бы загубить талант, который именно теперь должен пробиться.
Композитор был ярко-красного цвета; он чувствовал, что еще немного, и кровь брызнет у него из ушей. Развеселившаяся Аза тем временем продолжала, чуть кокетливо склонив головку.
— Почему вы не были на моем концерте? Я ждала вас. Хотела еще раз поблагодарить за чудесную музыку. Это был ваш триумф, а не мой и не Грабца!
«Из милости хочет мне доставить удовольствие», — подумал он.
Ему показалось, что спутник Азы, молодой, необыкновенно элегантный человек, понял это точно так же и насмешливо смотрел на него, как на нищего.
В нем пробудилась гордость, которая заставила его высоко поднять голову. Он даже побледнел и, скользнув взглядом по молодому человеку, который как раз открывал рот, чтобы прибавить ничего не значащий комплимент к словам Азы, посмотрел ей прямо в лицо светлыми, бездонными глазами.
— Это я благодарю вас, — сказал он, медленно выговаривая слова. — Вы были великолепной исполнительницей моего произведения. Я не мог бы желать лучшей. Я очень доволен и еще раз благодарю вас.
Он быстро поклонился с неожиданной для него ловкостью и вышел. В дверях он вспомнил, что не заплатил за вино. Он небрежно бросил служащему несколько монет, почти половину того, что осталось у него за душой после игры, и не оглядываясь выбежал на лестницу.
Здесь неожиданная уверенность в себе покинула его; напряженные нервы отказывались подчиняться.
«Я идиот, — думал он, пробиваясь через толпу к садам, — идиот, шут, нищий и хам. Что она теперь обо мне подумает? Наверное, разговаривает с этим пижоном и смеется…»
Отчаяние охватило его. Он сунул пальцы в свой большой рот и прикусил их, пробегая через пальмовую аллею, с которой жара изгнала всех гуляющих.
«Как можно дальше! Убежать!»
Он чувствовал, что рыдания душат его; он отдал бы все, всю свою жизнь и душу, чтобы иметь возможность говорить с ней, как тот, и чтобы она так же на него смотрела…
«Повеситься»,— блеснуло у него в голове. Он стиснул зубы в неожиданном и непоколебимом решении и начал искать глазами подходящее дерево с удобной веткой.
«Да, повешусь, — повторял он про себя. — Все уже не имеет никакого смысла. Я слишком беден и слишком глуп».
Он увидел фиговое дерево с раскидистыми толстыми ветвями. Он осмотрел глазами одну из них, потрогал рукой, достаточно ли крепкая. Шляпу он бросил на землю, сорвал воротник. Он был готов.
Но вдруг вспомнил, что ему не из чего сделать петлю. Подтяжки были слишком слабые и, несомненно, оборвались бы. Вся гадость и трагикомизм ситуации встали у него перед глазами. Он уселся на землю и истерически захохотал, хотя горячие слезы плыли у него из глаз.
X
Яцек решил уехать из Асуана не повидавшись с Азой. Он был зол на себя за то, что вообще поддался ее уговорам, а вернее, послушался мимоходом сделанного приглашения, потому что она даже не уговаривала его — и вопреки своим намерениям прибыл сюда только для того, чтобы снова ощутить, какую власть имеет над ним ее красота. К тому же его раздосадовал разговор с Грабцем. Теперь он уже знал, что этот необычный человек, гениальный писатель, охваченный безумной мыслью об освобождении творцов, действительно готовит какой-то переворот — и неохотно думал об этом, не веря, впрочем, в возможность успеха. Правда, в нем самом часто вспыхивал бунт против самовластия всевозможной посредственности, которая, действительно, использует творцов и мыслителей для улучшения своего благосостояния, давая им видимость свободы, но он усилием воли быстро гасил эти порывы, как чувства недостойные духа, который велик сам по себе, и только еще более высокомерным, хотя и снисходительным взглядом, смотрел на окружающих его людей. В суматоху борьбы без крайней необходимости он мешаться не хотел: слишком много имели они, высшие, что могли бы потерять, слишком многое пришлось бы поставить на одну карту для не слишком ценного приобретения: господства над жизнью.
Но Грабца удерживать он не мог и не хотел. Прежде всего, ощущая, что в принципе он прав в том, что говорит, к тому же зная, что из этого и так ничего не выйдет.
Он размышлял об этом в отеле, закрывая маленькую дорожную сумку, которую брал с собой на самолет.
В эту минуту в дверь постучали. Он быстро обернулся.
— Кто там?
Ему пришло в голову, что это может быть посыльный от Азы, и хотя он уже решил улететь не видясь с ней, сердце вздрогнуло от радостной надежды.
Поэтому он с разочарованием увидел на пороге знакомого лакея, которого к нему прикрепили для услуг.
— Ваше Превосходительство, по вашему распоряжению самолет уже приготовлен.
— Хорошо, я сейчас спущусь. Кто-нибудь спрашивал меня?
Лакей заколебался.
— Ваше Превосходительство не велели никого пускать.
— А кто был?
— Посыльный.
— Откуда? От кого?
Он спросил это так громко, что ему стало стыдно, тем более что он заметил таинственную улыбку, скользнувшую по узким губам лакея.
— Из Оулд-Грейт-Катаракт-Паласа. Он оставил письмо.
И он подал Яцеку узкий продолговатый конверт.
Яцек взглянул на бумагу.
— Когда это принесли?
— Несколько минут назад.
— Так… хорошо… — сказал он, пробегая глазами несколько строк, написанных крупным, четким почерком. — Вели самолет отправить назад в ангар; я полечу позднее.
Как был в дорожной одежде, он прыгнул в лифт и через несколько минут был уже внизу. До Оулд-Грейт-Катаракт-Паласа, в котором жила Аза, был большой отрезок пути, особенно неприятный сейчас в жару, но, несмотря на это, он движением руки отпустил подъехавшую машину и пошел пешком. Хотя он сегодня много ходил, он чувствовал потребность в движении, которое всегда его успокаивало.
В дороге ему пришла в голову мысль: вернуться и улететь, запиской извинившись перед Азой.
Но он сам рассмеялся над этим. К чему эти детские выходки? Ведь он все равно увиделся бы с ней. Даже если бы она не прислала за ним, он наверняка в последний момент придумал бы для себя какой-нибудь повод и пошел бы к ней сам.
Странным было его отношение к этой женщине. Он знал, что она не любит его и никогда любить не будет, и одновременно знал, что она удерживает его при себе своим очарованием, потому что ей, видимо, льстит мысль, что среди ее глупых поклонников у ее ног есть и один из мудрецов. К тому же ей, видимо, доставляло удовольствие видеть его неловким и слабым… Кроме того, у нее могли быть свои, личные причины, по которым она не хотела выпустить его из своих рук; ведь он своим положением, знаниями и именем мог быть часто полезен ей в тех кругах, куда не простиралась уже ее власть.
Он знал обо всем этом, как и о том, что она сознательно избрала для их отношений лицемерную форму дружбы, чтобы мучать его еще больше и вернее привязать к себе, но не чувствовал по отношению к ней ни обиды, ни возмущения. И если ему иногда хотелось вырваться из-под ее власти, так только потому, чтобы избавиться от напрасных мучений и освободить от ее чар свои мысли.
Однако на это у него не хватало сил, и тогда он думал, что мучения и упоенное созерцание ее прекрасного тела — единственное, что он взял от жизни.
Иногда, когда кровь бурлила в нем и его охватывало безумное желание ее поцелуев и объятий, он корчился от непереносимой боли, думая, что бесценное сокровище своей красоты она расточает не только на подмостках театра в свете сотен ламп, но также и в душистой тишине своей комнаты, когда свет притушенных ламп указывает святотатственным губам дорогу к белой груди.
Так думали все, и он, не смея думать иначе, старался забыть об этом. А когда безумие этой мысли побеждало его, он боролся с ней и давил ее в себе, пока она не угасала в холоде тоскливой сентиментальности, которая все готова простить, сжалиться надо всем.
— Ты моя, — шептали тогда его уста, — моя, хотя тысячи глаз смотрят на тебя и протягивают к тебе руки, потому что я один способен понять красоту твоего тела и почувствовать твою несчастную светлую душу, спрятанную где-то на дне сердца, до которой едва доносится эхо твоей жизни.
И он снова смотрел на нее с доброй, хотя и грустной снисходительностью и соглашался даже со своей слабостью по отношению к ней и с тем, что свет назвал бы унижением, как иногда взрослый человек поддается капризам обожаемого ребенка, который велит ему бегать на четвереньках вокруг стола.
Это же чувство он испытывал и теперь, идя в отель по ее вызову — не зная, как она его примет и что скажет. Он знал, что это будет зависеть от ее минутного настроения, но шел, потому что сам хотел ее видеть. Он думал о ней тихо и нежно.
Он невольно приостановился в том месте, где широкая пальмовая аллея, делая поворот, почти примыкала к близкой пустыне. Он прикрыл глаза, оставив только маленькую щелочку, чтобы солнце, падающее ему на лицо, не могло ослепить его позолотой безбрежных песков, рассыпавшихся уже здесь, за зелеными полями.
Постепенно в его сознании все начало расплываться и путаться. Он почти забыл, где он находится, зачем вышел из дома и куда идет. Чувство невыразимого облегчения, чувство глубокого покоя сплывало на него вместе с лучами солнца. У него в голове мелькнуло: Аза, Грабец, какие-то полеты и трудная работа души, мудрец Ньянатилока — и все растаяло, как весенний снег, там, на его родине, когда тепло льется с неба и исходит от земли, уже разбухшей от разлившейся воды…
Солнце! Солнце!
Был момент, когда он не думал уже ни о чем, только о солнце и о ветре, горячем, несущемся от далеких розовых гор, от голубого моря, от теплых волн, мягко набегающих на песок. Его окутала душистая, вечерняя тишина, нежность прикосновений ветра, которые он чувствовал на лице, на волосах, на приоткрытых губах.
Удивительное ощущение почти физического наслаждения разлилось по всему телу.
— Так должны целовать ее губы, ласкать ее руки, мягкие, нежные… Так должны целовать ее губы…
Он открыл глаза, как будто проснувшись от летаргического сна, длящегося целую вечность. В разогретом воздухе по его телу прошла дрожь, залитое светом пространство потемнело в глазах. Он вспомнил, что все утро бездарно провел, сидя в отеле неизвестно для чего, как ребенок, тешась «мужской гордостью», когда мог быть с ней, смотреть в ее глаза, чувствовать прикосновения ее рук, слышать ее дивный голос. И даже теперь, когда она позвала его, он теряет время…
С нервной поспешностью он прыгнул на движущуюся электрическую дорожку и направился в отель.
Аза ждала его в своей комнате. Она оживленно приветствовала его, явно довольная, что он пришел, но не могла выдержать, чтобы не начать упрекать его за то, что так поздно пришел, и только по ее приглашению.
— Разве я не понравилась тебе вчера? — говорила она. — Ты сбежал еще до конца концерта, и сегодня я едва смогла тебя дождаться.
Яцек, все еще разнеженный мыслями о ней там на солнце, ничего не отвечая, смотрел на нее с улыбкой, как на материализовавшееся видение. Было видно, что любой разговор теперь будет ему неприятен, так как ему хотелось бы только смотреть на нее и чувствовать, что она есть.
Но Аза настаивала на ответе. Он протянул руку и кончиками пальцев коснулся ее поднятых рук.
— Ты была великолепна, — прошептал он, — но я предпочел бы вчера не видеть тебя там и не слушать твоего пения вместе с остальными.
— Почему?
— Ты прекрасна.
И он окинул ее ласковым взглядом.
— Так что же? — упрямо возразила Аза. — Именно потому, что я прекрасна, и нужно смотреть на меня и любить меня, а не убегать…
Яцек покачал головой.
— Глядя на тебя в театре, я никогда не могу отделаться от впечатления, что ты унижаешь свою красоту и бросаешь ее на потребу толпе. И мне грустно и больно то, что ты прекрасна и божественна.
Аза усмехнулась.
— А я прекрасна и божественна?
— Ты сама знаешь об этом. Меня иногда удивляет, что для тебя недостаточно сознания собственной красоты, и ты используешь ее, чтобы сводить с ума людей, которые и смотреть-то на нее недостойны.
— Искусство принадлежит всем, — неискренне сказала Аза. — А я артистка, то, что есть во мне, я должна отдать людям: движением, голосом. Я творю, не задавая себе вопросов…
Он прервал ее, чуть усмехнувшись.
— Нет, Аза. Это иллюзия. Ведь ты ничего не творишь. Ты только превращаешь в чудо то, что создано мыслью иных людей, потому что сама являешься чудом. Там хотят только тебя! И платят тебе только за это, и ты обязуешься быть прекрасной для каждого, кто в дверях бросает золотую монету. Ты теряешь свободу красоты; ты каждый день в театре выставляешь ее для тех, которые, говоря об искусстве, похотливыми глазами следят за каждым твоим движением… Я видел это вчера, и ты сама должна это ощущать. Ты слишком хороша для такой работы.
Она громко и надменно засмеялась.
— Я сама лучше всех знаю, чем мне нужно заниматься. И я не служу, а властвую! Для меня строят театры, пишут оперы и создают музыкальные инструменты. Для меня трудился тот, кто много веков назад построил этот храм на острове, и те, которые несколько веков спустя залили его водой, чтобы я могла сегодня смотреть в глубину, танцуя. Я прекрасна и сильна… Я могу и хочу властвовать, и именно поэтому…
— Ты продаешь красоту своего тела…
— Так же как и ты продаешь силу своего духа, — вызывающе бросила она, глядя ему в лицо.
Яцеку вспомнился недавний разговор с Грабцем. Он наклонил голову и потер ладонью лоб.
— Как я силу духа, — повторил он, — может быть, может… Мы все находимся в одинаковом положении. Человеку кажется, что он властвует, приказывает, управляет, берет себе сам все, что захочет, а он тем временем от рождения является наемником, купленным и служащим толпе за определенную без его участия плату. Толпа покупает себе и предводителей, и шутов, и артистов, и батраков, а когда еще были цари, то и царей покупала, и платила им за то, чтобы они были царями, хотя им казалось, как тебе, что они правят божьей милостью. Даже угнетателей своих толпа покупает, и истребителей, и врагов, потому что и в них, видимо, есть потребность, — добавил он, думая о Грабце.
Но Аза уже не слушала его. Она встала со стула и, чтобы прекратить этот разговор, бросила с намеренным безразличием:
— Следовательно, согласимся с тем…
— Конечно. Мы всегда соглашаемся, постоянно, неизменно и на все, как будто то, что нас окружает, чего-то стоит, как будто это в самом деле для чего-то нужно… Ведь так же прекрасна ты могла бы быть в глуши, одинокая, как цветок…
Она пренебрежительно пожала плечами.
— И какая бы мне от этого была польза?
— В том-то и дело. Мы всегда думаем о своей выгоде. Ты, я, они, все. Мы не умеем ценить того, что в нас есть, поэтому в других ищем подтверждения того, что думаем о себе, именно в мнении других ищем истину. Мы недостаточно верим в свое бессмертие, поэтому ищем у других, как мы, смертных, видимой бессмертности (слова, слова!) и в произведениях или в своих делах хотим обеспечить своим мыслям вечность, которой жаждем…
Он говорил это, подперев голову руками, как будто разговаривая с самим собой, хотя задумчивыми глазами смотрел на стоящую перед ним женщину.
Она недовольно слушала его. Ей надоели эти умные слова, чье звучание и простейший смысл она улавливала в эти минуты, не желая задумываться над ними. А кроме того ее всегда раздражали в Яцеке те минуты, когда при ней он вот так размышлял сам с собой, она чувствовала, что он почти ускользает от ее волшебной власти.
Неожиданно она положила руки ему на плечи.
— Я хочу, чтобы ты думал обо мне, только обо мне, когда ты находишься со мной.
Он усмехнулся.
— Я и думаю о тебе, Аза. Если бы я верил в бессмертие души так сильно, как желаю его, и в вечное ее движение, ни от чего не зависящее…
— То что?..
Она прервала его этим вопросом, не требующим никакого ответа, кроме улыбки на его губах. Длинные ресницы наполовину прикрыли ее детские глаза, она протянула вперед губы, чуть вздрагивающие от тайной улыбки или ждущие поцелуя. Ее прелестная грудь, обрисовавшаяся под легким платьем, чуть вздымалась.
Он смотрел в ее лицо, не отводя глаз, таким ясным и спокойным взглядом, как будто перед ним на самом деле был просто цветок, а не женщина, прекрасная и желанная. И продолжал рассказывать о своей мечте:
— Я взял бы тебя за руку и сказал бы так: пойдем со мной, будем одинокими даже рядом друг с другом. Цвети так, как цветок, потому что твоей красоте не нужны людские глаза; обнимай своей душой мир, сколько сможешь, как солнечный свет, и больше ни о чем не тревожься. Не пропадет напрасно сладость твоих губ, хотя ничьи жадные губы их не коснутся; не пропадет ни одно движение твоего тела, не исчезнет бесследно ни одна улыбка, хотя в чужих глазах ни на миг не отразятся…
Теперь она смотрела на него с явным изумлением, не понимая, говорит он серьезно или просто издевается над ней. Яцек заметил эту неуверенность в ее взгляде и замолчал. Ему стало стыдно и грустно, что говорит перед ней такие смешные вещи, потому что из его слов рождались нелепые, расплывчатые, оторванные от основания, на котором выросли, мысли.
Он встал и потянулся за перчатками, лежащими на столе. Она быстро подбежала к нему.
— Останься!
— Не хочу. Мне уже пора… До захода солнца я должен уже быть над Средиземным морем, высоко в воздухе…
— Зачем ты это говоришь, когда знаешь, что останешься здесь?
Он послушно уселся назад.
Конечно, он останется. Еще минуту или час. Он чувствовал, что остался бы с ней навсегда, если бы она этого хотела. Но одновременно он понимал, что она никогда этого не захочет, потому что он сам не умеет хотеть ничего, что выходит за скобки его жизни, и что говорит ей теперь об одинокой красоте вместо того, чтобы протянуть руки и прижать ее к груди, к губам, силой преодолев сопротивление, если бы оно возникло.
Он видел, как она прекрасна, соблазнительна. Он чувствовал, что вся она — наслаждение и счастье. Какая-то горячая волна ударила ему в голову — он всматривался в нее глазами, в которых стало появляться любопытное беспамятство, бездонное и печальное, как смерть.
В его крови пробуждались волнения и страдания, подобные тем, которые много веков назад заставляли его предков золотым мечом завоевывать мир ради одного взгляда прельстительных очей. И как море вздымает свои валы к Луне, так стремилась огромным приливом его собственная кровь к той великой тайне жизни, которая называется любовью, к тайне, казалось, уже утерянной, но все живой и постоянно возникающей в дыхании губ, в ударах сердца, в пульсации крови.
— Аза!.. — прошептал он.
Она приблизилась к нему.
— Что?
Она смотрела на него из-под опущенных век взглядом, напоминающим глаза газели, неподвижно застывшие под взглядом змеи, но губы ее хищно вздрагивали, свидетельствуя, что не она здесь является жертвой… Она вытянула руки и коснулась его лба. Легонько-легонько, как будто тихий ветер, напоенный солнцем, упавшие волосы отбросил назад…
Как там, на границе пустыни…
Он почувствовал солнце в воздухе, которым он дышал, кровь у него бурлила, туманом застилая глаза и заставляя мысли мешаться в каком-то удивительном танце… И невыразимое наслаждение, обессиливающее, охватившее все его существо.
Как там — на границе пустыни…
Он прислонился лбом к ее рукам — она чуть приподняла ему голову.
— Ты любишь меня?
Она выдохнула эти слова прямо ему в лицо, приблизив губы к его приподнятым губам.
— Да.
Она стояла над ним, ощущая свое превосходство, свою силу: с этим человеком, тихо замершим, как ребенок, в ее руках, все знания мира, вся высшая мудрость склонялась к ее ногам. Благодаря своей красоте она могла теперь отдавать ей приказания так, как уже приказывает всем творцам: поэтам, художникам, музыкантам, как приказывает толпе, богачам, сановникам, старикам и молодежи.
В памяти у нее возникли слова, недавно сказанные Грабцем: доктор Яцек сделал открытие, таинственное и страшное. Сам он не воспользуется им, но тот, кто им овладеет, тот будет властелином мира.
Властелином мира!
Она еще больше наклонилась к нему. Легкие пряди ее волос, падающих с висков, ласкали белый лоб ученого.
— А ты знаешь, как я прекрасна? Прекраснее, чем жизнь, чем счастье, чем мечта?
— Да.
— И ты никогда еще не целовал моих губ…
Слова ее были чуть слышными, как дыхание, которое трудно поймать слухом.
— А хочешь?..
— Аза.
— Открой мне свою тайну, дай мне в руки свою силу, и я буду твоей…
Яцек встал и отпрянул от нее. Он был смертельно бледен. Губы у него сжались, и он молча смотрел перед собой на удивленную его поведением девушку.
— Аза, — сказал он наконец с трудом выговаривая слова, — Аза, не имеет никакого значения, люблю я тебя или нет, не имеет значения, какова моя тайна и сила, я не хочу тебя… покупать, как другие.
Она гордо выпрямилась.
— Какие другие? Кто может похвалиться, что видел наедине мое тело? Кто может похвалиться, что я принадлежала ему?
Быстрый, удивленный взгляд бросил Яцек на ее лицо. Она перехватила его и засмеялась.
— Только ради одного… ради моей улыбки, ради одного взгляда люди пресмыкаются у моих ног и гибнут, если я этого хочу! Ни у кого не хватит денег, чтобы меня купить. Сегодня за меня надо отдать весь мир!
Он, онемев, смотрел на нее, затаив дыхание, и понимал, что в этот момент она говорит правду. А она наклонила голову и, нахмурив брови, как будто под влиянием какого-то воспоминания, продолжала:
— Слишком много грязи мне пришлось вынести, когда я была еще девочкой, чтобы пачкать себя и сегодня. Меня брали и унижали, когда я была беззащитна, но я не отдавалась никому — за исключением одного человека, которого ты отправил на Луну!
— Аза!..
Она услышала в его голосе удивительную нотку, берущую свое начало где-то в глубине кровоточащего сердца, и сразу же женская жестокость вспыхнула в ней. Она понимала, что в ее руках находится орудие пытки для него, цепи, которые, терзая и раня его, только сильнее приковывают к ней. Она смотрела на него широко открытыми глазами, на губах у нее играла усмешка, с которой, видимо, когда-то римские матроны слушали стоны умирающих гладиаторов на арене.
— Только ему одному я принадлежала, — говорила она, — ему, твоему другу. Он один во всем мире знает, каковы мои поцелуи, насколько ароматна моя грудь, как умеют ласкать мои руки. И его нет на Земле. Туда, на Луну, на широкое и голубое небо унес он тайну моей любви, которая кого-нибудь другого могла убить невероятным наслаждением… Не веришь? Спроси его, когда он вернется сюда, ко мне… Он тебе расскажет, ведь ты и его и мой благородный друг, который ничего не требует…
Он зашатался, как пьяный.
— Аза!..
За стеной неожиданно зашумели, зазвучал смех. Послышался топот ног бегущих лакеев, писклявые голоса мальчиков-боев и бас старшего лакея, напрасно старающегося утихомирить шумящих.
Яцек не обращал на это никакого внимания. Глядя на певицу, он пытался что-то сказать.
Однако Аза, услышав шум, подскочила к двери, а когда ей показалось, что в этом гвалте она уловила голос господина Бенедикта, открыла дверь настежь.
То, что предстало перед ее глазами, было поистине необычно. В прихожей, набитой служащими отеля, стоял господин Бенедикт, защищаясь одной рукой от какого-то маленького человечка с растрепанной головой, который, как кот, уцепившись за его грудь, кулачком лупил его по лицу. В другой руке благородный пенсионер держал веревку, привязанную к ноге второго карлика, напрасно старающегося голосом и жестами утихомирить гнев своего товарища. Прислуга была бессильна, потому что едва кто-нибудь протягивал руку, чтобы схватить рассерженного карлика, господин Бенедикт злобно кричал:
— Прочь! Не трогайте его, это для госпожи Азы…
Певица нахмурилась.
— Что здесь происходит? Вы что, с ума посходили?
В эту минуту господин Бенедикт сумел наконец освободиться от нападающего и как юноша кинулся к ней.
— Дорогая госпожа, — начал он, запыхавшись, высоко поднимая лицо, покрытое синяками, — я вам кое-что принес…
Говоря это, он потянул за веревки одетых в детские матросские костюмчики карликов.
— Что это?
— Гномики, дорогая госпожа! Они очень добрые! Научатся вам прислуживать…
Аза, раздраженная разговором с Яцеком, так неожиданно и глупо прерванным, была не в лучшем настроении. Если в другом подобном случае она только разразилась бы смехом, то сейчас в ней вспыхнула злость.
— Убирайся отсюда, старик, пока цел, вместе со своими обезьянами! — закричала она грубо, как истинная старая циркачка, топая ногой в туфельке.
Прислуга, давясь от сдерживаемого смеха, выбралась из номера, а господин Бенедикт просто онемел. Он не ожидал такого приема. Схватив отпрянувшую Азу за рукав, он начал извиняться, уверяя ее, что не сомневался, что доставит ей удовольствие, добыв для нее такие редкие экземпляры.
В дверях показался Яцек, привлеченный громким разговором. Он полностью пришел в себя, только лицо у него было бледнее, чем обычно. Певица увидела его и начала жаловаться.
— Смотри, — говорила она, — я не могу иметь ни минуты покоя! Старый человек, а никакого разума. Притащил мне сюда каких-то обезьян! И хуже того…
Яцек посмотрел на карликов и вздрогнул. Несмотря на их смешной в этой одежде вид, в их наружности была незаурядная интеллигентность, которой не было бы у обезьян. В нем вспыхнуло неопределенное предчувствие…
— Кто вы такие? — неожиданно спросил он у них на своем родном, польском, языке.
Результат был невероятным. Лунные жители поняли эти слова, сказанные на «священном языке» их старинных книг и начали оба одновременно сбивчиво рассказывать, в радостной надежде, что наконец закончится это долгое и фатальное для них недоразумение.
С трудом Яцек улавливал значение фраз, которыми они засыпали его. Он задал им несколько вопросов и, наконец, повернулся к Азе. Лицо его было серьезным, губы нервно вздрагивали.
— Они прибыли с Луны, — сказал он.
— От Марека? — закричала девушка.
— Да. От Марека.
Господин Бенедикт вытаращил глаза, не понимая, что все это значит.
— Мне их продал араб, — говорил он. — Такие существа, по его словам, живут в пустыне, в далеком оазисе…
XI
— Послушай меня по крайней мере на этот раз, — говорил Рода, обращаясь к Матарету, — и поверь, что то, что я делаю — правильно.
— Вот увидишь, этот обман выйдет нам боком, — неохотно ответил Матарет и, повернувшись к учителю спиной, начал по стулу подниматься на стол, стоящий под окном в номере гостиницы. Оказавшись там, он высунул голову и с интересом стал наблюдать за уличным движением, делая вид, что не слышит, что ему говорят.
Но Рода не дал себя так легко сбить с толку. Он поудобнее уселся в уголке мягкого кресла и, отбросив назад спадающие на глаза волосы, продолжал доказывать, что все зло, которое им встретилось, свалилось на них только по вине Матарета, и будет достаточно дать ему, Роде, свободное поле действия, чтобы их судьба поправилась к лучшему.
— Нельзя признаваться, что мы были в плохих отношениях с этим Мареком, — говорил он, — потому что здешние люди могут нам за это отомстить…
В конце концов Матарет не выдержал. Он отвернулся от окна и гневно выпалил:
— Но из этого еще не следует, что мы должны выдавать себя за его лучших друзей и доверенных лиц, как ты это делаешь.
— Дорогой мой, это утверждение не так уж далеко от правды…
— Что? Как ты сказал?..
— Естественно. Он доверял нам, если все рассказал о себе и своей машине. А дружба… Что такое дружба? Это когда один человек желает другому добра. Самым большим добром для человека является правда о его жизни. И все наши действия были направлены на то, чтобы вывести Победителя из заблуждения относительно его земного происхождения, следовательно, мы желали ему добра, а…
— Ты что, с ума сошел? Ведь Марек на самом деле с Земли к нам прилетел! — воскликнул Матарет, прерывая бурный поток слов учителя.
Того просто передернуло.
— С трудом до тебя доходит, как всегда. Так что же, что он прилетел с Земли? А хоть бы и с Солнца! Мы же не обязаны были заранее об этом знать. Самое лучшее, если бы ты побольше молчал, а говорить предоставил мне.
— Ты снова будешь лгать о дружбе…
— Я тебе уже сказал, что это не ложь! Мы находимся в таком положении, в каком могли оказаться только его лучшие друзья. Мы прилетели на Землю в его машине и прямо от него, следовательно, являемся как бы его посланниками. А отсюда вывод, что мы должны быть его друзьями. Иногда результаты имеют большее значение, нежели причины. И не кривись, я говорю серьезно. Быть может, мы даже сами не подозревали об этой дружбе.
Матарет сплюнул и соскочил со стола.
— Я не хочу мешаться во все это! Делай все, что тебе нравится, а я умываю руки.
— Я только того и желаю, чтобы ты мне не мешал. Я справлюсь сам. Если бы не мое энергичное выступление против этого старого болвана, который водил нас на веревке, мы сейчас, может быть, снова сидели бы в какой-нибудь клетке, а так — благодаря мне — видишь, как к нам начинают относиться! Ты увидишь, что вскоре мы здесь будем очень важными персонами. Я человек добрый, разумный и немстительный, но как только приобрету здесь какое-либо влияние, прикажу снять живьем шкуру с того мерзавца, который посадил нас в клетку!
Приход Яцека положил конец речи лунного учителя. При его появлении он вскочил на ноги и, не имея уже времени спуститься с кресла, что делал всегда с большой осторожностью и, схватившись одной рукой за подлокотник для того, чтобы удержать равновесие на мягкой поверхности, отдал поклон прибывшему.
— Приветствую вас, уважаемый господин!
Яцек дружелюбно улыбнулся.
— Господа, — сказал он, — не будем здесь больше задерживаться, а в дороге у нас будет достаточно времени на разговоры. Я думаю, что вы не откажетесь отправиться со мной и быть гостями в моем доме?
Рода низко поклонился с высоты своего кресла, а Матарет сказал с легким наклоном головы:
— Мы очень благодарны вам, господин. Вы напрасно интересуетесь нашим мнением, у нас нет выбора, мы полностью находимся в вашей власти.
— Нет, — ответил Яцек. — Моим долгом — и весьма приятным — является служить вам, как посланникам от моего друга, и постараться, чтобы вы как можно скорее забыли о тех неприятностях, с которыми встретились, едва ступив на нашу планету. Мне очень стыдно перед вами. Простите Земле ее варварство и глупость.
Сказав это, он озабоченно повернулся к Роде:
— Учитель, писем не найдено. Я сам был в пустыне в корабле Марека, но там ничего нет Мы перевернули все.
Рода притворился обеспокоенным.
— Это фатально! Хотя содержание писем, которые вам отправил наш друг Марек, я знаю и могу пересказать…
— В таком случае не произошло никакого несчастья…
— О нет! Я только опасаюсь, что… ведь это были единственные наши верительные грамоты…
— Это не имеет значения. Я верю вам на слово.
Рода ударил себя рукой по лбу.
— Теперь я вспоминаю. Действительно, письма не остались в машине. Их забрал тот болван, который посадил нас в клетку…
— Забудьте, пожалуйста, об этом печальном недоразумении. Я уже поручил отыскать Хафида. Если он никуда не дел эти письма, мы их заберем. Однако меня призывают мои обязанности и я не могу ждать здесь результатов поисков… Я хотел бы улететь прямо сейчас, если вы ничего не имеете против того, чтобы сопровождать меня…
— Мы готовы отправиться по вашему приказанию, — заявил Рода, снова поклонившись.
Через минуту они уже садились в самолет. Яцек, усевшись впереди, бросил взгляд назад, как разместились его спутники, и опустил руку на рычаг, приводящий в движение систему аккумуляторов.
Завертелся пропеллер, и с утрамбованной площадки около отеля вихрем сорвало песок. Самолет почти отвесно поднялся в воздух.
Рода вскрикнул от страха и, зажмурив глаза, схватился за металлические прутья своего сиденья, чтобы не отлететь назад.
Яцек с улыбкой повернулся к ним.
— Не бойтесь, господа, — сказал он, — все в порядке.
Матарет, побледнев, тоже держался за прутья, но глаз не закрывал, пытаясь усилием воли побороть одолевшее его головокружение. Он ощущал легкое колыхание ветра от рассекаемых воздух крыльев. Небо было у него перед глазами. Наклонив голову вниз, он увидел у себя под ногами отель, окруженный пальмовым садом, уменьшающийся с удивительной быстротой. Ему вспомнился отлет с Луны и по телу пробежала тревожная дрожь. Он зажмурил веки и стиснул зубы, чтобы не закричать.
Тем временем самолет, приняв почти горизонтальное положение, поднимался вверх по спиральной линии, описывая под небом все более широкие круги.
Когда Матарет, преодолев пароксизм страха, снова открыл глаза, Асуан был уже только маленькой кляксой на безграничном золотом пространстве, как голубой лентой рассеченном Нилом с зелеными берегами.
Солнце ударило в лицо Матарету, и он заметил, что оно снова высоко на небосклоне, хотя уже заходило, когда они выходили из дома. Однако цвета оно было золотого, как будто истощенное дневным зноем, светило сквозь какой-то розовый пепел, медленно опадающий на его диск.
Матарет услышал чей-то голос. Это Яцек, снова обернувшись к ним, что-то говорил. В первый момент он не мог понять, о чем его спрашивают. Он машинально посмотрел в сторону. Рода, уцепившись одной рукой за прутья сиденья, другой быстро чертил на лбу, губах и груди Знак Прихода, над которым смеялся на Луне, и немилосердно лязгал зубами.
— Успокойте своего товарища, — говорил Яцек. — Нам никто не угрожает.
Рода открыл глаза и, перестав креститься, начал кричать. Матарет понял, что он проклинает Яцека на обычном лунном наречии, угрожая ему, что если он немедленно не опустит их на землю, то он, Рода, удушит его собственными руками и сломает его проклятую машину. Яцек, разумеется, не мог его понять, но Матарет опасался, как бы учитель, охваченный страхом, не совершил в действительности какого-либо безумства. Он схватил Роду за руку и процедил сквозь зубы:
— Если ты немедленно не успокоишься, я выкину тебя отсюда. Ты другого и не стоишь.
В голосе его прозвучала нешуточная угроза. Рода замолчал моментально, только зубы у него еще лязгали, когда ошеломленным и перепуганным взглядом он посмотрел на своего прежнего ученика, который выказывал ему так мало уважения.
Яцек улыбался, дружелюбно наблюдая за ними.
— Мы находимся на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря, — сказал он. — Теперь полетим прямо домой.
Говоря это, он повернул машину на север и, придав ей горизонтальное положение, с помощью рычагов выключил аккумулятор. Самолет теперь, как огромная птица, на неподвижно распростертых крыльях плыл на север под влиянием силы тяжести, скользя по наклонной плоскости точно определенной движениями руля. Вибрация полностью прекратилась, а поскольку в воздухе не было ни малейшего ветерка, летящим казалось, что они неподвижно висят в поднебесье.
Но эта иллюзия длилась недолго. По мере увеличения скорости воздух, рассекаемый крыльями самолета, стал хлестать по лицам путешественников, подобно урагану, и когда Матарет снова посмотрел вниз, то заметил, что там низко, низко под ним мир исчезает с сумасшедшей скоростью, одновременно приближаясь к ним. Солнце, как огромный красно-синий шар, лежало слева где-то на песках далекой пустыни. Со стороны востока к ним приближалась ночь.
Яцек, проверив еще раз положение крыльев и руля, закурил сигару и повернулся на сидении в сторону своих спутников.
— К ночи будем над Средиземным морем, — сказал он. — Теперь можно немного поговорить.
Он сказал это дружеским тоном со своей обычной улыбкой, но Роду охватил внезапный ужас. Ему показалось, что в этих словах слышится какая-то страшная и угрожающая издевка, он испугался, что Яцек, догадываясь об истине, собирается теперь, между небом и землей, рассчитаться с ним и сбросить его в пропасть, синеющую вечерней темнотой у них под ногами.
— Смилуйтесь, уважаемый господин! — закричал он. — Клянусь вам именем Старого Человека, что Марек является Победителем и царем на Луне, и мы ничего плохого не сделали ему!
Яцек с удивлением посмотрел на него.
— Успокойтесь, господин Рода. Вы слишком расстроены пребыванием на Земле, а возможно, и событиями последних дней. Разве нужно снова повторять вам, что у меня нет никаких злых намерений относительно вас? Скорее наоборот. Я безмерно благодарен вам за это героическое путешествие через межзвездное пространство по поручению моего друга, хотя не скрою от вас, что предпочел бы увидеть его самого. Ведь теперь, когда он прислал свой корабль с вами, он не сможет уже вернуться оттуда…
Эти последние слова значительно успокоили Роду. Он подумал, что если Марек не сможет вернуться с Луны, то все в порядке, так как никто уже не сможет открыть, что все, что они рассказывают, — неправда. К нему сразу же вернулась уверенность в себе — и усевшись поудобнее в тесном сидении, он стал говорить Яцеку о своей дружбе с Победителем, стараясь не смотреть вниз, так как у него каждый раз начиналось головокружение.
— Марек, — говорил он, — совсем не собирается возвращаться. Так хорошо, как на Луне, ему никогда на Земле не было. Его признали богом и царем, он купил себе множество молодых жен и забрал лучшие земли. У него также много собак. Он как раз писал в тех письмах, которые у нас украл Хафид, чтобы вы его здесь не ждали… Он долго не мог найти посланников, и только мы, желая познакомиться с Землей, согласились на это. Нам хотелось что-нибудь для него сделать…
Легкий порыв ветра со стороны запада качнул самолет и прервал неожиданные излияния Роды. Через минуту, когда было обретено равновесие, он спросил Яцека, не грозит ли им чего-нибудь, и получив успокаивающий ответ, снова заговорил:
— Путешествие наше было очень неприятным и приземление, как вы сами знаете, было довольно опасным. Я думаю, что здесь, на Земле, нас должны за это соответственно вознаградить. Я великий ученый, и товарищ мой тоже далеко не так глуп, хотя и мало разговаривает. Мы, однако, не имеем чрезмерных притязаний. Для меня было бы вполне достаточно занять какое-то выдающееся положение…
Яцек прервал его, задав какой-то вопрос, касающийся Марека, и Рода продолжал лгать.
Через некоторое время Яцек уже не сомневался, что имеет дело с обманщиком, который сознательно скрывает правду. Как же, однако, выглядит на самом деле эта правда и каким способом ее узнать?
Он задумался. Наверное, ничего хорошего Марека не встретило, если он прислал машину и послов… Может быть, он просит помощи? Но зачем он выбрал таких послов, которые все время лгут, и по какой причине они это делают? В самом ли деле они потеряли письма Марека или, может, не имели никаких писем? В какой же опасности находится там Марек, если не имел возможности даже написать писем?
И снова в голову Яцека приходила мысль, что, может быть, его предположения слишком драматичны. Может быть, тому буйному гуляке действительно очень хорошо на Луне — ведь это весьма правдоподобно, что он стал там царем и властителем в обществе этих карликов?
Наступал вечер. Они пролетели над пирамидами, которые светились внизу, как обычно, освещенные электрическими прожекторами для зевак, и летели теперь под звездами над широкой дельтой Нила. Самолет значительно снизился, так как Яцек, пользуясь рычагом, только увеличивал скорость и пользовался еще набранной в Асуане высотой… Несмотря на то, что они находились теперь в нескольких сотнях метров над землей, внизу ничего не было видно, кроме огней, иногда неожиданно показывающихся и быстро исчезающих в полумраке… Это были электрические огни, указывающие в ночное время самолетам места посадки; поселки и города, светящиеся названия которых были видны сверху, как маленькие, светлые полоски, брошенные на черную землю.
Яцек молчал, и у лунных путешественников глаза сами собой стали закрываться. Иногда только, когда самолет колыхался от порывов ветра, они испуганно открывали глаза, в первый момент будучи не в состоянии понять, где находятся и что делают здесь, повиснув в темной ночи.
Через какое-то время самолет стал покачиваться гораздо явственней и начал переваливаться с боку на бок. Матарет заметил, что он борется с ветром, одновременно снова поднимаясь вверх по крутой спирали. Он посмотрел вниз: туманные огоньки исчезли где-то без следа, в то же время ему показалось, что он слышит в темноте какой-то шум: широкий, неумолкаемый…
— Где мы находимся? — невольно спросил он.
— Над морем, — ответил Яцек. — Мы перелетим его ночью, когда наверху затишье. Мы как раз выбираемся из вихря прибрежных ветров…
Вскоре самолет поднялся выше, колыхание неожиданно прекратилось, вибрировали только соединения металлической конструкции от движения винта, врезающегося в ночной воздух. Когда на достаточной, видимо, высоте Яцек остановил винт, самолет снова поплыл в тихом пространстве, над морем, с правой стороны которого начинала подниматься запоздалая Луна, неполная и красная.
Часть вторая
I
В дверь лаборатории Роберта Тедвена тихо постучали.
Старик поднял голову над листом бумаги, на котором чертил какие-то знаки и колонки цифр, и прислушался… Стук повторился и стал более определенным: семь ударов, четыре медленных и три быстрых. Ученый прикоснулся пальцем к кнопке, помещенной в столе, и двери тихо раздвинулись, исчезая в стене. Из-за откинутой тяжелой портьеры появился Яцек.
Он подошел к сидящему в высоком кресле старику и молча склонился перед ним. Сэр Роберт Тедвен, узнав его, протянул руку.
— А, это ты… У тебя какое-то важное дело?
Яцек заколебался.
— Нет, — ответил он через минуту. — Я хотел повидать тебя и только, учитель…
Лорд Тедвен испытующе посмотрел на старого и до сих пор любимого ученика, но вопросов задавать не стал.
Завязалась беседа. Старик спрашивал, что делается в мире, но когда Яцек отвечал, слушал о событиях и происшествиях безразлично, явно не придавая значения всему тому, что происходит там — снаружи, за металлическими дверями его лаборатории, почти всегда закрытыми.
А ведь некогда он держал в своих руках судьбу этого мира, о существовании которого сейчас едва помнил.
Шестьдесят с лишним лет назад, когда ему только доходило тридцать он был уже избранным президентом Объединенных Штатов Европы — и казалось, в тот день, когда ему этого захочется, станет пожизненным властителем.
Удивительная гениальность администратора и практичность сочетались в нем с железной решительностью и сильной волей, которые позволяли ему прямо идти к намеченной цели. Он смело изменял существующие законы, определял судьбы народов и обществ — не отступал ни перед чем. В огромной массе служащих (а кто тогда не был служащим, работая по какой-либо специальности?) было множество противников его самовластия и беспощадности, отовсюду шел ропот, иногда даже довольно громкий, но стоило Тедвену отдать приказ — не было никого, кто посмел бы его ослушаться. Говорили, что он стремится к неограниченной власти и что необходимо не только отстранить его от штурвала, но и вообще лишить какого-либо участия в управлении, но при этом все знали, что в тот день, когда ему вздумается возложить на свою голову взятую в каком-либо музее корону — все перед ним склонятся.
Сэр Роберт Тедвен сам добровольно оставил власть. Весьма неожиданно, без видимой причины, в один прекрасный день, но люди долго не могли с этим смириться и ломали себе головы в поисках разгадки.
А лорд Тедвен тем временем продолжал работу. Один из виднейших естественников (он особенно интересовался биохимией), притом с невероятно широким кругозором и обширными знаниями, в течение полутора десятков лет с минуты своего высвобождения Тедвен дал людям множество удивительных и благословенных изобретений.
В какой-то момент даже забылось, что он был президентом Объединенных Штатов Европы, и все помнили только о том, что благодаря его средствам, защищающим организм, перестали существовать болезни, что он с помощью атмосферного электричества и власти над погодой и теплом позволяет снимать большие урожаи и кормить голодное человечество — и множество еще более значительных и чудесных вещей.
Это был второй период в жизни Роберта Тедвена. Он порвал с ним прежде, чем ему исполнилось пятьдесят лет. Так же неожиданно, как до этого оставил свое главенствующее положение в обществе, он отступил теперь от своей «кузни», откуда в мир шли новые открытия и изобретения, и, отказавшись от практического применения знаний, занялся наукой, создал свою школу, где избранных учеников приобщал к огромному труду: продвигать вперед достижения человеческой мысли.
Одним из любимейших и наиболее способных его учеников был Яцек. Он узнал лорда Тедвена уже стариком и относился к нему не только как к учителю и к одному из самых умных людей, но и как к своему другу, который, несмотря на огромную разницу лет, всегда готов разделить с ним мыслью и сердцем его жизнь…
Но и тот период времени, когда старик был воспитателем и как бы отцом «знающих», сегодня уже относился к прошлому. С годами он брал все меньше учеников и гораздо скупее делился с ними глубинами своей мудрости, это продолжалось до того дня, когда даже те немногие, которых он еще имел при себе, придя к нему, застали двери его дома закрытыми.
Лорд Тедвен перестал учить.
Когда его умоляли поделиться знаниями, он только пожимал плечами и говорил с грустной улыбкой на губах:
— Я сам ничего не знаю… Я потратил зря около восьмидесяти лет своей жизни; теперь я должен использовать последние отпущенные мне дни, чтобы поработать для себя.
И работал. Его мощный ум, не ослабленный годами, углублялся в тайны существования, создавал теории, открывал такую страшную и голую истину, что хотя редко и только самым доверенным лицам он приоткрывал краешек ее, у слушателей дрожь проходила по телу и голова начинала кружиться, как будто они заглянули в пропасть.
Вокруг гигантской, молчаливой фигуры старика уже начинали возникать легенды. И хотя уже давно никто не верил в чернокнижников, его с опаской сторонились, когда, надменный и задумчивый, он прохаживался по берегу моря во время своей ежедневной прогулки.
Дома он никого не принимал за исключением членов великого братства ученых, которое он возглавлял, поддавшись просьбам своих давних учеников.
Яцек, слишком занятый собственными исследованиями и обязательной в его возрасте общественной работой, навещал его редко. Но, однако, каждый раз, когда представал перед ним, не мог отделаться от странного ощущения: старик, казалось, душой становится все моложе, как будто мысль его с течением лет только приобретает какую-то необычайную ясность и смелость…
И при этом этот взгляд — спокойный и холодный, который скользил по людским делам, делая вид, что они интересуют его, и падал куда-то в пропасть, близкую и недоступную, которая открывалась сразу же за сказанным словом или за лучом света, колеблющейся частицей так называемой материи, за простым напряжением силы — и бежал куда-то к звездам, за границы всевозможного бытия, равно охватывая и человеческие души, и камни, и мельчайшие частицы.
Однако лорд Тедвен никогда не давал возможности заметить, что есть вещи безразличные ему или недостойные внимания. В минуты, свободные от работы ума, он охотно разговаривал с прохожим на берегу моря, с ребенком, собирающим раковины, или с одним из членов общества мудрецов… Иногда даже казалось, что в редкие минуты отдыха он охотнее обращается мыслью к вещам простым и обыденным.
И теперь, сидя с Яцеком в тихом кабинете, он вскоре перевел разговор с мировых событий на более скромный путь, касающийся личных дел и знакомств…
Он спрашивал о старых учениках, которые жили в его удивительной памяти, хотя не один из них уже покоился в могиле, с доброй улыбкой вспоминал мелкие обстоятельства, сопутствующие тому или иному происшествию.
Яцек, сидя лицом к окну, слышал только голос старика и находился во власти иллюзии, что его действительно занимает то, о чем он спрашивает. Однако когда он случайно обернулся и взглянул в глаза учителя, то сразу невольно оборвал свое повествование… Глаза старика, открытые, неподвижные, были похожи на две бездонные пропасти, от них исходил странный свет, уходящий в бесконечность, казалось, он смотрит куда-то в пространство и чего-то ищет там, не замечая того, что происходит вокруг…
Яцека охватил стыд, и слова застряли у него в горле. Наступило короткое молчание. Лорд Тедвен усмехнулся.
— С чем ты пришел ко мне, сынок? — повторил он. — Говори о себе. Это действительно меня интересует.
Молодой ученый почувствовал, как краска выступила у него на щеках. Он действительно собирался говорить о Грабце, о том движении, неотвратимое развитие которого он предчувствовал — он хотел получить совет старика, который мог быть властителем, узнать его мнение: и вдруг почувствовал, что все это так же мало может заинтересовать этого удивительного человека, как сухой лист, который в эту минуту падает с дерева перед его домом, — и в то же время своими колдовскими глазами он сможет увидеть в этом тайну бытия, содержащуюся как в крупинке песка, пересыпаемого морскими волнами, так и в изменениях огромных миров и в малейшем проблеске мысли.
Он наклонил голову.
— Я в самом деле хотел поговорить с тобой об определенных делах, но в эту минуту вижу, насколько они незначительны…
— Не существует незначительных вещей, — ответил сэр Роберт. — Все в мире имеет свой вес и свое значение. Говори.
Тогда он начал говорить. Он рассказал о своей встрече с Грабцем и о том, что тот собирается поднять какое-то восстание на уже давно спокойной Земле и что хочет втянуть в него их, мудрецов и ученых, чтобы они, как мозг мира, получили надлежащее им положение.
Старик слушал его в молчании, чуть наклонив голову и глядя прямо перед собой неподвижным взглядом из-под кустистых бровей. Иногда только по его выбритому, изрытому морщинами лицу где-то около тонких стиснутых губ пробегала мимолетная усмешка, которая тут же исчезала.
— Отец, — наконец сказал Яцек, закончив свой рассказ, — этот человек прямо призвал меня, чтобы я помог им, чтобы ту силу, которую дают наши знания, бросил в это безумство…
Лорд Тедвен обратил на него проницательный взгляд.
— И ты — что ты ему ответил?
— Я поклялся ему, что вся сила наших знаний уже исчерпана, уже подарена, она находится в руках толпы, а у нас не осталось ничего, кроме высших истин, которые невозможно перековать ни в золото, ни в железо…
Наступило короткое молчание. Роберт Тедвен несколько раз медленно кивнул головой, шепча скорее себе самому, нежели слушающему его ученику.
— Кроме высших истин… Да, да! Только мы уже не знаем, что означает это слово «истина», потому что то, что мы называем этим словом, тоже в конечном счете оказывается ничем…
Он быстро поднял голову и посмотрел на Яцека.
— Прости, это я невольно возвращаюсь к своим мыслям, но очень интересно то, что ты рассказал.
Яцек молчал. Старик внимательно на него посмотрел.
— О чем ты думаешь?
— Я солгал в разговоре с Грабцем.
— А!
— У нас есть сила. У меня есть сила, — поправился он.
Лорд Тедвен ничего не ответил. Чуть рассеянным взглядом он скользнул по лицу Яцека и странно пошевелил губами…
— У нас есть сила… у нас есть сила… — прошептал он тихо.
Что-то похожее на усмешку пробежало по его губам.
— Да, — задумчиво сказал Яцек. Сидя со склоненной головой, он не заметил усмешки на лице учителя.
— Да, — повторил он, — у нас есть сила. Я сделал страшное открытие. Оно реально делает то, что до сих пор мы делали только мыслью в своих исследованиях: оно уничтожает «материю» и делает это таким простым способом, как человек дуновением губ гасит зажженную свечу. Если бы я захотел…
— Если бы захотел?..
— Я мог бы под угрозой его применения получить полную власть для себя или для того, кому отдал бы свое изобретение… Одним движением пальца и устройством, не большим, чем обыкновенный фотоаппарат, я могу уничтожать целые города, обращать в пыль целые страны так, что от них не останется даже следа…
— И что из этого? — спросил лорд Тедвен, не спуская с него глаз.
Яцек пожал плечами.
— Не знаю, не знаю!
— Почему же ты не отдал Грабцу своего изобретения?
Яцек быстро поднял голову. Он смотрел на лицо учителя, как будто хотел прочитать на нем значение и смысл его вопроса, но глаза и лицо лорда Тедвена ничего ему не сказали, так же как внешне безразличный тон вопроса.
— И этого я не знаю, — ответил он наконец. — У меня такое чувство, что я должен оставить это для себя и уничтожить перед смертью или… использовать… в случае крайней необходимости… только один раз…
— Уничтожь свое устройство сегодня же. Зачем тратить усилия на то, чтобы развеять фантом, который мы называем материей, если рано или поздно она сама неизбежно рассыплется?
— Тем временем вокруг все отвратительно…
— И что из этого? Неужели нам надо физически делать то, что, как ты сказал, мы можем сделать мысленно, не лишая наших ближних того состояния, которое для них, быть может, самое лучшее? Помни, что если мы сумеем освободиться от физических пут так называемой смерти, только действие нашей мысли будет для нас единственной реальностью…
— Необходимо верить…
— Да. Необходимо верить, — серьезно повторил Тедвен.
— А этот мир, этот мир вокруг — неужели он и дальше должен идти по тому же самому пути, как до сих пор?
Старик положил руку на плечо Яцеку.
— Твое изобретение не направит его на правильный путь.
— Если бы властью обладали лучшие…
— Тебе нужна власть?
— Я не вступил в сделку с Грабцем. Не знаю, сумел ли бы я распорядиться властью. Мне жаль моего мира, в котором я живу. Но…
— Что?
— Мне кажется, что я добровольно и бездарно остаюсь за бортом жизни, и иногда стыжусь этого.
Лорд Тедвен немного помолчал. Его глаза, широко открытые, казалось, блуждали где-то по минувшему времени, которое живо вспомнилось ему… Потом он отряхнул эти воспоминания и повернулся к Яцеку.
— Что же можно сделать для этой жизни, для общей жизни людей? Ты знаешь, что у меня была власть, как, может, ни у кого другого…
— Да.
— И я бросил ее. И знаешь почему?
— Она не давала удовлетворения тебе, учитель; ты предпочел ей работу своей мысли…
Мудрец медленно, но решительно покачал головой.
— Нет. Дело не в этом. Я просто убедился, что для устройства общества ничего нельзя сделать. Общество — не является разумным организмом и потому совершенным не станет никогда. И любая утопия — от древнейших Платоновых, дотянувшихся через века до наших дней, до мечты твоего Грабца — всегда останется утопией: пока, роясь в книгах, ты строишь домик из карт, тебе не надо заботиться о силе тяжести, но с той минуты, когда ты прикладываешь руки к делу, ты видишь, что на месте старого, устраненного зла встает новое. Совершенное общество людей, идеальное устройство — это проблемы, которые по своей природе неразрешимы. Согласие — это искусственное, выдуманное понятие; в природе, в устройстве мира, в человеческом обществе существуют только борьба и примирительное внешнее равновесие противоборствующих сторон. Справедливость — это соблазнительный и невероятно популярный постулат, но, по крайней мере, в человеческом обществе он ничего в действительности не означает, и каждый может представлять ее себе иначе. Что же получается, если для каждого должна существовать своя справедливость, а общество только одно или, по крайней мере, хочет быть одним. В конце концов, безразлично, существует власть народа или тиран, избранные мудрецы или шайка безумцев: всегда есть кто-то угнетенный, всегда кому-то плохо, всегда существует какое-то зло.
Кто-то всегда должен страдать. В одном случае это большинство, в другом отдельные лица, быть может, самые лучшие. Кто оценит, когда причиняется больший вред, и кто измерит права, с которыми каждый человек появляется на свет?
Он замолчал и провел ладонью по высокому, покрытому морщинами лбу.
— Это не значит, — он снова поднял глаза на молчащего Яцека, — что не надо заботиться об улучшении отношений, существующих во всякое время. Но делать это могут — и даже должны — люди, имеющие иллюзии, то есть верящие, что то, что они сделают, будет лучше того, что было. Таких всегда хватает — это свойственно человеческой натуре.
— Ты сам думал так, учитель, — вставил Яцек.
Тедвен кивнул головой.
— Я сам так думал полвека тому назад, когда был еще молодым… А потом, утратив эту веру, я снова думал, что если нельзя всех удовлетворить и осчастливить идеальные «справедливые» отношения, то пусть по крайней мере жизнь станет легче… Ты знаешь, что много лет я «осчастливливал человечество» своими изобретениями, но потом убедился, что и это ничего не даст… «Суета сует, все суета!» Это тоже неверный путь. Изобретениями, открытиями, усовершенствованиями пользуются прежде всего те, которые и так сыты и наименее ценны в обществе: огромное большинство праздных и немыслящих. Открытия только увеличивают эти «достоинства» толпы…
— Значит, ты думаешь, учитель, что их совершать не нужно, не имеет смысла?
— Разве они будут появляться в меньшем количестве, если я скажу, что их не нужно совершать, не имеет смысла? Всегда будут люди, которые отдают свой ум на службу человечеству. Это полезные люди, даже больше — только они являются людьми. Я думал, что именно они имеют наибольшее значение, только те, которые являются душой и мозгом человечества. Я был уже стар, когда стал учителем. Я хотел, чтобы как можно больше истинных, мыслящих людей было на свете. Ты знаешь меня с этого времени; и ты слушал мои слова, любимый мой сын.
— Мы все благословляем тебя, учитель.
— Это неверно. Я процитирую тебе слова проповедника: кто умножает знания, причиняет горести. Я смотрю на вас, цвет человечества и свет Земли, и вижу вас, гордых, но печальных, втянутых в круговорот светских событий, отдающих свою душу на потребу толпы — пропастью от вас отделенной. Это моя вина, что вы видите и чувствуете эту пропасть, моя вина, что ваша утомленная мысль кружит над пустотой, не в силах найти пристанище, как орел на широких крыльях, заблудившийся над волнами океана…
И что же я дал вам взамен? Какую несомненную истину? Какие знания? Какую силу? Я слишком мало знаю сам, чтобы быть учителем… Все, что я вам говорил о мире и о жизни, было только исследованием реальности, которую знают ваши глаза, а, к сожалению, на вопрос: зачем? — я не мог дать вам ответа.
Поэтому в один прекрасный день я закрылся от своих учеников, желая найти истину для себя в последние дни, которые мне еще остались… сегодня — мне уже немного недостает до ста лет: около двадцати я работаю одиноко и сосредоточенно.
— И что ты сегодня можешь нам сказать, учитель? — спросил Яцек.
Казалось, лорд Тедвен не слышит вопроса. Опершись головой на руки, он, глядя через окно на широкое, взволнованное летним ветром море, медленно сказал голосом, почти теряющимся в шепоте:
— Завершен труд всей моей жизни и напряжение мысли, какое только способен выдержать человеческий мозг. Я поднимался на самые высокие вершины, когда весь мир теряется вдали и вокруг только пустота, и опускался в такие глубины, где вокруг тоже только пустота. Я не устрашился ни одной мысли, и ни одну истину не считал нерушимой, исследуя ее до самого основания, расщепляя ее на мельчайшие частицы…
— И что ты сегодня скажешь нам, учитель? — повторил Яцек настойчиво.
Старик обратил к нему широко открытые, спокойные глаза.
— Ничего.
— Как это, ничего?
— Все, что я открыл, — это только наблюдение за знакомым над миром с близкого расстояния, из капли воды, из атома или частицы электрона, либо из такой дали, где теряются все различия и особенности и жизнь сливается в одно безбрежное море. Мне нигде не удалось выйти за пределы опыта, я не смог ответить себе на вопрос — зачем? — и поэтому сегодня мне нечего вам сказать.
— Но то, что ты открыл? Скажи!
В голосе Яцека звучало настойчивое любопытство человека, который, поднимаясь на высокую и недоступную гору, встречает по дороге путешественника, уже возвращающегося с вершины.
Старик немного поколебался. Потом протянул руку и сгреб лежащие перед ним бумаги — он пробежал взглядом колонки цифр, и знаки, и заметки, поспешно сделанные на полях…
— Ничто… — прошептал он. — Осязаемый мир в буквальном смысле — ничто.
Он поднял голову. В нем просыпался гениальный ученый, просыпался учитель…
— Древняя, много веков назад выдвинутая теория так называемого «эфира», — начал он, — потерпела поражение из-за принципа относительности движения, будучи не в состоянии смириться с другим фантомом человеческой мысли, каким является материя… Сегодня даже дети в школах уже знают, что свет распространяется с одинаковой скоростью во всех направлениях, независимо от того, находится ли его источник в движении или в состоянии покоя… Если бы увязать этот факт с существованием эфира, как проводника колебаний, следовало бы принять во внимание не один, а столько эфиров всеохватывающих, безраздельных и безграничных, сколько существует тел, изменяющих по отношению друг к другу положение в пространстве… А ведь должна быть какая-то среда, если через нее волнами доходят с одной планеты на другую волны света и тепла, электричества, и если одно небесное тело притягивается другими…
Он встал и стал расхаживать по комнате, заложив руки за спину.
— Эфир существует, — наконец продолжил он, — как бы мы его не называли, нет только материи. То, что наш разум в течение многих веков считает единственной реальностью, не является даже сосредоточением сил, даже постоянным сгущением эфира, а только смешной видимостью, всего лишь волной, которая проходит через эфир так же, как звуковая волна через воздух. Нет ничего постоянного и существенного: Солнце и Солнечная система, как любая крупинка, каждый атом и электрон, являются только движением волн, явлением несамостоятельным и теряющимся в эфире, который согласно нашим исследованиям сам рассеивается в нечто всеохватное и бесконечное… Материя даже меньше, чем ничто.
Теперь он уселся и подпер голову руками.
— Все течет… Как газовый свет, который видим мы своими глазами, несмотря на то, что он состоит из частичек угля, соединившихся с кислородом! Но после пламени все-таки остается какой-то след в новом соединении; волна же материи бесследно проскальзывает по эфиру. Солнце, двигающееся в пространстве, в каждую минуту, секунду и сотую долю секунды создается из других рассеянных частичек эфира, создающих иллюзию его видимости, оно исчезло бы без остатка и следа, если бы остановить колебание этих частиц, как исчезает радуга, когда гаснут лучи света. Принцип неисчезновения материи и энергии является обманом: все обращается в ничто, из ничего все возникает…
— Так в чем же истина? Где она? — прошептал Яцек побелевшими губами.
Роберт Тедвен опустил ладонь на раскрытую старую книгу, лежащую на столе рядом с ним.
— Здесь. Смотри, читай.
Яцек наклонился и прочел в сумеречном свете наступающего вечера:
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было вначале у Бога.
Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть.
В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его…»
Он оторвался от книги и удивленно посмотрел в лицо учителю.
Губы старика медленно двигались, как будто он шепотом повторял прочитанные слова:
«Вначале было Слово…»
— Учитель?..
Он повернул голову в его сторону.
— Да, это так. Все мои знания, — которым я отдал свою жизнь, смогли указать мне лишь одно: не существует преград для того, чтобы верить. Все эти смешные иллюзии, эти «реальности», которые якобы не противоречат Откровению, перед моей исследовательской мыслью развеялись, как горячечный сон, приснившийся душной ночью: я остановился перед пустотой, пустотой непонятной и неизведанной, которую только одно слово способно заполнить…
Единственной правдой и реальностью среди колеблющихся волн является дух. От него и через него существует все: Слово обрело плоть и кровь.
— Аминь! — послышался с порога чей-то голос.
У тяжелой портьеры дверей, ведущих куда-то в глубь дома, стоял молодой священник в черной одежде с сухим застывшим лицом. В белых руках он держал небольшую, окованную серебром книгу, с крестом на обложке.
Он кивнул головой и указал рукой на открытое окно, через которое как раз послышался отголосок звучащего где-то звона.
Лорд Тедвен встал.
— Вот мой учитель, — сказал он. — В старости я нашел источник Мудрости и Истины, которые Бог посылает нам устами своих подданных…
Яцек посмотрел на священника, и хотя ему совершенно не показалось, что этот жрец с твердыми, тупыми чертами лица является слугой Истины, однако ни слова не сказал.
Тем временем старик поспешно прощался с ним.
— Прости, я должен остаться один; наступает время ежедневной молитвы…
Темнота уже сгущалась, когда Яцек задумчиво возвращался по берегу моря к своему самолету. Только теперь ему пришло в голову, что старый учитель не дал ему ни одного ответа, не устранил мучающего его сомнения относительно того, как ему вести себя по отношению к движению, которое, того гляди, начнется под влиянием Грабца… Он вспомнил, что хотел задать еще множество вопросов, что хотел рассказать о прибытии удивительных посланников с Луны, повторить сообщения о Мареке, поговорить о непонятном чародее Ньянатилоке, но ему не хватило времени. Впрочем, там, перед этим старцем, все потерялось в его собственном сознании…
Несколько минут он размышлял, не вернуться ли или не остаться до завтра, чтобы еще раз поговорить с сэром Робертом?
Потом усмехнулся сам себе и пожал плечами.
— Зачем? Для чего? Ведь он все равно ничего не ответит. Он уже стар и придавлен своим возрастом…
Ему было неприятно вспоминать молодого священника, которого он увидел там — в дверях лаборатории ученого, тем более, что чувствовал, насколько безраздельно он завладел теперь душой мудреца.
— Он уже стар и ум его ослаб… — снова прошептал он.
Но в ту же минуту он вспомнил то, что этот старик говорил ему о своих открытиях, припомнил покрытые цифрами страницы его рукописи, которую он держал в руках, смелость духа, который не остановился перед созданием теории, с виду безумной и неправдоподобной, быстроту его мысли, — и почувствовал, что уже ничего не понимает…
Он уселся на прибрежной каменной скамье и, упершись подбородком на руки, стал смотреть на потемневшее небо над морем, на котором уже стали появляться первые звезды…
Мысли его упорно кружились вокруг одной точки:
«Этот священник, этот молодой, холодный, никому не известный священник, который завладел теперь умом ученого».
Он долго размышлял над этой непонятной ему загадкой, и вдруг словно свет разлился у него в душе…
Не священник! Не тот либо другой человек, а что-то огромное, что-то непонятное, что с человеческим разумом согласиться не может, а живет в человеческих душах, в их тоске, и в желаниях: Откровение!..
Какое? Чье? Кому данное? Почему то, а не иное?
Может быть, это не имеет значения?
Поседевший ученый сказал ему, что вся наука его и все знания смогли лишь разрушить мнимые реальности, которые стояли препятствием на пути Откровения и веры…
Может, в сущности наука и не делает никогда ничего иного, как только с помощью умов ученых плетет сети мнимых реальностей, чтобы сквозь них не проходил свет? Сила созидания — в чем-то ином, — и о том, что она создает, знать нельзя, можно только верить в это.
Творит человеческий дух…
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…»
Слово!
«Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть…»
Благословенны те, которые верят!
Благословенны те, которые не видели, но поверили!
Как зажечь в себе тот огонь, который неустанно говорит: да! — единственный созидательный и дающий истинную силу и покой?
Вера и поступок стоят над мышлением и знаниями, но так трудно, так трудно дотянуться до них руками снаружи, если они не проснулись в душе.
Впрочем, может быть, это все смешно, тоска разбуженной фантазии, которой не нужно давать волю?
Он откинул голову назад.
Над волнующимся морем, на небе среди звезд была гигантская полоса света, как белый туман распадающийся где-то в зените, а светлой головой почти опираясь о западную часть горизонта…
Комета, которая неожиданно появилась несколько дней назад, и через несколько дней, прикоснувшись к Солнцу, исчезнет навсегда, навсегда!
Светящееся ничто, отбрасывающее свой свет на миллионы километров пространства, символ и живой образ целого мира…
Он невольно вспомнил, как много веков назад боялись комет, считая их предвестниками несчастий или войн, и в эту минуту ему в голову пришла мысль о Грабце…
Неужели это была его комета?.. Того, который хочет восстать против этого мира, гордо пренебрегая тем, что является только мыслью. Комета вела когда-то Александра и Цезаря, Атиллу, Вильгельма Завоевателя, Наполеона…
Игра теней, борьба теней, победы теней…
Единственной истиной является дух!
Он задумался, спрятав лицо в ладонях.
II
Господин Бенедикт сидел в своем кабинете у стола, засыпанного фотографиями Азы, когда автоматическое устройство, которое издавна заменило неловких и дорогих лакеев, возвестило ему, что кто-то хочет с ним увидеться.
Благородный старичок был недоволен появлением какого-то нахала.
После неприятного инцидента в Асуане он был вынужден прервать всякие возможные отношения с певицей, которая больше не хотела его видеть. Какое-то время он ничем не мог себя занять. Он слишком привык к праздным путешествиям по миру и сопровождению девы, которая, правда, никогда не была к нему особенно ласкова, но, привыкнув постоянно видеть его около себя, не раз радовала дружеской улыбкой. Он просто не знал, что ему теперь делать с собой и со своим временем, которого вдруг оказалось слишком много. Он слишком ценил свою значимость, хотя был бы в затруднении, если бы ему нужно было определить, в чем она заключается, чтобы быть уверенным, что раньше или позднее Аза соскучится по нему и, поняв свою ошибку, снова смиренно призовет его к себе. Но недели проходили в напрасном ожидании, а певица не подавала никаких признаков жизни.
В конце концов терпение отказало ему и он решил отомстить.
«Женюсь, — подумал он, — и о ней не захочу больше слышать!»
Неизвестно почему, ему казалось, что это доставит ей большое огорчение.
Он довольно потер руки. Правда, он еще не сделал выбора, но это было уже незначительным делом. Столько существует молодых и бедных девиц, вынужденных заниматься тяжелой работой или выступать где-нибудь на маленькой сцене, которые были бы счастливы, если бы богатый пенсионер обратил на них свое внимание…
Поэтому он сразу же приступил к делу, то есть решил сообщить Азе о своем намерении…
В центральном адресном бюро он узнал о месте пребывания певицы и купил меланхолическую лиловую почтовую бумагу. Ему пришло в голову, что вместе с письмом следовало бы возвратить Азе ее фотографии. Он только был неуверен, отослать ли вместе с немногочисленными, полученными из ее рук, множество фотографий, купленных в магазинах, которыми он гордо заполнил стену своего кабинета и ящики письменного стола?
После глубочайшего размышления для более сильного впечатления он решил отослать все разом.
Посылка была уже приготовлена, он как раз прощался с фотографиями, в уме составляя текст письма, которое должен был написать, когда появился неожиданный посетитель.
Господин Бенедикт тихо, но крепко выругался. Он не имел возможности спрятать разбросанные портреты. Укладывание их в ящики заняло бы слишком много времени, а ему не хотелось выставлять их на обозрение для чужих глаз… Он беспомощно покрутился по комнате, но вдруг гениальная идея пришла ему в голову: он снял узорчатое покрывало со стоящей рядом софы и прикрыл им весь стол вместе с фотографиями. После чего подошел к двери и отворил ее, одновременно нажав на кнопку, приводящую в движение лифт.
Через несколько минут в дверях прихожей появился Лахец.
— Ах, это ты…
— Да, это я.
Оба кисло улыбнулись.
— Давно тебя не видел.
— Я тоже давно не видел вас, дядя…
Они перешли в кабинет.
Лахец прибыл к господину Бенедикту с почти отчаянной мыслью вытянуть у него еще какой-то займ. После той несчастливой игры в Асуане у него остались только гроши, поэтому он смог вернуться в Европу самым дешевым поездом. Он исчез так неожиданно, что ни Халсбанд, который не любил выпускать его из рук, ни ищущий его Грабец не знали, когда и куда он делся…
От мыслей о самоубийстве, вспыхнувших в нем под влиянием раздражения, его спасла какая-то внутренняя, упрямая крестьянская сила — а более всего новый музыкальный замысел, победительный, триумфальный, полный силы и улыбок богов, рождающийся в душе неизвестно откуда в минуты наибольшего отчаяния… С тех пор, как первые идеи забрезжили у него в голове, он не мог уже думать ни о чем другом. Все исчезло у него перед глазами, кроме единственного желания: создать, написать, услышать!
Несколько недель, несколько месяцев покоя! Немного возможности сосредоточиться и поработать без неизбежных мыслей о том, что надо есть, жить, зарабатывать!
Он знал, что от великодушного Халсбанда он в любую минуту может получить взаймы небольшую сумму, но так же хорошо знал, что в таком случае не будет иметь покоя, постоянно спрашиваемый: что делает? не закончил ли еще? когда вернется к своим обязанностям?
О дяде Бенедикте он вспомнил как о последнем средстве и решил любой ценой содрать с него деньги.
Мысль об этой операции не доставляла ему удовольствия. Он испытывал непреодолимое и болезненное отвращение перед всяким унижением, просьбами, благодарностями; по причине удивительной «последовательности» человеческой души заранее чувствовал ненависть к дяде за то, что вынужден одолжить у него деньги.
И теперь, сидя напротив него по другую сторону стола, накрытого стянутым с софы покрывалом, он смотрел на него с ненавистью, совершенно не вяжущейся с намерением, которое его привело сюда, и желваки перекатывались у него на щеках, как будто он собирался безжалостно стереть зубами в порошок благородного старичка.
— Как дела? — спросил наконец господин Бенедикт после глубокого размышления.
— Хуже некуда, — проскрежетал Лахец.
Господин Бенедикт захотел сказать племяннику что-нибудь приятное.
— Мне понравилась твоя музыка, которую ты написал для госпожи Азы.
Лахец аж подпрыгнул на стуле.
— Ты, наверное, заработал кучу денег?
— Я все проиграл.
— О!
Он поднял брови и минуту с упреком смотрел на племянника, грустно покачивая головой. Потом неожиданно сказал:
— Я женюсь.
— Вы с ума!..
Лахец оборвал фразу и постарался любезно выдавить из себя:
— Поздравляю. А на ком, если можно спросить?
Он наклонил голову, чтобы скрыть злорадную усмешку, и в эту минуту его взгляд упал на половину лица Азы, выглядывающего из-под лежащего на столе покрывала.
Дыхание у него перехватило от дикого подозрения; он схватил покрывало, собираясь откинуть его, но господин Бенедикт был настороже. Он схватился за ткань руками, они боролись несколько минут, но в конце концов композитор победил. Вместе с содранным покрывалом на пол посыпалась целая куча фотографий. Господин Бенедикт, покрасневший, как юноша, наклонился, чтобы собрать их, а Лахец побледнел. Он не мог отвести глаз от лица, глядящего на него с сотен кусочков картона, и спросил сдавленным голосом:
— На ком? На ком вы женитесь?
— Пока не знаю! Ты что, с ума сошел? Зачем ты все рассыпал? Я должен отослать… Я женюсь в ближайшее время, но еще не знаю, на ком.
Лахец расхохотался.
— Ну, это другое дело!
— Что значит другое дело? — сопел покрасневший от усилий пенсионер. — Поможешь мне собирать. Что это на тебя нашло? Ведь я должен отослать это!
Композитор смещался и оробел… Он упал на колени и начал не ловко сгребать рассыпавшиеся фотографии, бормоча какие-то оправдания все еще ворчавшему старичку. Наконец работа была закончена. Они снова уселись друг против друга и начали удивительный разговор, во время которого каждый из них думал совершенно иное, нежели говорил. У господина Бенедикта вертелось в голове: какого черта племянник явился к нему в такое неподходящее время, а Лахец, рассказывая какую-то выдуманную историю, мысленно играл с собой в чет и нечет: одолжит или нет?
Наконец он не выдержал. Он оборвал фразу на середине и неожиданно сказал:
— Дядя, я в страшной нужде. Мне нужна помощь…
Господин Бенедикт замолчал. Долгое время он смотрел на своего гостя, хмуря белые брови и серьезно кивая головой, в конце концов тому надоело ждать, и он во второй раз спросил:
— Вы не могли бы… помочь мне, дядя?
И теперь господин Бенедикт не сразу ответил ему. Он встал, прошелся по комнате и несколько раз кашлянул.
— Дорогой мой, — начал он, — я должен был бы упрекнуть тебя за то, что ты такой легкомысленный… В Асуане тебе следовало не играть, а деньги, так неожиданно заработанные, получше сохранить…
Лахец поднялся, чтобы уйти. Господин Бенедикт понял его намерение и взял его за плечо. Он добродушно улыбался.
— Садись, садись! Ведь я тебе не отказываю! Я женюсь, как я уже сказал: поэтому хотел бы и тебе сделать что-нибудь приятное, на добрую память…
Он подошел к столу и выдвинул один из ящиков. Долго что-то там перебирал и, наконец, достал два клочка исписанной бумаги. Он быстро пробежал их глазами.
— Ты должен мне две тысячи сто шестнадцать золотых монет… Вот твои долговые расписки.
— Да. Если бы теперь еще такую сумму… хотя бы половину…
— Переведя это на нынешнюю серебряную монету, мы будем иметь…
— Если бы сейчас хотя бы четвертую часть этого…
— Я уже сказал тебе, что собираюсь жениться. Однако мне не хотелось бы, чтобы в такой момент между нами осталось что-то… Твоя мать как-никак была моей двоюродной сестрой…
Господин Бенедикт был на самом деле растроган. Он проглотил слюну и широко распахнул влажные глаза. Героическим и дружелюбным жестом он протянул руку с расписками в сторону удивленного Лахеца.
— Бери! С этой минуты ты мне ничего не должен! Я дарю тебе эти две тысячи сто шестнадцать монет. Прими это в память о твоей матери.
Голос его задрожал от волнения.
Лахец онемел, совершенно ошеломленный таким неожиданным поворотом. Он видел, что дядя стоит и ждет, что он бросится ему на шею или по крайней мере поблагодарит его. Композитор буркнул что-то невразумительное и, засунув собственные расписки в карман, как будто они действительно имели для него какую-то ценность, стал собираться.
Господин Бенедикт нетерпеливо пошевелился. Было видно, что он удивлен холодностью племянника по отношению к своей щедрости, и хочет еще что-то сказать… Он остановил племянника на пороге.
— Послушай, — заговорил он, придавая голосу несколько таинственное звучание, — но в течение трех лет ты не платил мне процентов… Капитал я тебе подарил, но проценты… видишь… я собираюсь жениться, у меня будут значительные расходы… Если при себе у тебя нет денег, то в течение ближайших дней пришли мне положенные проценты. Пусть между нами все расчеты будут улажены!
Он сердечно обнял его и вернулся в комнату. Он совершенно не мог понять, почему Лахец не только не обрадовался, но, выходя, бросил на него такой взгляд, как будто хотел убить.
Он тяжело вздохнул, подумав о человеческой неблагодарности, и слезливо улыбнулся при воспоминаниях о собственном благородстве, потом с чувством выполненного долга уселся за столом, чтобы написать письмо Азе.
Тем временем Лахец, выйдя из дядиного дома, начал скитаться по улицам города без мысли и цели.
Огромные электрические лампы, свет которых смягчался голубым стеклом, заливали широкие тротуары, переполненные прогуливающейся вечерней толпой… Издавна был упразднен старый и смешной обычай закрывать магазины на ночь. Теперь магазины были закрыты от одиннадцати до пяти часов дня, зато до полуночи и дольше они сверкали освещенными витринами, наполненные движением, шумом, звуком пересыпаемого золота. Золото, впрочем, сыпалось везде, оно плыло рекой, то разбрызгиваясь по сторонам в виде капель, то собираясь в одном месте, как в широком корыте… Этот непрестанный звук был слышен и у входа в гигантские многочисленные театры, концертные залы, цирки, биофоноскопы, в дверях кафе, где в перерывах между голосом граммофона (Халсбанд и К°), попеременно выдающим последние телеграммы и арии самых модных певцов, безобразно голые танцовщицы махали ногами в черных сетчатых трико; в банках, ведущих сейчас самую интенсивную работу, — и везде, везде, куда ни кинь взгляд.
Влекомый толпой, то сталкиваемый ею с тротуара, то уступающий дорогу многочисленным автомобилям, летящим посредине улицы, Лахец шел до тех пор, пока ноги несли его, совершенно не думая о том, куда идет и что будет делать завтра. Он был не в состоянии даже думать о своем положении. Сквозь шум разговоров, крики, звуки сирен, омерзительное хрипение граммофонов, свист тормозов до Лахеца доносились обрывки, клочки его собственной музыки, которая, казалось, вырывалась из его собственной души, окутывая благотворной волной его измученную голову… Тогда он на мгновение останавливался в уличной толпе, мысленно унесенный за сотни миль отсюда, и ловил пролетающие звуки, прежде чем они исчезнут и рассеются в шуме толпы. Но снова его толкал кто-то, кто-то выкрикивал название свежевыпущенной газеты, или страж общественного порядка запрещал ему останавливаться, чтобы не мешать свободному движению, и он снова поспешно шел вперед, как будто действительно торопился куда-то.
Наконец он остановился в каких-то воротах, не зная зачем. У него было такое впечатление, что он находится в хорошо известном ему месте. Он поднял голову. Перед ним на другой стороне улицы виднелась огромная освещенная надпись «Халсбанд и К°. Совершенные граммофоны».
Он отпрянул, как конь, испуганный взорвавшейся под ногами петардой. Из окон огромного здания неслась страшная какофония сотен инструментов, видимо, для испытания запущенных в движение: каждый из них играл что-то свое. Одни пели, с других доносились звуки оркестра, были и такие, что одновременно издавали голоса животных и пьяную ругань работников какого-то предместья.
У Лахеца волосы встали дыбом. Он хотел уже сбежать от этой адской музыки и от своей тюрьмы, когда неожиданно услышал доносящийся из какого-то мощного аппарата, звучащий насмешливо и страшно, его собственный «Гимн Изиде». Он узнал слова Грабца, бурю своих звуков и голос Азы… глумливо искаженный металлическим горлом…
В глазах у него потемнело: прислонившись спиной к стене, он с такой страшной ненавистью, с такой враждебностью смотрел на дом, что губы у него дрожали над стиснутыми зубами, а руки до боли сжимались в кулаки… В голове у него мелькали страшные и невероятные замыслы: разнести этот дом в пыль, перерезать Халсбанду горло, либо, посадив ему в уши два самых громких аппарата, насмерть оглушить его ими…
Потом он неожиданно ощутил все свое бессилие и, как бы стыдясь его, втянул голову в плечи. Брови у него стянулись; он мрачно смотрел перед собой каким-то тупым, мертвым взглядом…
Он долго стоял так, ни о чем не думая, когда вдруг почувствовал, что кто-то положил руку ему на плечо. Он обернулся. Рядом с ним стоял Грабец.
— Я давно ищу вас… Пойдемте со мной.
Лахец невольно послушался этого повелительного голоса и, даже не спрашивая, куда он его ведет, пошел за Грабцем в путаницу слабо освещенных боковых улочек.
Они долго шли в молчании. Миновали людные и шумные районы, полные сверкающих магазинов, и добрались до огромных фабрик на окраинах города, где ночь и день за черными стенами шла лихорадочная работа. Дороги и тротуары здесь были не мощеные, а просто засыпанные угольной крошкой; мягкое освещение здесь заменяли неприкрытые дуговые лампы на высоких столбах, похожие на звезды, висящие на виселицах. В их ярком, холодном свете от фабричных труб, от вагонов, движущихся по рельсам, от идущих людей падали черные тени. Огромные окна зданий, поделенные на маленькие квадратики, мутные от вековой пыли, горели огнем, как отверстия адских печей.
Грабец вместе со все еще молчащим Лахецом остановился в провале стены. Было время, когда работники одной из фабрик менялись после обычной двухчасовой работы, уступая места своим сменщикам. В широко распахнутые двери вливалась волна молчаливых людей, одетых в серые брюки и полотняные блузы. Было хорошо видно, как они растекались по огромному залу, вставая наготове за спинами работающих у машин. Тот и другой закатывали рукава, растирали твердые ладони… Зазвучал первый звонок; лица ожидающих приобрели тупое, но внимательное выражение.
По другому знаку сотня людей отступила от машин, и в то же самое мгновение, без всякого перерыва, сто новых рук опустились на рычаги, подхватили рукоятки регуляторов. Освободившиеся, теснясь посередине зала, медленно расходились, как бы пробудившись от какого-то каталептического сна, бросали товарищам отрывистые слова, снова становясь людьми. А при работающих машинах стояли уже новые манекены.
Из открытых дверей людская волна стала выливаться на обширный двор. Грабец быстрым взглядом окидывал проходящих мимо него рабочих, пока не подступил к одному из них.
— Юзва!
Окликнутый обернулся и встал. Огромного роста мужчина с рыжими волосами и хмурым взглядом. Но в молодых глазах тлел странный огонь упрямства и решительности.
— Это вы, Грабец?
— Да.
Рабочий подозрительно посмотрел на Лахеца.
— А кто это с вами?
— Новый товарищ. Имя его не имеет значения. Пошли.
Они вынырнули из окружающей их толпы и направились к большому трактиру, расположенному поблизости, где ночной порой после работы собирались рабочие для отдыха и развлечения.
В обширных залах было многолюдно и шумно. Лахец с интересом и не без определенного удивления смотрел на лица и фигуры присутствующих, сильные, плотные, такие не похожие на те, которые он на протяжении всей своей жизни встречал в центральных районах, в театре, на улицах, в бюро и в кафе. Пропасть, отделяющая рабочие массы от остальной части общества, в течение веков разрослась так странно и непонятно, что там, «на вершинах» цивилизованной жизни практически не подозревали об их существовании…
Они уселись в углу за отдельный столик. Воспользовавшись минутой, когда Юзва отошел, чтобы отдать распоряжения служащему или для разговора с каким-то знакомым, Грабец спросил Лахеца, указывая головой на собравшихся:
— Вы знаете, что это такое?
Лахец посмотрел ему в глаза.
— Море, море, которое нужно заставить заволноваться, разбушеваться, вздыбиться и залить им весь мир…
В голове Лахеца, до сих пор совершенно ошеломленной, вдруг что-то блеснуло, ему показалось, что он начинает понимать…
— И вы хотите?..
Грабец кивнул головой, не отводя глаз.
— Да.
— И вы позвали меня?..
— Да.
— Чтобы не было Халсбандов, граммофонов, старых пенсионеров?
— Да. Чтобы не было ничего из того, что существует. Только огромное море, смывающее грязь с земли — а над ним приказывающие ему боги.
Юзва подошел к ним и тяжело опустился на стул. Они начали разговаривать, низко наклоняясь друг к другу. Вначале Лахец, ошеломленный тем, что услышал, не мог понять смысла доносящихся до него слов. Он только смотрел на обе головы, склонившиеся друг к другу, такие разные, но объединенные в этот момент какой-то мыслью. Глаза Юзвы тяжело открывались, когда он начинал говорить, и продолжали смотреть твердо, решительно. Слова он выговаривал медленно, на вид совершенно спокойно, но минутами было видно, что где-то за ними скрывается неумолимая, сумасшедшая ненависть и сила, только усилием воли удерживаемая от взрыва…
Лицо его с невысоким лбом на первый взгляд казалось тупым и — неприятным. Однако, когда Лахец лучше присмотрелся к нему, ему пришло в голову, что этот человек не может быть только рабочим… Он стал обращать внимание на то, что тот говорит.
— Грабец, — говорил Юзва, опершись кулаками о стол, — неужели вы думаете, что я затем стал рабочим и десять лет жизни отдал отупляющей работе фабрики, чтобы сегодня исполнять чьи-то желания? Послушайте меня, Грабец, мне наплевать на чье бы то ни было благо, утопий я не пишу, о будущем человечества не мечтаю. Я только знаю, что необходимо, чтобы иногда наверху было то, что целыми веками находилось внизу, чтобы подземный огонь выбросился наружу… Что будет завтра, завтра покажет.
— Однако вы не отказываетесь идти со мной? — спросил Грабец.
По широким губам Юзвы пробежала усмешка.
— У меня нет причины отказываться, — ответил он. — Пока у нас общая цель. Но вы хотите нас, варваров, как думаете в душе, использовать в качестве орудия, но я смеюсь над этим и над вами Самое лучшее — выяснить все до конца. По вашему убеждению, победой, одержанной с нашей помощью, воспользуетесь вы, мудрецы, ученые, артисты и тому подобные. А я заявляю вам, что не мы вам, а вы нам потом будете служить, если нам, конечно, придет охота воспользоваться тем, что вы можете дать.
— Время покажет. Мы не собираемся использовать вас.
— Собираетесь. Но это не имеет значения. Вы правы: время покажет. А пока не о чем говорить. Теперь и вам, и нам нужно только одно: уничтожение того, что есть, этого развращенного общества, переворот. Мы пойдем вместе… Развалины останутся там, где мы пройдем, пепелища и кровь.
Лахец слушал затаив дыхание, какие-то новые мысли, подобные крепкому вину, ударили ему в голову.
III
Был полдень, когда самолет Яцека, возвращающегося от лорда Тедвена, опустился на площадку на крыше его дома в Варшаве. Яцек быстро вскочил с сиденья и, вызвав механика, чтобы тот занялся машиной, сбежал по лестнице вниз. Его охватило странное беспокойство, которого он не мог объяснить: ему срочно нужно было в лабораторию — ему казалось, что за время его отсутствия там что-то произошло…
Эта мучительная мысль пришла ему в голову во время обратного пути, когда высоко в воздухе он еще искал глазами на горизонте родной город. С той минуты он летел с сумасшедшей скоростью, самой большой, на которую был способен его самолет. Вращение винта, рассекающего воздух, соединялось с неумолкаемым свистом ветра; Яцек был вынужден надеть на лицо кислородную маску, чтобы в таком сумасшедшем полете иметь возможность дышать… Кровь стучала у него в висках.
Он ощутил некоторое облегчение, когда увидел, что его дом стоит невредимый на прежнем месте.
В большом, застланном светлыми асбестовыми коврами вестибюле, у дверей лаборатории, он встретил служащего, который, услышав шум его самолета, выбежал из дальней комнаты.
— Что слышно?
— Ничего нового, Ваше Превосходительство. Мы ждали вашего прибытия.
Яцек поискал в кармане, где находился ключ от его лаборатории.
— Никто меня не спрашивал?
— Нет. В течение этих двух дней не было никого.
— А посланцы с Луны?
Слуга усмехнулся.
— Все нормально. Только этот растрепанный…
Он замолчал.
— Что такое?
— Ваше Превосходительство приказали исполнять все их пожелания. Этот растрепанный постоянно отдает распоряжения. Но с ними невозможно справиться. При этом он говорит на каком-то странном языке, в котором очень мало польского, и сердится, что мы его не понимаем.
Махнув рукой, Яцек отослал лакея и, отложив на потом встречу с карликами, вложил ключ в таинственный замок. Несколько оборотов и нажатий — и двери распахнулись в обе стороны, открывая за собой темноту. Металлические ставни на окнах были закрыты; Яцек поискал рукой кнопку и, вложив в отверстие пониже ее маленький ключик, нажал. Волна света хлынула через открывшиеся окна, слепя его.
Быстрым шагом он прошел первый круглый кабинет, в котором обычно работал за столом, и, отворив еще одну металлическую дверь, спрятанную в стене, через узкий коридор попал в свою личную лабораторию, которая соединялась с миром только одним этим входом.
Остановившись на пороге, он невольно вскрикнул.
Над прибором, в котором заключалась страшная тайна его изобретения, неподвижно сидел склонившийся человек… Одним прыжком Яцек оказался возле него. Человек медленно встал и повернулся.
— Ньянатилока!
Он взглянул в лицо буддисту, а потом, даже не спрашивая, как он проник сквозь запертые металлические двери и окна, склонился над прибором… Один из проводов, по которым проходил электрический ток, был оборван. Яцек посмотрел на стрелку циферблата, фиксирующего напряжение, — и помертвел! Провод был оборван именно в ту минуту, когда ток по необъяснимой причине усилился до такой степени, что прибор мог взорваться… Еще одна доля секунды, и не только его дом, но и весь город превратились бы в груду развалин на изрытой земле.
— Опасности больше не существует, — сказал индус, улыбаясь. — Провод оборван.
— Это ты сделал?
Ньянатилока ничего не ответил. Он взял Яцека за руку и медленно повел его в кабинет. Ученый послушно, как ребенок, шел за ним, не в состоянии мыслить. Какой-то хаос царил у него в голове; он просто боялся спрашивать Трижды посвященного, что произошло, настолько ему все казалось невероятным.
Только через какое-то время, уже сидя в удобном кресле перед своим столом, он очнулся от этого ошеломленного состояния и начал смотреть на Ньянатилоку, как будто пробудившись ото сна, широко раскрытыми глазами. Ему хотелось вытянуть руку и прикоснуться к его бурнусу для того, чтобы убедиться, действительно ли этот человек стоит перед ним, но какой-то стыд удерживал его от этого…
То ли Ньянатилока заметил начало его движения, то ли прочитал его мысли…
— Неужели ты думаешь, — сказал он, — что прикосновение значит больше, нежели взгляд? Ведь ты видишь меня.
— Откуда ты взялся здесь?
— Не знаю, — совершенно искренне ответил индус.
— Как это не знаешь? Ведь это невозможно! В ту минуту, когда я запирал лабораторию, два дня назад, в ней никого не было, я это точно знаю…
— Еще вчера я был на Цейлоне в обществе моих братьев…
— Ньянатилока! Сжалься надо мной! Скажи правду!
— Я и теперь говорю правду. Сегодня — час или два назад, молясь, я почувствовал вдруг, что в твоей лаборатории происходит что-то страшное. Но, несмотря на величайшее усилие, я не мог понять, что это такое, поэтому не мог остановить катастрофу на расстоянии, и почувствовал, что нельзя терять времени.
Пот крупными каплями выступил у Яцека на лбу.
— Говори, что дальше!
— Особенно рассказывать нечего. Я отсек все чувства, чтобы мне ничего не мешало, и пожелал оказаться здесь. Когда я открыл глаза, увидел перед собой провод твоего прибора — и оборвал его.
— Если бы ты заколебался на одну четверть секунды, то под действием взрыва вместе с домом превратился бы в ничто.
Ньянатилока усмехнулся, глядя ему в глаза.
— Ты не веришь? — бросил Яцек.
— Неужели взрыв твоей машины может обратить в ничто то, что действительно существует, душу?
Яцек замолчал. Белыми руками он вытер лоб и, встав, начал ходить по комнате. Только через несколько минут он заговорил:
— Я не могу сегодня разговаривать с тобой. Слишком большой хаос я чувствую в голове и просто устал от размышлений… Вчера вечером у меня был странный разговор, который я еще не могу осмыслить.
Он замолчал и остановился, потом вдруг повернулся к Ньянатилоке.
— Слушай! Скажи мне, что такое дух? Я постоянно, постоянно слышу это слово… Я много знаю, но о нем одном не имею никакого понятия, хотя это самое близкое ко мне, хотя это я сам! И никто об этом не знает, никто об этом никогда не знал! Неужели действительно нужно только верить в то, что в человеке есть истинная глубина?
— Верить — это мало, — прошептал Ньянатилока, глядя перед собой широко открытыми глазами. — Нужно обязательно знать.
— И ты знаешь?
— Знаю.
— Откуда? Как?
— Потому что так хочу.
Яцек пожал плечами с выражением разочарования на лице.
— Мы опять входим в безумный круг. Наши способы мышления так различны, что мы, видимо, никогда не придем к пониманию. Неужели знания могут зависеть от воли?
— Да. Они зависят от воли.
Наступило молчание. Яцек снова уселся и положил голову на руки.
— Ты странно говоришь. Мне трудно понять выводы твоего такого непонятного для меня размышления. Однако меня притягивают твои знания, спокойные и уверенные, опирающиеся на волю. Скажи же мне, чем для тебя является дух?
— Дух является тем, чем он есть. Все от него произошло, а без него не было бы ничего, что есть.
Перед глазами Яцека замаячила огромная седая голова лорда Тедвена, склонившаяся над Евангелием от Иоанна.
— Значит, и ты, и ты то же самое… — прошептал он.
Казалось, Ньянатилока ничего не слышит.
— Мир произошел от духа, — продолжал он, — и дух — свет жизни и ее единственная истина, а то, что вокруг него, это только видимость. Дух становится телом…
— А если он умрет вместе с телом? — невольно сказал Яцек.
Восточный мудрец усмехнулся.
— И ты способен хотя бы на минуту допустить такую ужасную вещь?
— Я ничего не знаю. Перед тобой я открыто признаюсь, что не знаю. Есть люди, которые утверждают, что так называемое тело, неважно чье, является не началом, а последней фазой духа, который рвется наружу, чтобы наконец освободиться от собственного напряжения и исчезнуть вместе с ним.
— Дух не исчезает. Не может исчезнуть то, что на самом деле существует.
— Так какова же его судьба после смерти тела? После утраты тех чувств, которые позволяют видеть, слышать, после утраты мозга, с помощью которого он мыслил?
Ньянатилока не спускал глаз с говорящего.
— Тогда он свободен.
— И что же?
— Он существует. Только истину извлекает он тогда из себя вместо того, чтобы подвергаться влиянию чувств истинных или ложных.
— Не понимаю.
— И не нужно понимать, надо только знать. Что ты делаешь, когда утрачиваешь ощущения?
— Сплю.
— И дух, оставшись один, спит, только этот сон для него тогда является несомненной и единственной реальностью, потому что ничего извне ему не противостоит. С чего ты взял, что у той жизни, в которой мы оба сегодня существуем, есть иное основание? Что она есть чем-то… меньшим, чем мысль — потому что это самое высшее! Может, в какой-то иной жизни, где мы от иной, хотя также усилием воли созданной видимости тела избавлялись, наша последняя мысль послужила зародышем жизни, которая длится…
— Хорошо, допустим. Но зачем же мы все думаем одно и то же и подобную действительность духом для себя создаем, ведь я вижу то же самое, что и ты?
— Потому что дух, в принципе, один, и через различные перемены он стремится к единству, которое, видимо, было когда-то в самом начале, хотя не знаю, можно ли это начало брать в каком-то временном значении.
— А будущая жизнь?
— Я знаю, что так будет до тех пор, пока мы от последних иллюзий, от самообманов, от всех различий не освободимся, но не знаю как. Может быть, своей последней мыслью перед тем, как утратим ощущения, создадим себе новую жизнь, и каждый будет иметь в ней то, во что верил, чего желал, надеялся, либо то, чего опасался… Подумай, как прекрасно и страшно в одно и то же время: иметь силы создать новую жизнь из последней своей мысли, развить ее, наполнить, сделать реальностью! — и как нужно быть осторожным с этой последней мыслью, чтобы она не была подлым страхом или мучением, ибо в какое же неумолимое пекло человек тогда себя погрузит!
— А освобождение!
— Не желать ничего! Священное и великое слово, хотя слишком часто и святотатственно употребляемое: Нирвана. Бог — это бездна, бездна — это Бог, и мы вернемся к Богу!
После некоторого размышления Яцек встал и встряхнулся.
— Я напрасно говорю сегодня с тобой о подобных вещах, — сказал он. — Размышления утомляют меня и истощают до последней степени. У меня такое впечатление, что я внезапно утратил способность думать — твои слова приводят меня в какое-то странное состояние. Не говори, не говори больше. Я боюсь! Я должен был направить свои мысли по другому пути… но голова у меня идет кругом, она слишком слаба…
Он потер лоб руками.
Индус встал.
— Пойду, — сказал он. — Я навещу тебя в другой раз.
Яцек живо запротестовал.
— Нет, нет! Останься. Есть много вещей, о которых я хотел спросить тебя… Только теперь я должен немного остыть.
Он коснулся рукой звонка, вызывая слугу.
— Прежде всего нужно поесть, — с вымученной улыбкой сказал он.
Появился слуга. Яцек остановил его в дверях движением руки.
— Приготовь нам поесть и попроси посланцев с Луны, чтобы пришли ко мне…
После ухода лакея Ньянатилока поднял глаза на Яцека.
— Как ты думаешь поступить с этими сообщениями о твоем друге Мареке?
Яцек уже настолько привык, что этот непонятный человек читает его мысли, прежде чем они бывают облечены в слова, что даже не удивился, откуда он может знать о событиях последних недель. Он только пожал плечами и развел руки.
— Еще не знаю. Мне что-то подозрительны эти карлики. Мне кажется, надо построить новый корабль и лететь на Луну…
В голове у него сверкнула какая-то мысль. Он посмотрел на Ньянатилоку.
— Слушай, ведь ты мог бы рассказать мне, что происходит с Мареком?
Индус покачал головой.
— Этого я не знаю. Я ведь уже говорил тебе, брат, что воля человеческая не имеет границ, но знания ограничены и сознание не везде может проникнуть. Я знаю основы, но много мелочей закрыто предо мной, потому что исходят из посторонних источников.
— Однако ты всегда знаешь, что я думаю.
— Только тогда, когда ты мысленно обращаешься ко мне. Тогда ты невольно прибегаешь к помощи мыслей моей души.
Он опустил руку на его плечо.
— Оставим сейчас это. Ты сам говорил, что утомлен…
Яцек почувствовал, что внезапно под взглядом буддиста мысли у него начинают мешаться, и что-то, какая-то обессиливающая мгла, охватывает все его существо… В сознании у него сверкнуло, что Ньянатилока усыпляет его своей волей; он внутренне возмутился, хотел закричать, убежать, но сразу же его окутала темнота, гася его сознание до маленькой, маленькой искорки, тлеющей в темноте…
Он совершенно утратил ощущение времени и места, в котором находился. Такое состояние могло длиться как секунду, так и тысячелетие… Он ничего не желал, ни о чем не знал, ничего не чувствовал вокруг себя.
Медленно, медленно стали появляться какие-то звуки, какая-то мгла, сначала такая густая и серая, что едва отличалась от темноты, потом все более светлая, серебристая, превращающаяся в облако.
Детское, почти неосознанное любопытство стало пробуждаться в нем. Что-то блеснуло у него перед глазами — какай-то странный пейзаж: зеленые поля, освещенные низко стоящим солнцем… Через некоторое время он увидел, что будучи не в состоянии определить места в пространстве, на котором сам находится, он прекрасно видит обширную котловину, усеянную круглыми озерцами с неизвестной ему растительностью по берегам. Котловина со всех сторон замыкалась, как кольцом, гигантскими горами с заснеженными вершинами.
Он начал задумываться, где находится и что тут делает? Ему очень мешало то, что, жадно поглощая зрительные впечатления, он не может ощутить и почувствовать себя самого, собственного тела, как будто является чем-то невесомым и невидимым.
Он как раз думал над этим, когда вдруг почувствовал, что несмотря на свою нематериальность, может слышать. Какой-то звук удивил его, что-то похожее на шум битвы: выстрелы, стоны, крики. Теперь он увидел, что в центре огромной котловины на высокой скале возвышается город. Вокруг него, действительно, шла битва. Горстка людей с боем пробивалась сквозь нападавших на них и с земли, и с воздуха не то птиц, не то каких-то крылатых животных…
Четырехглазые чудовища с широко распахнутыми перепонками взлетали целыми стаями, разя сверху снарядами отстреливающихся людей…
Яцеку показалось, что он услышал знакомый голос. Огромным усилием воли он направил свое сознание в ту сторону.
— Марек!
Да, он очень хорошо видел, как тот бежал во главе отряда — удивительно огромный среди своих маленьких спутников. В руках у него было какое-то оружие в виде длинного ятагана, и он указывал им на стены города, красные от последних лучей заходящего солнца…
Он хотел крикнуть, хотел позвать его.
Шум, гвалт, грохот как будто раскалывающегося мира, черные молнии, на один миг все поглощающие.
Он открыл глаза. Перед ним по другую сторону стола в его кабинете сидел Ньянатилока, опершись подбородком на руки, и настойчиво вглядывался в него.
— Я спал?
— Да, брат. Ты заснул на мгновение. Что ты видел?
Яцек сразу все понял.
— Я был на Луне?!
— Мне хотелось, чтобы ты побывал там. Не знаю, удалось ли мне это. Ты не являешься неодушевленным предметом, как и я. Душа душе никогда полностью не подчиняется, а борется с ней.
— Да. Я был на Луне. Видел Марека. Он отвоевывает у каких-то странных чудовищ город. Может быть, он действительно царь. Но я знаю слишком мало, слишком мало! Я слишком быстро проснулся. Разве ты не мог дольше удержать меня в этом состоянии?
— Не сумел. Тем более, что мне приходилось следить, чтобы ты не перестал мыслить по-своему, смотреть своим глазами, а не моими.
Яцек хотел что-то ответить, но в ту же минуту двери отворились: слуга оповестил о прибытии приглашенных карликов.
Они вошли оба, недоверчиво поглядывая на Ньянатилоку. Рода даже страшно испугался, так как одежда индуса, простой белый бурнус напомнили ему Хафида, который возил их в клетке. Но Яцек не дал ему времени опомниться. Уже совершенно пришедший в себя, он быстро подступил к лунным жителям и спросил:
— Для чего вы говорили неправду, что Марек спокойно царит в лунном государстве, когда он именно в эти минуты сражается с чудовищами внутри огромного горного кольца?
Рода побледнел и затрясся всем телом.
— Уважаемый господин! Он действительно ведет войну…
И замолк. Ему пришло в голову, что Яцек не имеет никакой возможности узнать, что происходит на Луне, поэтому у него нет причины оповещать его о реальном положении вещей. Он облизал полные губы и гордо откинул голову назад.
— Однако мне очень больно, господин, — сказал он, якобы заканчивая прерванную фразу, — что вы с легким сердцем обвиняете нас в обмане. К обязанностям и обычным занятиям царя принадлежит и война; что же удивительного, если Марек действительно в настоящее время организовал поход, о чем, впрочем, ни вы, ни мы в эту минуту знать не можем.
Какое-то время Яцек молча смотрел на карликов, затем сказал:
— Я хотел вам сказать, что решил в новом корабле отправиться на Луну с моим приятелем. Вы составите нам компанию?
Минутная уверенность в себе лохматого «мудреца» исчезла в одно мгновение. Ноги у него задрожали, и он пробормотал что-то непонятное…
Ах! На Луну! Вернуться на Луну, оказаться снова в городе у Теплых Прудов, среди своих учеников, в центре обожающих его членов Братства Правды! Это было то, о чем он тосковал с первой минуты, когда нога его ступила на Землю — но мурашки пробегали по его телу при одной мысли, что он мог бы оказаться на Луне в обществе Яцека и, может быть, еще каких-то людей, которые быстро разоблачили бы его коварство и обман…
Он не знал, что делать, какой дать ответ, когда вдруг заметил, что Матарет, стоящий за ним, выдвигается вперед. Страшное предчувствие чего-то недоброго стиснуло ему горло — он хотел рукой сделать товарищу знак, остановить его, но было уже слишком поздно.
— Господин, — сказал Матарет серьезно, поднимая голову к Яцеку, — по-моему, уже наступило время, когда мы должны сказать правду…
— Молчи, молчи! — закричал Рода отчаянно.
Но Матарет не обратил на него никакого внимания. Он смело смотрел в глаза Яцеку и говорил:
— Марек не посылал нас сюда. Мы сами коварно овладели его машиной и, совсем не желая этого, прилетели на Землю.
Яцек побледнел.
— А Марек! Марек… он жив?
— Он сражается с шернами, как вы сами, не знаю откуда, узнали несколько минут назад.
И он стал рассказывать, как после прибытия Марека, которого лунный народ сразу же принял за обещанного пророками Победителя, они стали считать его обманщиком и начали борьбу против него, собирая непризнающих его около себя. Он рассказывал о борьбе с чудовищными жителями Луны, шернами, о неудачах и победах, о том, как они овладели машиной, скорее с мыслью обратиться за помощью на ту, недоступную сторону Луны, откуда, как они думали, прилетел Марек, нежели с намерением лишить его возможности улететь обратно. Он только не упомянул, что это был именно его замысел, а не Роды, желающего только уничтожить ненавистного пришельца.
— И мы неожиданно оказались на Земле, — закончил он, — а что было дальше, вы знаете так же хорошо, как мы. Мы лгали от страха, чтобы тут нам не отомстили: мы были слишком слабыми против вас, беспомощными и одинокими. Теперь вы уже знаете всю правду. Поступайте так, как вы считаете нужным, однако, если вы действительно собираетесь полететь на Луну, то делайте это поскорее, потому что Мареку может в самом деле потребоваться помощь.
В молчании выслушал Яцек долгий рассказ. Брови сошлись у него на переносице и превратились в твердую и неподвижную дугу. Губы он стиснул, глаза напряженно смотрели вперед…
— Вы полетите со мной на Луну, — сказал он, поворачиваясь к карликам.
Матарет согласно кивнул головой.
— Да, полетим, господин.
Рода тоже поклонился в знак согласия, но в душе поклялся, что воспользуется любыми средствами, чтобы избежать этого путешествия, во время которого оказался бы во власти человека, который может отомстить ему. Короткого пребывания на Земле ему показалось достаточно, чтобы понять, что здесь его как-никак охраняет закон, одинаковый для всех, и ничего плохого с ним случиться не может, пока кто-нибудь не докажет его вины, но там — лететь снова через межзвездное пространство с другом своего врага!..
В голове Яцека тем временем быстро бежали мысли. Он невольно обернулся на Ньянатилоку, но тот куда-то исчез, тихо выскользнув из комнаты, поэтому, не имея возможности к кому-то обратиться, он обеими руками схватился за голову и глубоко задумался над судьбой приятеля, над намечаемым путешествием, над тем, что оставляет здесь и что может найти там.
Ураган, который может здесь начаться в любую минуту! Он не хотел принимать в нем участия, однако в настоящий момент испытывал странное чувство, что уходя отсюда, улетая в межзвездное пространство, как бы убегает от грозящей опасности, от окончательной схватки…
А если он будет нужен здесь?.. Если здесь понадобится выполнить то последнее, страшное действие, которое он оставляет для себя, не желая давать оружие в чужие руки, а его не будет?
— Какое мне дело до всего этого? — тихо прошептал он себе. — Улечу. Пусть делают, что хотят. Там меня ждет мой единственный друг…
Он встал как раз в тот момент, когда на пороге снова появился лакей с письмом на подносе.
— От госпожи Азы, — сказал он, кладя на стол конверт.
Яцек быстро разорвал конверт и пробежал письмо глазами, забыв о присутствии лунных карликов, которые с интересом следили за изменениями в его лице…
Он спокойно уселся на стул и положил перед собой исписанный листок. Аза сообщала ему, что вскоре приезжает в Варшаву на длительное время отдохнуть после выступлений и триумфов…
«Хочу, чтобы ты в это время был дома, друг мой, — писала она, видимо, уже забыв о мимолетном недавнем недоразумении, — так как я хочу о многом с тобой поговорить и провести время исключительно в твоем обществе… Может быть, в моей жизни будут изменения — ты первый узнаешь об этом…»
— У меня еще есть время, — сказал он себе вслух, — прежде чем построю корабль, а потом…
Он замолчал и, дав знак лакею, чтобы тот ушел вместе с карликами, подошел к окну и прислонил к стеклу печальное задумчивое лицо.
IV
— Вы должны любой ценой узнать тайну Яцека. Она необходима нам.
Говоря это, Грабец невольно сжал руку, которая в этот момент касалась ладони Азы. Певица заметила это движение и откинулась назад. Брови ее сдвинулись. Ее обидел его сухой, повелительный тон.
— А если я не захочу вмешиваться во все это? — вызывающе бросила она.
Грабец пожал плечами.
— Ничего не поделаешь. Я найду иной способ и все равно получу это изобретение. А вы будете продолжать петь…
Он замолчал и стал оглядываться в поисках шляпы и перчаток. Найдя их, он быстро склонился перед молчащей женщиной.
— Хочу попрощаться с вами…
— Нет! Останьтесь!
Она неожиданно подступила к нему со сверкающими глазами.
— Давайте будем играть с открытыми картами! Что вы мне дадите за… эту… тайну?
Он медленно отступил от двери и уселся на ближайший стул.
— Ничего особенного. Я уже говорил вам. Я сам не знаю, что буду с этого иметь…
— Так почему же я должна подвергать себя риску?
— Потому что вам так хочется. Вас интересует и притягивает все то, что произойдет, что может произойти, — вы рады возможности принять участие в этой великой и, возможно, последней борьбе, которая потрясет человеческое общество.
Актриса засмеялась.
— И это все? Вы готовы убедить меня, что это именно я прошу у вас разрешения оказать вам огромную услугу!..
— Все эти слова не имеют никакого значения. Вы хотите властвовать и вы знаете, что только в наших рядах и на нашей стороне есть место для королев.
Она уселась напротив него и, поставив локти на колени, положила подбородок на раскрытые ладони.
— А вам не приходило в голову, что я могла бы… изобретение Яцека… использовать сама?
— Не приходило и не придет. Я слишком хорошо знаю вас, чтобы предположить, что у вас могут быть подобные, до смешного непрактичные, намерения. Одна вы ничего сделать не сумеете.
— А вместе с Яцеком?
Грабец невольно взглянул на нее с беспокойством, но в ту же минуту усмехнулся.
— Попробуйте. Может быть, он и согласится.
Легкая ирония прозвучала в его голосе.
Она встала, задетая, и сделала к нему один шаг.
— Неужели вы думаете, что у меня нет иного способа властвовать над миром и вами, кроме того, чтобы выманить у кого-то рецепт взрывчатого вещества?
Он окинул ее холодным испытующим взглядом. Какое-то время он молчал, водя глазами по ее лицу, плечам, бедрам, как бы оценивая ее.
— Да, — сказал он наконец, — вы прекрасны, и поэтому вам кажется… Нет, дорогая госпожа! Вы сейчас не властвуете, а служите людям своей красотой.
Аза вздрогнула. Ей вспомнилось, что то же самое недавно она слышала из уст Яцека. Сдавленный смех вырвался из ее горла.
— Однако делается все, что я только захочу! И вы пришли ко мне с просьбой…
Он прервал ее движением руки.
— Госпожа Аза, оставим в покое эти рассуждения. У меня мало времени; меня ждут. Итак, последнее слово: вы беретесь раздобыть тайну Яцека — ни для чего иного, кроме как для того, чтобы иметь право встать по одну сторону с нами?
Говоря это, он снова встал, повернувшись вполоборота к дверям. Она колебалась только одно мгновение.
— Да! Потому что вы все в конце концов будете служить мне.
Грабец усмехнулся.
— Может быть. Пока — благодарю вас. Выбор средств, естественно, зависит от вас.
В дверях он вновь обернулся.
— Вы должны поспешить, — сказал он. — Яцек собирается улететь…
Она вопросительно посмотрела на него.
— Разве вы не знаете, что он строит корабль?..
— Корабль?
— Да. Чтобы отправиться на нем на Луну за неким Мареком, который прислал оттуда послов. Нельзя терять времени.
Он вышел с легким поклоном, оставив Азу в полной растерянности. Со времени прибытия карликов с Луны она только один раз спросила, какие сообщения они принесли от Марека… Ей было сказано, что ему хорошо живется там и он не собирается возвращаться на Землю… Она хотела еще спросить, нет ли для нее какого-нибудь письма или не передавал ли он ей чего-нибудь на словах, но ее гордость не позволила ей перенести такое унижение, и она только стиснула зубы.
Тогда ей казалось, что она ненавидит Марека точно так же, и даже больше, чем всех этих людишек, которые ползают у ее ног, скользя похотливыми глазами по ее недоступному телу, чем артистов и поэтов, которые лгут так же, как она сама, об искусстве, стремясь только возвыситься с ее помощью, чем, наконец, Яцека, этого противного человека, с таким сильным мозгом и с сердцем мягким, как у женщины, неспособного пожелать, и получить, и иметь…
Только Марека она не могла презирать, как всех остальных. В ней вспыхивал бунт против того, что когда-то — она его в самом деле любила — и она хлестала себя насмешками, и смеялась над ним, что ради звездной мечты, ради смешного царствования на Луне он забыл о ней, о самом высшем счастье и наслаждении — она называла его глупцом, сумасбродом, но, несмотря на это, не могла избавиться от удивления, что он совершил все это и ушел от нее туда — навсегда…
И что-то похожее на желание отомстить поднималось у нее в груди.
«Я буду властвовать здесь, буду! — думала она. — Буду властвовать здесь на Земле, а ты сиди себе на Луне».
В ней всегда жила огромная жажда власти, поэтому идея Грабца нашла отклик в ее душе, и она, несмотря на колебания, примкнула к его сторонникам, веря, что раньше или позже всех их увидит у своих ног. И хотя вскоре убедилась, что сам Грабец, надменный и холодный, не очень годится для роли подданного, по-прежнему поддерживала заговорщиков, особенно когда узнала, что Яцек не хочет к ним примкнуть. У нее было впечатление, что, кроме всего прочего, идет какая-то борьба между ней и этим молодым и красивым, как девушка, ученым, и хотя, кроме добра, ничего не видела от него, скорее инстинктивно, чем сознательно, стремилась любой ценой его победить.
Она по поручению Грабца устраивала у себя собрания заговорщиков и, по возможности, принимала участие в приготовлениях, даже не задумываясь, для чего ее во все это втягивают. Только теперь она поняла, что должна быть только орудием для добычи тщательно охраняемого изобретения Яцека. В первую минуту это возмутило ее, и она чуть не отказалась от дальнейшего участия в этой авантюре. Но она предприняла все усилия, чтобы опутать своими сетями Грабца, с мыслью, что рассмеется ему в лицо насмешливо и презрительно, когда он окажется у ее ног, и, отвернувшись, пойдет своей дорогой, но Грабец сохранял удивительное спокойствие по отношению к ней. Она начала верить, что этот невозмутимый и уверенный в себе человек действительно сможет владеть всем миром. Поэтому было бы ошибкой преждевременно порвать с ним.
И она согласилась подъехать к Яцеку, чтобы «вырвать у него жало», как она думала, которым этот «недотепа» сам никогда не воспользуется.
«Выбор средств зависит от вас», — сказал ей Грабец.
Она усмехнулась про себя. Разумеется, она найдет средства — раньше или позже. Теперь она понимает, почему Яцек так долго молчал, даже не отвечая на ее письма! На Луну улететь от нее задумал, как Марек! Хотя ей до него, как и до другого, нет никакого дела, она хочет, чтобы он остался здесь и служил ей.
На одно мгновение в грудь ей ударила горячая волна, ей захотелось бросить этот мир и вместе с Яцеком полететь на Луну за своим царствующим любовником… Она закрыла глаза — губы ее задрожали: упасть к его ногам, увидеть еще раз его смеющееся лицо…
Она быстро стряхнула с себя эту «детскую слабость». Насмешливая улыбка снова появилась на ее алых губах, взгляд стал твердым, устремленным куда-то вдаль…
Она позвала прислугу и велела переодеть ее, когда ей доложили, что пришел Лахец. Она взглянула на часы: было ровно четыре.
— Совсем забыла, — прошептала она.
Не закончив переодевание, она набросила на себя широкое домашнее платье из переливающегося шелка, пышные волосы поспешно стянула в узел и вышла к гостю.
С той мимолетной встречи в игорном доме она не встречала Лахеца. Однако слышала о нем часто и все с большим удивлением воспринимала то, о чем ей рассказывали. Лахец, по крайней мере так выглядело, совершенно перестал заниматься музыкой. На какое-то время он исчез, так что никто не знал, где он находится, но вдруг всплыл на одном из собраний, которые все чаще происходят в мире… Говорил там пламенно, необузданно, увлекая за собой массы. Призывал к полному перевороту того, что существует, к созданию на Земле нового порядка. Аза, читая об этом, сначала подумала, что это кто-то другой с таким же именем, но когда подобные известия дошли до нее во второй и в третий раз, притом с уточнением, что этим возмутителем спокойствия является композитор, занимавший до сих пор скромное положение в компании Халсбанда, она уже не могла сомневаться. Она не знала всех заговорщиков (Грабец был очень осторожен, несмотря на видимость гордой и пренебрежительной беззаботности), поэтому она могла только догадываться, что эти выступления композитора имеют отношение к тому, что готовится.
Власти Соединенных Штатов Европы, издавна привыкшие с легкомысленной пренебрежительностью наблюдать всякие «волнения» и «беспорядки», уже много веков не ведущие ни к каким серьезным результатам, и теперь в течение долгого времени ничем не мешали Лахецу. Только в последние недели на него стали обращать серьезное внимание. Слишком много народа его слушало и слишком большое влияние он оказывал — тем более что то, с чем он приходил к людям, правительству было не слишком приятно.
Наконец полиции был отдан приказ: задержать его. Однако тут произошло нечто неожиданное. Народ, который так доверял и так чтил силу службы безопасности, что никогда даже в мыслях не осмеливался помешать ей в ее действиях, на этот раз оказал явное сопротивление, силой вырвав Лахеца из рук властей.
Это было уже недопустимо. Правительство ради поддержания собственного престижа должно было победить любой ценой. Было решено схватить опасного композитора при первой возможности и примерно наказать, но оказалось, что это легче решить, чем выполнить. Возмутитель спокойствия исчез, как камень в воде, — хотя периодически появлялся совершенно в неправдоподобных местах, ораторствовал, смущал народ и исчезал снова, прежде чем до него успевала дотянуться «рука справедливости».
Аза с интересом следила по газетам за этой опасной игрой в прятки со всесильным правительством европейских Объединенных Штатов — и постепенно в ее мыслях непокорный композитор вырастал до размеров какого-то сказочного героя. Она даже вздрогнула, когда вчера неожиданно встретила его на улице. Он первым узнал ее и поклонился, пробираясь через толпу. Аза сразу же остановила свой автомобиль, медленно движущийся в толпе. Композитор заметил это и встал. На мгновение в его лице мелькнуло сомнение: ведь он рисковал своей свободой, если бы его узнали…
Одним прыжком он оказался у автомобиля.
— Вы хотели мне что-то приказать?
Но она уже поняла всю опасность, которой подвергла его.
— Жду вас завтра в четыре!
Она бросила ему свой адрес, даже не зная в ту минуту, зачем велела ему прийти и что скажет, когда он придет.
Композитор исчез в толпе, а она быстро забыла об этой встрече, занятая другими делами. Только теперь, когда шла в салон, чтобы поздороваться с ним, эта сцена живо предстала перед ее глазами. Она была несколько обеспокоена: не знала, как его принять, что сказать ему. Собственное ее воображение поставило его на вершину необычности и геройства, и она боялась, что этот некогда смешной, хотя и гениальный артист захочет разговаривать с ней с этой высоты — она почти злилась на себя за то, что неизвестно зачем пригласила его.
С высокомерным и холодным лицом, слегка нахмуренными бровями она остановилась на пороге. Композитор сорвался со стула и тихо приблизился к ней с покорно опущенной головой. В его бездонных глазах, по-прежнему испуганных, таилась немая мольба и благодарность за то, что ему позволено на нее смотреть, быть рядом с ней…
— Приветствую вас.
Он даже не услышал этих до жути банальных слов. Каким-то непроизвольным движением он опустился перед ней на колени и припал лицом к ее платью. Она отпрянула, испуганная.
— Что вы делаете? Что с вами?
Он поднял к ней печальные глаза и медленно встал.
— Прошу прощения. Мне не надо было этого делать. Если вы прикажете, я немедленно уйду.
Он говорил с каким-то горьким смирением — дрожащими губами, неловким движением нервно прижимая руки к груди. Тень недовольства промелькнула по красивым губам танцовщицы. Она посмотрела на него долгим и холодным взглядом.
— Это вы выступаете на собраниях?
— Да.
— Вас ищут?
— Да.
— Что вам грозит?
Он пожал плечами.
— Не знаю. Думаю, что запрут меня, может быть пожизненно, в какой-нибудь работный дом…
— Вы подвергаетесь опасности приходя сюда днем…
Он поколебался одно мгновение.
— Да. Я знаю. Они выслеживают меня.
— Зачем же вы пришли?
Лахец откинул голову, как будто отшатнулся от этого вопроса, заданного ледяным тоном. Прежний испуг исчез с его лица; он смотрел на Азу гордо и вызывающе.
— Я мог бы ответить: потому что вы меня позвали, — медленно начал он, — но это не было бы правдой. Я пришел потому, что мне этого хотелось, потому что я стремился увидеть вас — любой ценой — даже если бы мне пришлось заплатить за это жизнью…
Она пренебрежительно усмехнулась.
— Вы странно разговариваете со мной. Я могу приказать вам немедленно уйти…
Лахец испугался и снова стал покорным — только глаза его горели, как в беспамятстве.
— Я люблю вас, — сказал он глухо, — люблю, даже не зная, кто вы на самом деле и что вы сделаете с моей любовью, совершенно ненужной вам! Я говорю вам об этом, потому что мне нужно высказаться… Я не знаю, сколько я еще проживу и увижу ли вас еще когда-нибудь…
— Почему вы меня любите?
— К чему этот вопрос! Ведь я ничего не прошу от вас…
Она прервала его движением руки. Невиданная жестокость загорелась в ее глазах. Она медленно откинулась на спинку кресла и посмотрела на него из-под полуопущенных век, губы ее раздвинулись в легкой улыбке.
— А если бы я была готова… отдать вам… все?
Композитор отступил на шаг; в первый момент в его глазах вспыхнуло удивление, однако он тут же опустил голову и сказал тихо, как бы тоном прося прощения за то, что говорит:
— Я ушел бы отсюда…
— Вы ушли бы? Вы бы пренебрегли мной?
— Нет. Это не было бы пренебрежением… Я знаю, что вы только в шутку задали этот вопрос, но я отвечаю серьезно… Вы позволите мне говорить?
— Говорите, — сказала певица с интересом, подлинным или мнимым.
Он уселся на низенький табурет у ее ног и начал говорить, глядя в ее глаза.
— Видите ли, вся моя жизнь до сих пор была упорной борьбой за то, чтобы иметь возможность творить… Зачем повторять, через что мне пришлось пройти, через какие падения, неудачи, унижения! Все это уже позади. И теперь…
— Теперь вы бросили музыку, — перебила она.
Он покачал головой и усмехнулся.
— Нет. Я не бросил музыку. Только мои глаза открылись. Я понял, что шел неверным путем. Не работать и умирать нужно, чтобы творить, а жить!
— Жить…
— Да! Я не смогу вам это лучше объяснить; не сумею. Я только знаю, что для меня уже закончилась та низкая борьба, которую я вел. Я умираю с голоду, падаю от усталости, меня выслеживают, как зверя, я не уверен ни в следующем дне, ни в следующем часе, но сердце у меня в груди смеется от радости! Когда-то я поднимался в гору и меня пинали все, кому не лень — теперь спустился вниз и возвысился! Я находился среди «цивилизованных» людей, но ни они не понимали меня, ни я не понимал их — сегодня я нахожусь среди «дикарей» и чувствую каждое биение их сердец, рвущихся к свету, через пожары и развалины, но к свету, и знаю, что они слушают мой голос! И знаете, только теперь в моей душе рождается великий гимн! Если я переживу дни, которые наступают, моя музыка пронесется над пепелищами, как вихрь, она зазвучит таким победным гимном над останками человеческой нужды, что сердца людей будут разрываться от избытка жизненных сил, от радости наслаждения!
Он вскочил на ноги, и глаза у него запылали.
— К черту все театры! — крикнул он. — Прочь вместе с кулисами, декорациями, искусственным светом, с бездушным оркестром, слишком ученым, но трусливым! У меня должно заиграть море, ветер в горах, гром на небе, живительные леса и степи! Моя госпожа! Я хочу дожить до этого гимна, хочу написать его! Хочу создавать музыку не для избранных слушателей, мы очистим мир, чтобы она могла широко разноситься по нему! Если она вырвется из моей груди…
Он стиснул кулаки, из-за толстых губ, раскрывшихся в улыбке, сверкали белоснежные зубы…
Аза, неподвижно сидящая, спокойно смотрела на него из-под опущенных ресниц.
— Господин Лахец…
Он пришел в себя и опустил голову.
— Прошу прощения. Я слишком громко говорю…
— Подойдите поближе. Вот так. Вы удивительный, удивительный человек. У вас горит душа. Но скажите же мне наконец, какое все это имеет отношение ко мне? Почему вы бы… сбежали… если бы я протянула к вам руку…
Просветленное лицо Лахеца стразу помрачнело.
— Я люблю вас.
Она громко рассмеялась.
— Это я уже знаю.
— Нет, не знаете. Вы даже не представляете, что это значит; когда я думаю о вас, весь мир исчезает с моих глаз. О, как хорошо, что у меня нет никакой надежды!
Он спрятал лицо в ладонях и несколько минут молча сидел так. Она смотрела на него теперь с явным интересом.
— Говорите дальше. Я хочу все знать.
— Хорошо. Вы будете знать.
Он снова поднял на нее глаза, пылающие от любовной лихорадки, и стал быстро, торопливо говорить:
— Не знаю, всегда ли любовь бывает такой, но я даже ненавижу вас в то же самое время! Боюсь — даже не вас, а самого себя боюсь. Я чувствую, что если бы хотя бы раз прижался к вашей руке губами, то это был бы конец всего, всего… Я бы уже не смог от нее оторваться.
— Не бойтесь. Я сама бы у вас ее вырвала в случае необходимости.
Он страшно сверкнул глазами.
— Я убил бы вас…
— Вы просто так говорите…
Она уже начала с ним свою игру, как кошка забавляется с мышью.
— Нет. Если я говорю… Ах, если бы вы могли знать, сколько раз я об этом думал, глядя на вас из укрытия, ловя глазами каждое ваше движение!
— Чтобы убить меня?
— Да. Вы должны быть убиты. Вы пришли в этот мир для того, чтобы делать людей несчастными!
— Но я могу дать и счастье. И какое счастье!
Внезапная дрожь пробежала по телу композитора.
— Я знаю, догадываюсь, чувствую. И именно поэтому… Безумное счастье, которое ломает, сводит на нет… Быть сильным настолько, чтобы решиться на это: около вашей белой шейки сомкнуть пальцы и сжимать, сжимать, пока последний дух не вылетит! А до этого даже ваших губ не коснуться…
Удивительное, даже болезненное наслаждение дрожью пробежало по спине Азы.
— Почему же… до этого… не касаться моих губ? Разве вы не видите… какие она алые? Разве вы не чувствуете — издалека — какие они горячие?
Лахец, обессилев от волнения, облокотился спиной о стену и молча смотрел на нее безумными глазами.
— Что было бы, если бы я вас поцеловала?
— Не знаю, не знаю. Я должен идти.
Он стал поспешно собираться.
— Останьтесь…
— Не хочу.
— Ты должен остаться!
— Лучше вы… лучше вы…
— Послушай — посмотри на мои губы. Ты считаешь, что это смерть? Пусть так. Неужели ты не чувствуешь, что один мой поцелуй стоит больше, нежели все это смешное освобождение человечества, эта борьба, эти громкие слова, все искусство, вся жизнь? Разве ты не чувствуешь?
— Чувствую. И… поэтому… уйду…
— Нет. Ты останешься. До тех пор, пока я захочу!
Лахец почувствовал на себе ее пылающий взор и зашатался на ногах. У него было такое чувство, что все его мышцы распадаются, в глазах у него потемнело, в голове зашумело… Последним усилием воли он выговорил:
— Я уйду…
Она громко, победно рассмеялась, и прежде чем он смог понять, что она делает, припала хищными губами, которые так великолепно могли изображать любовь, к его воспаленным губам.
V
Бледный, тихий рассвет поднимался над Татрами… Ньянатилока сидел неподвижно, застыв, повернувшись лицом к заходящий Луне. Глаза у него были прикрыты, руки оплетены вокруг колен. Холодная утренняя роса покрывала его полунагое тело и сверкала, стекая каплями подлинным черным волосам. Несколько разлапистых елей покачивались над ним от ветра, который иногда налетал с гор, вершины которых начали уже розоветь в первых лучах восходящего где-то за скалами солнца. Стояла полная тишина, окутавшая весь мир; казалось, что в ней уснул даже далекий поток, не смея своим шумом мешать этому удивительному времени размышлений.
Ньянатилока, не поднимая век, медленно шевелил губами, как будто молился шепотом Сущности всех вещей.
— Приветствую тебя, небо, — тихо говорил он, — и тебя приветствую, Земля и душа моя, мыслью сотворенные и в мыслях живущие… Благодарю тебя, душа моя, что ты чувствуешь небо и землю, благодарю тебя за то, что ты поняла, в чем твои истоки, и знаешь, что конца тебе никогда не будет! Все возвращается в море, в изобилие и силу, и ни одна капля не пропадает зря, даже если она уходит в песок или падает на скалы, просто дорога ее длинна и трудна работа.
Не укоротится путь бренных вещей, потому что не существует времени, и жизнь возвышается надо всем, не уменьшится бремя работы и мучений, потому что не туда смотрит стремящийся к своим истокам дух.
О душа моя, будь благословенна в своей вечной, неистребимой и всеохватной сущности за то, что ты научилась смотреть сквозь время и жизненные страдания.
Какой-то камень сорвался с вершины скалы и рухнул в пропасть, увлекая за собой целую лавину. Прогрохотало далекое эхо и погасло в ущельях. Солнечный свет упал уже ниже; в нем золотились обширные поля горных пастбищ. В фиолетовой глубине озер проглядывало небо гораздо более светлое и золотящиеся на его фоне горные вершины…
Ньянатилока медленно открыл глаза. Тут же, у его ног, у погасшего костра лежал Яцек, укутанный плащом от ночной прохлады, и спал. Его вьющиеся волосы были разбросаны по влажному мху, согнутая рука прикрывала его глаза, но были видны приоткрытые в сонном дыхании губы, несколько побледневшие от холода. Индус долго смотрел на него с удивительной, грустной сердечностью в задумчивом взгляде.
— Если бы ты мог выйти за пределы своего тела, — прошептал он, — если бы сумел понять, какова твоя дорога… Мне кажется, я нашел твою душу, подобную жемчужине, а должен превратить ее в каплю прозрачной воды, которая при солнечном свете испаряется и растворяется в пространстве. И не потому, что у меня есть еще какие-то обязанности, кроме заботы о развитии собственном, просто мне жаль омраченной красоты и спрятанной наивысшей силы…
Над ними высоко на скалах защебетали воробьи, клюющие созревшие семена горных злаков, где-то на противоположном склоне зазвучал резкий, порывистый свист спрятавшегося в траве сурка.
Трижды посвященный еще некоторое время беззвучно шевелил губами, как будто мысли молитвы сопровождал движением губ, потом протянул руку и легонько коснулся плеча спящего.
Яцек быстро поднялся и сел, расправляя застывшие члены. Потом осмотрелся вокруг с выражением глубочайшего удивления.
— Где мы находимся?
— В Татрах…
Он стоял уже на ногах.
— Как я сюда попал?
Как сквозь сон, у него промелькнуло воспоминание, что накануне вечером в собственном доме он разговаривал с Ньянатилокой о своих любимых лесах в Татрах… Он потер рукой лоб. Да, он прекрасно помнит! У него было такое впечатление, что он заснул, облокотившись на свой письменный стол, а потом ему снился костер, разложенный в сосновом лесу, и Луна, горящая над вершинами… Ему снилось… а теперь…
Он посмотрел на себя. Плащ упал с его плеч; он был одет так, как пришел вчера домой: в свой обычный костюм… Он осмотрелся, нет ли где его самолета, на котором индус мог бы перевезти его во сне. Вокруг было пусто; осенние травы, покрытые холодной росой, стояли прямо — было похоже, что нога человека их не касалась, как будто они, идя сюда, пронеслись по воздуху.
— Как я сюда попал? — повторил он.
— Вчера мы говорили о Татрах, — скромно, но несколько уклончиво заметил Ньянатилока… — Ты замерз. Пойдем согреемся в укрытии внизу.
Яцек не двинулся с места.
— Ты хочешь о чем-то говорить?..
— Нет. Я хочу думать. Дух создает себе окружение, которое хочет. Мысль — это единственная истина.
— Ты перенес меня сюда силой своей воли?
— Не думаю, брат, чтобы это было так. Мне кажется, говоря откровенно, что мы находимся там же, где и были. Сменилась только реальность наших мыслей…
Говоря это, Ньянатилока шел вперед, рассекая голыми коленями буйную растительность и стряхивая лбом росу с раскидистых веток елей. Яцек молча шел за ним и невольно искал для себя какой-то уловки, которая помогла бы ему и его собственному разуму объяснить это непонятное перенесение с далеких равнин Мазовше в сердце Татр. Несколько раз он стукнул себя по лбу, чтобы убедиться, что не спит, пробовал мыслить логично, что требовало полной ясности ума.
Потом он услышал обращенный к себе голос:
— Разве ты не хочешь, брат, чтобы мы остались здесь? Вчера ты говорил в своей лаборатории, что это единственное место, где ты мог бы жить, думать и быть самим собой…
— Боюсь, что я еще не созрел для этого, — прошептал Яцек. — И страх охватывает меня при одной мысли…
Он необычайно четко, ясно видел то, что его окружало, и только удивлялся тому, что когда открывал рот, слышал свой голос, как бы доносящийся откуда-то издали… Он чувствовал, что Ньянатилока остановился и смотрит на него — и ему стало стыдно, как бы он своими волшебными глазами не прочел его тайные мысли. Он наклонился, чтобы спрятать лицо, и сорвал растущую у его ног веточку горечавки, покрытую темно-голубыми цветами.
«Сегодня должна приехать Аза, — подумал он, — как она писала в письме…»
Ему стало жаль, что он не находится сейчас в своей лаборатории, хотя вчера он был рад сбежать от обещанного визита.
Он выпрямился с веточкой сорванного цветка в руке и поднял глаза… И остановился как громом пораженный, охваченный удивлением, граничащим с ужасом.
Он находился в своей комнате — у стола, заполненного бумагами, рядом со своими книгами и картинами.
— Ньянатилока!
Никто не ответил ему; он был один. Из-под приподнятых штор в комнату вливался холодный утренний свет, снизу доносился шум уже проснувшейся улицы.
— Я спал! — прошептал Яцек с облегчением и поднес руку ко лбу. — Я, видимо, заснул вчера во время разговора и…
И он отскочил назад. Он увидел в своей собственной руке, поднятой вверх, цветущую веточку горечавки, свежую, еще покрытую блестящими каплями росы…
От ужаса он так быстро разжал пальцы, что выпущенный из них цветок упал на ковер у его ног, обутых в промоченные туфли. На их черной коже блестели прилепившиеся, мокрые от росы мелкие листочки и травинки… Вся его одежда была пропитана дымом от сосновых веток.
Яцек подошел к креслу и медленно опустился на него, обхватив голову руками.
«Что же есть, — думал он, — все, что мы видим, что же есть так называемая реальность жизни, если я сижу в эту минуту здесь с горным цветком в руке и просто не имею понятия, как это произошло и как могло произойти?.. Ньянатилока говорил (значит, мне все-таки это не снилось?!), что не мы в таких случаях с места на место переносимся, а только наш дух создает себе окружение согласно своей воле — но ведь несколько минут назад я не одним духом был в Татрах, но и всем телом своим, даже в этой одежде, которая сейчас на мне, покрытая росой и листьями, пропахшая сосновым дымом от костра, разожженного на ночь?.. Существует ли на свете какая-нибудь теория, которая могла бы объяснить это противоречие и путаницу в событиях? Лорд Тедвен доказал иллюзорную видимость существования физического мира, но ведь он не отменил непоколебимых законов существования, не вырвал из глубины наших человеческих душ уверенности в правильности существующего порядка вещей и развития… Не знаю ничего! Не знаю совершенно ничего!»
Он стиснул голову руками и какое-то время молча сидел так, пытаясь ни о чем не думать.
За его спиной в стене затрещал металлический ящик, в который ему прямо на дом доставлялась утренняя почта. Он встал и, чтобы прервать ход мыслей, прикоснулся к пружинке, закрывающей его. Пачка бумаг высыпалась на столик — преимущественно это были небольшие листы, на которых рядом с фамилией был записан только какой-то номер и время, в которое пославшие их хотели бы поговорить с Его Превосходительством по телефону… Яцек быстро посмотрел на эти листы, почти не думая о том, что делает… Его мысли, вопреки воле, упорно возвращались к событиям минувшей ночи, не в силах задержаться на менее или более важных сообщениях, которые он держал в руках.
Наконец одна бумага обратила на себя его внимание. Это было ежедневное послание от директора заводов, которому он поручил как можно быстрее построить для себя новый «лунный корабль». Директор сообщал, что работа двигается медленно, но успешно, и он надеется, что через два или три месяца Яцек получит свой корабль.
Два или три месяца! Он вздрогнул от нетерпения. Так долго ждать просто невозможно! Если Мареку там, на Луне, нужна его помощь, то он может опоздать — к тому же… чем он будет заниматься все это время, пока не сможет улететь! Неужели нет иного средства попасть туда, нежели этот корабль, выбрасываемый в пространство сжатым газом?
Он обернулся. За ним в кресле сидел Ньянатилока, молчаливый, спокойный, как всегда. Яцек уже привык к его неожиданным и странным появлениям в разных местах и чаще всего тогда, когда он о нем думал, поэтому не выказал никакого удивления. Он сразу же приступил к делу.
— Ты говорил когда-то, — начал он без всякого вступления, — что для воли не существует больших или меньших преград, если она преодолевает миллиметр пространства, то так же может преодолеть и тысячи миль…
— Да, я так думаю, брат.
— Сегодня ночью мы были в Татрах, якобы не перемещаясь отсюда…
— Да, я так думаю.
— Мы были там на самом деле. На моем столе лежит веточка горечавки, покрытая свежими цветами… Я уверен, что утром сорвал ее на горном склоне… Ньянатилока!
— Слушаю тебя, брат.
— Я хочу оказаться на Луне — сегодня! Через час! Немедленно! И быть там не во сне, а на самом деле, как был сегодня в Татрах, и иметь возможность действовать там.
— Не знаю, сумеешь ли ты выполнить это.
— Сделай это ты! Помоги мне!
Ньянатилока покачал головой медленно и решительно.
— Нет.
— Почему? Я хочу, я прошу тебя об этом!
— Нет. Не сейчас…
— Значит, ты не можешь этого сделать! Видимо, вся твоя мудрость и сила проявляются только в том, чтобы делать фокусы и вводить в заблуждение.
Он замолчал. Ему стало стыдно за то, что он говорил, и он посмотрел на Ньянатилоку с опаской. Буддист снисходительно смотрел на него с еле заметной улыбкой.
— Прости меня! — прошептал Яцек.
— Мне не за что тебя прощать, брат мой…
— Я вспылил…
— Знаешь, это просто смешно, — добавил он через минуту, медленно усаживаясь на стул, — я так разговариваю с тобой, как будто обвиняю тебя в том, что ты не можешь совершать чудес…
И быстро замолчал, вспомнив, что этот буддист на его глазах уже неоднократно их совершал…
— Ничего не понимаю! — вслух сказал он, хотя говорил только самому себе.
Ньянатилока стал серьезным.
— Однако ты легко мог бы понять это, если бы только захотел…
— Ты совершаешь чудеса!
— Нет. Я не совершаю чудес. Их вообще никто не совершает по той простой причине, что совсем не является чудом господство духа над видимостью и не выходит за границы законов вечной жизни… А если я отказываю тебе…
— Да, почему ты мне отказываешь? — повторил Яцек.
— Послушай меня.
Ньянатилока подсел к нему и, обе руки оперев на подлокотники, заговорил, не отводя глаз от его лица:
— Ты хочешь немедленно отправиться на Луну за своим приятелем вследствие полученных известий. Я уже помог тебе один раз мысленно оказаться там и посмотреть глазами твоей души на действия твоего приятеля, но тебе недостаточно этого. Ты хотел бы быть там облеченным в ничтожную форму, которую ты называешь своим телом, и иметь возможность действовать: движением, словом. Не думаю, чтобы это было необходимо и помогло твоей душе — а ведь о другом здесь и речь не идет.
— Как же не идет? Речь идет о моем друге, который нуждается в моей помощи.
— И чем ты ему поможешь? Тем, что возьмешь с собой свою убийственную машину и уничтожишь всю Луну, чтобы спасти его, если ему что-нибудь угрожает? Впрочем, откуда ты знаешь, что там на самом деле происходит? Вчера в моем присутствии ты разговаривал с карликами и из того, что от них услышал, делаешь вывод, что твой Марек намеренно или невольно вторгся в жизнь лунного народа и оказывает на него свое влияние. И что ты теперь хочешь сделать? Оказаться рядом с ним и помочь ему, чтобы на Луне быстрее все стало так же, как на Земле? Или ты думаешь, что все происходящее здесь — прекрасно?
— Может быть, Марека нужно спасти от опасности, — уклончиво проговорил Яцек.
— Зачем? А если таков его жребий, который он уже принял на себя? Не мешай ему умереть, потому что, быть может, ему это нужно. Ты уверен, что твой приятель сумеет сделать больше, оставшись живым, нежели светлая легенда о нем, которая будет передаваться из поколения в поколение? Ты хочешь оборвать ее в зародыше? Уничтожить? Сделать невозможной?
Он подошел к сидящему со склоненной головой Яцеку и положил обе руки ему на плечи.
— Послушай меня! Не думай о Луне, не думай о других планетах: ты вскоре узнаешь их! Не мешай тому, что происходит, даже если имеешь возможность это сделать! Не надо мешать ничему, потому что не имеет значения то, что происходит вокруг нас, важно только то, к чему мы стремимся в душе…
Яцек поднял голову. Он чувствовал, что Ньянатилока стоит за ним, но не смотрел на него, только напряженно глядел на противоположную стену, где висело несколько портретов.
— Откуда ты знаешь, что здесь не идет речь обо мне самом? — спросил он. — Может быть, я как раз хочу убежать?
— Не убежишь. Нужно смотреть в лицо всему, что тебя встречает, и через все проходить, не отворачиваясь. Без усилий, без радости. Быть самим собой.
Он еще больше наклонился. Яцек уже не был уверен, слышит ли он его голос или только шелест своих мыслей, разбуженных каким-то удивительным толчком.
— Ты получаешь все только тогда, когда ничего не желаешь. Нужно стать бесстрастным, как пространство, беззаботным, как свет, знающим, а не исследующим, как Бог!
Мысли Яцека текли куда-то в неопределенную и размытую даль.
Знающим, а не исследующим!
Творцом собственной истины, которая одновременно является истиной пространства, замыкающегося в человеке…
Вместо поиска чужих истин, которые ничем не являются, только пустотой, видимостью!..
А собственная правда — это вера!
Любая вера, но вера творческая, сильная, сформировавшаяся в душе и бесспорная — и именно поэтому являющаяся непоколебимой истиной!
Значит, знать, а не исследовать!
Творить, а не искать.
Мыслить, а не сомневаться.
Где путь к этому чуду?
Ньянатилока однажды сказал: «Нужно научиться быть одиноким среди любой толпы, а вы даже в глухой чаще одинокими быть не умеете».
Он сказал это на берегу Нила, когда от развалин храма Изиды возвращалась Аза…
— Ваше Превосходительство…
Яцек вздрогнул и поднялся. В дверях стоял неподвижный лакей.
— Что случилось?
— Мы беспокоились, что Ваше Превосходительство не спустились на ночь в свою спальню…
Яцек неторопливо отмахнулся.
— Что нового?
— Госпожа Аза…
— Что? Приехала?
— Да. Специальным поездом сегодня утром. Мы хотели разбудить Ваше Превосходительство согласно поручению, но спальня была пуста, а сюда мы не осмелились зайти.
— Где сейчас госпожа Аза?
— По вашему распоряжению несколько дней назад ей приготовлены комнаты. Она приказала передать, что через час будет завтракать и надеется встретиться с Вашим Превосходительством…
После ухода лакея Яцек повернулся к Ньянатилоке. Он пристально смотрел на его лицо, как будто хотел понять, какое на него произвело впечатление это известие о прибытии в гости знаменитой певицы, но его лицо было спокойным, безмятежным и, как обычно, непроницаемым. Даже обычная улыбка не сходила с его губ, в глазах же не было ни возмущения, ни грусти, ни даже снисхождения…
— Ты спустишься сейчас вниз, брат? — спросил он безразличным на вид голосом.
Тем временем Аза уже ждала в столовой, расположившись свободно, как в собственном доме. Она сбросила дорожную одежду и, одетая в легкое утреннее платье с ароматной сигаретой в губах, сидела в глубоком, кожаном кресле. Перед ней на столе, накрытом старинной узорчатой льняной скатертью, сверкал серебряный чайный сервиз и тяжелые хрустальные вазы с разными фруктами и сластями. Она отодвинула чашку с недопитым китайским чаем и, откинув голову на спинку кресла, смотрела полузакрытыми глазами на голубой дымок египетской сигареты, который медленно поднимался к резному потолку. Она положила одну ногу на другую; среди волн светлого шелка виднелись две стройные лодыжки в черных блестящих чулках и маленькие стопы, обутые в золотые туфельки.
Со времени посещения Лахеца и его неожиданной смерти Аза окончательно покинула свою прежнюю квартиру, в которой и так, странствуя по миру, редко бывала. Все это произвело на нее странное впечатление. На ее глазах неоднократно гибли люди — и у ее дверей, и вдалеке — убежав от нее на край света — гибли тихо, не произнося ни одного слова, ни одной жалобы, ни одного упрека, или сообщая ей в письмах день и час своей смерти, обвиняя ее или неискренне благодаря за «мучительное счастье», которое она им дала — и она всегда проходила мимо всех этих событий, как мимо потерянной шпильки или сломанной впопыхах корсетной планки…
О Лахеце же она не могла спокойно думать. Каждый раз, когда она выходила из дома, ей всегда казалось, что видит у выхода на улицу его скрюченный труп с мертвенно-белым, смертной мукой искаженным лицом, который неизвестно зачем туда принесли…
Она вздрогнула при одном воспоминании об этом. У нее не было сомнений: он умер ради нее и из-за нее.
Но мысль ее взбунтовалась против этого неясного упрека. Ведь она не сделала ему ничего плохого? Чего он от нее хотел? Что с того, что она своими поцелуями довела его до безумия, а в последнюю минуту, когда он осмелился потянуться к ней, прогнала, как собаку? Неужели по этой причине надо лишать себя жизни? Или еще хуже: отважиться на смерть добровольную и заметную?
В ее памяти мелькнули его глаза, в первый момент вспыхнувшие удивлением и страхом, а потом такие пронзительно грустные и как бы погасшие…
Он лежал, облокотившись руками на ее колени, и тянулся к ее лицу голодными губами — такими прекрасными в этот момент. Она приказала ему богохульствовать. Велела проклинать свое искусство и то возрождение через действие, которым он гордился; он должен был вслух отречься от всего, что осмелился ей до этого сказать — и четко повторить, что он ничто по сравнению с ней, и все не идет ни в какое сравнение с единственным ее поцелуем…
Ха! Ей даже не пришлось отталкивать его, когда в высшей степени любовного помешательства он осмелился обнять ее руками; она ударила его только взглядом и ледяным голосом, сказавшим: «Какую ценность вы можете представлять для меня? Ничтожный, низкий, слабый, как и все остальные, и такой же хвастливый…» А он сказал, уходя: «Не потому, что не получил тебя, наоборот, потому что губы твои поцеловал и уже перестал верить в себя…»
Смешная история!
Она бросила догоревшую сигарету и ноги в золотых туфельках вытянула на пушистом ковре. Она была зла на себя, за то что все еще думает о такой, по ее убеждению, незначительной, не стоящей памяти ерунде, и таким образом пробуждает спящую где-то в глубине ее души слабость, в то время когда должна быть сильной и безжалостной, как лесная рысь, спрятавшаяся в ветках дерева и царящая в целом лесу.
Она обернулась на звук отворяемых дверей. На пороге появился Яцек, слегка побледневший, и, низко поклонившись, извинился перед ней за опоздание. Не вставая с кресла, она протянула ему левую руку, ухоженную, с длинными розовыми ногтями. Яцек, нагнувшись, коснулся ее слегка дрожащими, горячими губами — и в эту минуту, взглянув поверх его головы, Аза увидела в дверях удивительную фигуру полунагого буддиста. Она вздрогнула от холодного, необъяснимого страха, и глаза ее широко раскрылись… Это лицо показалось ей знакомым, хорошо, хорошо знакомым…
Она медленно встала — и в то время, когда Яцек, удивленный ее поведением, немного отступил в сторону, напрягла зрение и память…
Какое-то смутное воспоминание того времени, когда она была еще девочкой: огромный зал, заполненный людьми, арена, освещенная ярким светом — а на ней та же самая фигура, те же самые руки с длинными, тонкими пальцами, которые теперь она видит на дверной ручке — и лицо, обрамленное длинными черными волосами…
И волшебная скрипка, прикосновением его рук превратившаяся в ангельский хор. Она чувствует замершее дыхание в детской груди: играет он, лучший из всех, несравненный скрипач, властвующий над струнами, сердцами, обожаемый, знаменитый, могучий, любимый, богатый, прекрасный — как бог.
— Серато!
Трижды посвященный чуть наклонил голову.
— Действительно, когда-то я носил это имя, — сказал он без следа замешательства своим обычным, спокойно звучащим голосом.
VI
Днем и ночью размышлял Рода над тем, как избавиться от грозящей ему опасности. Он не хотел в обществе Яцека лететь на Луну и решил сделать все возможное, чтобы этого избежать. Однако он ясно отдавал себе отчет в том, что это «все», которое зависит от него, очень незначительно и дрожал от страха при одной мысли о появлении вместе с Яцеком в городе у Теплых Прудов.
Его даже не столько угнетала возможность мести за Марека со стороны ученого, которому, несмотря на его снисходительность, он не слишком доверял, а страх перед тем стыдом, который ему бы пришлось пережить на Луне…
Это действительно была странная ирония судьбы! Он, Рода — глава Братства Правды, который всю жизнь разоблачал «сказки» о земном происхождении людей, теперь возвращается именно с Земли и вынужден засвидетельствовать, что она обитаема и имеет общество несравненно более совершенное, нежели на Луне.
Ибо Рода стал горячим поклонником культуры на Земле, особенно технической. Он познакомился с ней досконально — по крайней мере с виду. Яцек, твердо решивший взять с собой обоих «послов» с собой обратно на Луну, хотел, чтобы до этого они, насколько возможно лучше использовали пребывание на земле и нашел сопровождающих лиц, с которыми они ездили по разным странам и городам и с каждым днем узнавали все больше.
Сначала они совершали это путешествие вместе, но потом Рода сумел упросить Яцека, чтобы тот освободил его от спутника. С того памятного дня, когда Матарет выложил всю ненужную правду, отношения между ним и учителем были настолько напряжены, что они почти не разговаривали друг с другом, разве только бросали взаимные обвинения и оскорбления. В путешествии это положение еще больше ухудшилось, если это было возможно. На мир они смотрели разными глазами; Матарет, признавая все чудо земного прогресса, не переставал оставаться скептиком, который видит и обратную сторону медали. И в то время, когда Рода восторгался и в основном хвалил, он — узнавая земной мир — гораздо чаще насмешливо усмехался и только пожимал плечами, когда его спрашивали: лучше ли и совершеннее ли здесь устроено все, чем на Луне? По этой причине дело доходило до ожесточенных ссор между обоими членами Братства Правды, которые в конце концов уже не могли выносить друг друга, и их решено было разделить.
Избавившись от общества своего земляка, Рода, правда, чувствовал себя немного одиноким, но все, что он видел и слышал, настолько его поглощало, что он не часто испытывал это ощущение.
Пользы же из увиденного он извлек слишком много. Быстрый от природы, он с лету хватал формы земного управления и вскоре уже прекрасно разбирался в существующих отношениях. Поскольку же постоянно его беспокоила мысль о возможном, но нежелательном возвращении на родную серебряную планету, он искал в них достойного для себя выхода.
Четко разработанного плана он еще не имел, но в голове у него крутились какие-то нечеткие идеи, из которых со временем могло что-то получиться.
За время своего пребывания на Земле он узнал о существовании определенного и решительного недовольства в массах, а в доме своего опекуна почувствовал, что там находится какой-то узел этого движения. Ему потребовалось относительно немного времени, чтобы узнать, что речь идет о тайне какого-то открытия — страшного и могущественного — которое могло бы дать его обладателю безнаказанность и силу.
Он понял, что получение этой тайны было целью неоднократных посещений Грабца, а также, несомненно, и продолжающегося пребывания в доме ученого Азы.
Рода, вопреки обыкновению, молчал, смотрел и ждал.
«Придет мое время! — думал он. — Как у того я отнял машину, так при возможности попробую и у этого ее заполучить».
Действительно, все боролись за эту машину. Грабец, обеспокоенный непонятной ему смертью Лахеца, и лишившийся его поддержки, чувствовал себя несколько ослабленным, поэтому решительнее наседал на Азу, чтобы та поторопилась… Он хотел иметь в руках страшную, уничтожающую силу и диктовать условия обществу, миру — побеждать без борьбы.
Потому что в минуты спокойного размышления его охватывал страх перед той бурей, которую он раздувал. Он разбудил подземные силы, зажег факел, брошенный в гигантские массы рабочих — и уже сейчас страшился взрыва, видя, как поднимается, вздымается, растет эта волна. Ему хотелось это море заковать в ровные берега и использовать для службы «знающим», но он быстро почувствовал, что если оно разволнуется, никто не будет иметь над ним власти, если оно разбушуется и выйдет из берегов, никто его обратно загнать не сможет.
Одним осенним днем, за несколько часов облетев с Юзвой большую часть мира, побывав по пути у очагов движения и поддержав тут и там уже разгорающийся огонь и зажигая его в других местах, он опустился на пустой, солнцем выжженный холм вблизи Вечного Города. Какое-то время они разговаривали о насущных делах все расширяющегося сопротивления, но слова уже лениво падали с их губ, и вскоре оба замолчали, вглядываясь в дивный город, лежащий у их ног.
Светлое, золотое солнце стояло на небе; воздух был пропитан солнечной пылью, слепящей глаза. И под этой голубой и золотой изморозью, под светлой, молочно-белой дымкой до самых краев горизонта простирался и тихо спал любимый город Грабца, единственный, вечный, царственный Рим.
Там, севернее к востоку и западу существовали два центра жизни, два бьющиеся алой и золотой кровью сердца европейского континента: Париж и Варшава. Два чудовищных узла всех сетей и дорог, два центра того, что толпа повсеместно называет культурой, гигантские полипы, поглощающие соки всей земли, столицы правительств и торговли, очаги развлечений, греха, подлости и заурядности. По образцу этих двух самых больших городов развивались, росли и менялись другие, не в состоянии, впрочем, угнаться за ними, древние столицы давних европейских государств, большие, чудовищные, оживленные, однако, благодаря двум этим «солнцам», отодвинутые на второй план.
Рим же остался тем, чем он и был на протяжении многих веков: единственным городом. Удивительным чудом, которое сохранилось при нивелирующей все варварской рукой «прогрессе» и «цивилизации». По-прежнему возвышались развалины Форума; качались на ветру старые кипарисы и цвели кроваво-красные розы под апельсиновыми деревьями.
В соборе Св. Петра по-прежнему звонили колокола; и в Ватикане седой старик в тройной короне, белой слабой рукой осеняя крестом безлюдную площадь, думал о тех временах, когда отсюда его предшественники одним движением пальца поднимали народы Земли, и тогда слетали королевские головы…
И на Капитолии, и на Квиринале, в тысячелетних дворцах, в гигантских развалинах древних бань, цирков, под куполами костелов, в зданиях, помнящих эпоху Возрождения, в садах, на площадях, над фонтанами — стояли белые статуи, боги, давно уже не почитаемые, обломки мраморных снов, осколки бурно прошедшей творческой молодости…
Только этот город представлял себе Грабец будущей гордой столицей духовно обновленного мира.
Наклонив голову, он смотрел на освещенные солнцем купола соборов, вздымающихся к небу, покрытые зеленоватой паутиной веков, на старинные памятники.
Спокойное и гордое достоинство исходило от этого города, который выдержал тысячелетия и не посчитал нужным измениться по примеру других.
Грабец мечтал…
Там, в северной части, на востоке или на западе пусть существуют огромные «общие» метрополии, центры работы, движений, мелких повседневных хлопот, пусть они роятся, как ульи, пусть гудят, как кузни, только бы их шум распространялся не далее, как до границ этой позолоченной солнцем Италии, только бы не мешал удивительной тишине, царящей на руинах под кипарисами… Здесь будет мозг и душа человечества, непреходящая святыня «земных богов», резиденция и столица знающих, которые будут править миром.
Когда-то, в те времена, когда цезари жили в мраморных дворцах, окружающий мир слал в этот город пшеницу, вино, масло, ценную руду и драгоценные камни, рабов, женщин и даже богов — окружающий мир служил ему, подчинялся его воле, основой своей жизни считая существование, расцвет и блеск этого единственного города.
Теперь это должно повториться. Все, что страны, земли и моря могут дать наилучшего, должно сосредотачиваться здесь; здесь снова должен быть центр мира, его мысль и воля.
По широким континентам, по далеким заморским островам будут распространяться вести, что это священный город, в который доступ разрешен только избранным. Матери будут рассказывать о нем своим детям, как старинную восточную сказку о том, что в этом городе сосредоточена вся сила, вся красота, вся мудрость и жизнь, но в неприступных стенах есть высокие ворота, и не пригибаться, а скорее вырасти до их высоты нужно, чтобы войти туда.
Ах, любимый город, город мечты!
Короткий, резкий смешок Юзвы вырвал Грабца из задумчивости. Он быстро обернулся и посмотрел на товарища.
Тот стоял, опершись кулаками о какой-то старый, полуразвалившийся саркофаг, наклонив голову как бы для удара и нахмурив брови.
— Юзва, это ты смеялся?
Он откинул голову назад.
— А что? Смеялся.
Он описал рукой широкий круг.
— Ведь это смешно, когда подумаешь, что после нашей бури тут останутся только бесформенные развалины и груды камней, которые зарастут травой, кустарником, а потом и лесом… Мы справимся, да, мы справимся с этими домами, которые простояли века, с этими старыми сводами, залатанными цементом, с этими колоннами. О! Рассыплются в прах все эти купола, будет такое землетрясение, какого никто не видел от сотворения мира!
Он снова хищно рассмеялся, а потом, повернувшись к Грабцу, добавил:
— Послушайте, Грабец, вы что-то крутите… Как там на самом деле обстоят дела с этой машиной Яцека?
Грабец не имел никакой охоты отвечать. Последние отблески заходящего солнца, похожие на нимб, окружающий город, на его глазах превратились в зарево, ему казалось, что он видит вечный Рим, бесповоротно рассыпающийся в прах — и дикая, еще более страшная, чем в давние времена, орда варваров проходит по пепелищам, по развалинам — неудержимая, безумная…
Только когда Юзва во второй раз повторил свой вопрос, Грабец посмотрел на него.
Он слегка заколебался. Не сказать ли ему правду, что страшное изобретение Яцека, если попадет к нему в руки, будет служить как для уничтожения распоясавшегося сегодня общества, так и для содержания… в новой неволе только на один день воспламенившихся рабочих масс? Может быть, сказать ему это искренне и безжалостно? И еще добавить, что пока он жив, скорее весь мир рухнет, чем здесь хотя бы один камень упадет с вершин старинных колонн?
Он смотрел на Юзву и представлял, какое бы на него произвели впечатление эти слова. Да, этот человек, услышав их, даже не вздрогнул бы, не возмутился, только рассмеялся бы своим широким ртом, оскалив белые, хищные и крепкие зубы, уверенный в том, что самой главной и неодолимой силой будет та гибель и разрушение, которые он ведет за собой.
— Я послал к Яцеку Азу, — сказал Грабец с мнимым спокойствием и безразличием, глядя в другую сторону, — она сделает, что возможно…
— Ерунда! — пренебрежительно рявкнул Юзва. — Не понимаю этих полумер! И зачем тут нужна женщина? Какая-то комедиантка? Что она может? Было бы лучше разбить на куски его дом в Варшаве и силой взять то, что нужно.
— Не следует забывать, что Яцек может защищаться! Одним движением пальца он может уничтожить весь город.
Глаза Юзвы заблестели.
— Ну и что! Прекрасное начало! Варшава, Париж, а потом все остальные язвы на зараженном теле Европы…
— Боюсь, что их черед уже не наступил бы, — сказал Грабец как бы самому себе. — В этих обстоятельствах вместе с Варшавой исчезла бы и тайна уничтожающей машины Яцека.
— Так что же?
— Свое изобретение он должен отдать нам добровольно, тем более, что без его разъяснения мы не могли бы справиться с ним!
Юзва вытянул сильные, жилистые руки.
— А это и необязательно, — сказал он через минуту. — Пусть идут ко всем чертям эти мудрецы с их машинами! У меня целые склады забиты живым взрывчатым материалом! Пусть только все мои придут в действие, такой заведут танец, что, ручаюсь вам, Грабец, ни следа, ни воспоминаний не останется от этого прекрасного мира.
Грабец уже открыл рот, чтобы ответить, но вдруг понял, что все слова здесь напрасны. Он посмотрел в глаза Юзвы, горящие бешеной, неумолимой ненавистью ко всему, что было и есть — только за то, что есть и было, — и первый раз в жизни его охватил холодный ужас. На мгновение он даже подумал, не ударить ли ножом в эту широкую грудь, но сам сразу же отказался от этой мысли, подлой и трусливой. Это значило бы перед началом путешествия разбить корабль, который должен был бы повезти тебя в новые края из страха перед бурей, с которой может не справиться рулевой…
Он посмотрел на Юзву. Это не был слепой и тупой человек, ненавидящий все только потому, что родился и жил в тяжелых условиях, обреченный на тяжелую, отупляющую работу… Он прошел через все ступени общественных школ, и его, ввиду больших способностей, собирались послать на государственный счет в Школу Мудрецов, когда он неожиданно исчез, как камень, брошенный в воду.
В суматохе жизни о пропавшем человеке быстро забывается, и никто вскоре уже не помнил, что жил такой Юзва, и тем более никто не размышлял о том, что с ним произошло. А он тем временем, придя к выводу, что существующий мир плох, в поисках силы спустился вглубь и набирал мощь, ведомый единственной безумной жаждой разрушения…
— Удивительно, что я встретил его и узнал, — прошептал Грабец про себя, обращая взгляд к солнцу, в кровавых отблесках заходящему над Римом.
VII
Он медленно покачал головой и усмехнулся.
— Нет, — сказал он не глядя на Азу и как будто не отвечая на ее вопрос, — я ни от чего не отрекся, передо мной не было никаких препятствий, я не был ничем озлоблен, не был разочарован.
Яцек нетерпеливо пошевелился на стуле.
— Так почему же…
И замолчал, охваченный чувством стыда, что спрашивает о том, что уже должен был понять.
Ньянатилока поднял на него спокойные, ясные глаза.
— Этого мне было мало. Я пошел дальше, потому что хотел жить.
— Жить!.. — прошептал Яцек, как эхо.
За одно мгновение у него в памяти пронеслось все, что он еще мальчиком слышал об этом удивительном человеке, и все, что знал о нем сейчас.
«Я хотел жить», — сказал Серато-Ньянатилока, тот, чье имя было некогда синонимом самой жизни, силы, счастья, роскоши, власти.
Тогда о нем говорили, как о божестве. Когда он появлялся со своей волшебной скрипкой, люди, как сумасшедшие, опускались перед ним на колени, а он делал с ними все, что хотел. Если можно было сказать о каком-либо артисте, что он не служил своим искусством толпе, а владел ею, то именно о нем. В знаменитейших, несравненных, неповторимых своих импровизациях он настолько завладевал своими слушателями, что одним движением смычка бросал их из радостного безумия в грусть и подавленность, нашептывал им волшебные сказки, приводил их в ужас и уничтожал, бросал себе под ноги или в то же мгновение, волшебной силой мелких обывателей превращал в летящих вместе с ветром хозяев жизни.
Яцек вспомнил, что говорил о нем один епископ, ныне умерший:
— Этот человек, если бы захотел, мог бы своей скрипкой создать новую веру, и люди пошли бы за ним, даже если бы он вел их в ад.
Говоря это, священник испуганно крестился, а в глазах Яцека, тогда совсем молодого юноши, фигура скрипача вырастала до фантастических нечеловеческих размеров и превращалась в какой-то символ возвышения, власти, царственности и избранности.
Невозможно было сказать, что Серато был богат, так как это определение было слишком слабым, чтобы обрисовать тот мощный поток золота, который протекал через его руки. Не было мысли, которую он не смог бы превратить в реальность, ни какого-либо фантастического намерения, которого он не смог бы осуществить. Один концерт приносил ему больше, нежели приносили некогда цивильные листы королей и цезарей, пока они еще существовали в Европе.
Прекрасный, здоровый, беззаботный, он жил кипучей жизнью, пил наслаждение полной грудью, и, действительно, не было момента, когда бы судьба от него отвернулась. Женщины так и рвались к нему, и он мог выбирать любую из них, как султан из «Тысячи и одной ночи», уверенный, как и этот султан, что ни одна не откажется от его приглашения, даже если будет знать, что назавтра ее будет ждать смерть от его руки.
Никто никогда, не видел Серато грустным или подавленным; о нем говорили, что он так смеется, как будто солнце сияет на небе.
И когда в один прекрасный день разнеслась весть о том, что этот человек исчез неожиданно и непонятно, все заподозрили преступление и долго искали его следов, никто не мог даже предположить, что он сам добровольно отвернулся от этой жизни, которой до сих пор пользовался с такой страстью.
Яцек невольно поднял глаза и посмотрел на лицо сидящего перед ним человека.
И это он! Он — Серато!..
Ньянатилока, Трижды посвященный.
Полунагой, спокойный, живущий нищенским хлебом, и святой…
«Я хотел жить», — сказал он.
Хотел жить!..
Так чем же было то — бурная жизнь, кипящая кровь, искусство, слава, любовь? Разве это не было той жизнью, которая иногда мелькает перед Яцеком, как вспышка, проносящаяся в утомленном мозгу? И можно ли было все это бросить так бесповоротно и легко…
— И тебе не жаль?..
Бывший скрипач медленно поднял голову.
— Чего? Неужели, глядя на меня, ты можешь предположить, что там, в моем прошлом, было что-то такое, о чем я сегодня мог бы сожалеть? Я не отрекся ни от чего, ничего не отбросил, просто пошел дальше и выше. Да, та жизнь чего-то стоила, но то, что я имею сейчас, стоит несравненно больше. У меня была слава, богатство, власть. Какое значение для меня имеет, что другие думали обо мне, по сравнению с тем, что сегодня, не интересуясь чужим мнением, я сам знаю, что я собой представляю? Я сегодня богаче, чем когда бы то ни было, потому что у меня нет неудовлетворенных желаний, потому что я не желаю ничего, что могло быть исполнено другими — и вместо призрачной власти над ближними я имею абсолютную власть над самим собой.
— А искусство? — спросил Яцек. — Разве ты не тоскуешь по нему?
Ньянатилока усмехнулся.
— Разве наружная гармония, даже самая совершенная, может сравниться с тем совершенством души, которое я приобрел? Разве сила творчества артиста может сравниться с сознанием того, что я сам создал свой мир, и пока я хочу, он будет существовать?
Он встал и подошел к Яцеку.
— Впрочем, мы напрасно ведем разговор об этом, когда есть много гораздо более важных вещей. Не стоит думать о том, кем человек был, чтобы хватило времени на то, чтобы подумать, каким он может стать. И при этом любой, любой без исключения, кто захочет.
Яцек засмеялся.
— Значит, кто захочет! Кто найдет в себе столько сил, чтобы разом отречься от всего, как ты.
Ньянатилока остановил его движением руки.
— Сколько же раз надо повторять, — мягко заметил он, — что я ни от чего не отрекся. Ведь отречься — это значит отказаться от чего-то привлекательного, имеющего значение для человека. Я же отказался только от определенных форм жизни, которые стали для меня ненужными, когда я в совершенстве узнал их. После многолетней душевной работы, которая с каждым днем приносила мне все большее наслаждение, после лет уединения и полного одиночества, в котором жизненная сила возрастает до бесконечности, я приобрел то, что мы называем «знания трех миров», которые если не являются последним словом, то уж наверняка первым и основным. Эти знания уже не ослабеют. Я бы мог теперь вернуться к прежней жизни, войти в жизнь нынешнего поколения, безумствовать, как они, заниматься ненужной работой, тешиться славой, богатством, успехом, а в душе оставаться таким, каким я есть, но смех охватывает меня при одной мысли об этом, так что в такой жизни для меня нет теперь никакого очарования.
Он развел руками.
— Я живу самой совершенной жизнью, — продолжал он, — потому что научился соединяться с миром и его духом в одно целое, как, видимо, было в самом начале, прежде чем в человеке пробудилось сознание. Мне нет необходимости смотреть на цветущие луга, слушать шум моря, потому что я сам являюсь и цветком, и рекой, и деревом, и вихрем, и морем. В движении моей крови, в ритме моей мысли я ощущаю гармонию бытия — ту, наиглубочайшую, что укрыта под обманными явлениями, под тем, что человеку, вырванному из мира, кажется даже недобрым, несправедливым или ненужным. Вся моя предыдущая жизнь, хотя она не была скупой по отношению ко мне, не дала мне ни одной минуты счастья подобного тому, в котором я теперь постоянно нахожусь без боязни утратить его когда-либо.
Ньянатилока говорил, обращаясь к Яцеку, как бы совершенно забыв о присутствии Азы, которая, забившись в глубокое кресло, положив подбородок на руки, молча смотрела на него широко открытыми глазами.
Вначале она слушала, что он говорил, потом слова его стали для нее просто звуком без всякого смысла, на который она не собиралась обращать внимания. Она слушала только звучание голоса — ровное, спокойное и мягкое, видела сбоку его обнаженные, крепкие, хоть и худощавые плечи, покрытые южным загаром. Какая-то молодая свежесть и сила исходила от этого человека. Черные и блестящие волосы легкой волной спускались на его открытые плечи — и Азе казалось, что она ощущает запах его кудрей — свежий, напоминающий аромат горных трав, растущих над холодным, кристальным потоком. Лицо его она видела в профиль: выпуклая линия лба, нос, уголок свежих, алых губ.
— Молодой, прекрасный, божественный, — шептала она, — такой он был и тогда…
Вдруг она вскочила в испуге.
— Серато!
Он медленно повернулся и посмотрел на нее рассеянным взглядом, видимо, недовольный, что она прервала его.
Она смотрела на него какое-то время, как бы не доверяя собственным глазам.
— Серато? — повторила она с оттенком какого-то сомнения.
— Слушаю тебя.
Аза что-то считала вполголоса, не спуская с него глаз.
— Шесть… десять… Восемнадцать, нет, двадцать! Да. Двадцать лет.
Ньянатилока понял и усмехнулся.
— Да. Двадцать лет назад я покинул Европу, отправившись на Цейлон.
— Я была еще ребенком, маленькой девочкой в цирке… Я помню… Тогда говорили, что Серато — сорок лет.
— Сорок четыре, — поправил он.
Яцек, который с растущим интересом следил за их разговором, сорвался со стула.
— Ты! Так тебе сейчас шестьдесят с чем-то лет?
— Да. Почему тебя это удивляет?
Яцек отступил на шаг, не зная, что думать, не отрывая глаз от спокойного лица буддиста.
— Но ведь это молодой, тридцатилетний человек, — шептала Аза как бы самой себе в безграничном изумлении. — Моложе, чем тогда, когда я видела его двадцать лет назад. Этого не может быть.
— Почему?
Задав этот вопрос, он на секунду повернулся лицом к Азе и хлестнул ее спокойным взглядом холодных глаз.
Она замолчала, не понимая, почему ее вдруг охватил необъяснимый страх. Ей на мысль пришла какая-то старая сказка, где труп, страшным заклятием обретший искусственную жизнь и вечную молодость, в мгновение ока превратился в зловонную жижу около собственных костей, когда оно было разрушено.
Она тихо вскрикнула и отпрянула назад.
Ньянатилока тем временем говорил Яцеку:
— Неужели ты не понимаешь, что при определенном усовершенствовании воля может господствовать над всеми функциями тела, как обычно господствует только над некоторыми движениями? Ведь даже некоторые факиры самых низших ступеней, так же далекие от истинного знания, как Земля от Солнца, хотя и живущие в его лучах, могут усилием воли останавливать биение сердца и погружаться тем самым на время в некое подобие смерти.
— Но здесь речь идет о жизни, о такой необъяснимой молодости, — заметил Яцек.
— Но разве не все равно, в каком направлении действует воля? Ведь речь идет об определенном состоянии органов, об их функциях, как вы здесь, в Европе, говорите своим ученым языком, или, как мы бы сказали — о вырывании формы из времени и помещении ее над ним.
Яцек стиснул голову руками.
— Мысли мешаются, мысли мешаются. Значит, ты мог бы жить вечно?
Ньянатилока усмехнулся.
— Я не могу не жить вечно, потому что любой дух бессмертен, а я всего лишь дух, как и вы все. А что касается тела, которое является ничем иным, как только внешней формой духа, то не стоит слишком долго его удерживать. Пока оно необходимо, лучше если оно молодое и здоровое, способное выполнять любые приказания, но когда оно уже выполнит свое предназначение, знающему человеку достаточно воли, чтобы его отпустить…
Он прервал фразу и, изменив тон, протянул руку к Яцеку.
— Пойдем, не знаю, зачем мы сидим в душной комнате. Солнце уже зашло, и я хотел бы посмотреть с крыши на звезды. Мы поразмышляем там вместе и потом поговорим о существовании с той и с другой стороны звезд, как о вещах единых, постоянных и непрерывных.
Аза даже не заметила, когда они вышли из комнаты, хотя ей казалось, что она все время смотрит на них. Все это время она сидела как бы в оцепенении, полностью ошеломленная тем, что услышала, не умея довести до человеческого разума историю вечно молодого скрипача, который предстал теперь перед ней в облике буддийского святого.
Ей пришло в голову, что она скорее всего ошиблась, что этот человек не может быть пропавшим двадцать лет назад Серато. Видимо, брошенное ею случайно имя он сразу принял и укрылся за ним, как будто по какой-то непонятной причине хотел, чтобы как можно меньше знали о нем, кто он такой и откуда.
— Это обманщик.
Она вскочила на ноги, хотела позвать прислугу, Яцека, кричать, чтобы этого человека заперли в тюрьму, чтобы не позволяли ему называть себя этим именем…
Она оперлась руками о стол.
Но неужели возможно, что она его не узнала, другого за него приняла, что кто-то другой так на него похож?
Она опустила веки, и перед глазами замаячила сцена, такая давняя, ставшая уже почти что сном, однако живая и выразительная…
Когда-то, около двадцати лет назад, у Серато бывали безумные помыслы. Иногда, вызываемый и умоляемый срочными телеграммами, несмотря на вмешательство главнейших сановников, артистов и своих друзей, отказывался играть в первоклассных театрах; хотя там ему под ноги сыпали горы золота. В иных случаях он вдруг выступал там, где его меньше всего ожидали увидеть, и превращал своим присутствием придорожный трактир в концертный зал. Бывало также, что как странствующий музыкант, он шел со своей скрипкой по пыльным дорогам, ведя за собой в поля из людных городов целые толпы поклонников.
Аза, маленькая девочка из цирка, слышала об этом от своих старших коллег, дрожащими губами выговаривающих его имя — и ей снился волшебный скрипач, от которого исходил свет, как от бога. Она даже не желала его увидеть, настолько живо он рисовался ее детской фантазией. Когда наступала темнота, и она, усталая, тихо замирала в уголке, то рассказывала себе всегда одну и ту же волшебную сказку:
— Он придет…
Это будет день, совершенно непохожий на другие, гораздо более светлый и прекрасный, когда он появится и возьмет ее за руку, велит идти за собой в мир, под ворота радуги, распростертые над облаками…
Он придет обязательно. Освободит ее, маленькую, бедную Азу от страшного клоуна, который хочет от нее чего-то невероятно страшного: он заберет ее в луга, в поля, которые простираются где-то за границами города, и там, слушая пение его скрипки, она забудет о цирке, о проволоке, на которой нужно танцевать, чтобы ее не били и чтобы люди аплодировали.
Она горько усмехнулась при одном воспоминании о смешных детских мечтаниях. Она ведь не была настолько наивна; слишком хорошо знала, что означают взгляды престарелых господ с первых рядов, скользящих грязными взглядами по ее детскому, худенькому телу, обтянутому трико, и какую цель преследует мерзкий клоун.
Однако…
Однако в минуты этих мечтаний куда-то исчезал приобретаемый ей преждевременно, со дня на день, жизненный цинизм, он спадал с нее, как лягушачья кожа сваливалась с заколдованной принцессы из сказки. И тогда она становилась такой, какой еще в сущности оставалась в глубине души: ребенком, смотрящим на мир удивленными глазами и мечтающим о светлом чуде…
И он пришел. Пришел действительно в один из дней, вернее, в один из вечеров. Она была утомлена до последней степени. Ей было приказано по натянутой проволоке взбегать на доску, оттуда она должна была прыгнуть на качающуюся трапецию, потом на другую, на третью, вертеться, танцевать в воздухе. Она взяла разбег в первый раз и соскользнула с половины дороги по проволоке, упав весьма чувствительно на бок. Среди зрителей послышалось несколько испуганных восклицаний, которые сразу же заглушили недовольные выкрики. Директор представления подошел к ней и, убедившись, что она цела, злобно сверкнул глазами.
— Беги, скотина!
— Я боюсь, — прошептала она с неожиданным страхом.
— Беги! — угрожающе прошипел он сквозь зубы.
Она послушно пробежала несколько шагов, дрожа всем телом. Прыгнула… и вдруг как будто какая-то невидимая сила остановила ее на месте перед самым началом проволоки.
— Боюсь, — почти плача прошептала она, — боюсь.
В зрительном зале начинали терять терпение. Афиши обещали в этот «вечер» невиданное зрелище, единственная, оригинальная королева воздуха, летающая волшебница, а тем временем волшебница стояла испуганная, беспомощная, с красными веками и губами, по-детски искаженными в плаксивой гримасе.
— Обман! — кричали из дальних рядов. — Вернуть деньги! Прекратите представление!
Безжалостная толпа, жаждущая только развлечений за свои деньги, смеялась над ней, бросала ей в лицо оскорбления, сыпала бранью.
— Беги!!
Она услышала голос директора, переполненный бешенством, как сквозь сон. Она попыталась сделать еще один разбег, собрала все свои силы, всю волю. В глазах ее потемнело, в ушах был какой-то шум, колени дрожали — она чувствовала, что упадет, прежде чем добежит до конца проволоки.
И все-таки прыгнула, сделала несколько шагов с закрытыми глазами и вдруг почувствовала, что кто-то схватил ее за плечо именно в ту минуту, когда ее нога должна была коснуться натянутой проволоки.
Она обернулась. Около нее, видимо, поднявшись со зрительского места, стоял какой-то изысканно одетый человек с черными волнистыми волосами и удерживал ее белой, мягкой, но сильной, как сталь, рукой.
— Подожди.
У нее уже не было времени удивляться или пугаться — ее просто охватило невыразимое сладостное чувство, что она находится под чьей-то защитой. Директор подскочил к наглецу, бледный от бешенства, но прежде чем он успел открыть рот, ее защитник сказал спокойным и повелительным голосом:
— Прошу дать мне какую-нибудь скрипку!
— Серато! Серато! — гудело уже во всем цирке, как в улье.
Серато! — Она быстро повернула голову и взглянула на него, ее сердце почти перестало биться.
Сказка, волшебная золотая мечта: пришел, возьмет с собой, поведет…
Нет! В ней проснулось совсем другое чувство, что-то такое, чего в первый момент она даже не сумела понять. Она чувствовала его сильные пальцы на обнаженном детском плече, под его мимолетным взглядом, который скользнул по ее лицу, она вспыхнула, а в груди у нее что-то застучало. Ей захотелось зарыдать, погибнуть, захотелось, чтобы он сжал ее своими руками или встал ногой на ее грудь, и одновременно хотелось убежать, скрыться…
В зале установилась полная тишина. Она услышала какой-то удивительный, неземной звук, какой-то серебряный плач и даже удивилась, откуда он взялся.
Серато играл.
Никто теперь не обращал на нее внимания. Она присела в стороне и смотрела на него. Какой-то шум в ушах застилал от нее звуки музыки; она видела только его белую руку, водящую смычок, полузакрытые глаза и чуть приоткрытые губы на гладко выбритом лице — влажные, красные. Странная дрожь пробежала по ее телу с головы до ног, и в первый раз в жизни она почувствовала, что на свете есть поцелуи, объятия, и что она — женщина.
В одно мгновение она перестала быть ребенком.
В голове у нее закружилось; на секунду она вся превратилась в одно неутолимое желание: видеть его глаза, чувствовать на себе его руки, его губы.
Сознание вдруг снова пробудилось в ней. Спокойно, почти вызывающе, она огляделась вокруг. Он — Серато — не смотрел на нее. Углубившись в удивительную импровизацию, превратив в волшебный инструмент скрипку, поданную ему из оркестра, он совершенно забыл о ее существовании и о том чувстве жалости, которое привело его на эту арену для ее спасения.
Он играл для самого себя, а люди слушали.
В цирке стояла глубокая тишина. Аза пробежала глазами по рядам кресел; повсюду зрители превратились в статуи; одни поглощали глазами величественную фигуру скрипача, другие прятали лицо в ладонях, третьи — смотрели вдаль остановившимися глазами, покачиваясь вместе с музыкой на волнах воздуха.
Внезапный гнев на то, что он сжалился над ней, а теперь не обращает на нее никакого внимания охватил Азу, она почувствовала даже ревность за то, что он отнял у нее внимание зрителей, которые всегда рукоплескали ей. И прежде чем она успела задуматься над тем, что делает, именно в те минуты, когда струны скрипки чуть слышно зазвучали, играя какую-то светлую, тихую мелодию, Аза громко, по-цирковому, вскрикнула и одним движением взлетела на натянутую проволоку, прыгнув потом прямо на трапецию, висящую несколькими метрами ниже.
Ее сумасшедший прыжок заметили в цирке, и публика закричала, зааплодировала, показывая на нее пальцами. Никто уже не слушал музыку Серато — все смотрели на нее, как она летает, в самом деле похожая на птицу, с перекладины на перекладину, с одной проволоки на другую.
Горькое, ожесточенное чувство триумфа в груди. Никогда еще она не была такой неистовой, дерзкой, даже разнузданной в этом воздушном танце, когда один фальшивый шаг, хотя бы мгновенная утрата равновесия — означала смерть… Она изгибалась, вытягивалась, демонстрируя свою детскую фигурку на потеху толпе с удивительным, болезненным наслаждением, неизвестно откуда в ней взявшимся, вызывала похотливые взгляды, скалила зубы в нахальной улыбке, обращенной к людям, которые раздевали ее глазами.
Она старалась не смотреть на скрипача — однако ее снедало любопытство… Незаметно, незаметно, так, чтобы он не видел. Поднимая руки, она наклонила голову, быстрый взгляд из-под руки…
Он стоял рядом с брошенной на арене скрипкой и, радостно улыбаясь, хлопал в ладоши вместе с остальными.
Она соскочила с высокой трапеции и кинулась в гардеробную, скрывая страшные, раздирающие душу рыдания, которых долго не могла унять.
Тогда в первый и в последний раз она видела Серато. Однако каждая черточка его лица, выражение глаз так отпечатались в ее сознании, что по прошествии долгих лет он вставал у нее перед глазами как живой и часто преследовал ее, как призрак, который невозможно отогнать.
Нет! Она не могла ошибиться! Это на самом деле Серато, именно он — этот непонятный человек, каким-то чудом сохранивший молодость, который сейчас появился с непонятной для нее наукой, со сверхчеловеческой и пугающей ее силой…
Внезапная дрожь пробежала по ее телу. Это была минута, подобная той, которую она пережила тогда — двадцать лет назад, когда он положил руку на ее детское плечо, только более сильное пламя ударило теперь в нее…
Она сплела руки за шеей и, откинувшись в кресле, стала смотреть в пространство.
Мысли ее разыгрались.
— Я сильнее всех сил в мире: сильнее, чем мудрость, искусство, даже месть! Буду сильнее и чем святость твоя…
Она почувствовала приятное волнение в груди, какой-то туман на мгновение заволок ее глаза, губы приоткрылись:
— Приди! Приди!..
VIII
Они сидели молча, наклонив головы, сосредоточенно слушая выводы одного из «братьев знающих», который здесь, в собрании мудрецов, развивал новую теорию об истоках жизни.
Невысокий, со светлой большой головой и быстрыми серыми глазами, он говорил внешне сухо, как бы отвечая затверженный урок, называл цифры, имена ученых, факты и открытия — только иногда его лицо вздрагивало незначительно, когда в коротком, ошеломляющем и неожиданном предложении он в блестящем умозаключении соединял в одно целое до сих пор еще кажущиеся противоречивыми наблюдения целых поколений исследователей.
И слушателям казалось, что этот незначительный, но сильный умом человек строит перед их глазами какую-то удивительную пирамиду, с основанием, широким, как мир, где каждый отдельный камень какой-то смелой воздушной аркой соединялся с другими, воздвигая непоколебимо новый этаж, гораздо более сплоченный, воздушный и гораздо выше поднимающийся к небу, приводя в голову мысль о завершающем камне, о последней площадке, с которой одним взглядом можно было бы охватить всю постройку. Все, что до сих пор было сделано, открыто, найдено, добыто усилиями ума, становилось кирпичиками и гранитом для ученого с серыми глазами: иногда казалось, что одним словом, как сильным и точным ударом молота, он бьет по бесформенной глыбе исследования, с которым до сих пор никто не мог справиться, и добывает оттуда ядро, удивительным образом подходящее для его постройки.
Слушатели, привыкшие подниматься под облака в одиноких полетах своей мысли, теперь без всякого головокружения поднимались вместе с докладчиком на те высоты, куда он вел их уверенно и смело.
Он уже закончил долгий доклад, серые глаза его заблестели, слова потекли живее. Он сделал рукой полукруг, как бы показывая с вершины стены своей пирамиды, сложенной из отдельных кирпичиков и камней в единое целое, совершенное, непоколебимое и такое удивительно простое.
— Мы прошли, — закончил он свой доклад, — через удивительный лабиринт от наипростейшей плазмы до мельчайших изменений в человеческом мозге, мы видели все и знаем, что можно одно связать с другим и вывести одно из другого, как математическая формула, точная, безошибочная, неизменно приводящая к одному результату. Так вот эту формулу, как таинственное заклятие, издавна ощущаемое, но не открытое, я написал, перебирая и складывая материал исследований, накопленный за десятки веков.
Мы видели жизнь во всем механизме от наипростейшего до самого сложного и уже знаем, что как в одном, так и в другом случае все происходит по одному принципу, без исключений, без пропусков, без вольностей, которыми обманывается иногда человеческий глаз, недостаточно глубоко еще видящий. Мы также несомненно узнали, что не целью существования является жизнь, не результатом какого-то развития, но его началом, альфой и омегой вместо бытия и единственной ценностью, Когда-то, много веков назад, упорно и трудно искали, как из неограниченного существования вывести формулу возникновения организма — сегодня мы уже знаем, что в этом не только содержится основная и первичная необходимость, но и согласно какому правилу это происходит; тут и там действует одна непоколебимая математическая формула.
Он немного помолчал и, обернувшись, показал рукой на ряд знаков, написанных на черной доске.
— Вот здесь содержится загадка существования, — сказал он с горькой иронией в голосе, — упрощенная до банальной наготы цифр. Сегодня мы на самом деле являемся чудотворцами и могли бы благодаря ей создать новый мир, новый быт, новую действительность, если только… Ах, да! Такой пустяк стоит препятствием для использования этих сил найденного заклятия. Видите, господа, это уравнение, которое я написал здесь, в своей основной части имеет вид математического интеграла, и, как каждый интеграл, требует дополнения через определенную постоянную величину, то есть что-то такое, о чем мы в этом случае ничего не знаем и знать уже не будем, потому что это не вытекает из формулы.
Он склонил голову и бессильно развел руками.
Яцек молча слушал его, как и остальные. Последние слова ученого коллеги не были для него неожиданными: он уже знал, когда увидел эту магическую формулу на доске, что мудрость человеческая, проникнув в самые глубочайшие тайны существования, ударилась снова о невидимую, но ощутимую стену и снова предстала лицом к лицу против той же самой вечно повторяющейся загадки, против того самого Ничего, которое одновременно является Всем.
«И Слово стало телом», — прозвучало в его ушах воспоминанием. Он невольно поднял глаза к высокомерной фигуре лорда Тедвена, который со своего президентского места был виден всем.
Старик сидел прямо, положив руки на пюпитр, неподвижно глядя перед собой. Только легкое дрожание уголков губ свидетельствовало о жизни этого застывшего, сурового лица. Яцек думал, что лорд Тедвен выступит, когда ученый завершит свой доклад — и нетерпеливо ждал его слова…
Однако лорд Тедвен молчал и все вокруг молчали. Яцек пробегал глазами по лицам собравшихся, смотрел на стариков, склонявших изрытые мыслью лбы, на мужчин в расцвете сил с удивительной печалью в сосредоточенных глазах, на людей, которые едва вышли из юности, но от бремени познаний уже согнувшие свои шеи: он искал кого-нибудь, кто бы хоть что-то сказал, он жаждал слова, открытия…
Глухое молчание слишком выразительно говорило: не знаем. В ту минуту, когда загадка физического бытия, развития и жизни была облечена в явную математическую формулу, когда после долгого и тяжелого странствования наконец подошли к окончательному пониманию механизма существования мира, в эту высшую минуту страшные слова: не знаем! — можно было прочитать в задумчивых глазах мудрецов, они печатью ложились на их стиснутые губы.
Настойчивым, буквально кричащим взглядом впился Яцек в холодные глаза лорда Тедвена.
«Говори! — умолял он его взглядом. Настаивал, приказывал. — Говори, говори, избавь нас от этой пустоты, в которую мы погружаемся вместе со светом наших мыслей, избавь нас от нее, если ты сам уже избавился!...»
Старик понял его.
Он медленно пошевелился, поглядел на собравшихся, не просит ли кто слова, а когда под его взглядом все только опустили головы, беспомощно пожимая плечами, он поднял белую руку…
Лорд Тедвен встал со своего места, высокий, серьезный, уважаемый, почти столетие пронесший на своих широких плечах. Несколько минут он так и стоял молча, как будто колебался.
— На этом знание кончается, — наконец сказал он, — мы открыли все, что можно было открыть, услышали все, что только мог вынести человеческий разум. Я сказал вам, что открыл за годы своей самостоятельной умственной работы, видимо, мои последние годы — после меня говорили другие, истинные мудрецы, соль земли нашей, мои друзья или ученики, так как, являясь самым старшим из вас, я уже не имею здесь учителя. Мы добрались до ядра всего сущего, и, может быть, я должен был бы встать в эту минуту и самолично распустить наше объединение, потому что дальше идти уже нельзя, — уничтожить наш орден знающих, потому что больше мы уже ничего не узнаем Мы кружимся теперь, как рыбы вокруг стеклянного шара, который пробить не в силах. Солнце осталось далеко позади, нас охватывает холод. У нас хватило смелости добраться сюда, надо набраться смелости, чтобы признать: здесь знание заканчивается.
— Неправда!
Яцек вздрогнул при звуках этого голоса. Он совсем забыл, что по разрешению лорда как гостя взял с собой Ньянатилоку на это собрание. С удивлением и почти со страхом он посмотрел на него, услышав, как неожиданно резко он ответил старику. Сэр Роберт замолчал на секунду; какая-то тень пробежала по его лицу, но в ту же секунду он усмехнулся с высокомерной снисходительностью…
— Наш гость, — сказал он, — видимо, не поняв как следует моих слов, возражает против той очевидной и, к сожалению, окончательной истины, что мы подошли уже к границе человеческого познания и не сумеем сделать дальше ни одного шага. Гость наш, вскормленный высокочтимой мудростью Востока, видимо, недостаточно точно очерчивает разницу между знанием и верой, или признанием за очевидное понятий, не доказанных разумом… Предметом как веры, так и знания является истина, но эти истины по роду своему и происхождению различны и нельзя их смешивать. Мы находимся у границы познания, повторяю: дальше уже есть место только для веры.
Собравшиеся важно закивали головами, признавая правильность слов своего учителя. Посмотрев на собравшихся, Яцек увидел задумчивые лица с полуулыбкой смирения на губах, и другие, невольно искаженные болезненной иронией, и третьи — просто печальные… Он знал всех этих людей, умнейших в мире, и предполагал, что они могут думать. Он мог указать пальцем тех, которые изо всех сил держались за веру, многочисленных католиков, послушных костелу и выполняющих все его приказания (католицизм был последней религией, уцелевшей в течение веков), и тех, что сами для себя религии, более или менее туманные и мистические, заполняя этим пустое пространство, ударяясь в которое, знания разбивались, как море о скалы арктического льда. Большинство из них составляли пантеисты с высшим душевным полетом, которые отворачивались от математических формул своих знаний, чтобы охватить любовным взглядом весь мир; хватало здесь и холодных рационалистичных деистов, философов разного покроя и мистиков всяких оттенков вплоть до людей, которые, несмотря на огромные научные знания, цеплялись за различные суеверия, иногда смешные и ребяческие. Были люди, которые любой ценой искали позитивного содержания метафизической жизни и мира, даже если это трудно было примирить с тем, что говорила им их мысль, мысль исследователей и тружеников.
На какое-то мгновение Яцек почувствовал зависть к ним, когда мысленно сравнил их пусть даже самую хрупкую веру с тем состоянием, в котором находился он и ему подобные — те, что с огромной грустью слушали слова Роберта Тедвена. Чувство страшной, пугающей пустоты и глубокое убеждение в том, что если жить, то нужно эту пустоту чем-то заполнить, и одновременно такое бессилие, отсутствие или избыток чего-то, не позволяющие поверить во что угодно, лишь бы верить.
Из этой-то группы людей и вышли несколько скептиков, сидящих перед ним со смертельным отчаянием в глазах и презрительной улыбкой на бледных губах. Они были похожи на безумцев, растравляющих собственную рану, ожесточенно исследуя быстрыми умами истину и вглядываясь ошеломленными лицами в пустоту, они не хотели уже признаться в том, что и они были бы рады в глубине души увидеть что-то иное — какой-нибудь обманчивый мираж, который был бы ими разрушен уже в следующий час, так они были испуганы и утомлены видом вечной пустоты.
Яцек закрыл лицо обеими руками и, погруженный в раздумья, даже не замечал, что происходит вокруг него. Только когда он вновь услышал звучный голос Ньянатилоки, он поднял голову и, отряхнувшись от мыслей, стал слушать.
Буддист стоял на возвышении, видимо, вызванный лордом Тедвеном на трибуну — волосы, спадающие ему на лоб, он отбросил назад и поднял кверху смуглые руки.
— …потому что не веру я вам несу, — говорил он, заканчивая начатое предложение, — ни еще одно новое верование к тысячам уже существующих хочу добавить, но знание. В полном сознании я смело говорю вам, наимудрейшие: существуют знания и за теми границами, которые вы очертили, знание истинное, радостное, дающее силу…
Наимудрейшие недоверчиво покачивали головами, слушая слова Ньянатилоки скорее со снисходительной добротой, чем с истинным интересом. Яцек понял, что Ньянатилоке позволено говорить исключительно потому, что он является его другом. Мысль эта неприятно кольнула его, как оскорбление, нанесенное буддисту. Его охватила внезапная обида на это собрание мудрецов, которые несомненно слушали бы пришедшего, если бы он выступил перед ними как чудотворец и обещал им новое откровение, но не верят и не хотят даже допустить правоту того, кто в области знания шел иной дорогой, чем они, и смог зайти дальше, чем они.
Он непроизвольно вскочил и хотел потянуть приятеля домой, но Ньянатилока, заметив его движение, дал ему знак, чтобы он подождал. После чего, не обращая внимания на усмешки и признаки нетерпения у слушающих, он повернулся к черной доске, на которой предыдущий докладчик написал свою формулу, и, указывая рукой на ее неизвестную, но постоянную величину, сказал, свободно, как будто касаясь какой-то простейшей истины, а не наиглубочайших тайн существования:
— Вы не думаете, что отсюда следовало бы начать, вместо того, чтобы беспомощно останавливаться тут? Я как раз хочу вам сказать об этой постоянной, но неизвестной величине в формуле существования, которая одновременно является его материалом и регулятором. Вы все знаете, что это дух… Нет, не так! Вы скорее все верите в это с разной степенью силы — но как раз этого и недостаточно, что вы только верите. Я смотрю на вас, наимудрейшие, и вижу печаль на ваших лицах, растерянность в глазах, болезненное искривление ваших губ. Не удовлетворяют вас ваши знания, хоть они и огромны, и не успокаивает даже сильная вера, так как вы слишком умны для того, чтобы веру принять безоговорочно и не иметь ни минуты сомнений. Вы стоите на перепутье; простите, что я говорю вам это, но и я шел когда-то вашим путем и думал, как вы, что он единственный.
Он замолчал и повернулся к седому председательствующему на собрании.
— Разве ты не узнаешь меня, учитель? — спросил он. — Когда ты начал учить, сорок лет назад, я был одним из твоих первых учеников, прежде чем отошел от исследований, чтобы искать гармонию сначала в искусстве, в жизни, а потом в наиглубочайшем знании, неизученном, но творческом — далеко отсюда, на Востоке.
Лорд Тедвен заслонил глаза ладонью: величайшее изумление было написано на его лице.
— Это ты? Это ты? — прошептал он.
— Да. Это я, учитель, я — Серато, один из тех, кого ты напрасно старался удержать при себе, хоть это и считалось великой милостью, если ты кого-то признавал своим учеником. Теперь я стою перед тобой через сорок лет, и ты видишь, что я даже не стал старше, чем тогда, когда от тебя уходил, взяв в руки скрипку, и благодарил тебя за то, что ты был добр ко мне и невольно указал мне путь, по которому… не следует идти, по крайней мере до тех пор, пока не существует иных знаний, из глубины духа добытых и позволяющих с усмешкой смотреть на любую пустоту временного существования. То, к чему вы напрасно стремитесь в отчаянной тоске, должно быть лишь началом. Смотрите на меня! Вы открыли бесспорную формулу жизни, уложили ее в алгебраические знаки, написали на черной доске — и стоите перед ней беспомощные! Я, не зная ее, даже свою материальную жизнь держу в руках и не позволяю ей замирать и не использую для этого никакого средства, только собственные знания и волю!
Слушателей охватило беспокойство. До сей минуты безразличные, они вскакивали с мест, передавая друг другу прежнее имя этого странного человека, который обращался к ним. Некоторые стремились подойти ближе, другие с недоверием крутили головой. Один сэр Роберт после минутного первого удивления полностью пришел в себя. Он молча смотрел на Ньянатилоку, а когда тот замолчал, сказал медленно и четко:
— Если ты в самом деле Серато, то ты действительно совершил чудо, но однако действовать от души и знать, это не одно и то же. Каждое животное размножается, не имея ясного сознания собственного существования Любые знания всегда являются только исследованием.
— А почему они не могут быть материалом, — отпарировал Ньянатилока. — Простите, наимудрейшие, за то, что я посмею вам сказать: забудьте на минуту, что исследование для вас является только средством достижения желанной цели, каковой является полное осознание существования. То есть собственно знание, истина является ничем иным, как самим осознанным существованием. А если весь мир со своей жизнью и всеми силами создан самоопределяющимся духом, так почему же этим путем нельзя создать и истины — те, самые существенные? Почему не разгадывать силами духа тайны, когда они там полностью и без остатка умещаются? Ведь всем вам знакомо слово: интуиция, и вы знаете, что все начинается с нее и она указывает путь любому исследованию. Почему вместо того, чтобы убивать ее в самом начале и заменять расчетами, не дать ей развернуться и расцвести буйным цветом? Если воля устранит внешние преграды и доведет дух до определенного совершенства, то есть свободы, интуиция даст нам знания, не распыленные на мелочи и истинные, потому что произошла тем же путем, что и существование, и является его непосредственным и сознательным двойником.
Он поднял обе руки и протянул их сверху над головами мудрецов. Яцек еще никогда не видел его таким, хотя много раз слышал о его науке. Глаза у него пылали солнечным блеском, свет исходил от всей его удивительной молодой фигуры.
— Братья! — увлеченно говорил он. — Примите меня, как посла от ваших собственных душ, который приносит вам хорошую новость. Я пришел рассказать вам обо всем том, что спит в вашем сознании, не умея иначе попасть наружу, кроме как в хрупкой вере, в вечное царство Божье, в бессмертие души, в знания непреходящие, в то, что придает ценность единственной жизни!
Вдруг неожиданный смех раздался от двери. Яцек быстро повернул голову, чтобы посмотреть, кто осмелился ворваться в собрание мудрецов и нарушить его важность. Немного приподнявшись на сиденье., он через головы товарищей увидел лысый череп Грабца. Кто-то остановил его в дверях, спрашивая, по какому праву он входит сюда, но он, даже не отвечая, отстранил его рукой и направился прямо к месту президента.
Брови лорда Тедвена сошлись над глазами; с суровой надменностью он смотрел на пришедшего.
— Сэр Роберт! — выкрикнул Грабец, смело выдержав его взгляд. — Сэр Роберт, некогда властитель и господин, перестаньте слушать смешные разглагольствования восточного обольстителя, вместо того, чтобы понять, что сейчас не время жаловаться на что-то или искать за морем счастья, когда оно рядом…
— Кто вы такой? — спросил лорд Тедвен.
— Я — сила! Я не царство Божье приношу вам на облаках, не о бессмертии души собираюсь вам говорить, но дам вам ваше собственное государство: провозглашу бессмертие расы великих! И пусть убираются с дороги те, которые хотят противоречить жизни.
Он вызывающе взглянул на Ньянатилоку, которого считал каким-то аскетичным отшельником с Востока, каких в последнее время много таскалось по Европе… Казалось, что он ждет какого-то слова с его стороны, чтобы уничтожить его в глазах мудрецов, но Ньянатилока не проявлял никакого желания вступать в пререкания. Он только таинственно улыбнулся и сошел с кафедры, заняв свое прежнее место рядом с Яцеком.
А Грабец, не обращая внимания на ропот, поднявшийся среди собравшихся, быстрым и смелым шагом поднялся на возвышение и повернулся лицом к мудрецам, сидящим на своих почетных местах.
— Я даже не прошу у вас слова, — начал он, — не прошу прощения за то, что самовольно сюда вошел: некоторые из собравшихся хорошо меня знают, и знают, что то, чего я хочу, полностью оправдывает мое поведение… На собрание мудрецов я пришел потому, что достаточно уже мне говорить то с одним, то с другим, достаточно уговаривать то одного, то другого: я хочу обратиться ко всем вам сразу и всех привлечь на свою сторону!
— Говорите по делу и коротко, — сказал председательствующий, которому кто-то уже шепнул имя говорящего, — у нас мало времени.
Грабец поклонился старику и начал решительно излагать свой план, с которым пришел к братьям знающим. Его размеренный голос, сдерживаемый усилием воли, звучал ровно, но было видно, что под ним скрывается огромное беспокойство, беспокойство человека, переживающего за судьбу своего дела, которому он посвятил жизнь. В те минуты, когда он замолкал, чтобы набрать в грудь воздуха, глаза его скользили по огромному залу, следя, какое впечатление производят его слова, но по спокойным лицам слушающих он не мог прочитать ничего.
— Я все сказал вам, — закончил Грабец свое выступление. — Теперь вы знаете, чего я хочу; дайте мне ответ. От вас зависит, стать хозяевами мира или погибнуть в заварухе, которая может начаться в любой день и которая может оказаться всего лишь вихрем, пронесшимся над поднимающейся колесницей вашей силы.
Тишина наступила после этих слов. Все глаза медленно обратились к лорду Тедвену, который сидел молча, с закрытыми глазами и легкой усмешкой на старом морщинистом лице. Только губы его иногда вздрагивали и рука, лежащая на пюпитре, судорожно сжималась… Казалось, что он мысленно еще раз проходит свой жизненный путь, вспоминает тернистую дорогу от вершин власти, добровольно оставленной, до подножия креста, ревниво укрытого где-то в сердце, так глубоко, чтобы его острие не могло нарушить даже его собственных мыслей…
Тем временем самые нетерпеливые из собравшихся, особенно те, которые уже давно договорились с Грабцем и идею его признали правильной, начали сначала робко, а потом все смелее и смелее наседать на президента, чтобы он дал ответ…
Лорд Тедвен встал. Он был бледен; всякий румянец исчез с его пергаментных щек, из-под нахмуренных бровей широко открытыми стальными глазами он посмотрел на собравшихся.
— Чего вы хотите?
— Действия! — крикнул Грабец.
— Действия! Действия! — зазвучал хор голосов. — Только действие может еще спасти нас! Поможет вырваться из заклятого круга наших знаний! Освободить от тяжести нашей мудрости!
— Действие может быть только одно: в глубине души!
Но его уже не слушали. Мудрецы плотным кольцом окружили Грабца, допытывались о подробностях предполагаемой борьбы, развивали новые идеи… Только несколько самых старших и несколько самых завзятых скептиков держались в стороне от этой суматохи.
Яцек невольно посмотрел на Ньянатилоку. Тот сидел спокойно, сложив руки на груди и пристально глядя перед собой…
— Скажи! Выступи!
Ньянатилока пожал плечами.
— Сейчас не время. Только из любви к тебе я сегодня выступил тут; а теперь уже моего голоса никто не услышит…
Действительно, шум нарастал. Раздавались уже отдельные выкрики, направленные против лорда Тедвена; раздавались настойчивые требования, чтобы он высказался.
Сэр Роберт какое-то время стоял неподвижно. Только когда шум голосов утих на мгновение, он спокойно огляделся, как будто пересчитывая тех, которые не принимали участия в общей суматохе. Таких оказалось немного, и он горько усмехнулся.
— Чего вы хотите от меня? — повторил он.
Грабец повернулся к нему.
— Лорд, — сказал он, — вы слышали, что я говорил, и видите, что почти все согласны с моим призывом…
— Я никогда не шел за большинством…
— Вам надо пойти за самим собой! Ведь вы когда-то были одним из самых сильных властителей — захотите стать им и теперь…
Лорд Тедвен гордо выпрямился.
— Если бы я хотел, то не спускался бы оттуда, где находился. Я оставил водоворот власти, потому что эта власть была слишком заурядной, не время мне теперь возвращаться обратно!
— В том-то и дело, — бросил Грабец поспешно, — чтобы от этой заурядности освободить мир…
Старик засмеялся.
— Иллюзии! Я хотел сделать именно это и избавить по крайней мере самых лучших, пятьдесят лет назад основывая это братство; в ковчеге из кедрового дерева я хотел спасти думающих от всемирного потопа, а теперь вижу, что вы сами разбиваете корабль…
— Мы поднимем его на вершину горы Арарат и оттуда будем править миром!
— Вы пойдете на дно!
— Это ваше последнее слово, лорд?
— Да.
Грабец повернулся к рассыпавшимся по залу мудрецам.
— Кто из вас пойдет со мной?
Огромное большинство стало собираться вокруг него; около лорда Тедвена осталось только несколько человек…
Яцек хотел выступить, но почувствовал, что его схватила и удержала сильная рука Ньянатилоки.
— Слушай, смотри и — пойми!
Грабец гордо и вызывающе посмотрел на старика.
— Видите?
— Вижу, — ответил лорд Тедвен и, взяв в руки золотую книгу, в которую были занесены имена всех членов братства знающих, разорвал ее перед лицом собравшихся.
IX
«Если того мне не удалось победить, то уж этого уничтожу наверняка!» — думал Рода, как кот, подкрадываясь к закрытым дверям, ведущим из кабинета Яцека в его лабораторию.
Тревога охватывала его при каждом шорохе в темноте, хотя он знал, что по крайней мере пока находится в полной безопасности. Первая часть его дерзкого плана удалась ему превосходно. В минуту, когда Яцек со своим противным гостем с черными волосами и пугающими глазами собирались на досрочное собрание мудрецов. Рода, воспользовавшись его невниманием и своей щуплой фигуркой, сумел спрятаться под креслом и остаться в кабинете. Он слышал скрежет закрываемых нажатием кнопки металлических ставней и в темноте, которая после этого наступила, треск закрываемых дверей.
Он был один. Однако он еще несколько часов не выходил из укрытия, боясь, что Яцек, при отъезде случайно заметив его отсутствие, может вернуться и найти его здесь. Поэтому он сидел, согнувшись в неудобной позе, почти задыхаясь, в совершенной темноте, не имея возможности следить за проходящим временем.
Наконец, когда ему показалось, что Яцек должен быть уже на своем самолете достаточно далеко, он вышел, медленно и осторожно расправляя застывшие члены. Какой-то листок бумаги, случайно сброшенный протянутой рукой, упал со стола на пол. Рода моментально свернулся в клубок, как зверь, чувствующий опасность, и прошло долгое время, прежде чем он осознал, что ничего ему не угрожает. Двери, отделяющие кабинет от остальных жилых комнат, были звуконепроницаемы, а открыть их никто не мог, пока Яцек не вернется. У него впереди были два или три дня свободного времени.
Это удалось, думал он, но это только третья часть задания, причем самая легкая. Следовало еще попасть в лабораторию, забрать оттуда страшный аппарат, а потом терпеливо ждать возвращения Яцека и незаметно выскользнуть, когда он откроет двери.
Он знал, где Яцек держит ключ от двери, и подсмотрел тайный знак, только с помощью которого можно было отворить дверь. Теперь он начал шарить в темноте около себя. Долгое сидение под креслом на середине комнаты привело к тому, что он полностью утратил ориентацию. Теперь он двигался медленно и осторожно. Хорошо знакомая мебель, на которую он случайно натыкался, казалась ему незнакомой, к тому же какой-то странной формы, так что вместо того, чтобы сориентироваться по ней, в котором месте находится и в каком направлении должен искать нужную дверь, он окончательно терялся, будучи уже совершенно не в состоянии определить свое местоположение. У него было такое впечатление, как будто его в темноте перенесли в какое-то чужое и таинственное здание.
Спас его письменный стол, о который он ударился головой. Он обошел его вокруг и нашел стул, на котором обычно сидел Яцек. В одну минуту у него в голове все прояснилось. Он мог теперь нажать кнопку, находящуюся на столе, чтобы зажечь свет, но не сделал этого от излишней осторожности или из-за непонятной при подобной дерзости трусости, потому что хорошо знал, что при закрытых дверях и оконных ставнях никакой свет не проник бы наружу.
Впрочем, свет был ему не нужен, так как он нашел точку для ориентации. Он столько раз думал о том, как будет хозяйничать здесь в темноте, и так хорошо запомнил все подробности обстановки, что теперь мог смело двигаться вперед.
Через несколько минут у него в руках уже были ключи, которые он достал из потайного места, которое давно уже подсмотрел, и начал действовать у дверей, ведущих в лабораторию ученого. И это прошло неожиданно легко. Замок бесшумно открылся, и Рода попал в узкое начало коридора, в конце которого через застекленные двери виднелся слабый, синий отблеск постоянно горящего электромагнитного света.
Этот неожиданный свет невероятно обрадовал Роду. Он боялся, что в лаборатории придется передвигаться в темноте, что могло бы разрушить весь его замысел, так как не знал ее так хорошо, как кабинет, в котором часто просиживал у Яцека. Теперь он смело двинулся вперед. Стеклянные двери были тоже заперты, что оказалось неприятным сюрпризом для Роды, потому что ключа от них у него не было.
Он, правда, легко мог бы выдавить стекло и через полученное отверстие проникнуть внутрь, но он не хотел этого делать, чтобы не подвергать себя дополнительной опасности, оставляя ненужные следы. Если его план удастся, никто не должен будет догадаться, что он вообще был тут.
Он вернулся в кабинет и стал ощупью искать ключ, дрожа при одной мысли, что Яцек мог забрать его с собой и таким простым способом опрокинуть его планы, так удачно начавшиеся претворяться в жизнь. Напрасно рылся он во всех известных ему потайных местах. Ключа не было или, по крайней мере, его не было в доступных для него местах.
Усталый и притом уже голодный, он снова потащился к дверям, почти утратив надежду, что ему удастся их открыть. Механически, думая о чем-то ином, он рассматривал замок при слабом освещении, поступавшем из-за стекол, которого, однако, было вполне достаточно для его быстрых глаз, тем более уже привыкших к темноте. В голове у него мелькали страшные предположения, что Яцек может вернуться неожиданно быстро и, отперев дверь, застать его в этом подозрительном месте. Его тем более это беспокоило, так как он не знал, сколько времени прошло с той минуты, когда его здесь заперли. На этот случай у него, правда, была отговорка, что он случайно попал в ловушку, задремав где-нибудь в углу в кресле, и, опасаясь голодной смерти (он же мог не знать, когда Яцек вернется), стал искать возможных выходов, чтобы выбраться отсюда, но сам не очень верил в результат такой защиты.
Вдруг у него вырвался легкий радостный крик. Он случайно бросил взгляд в узкую щель между замком двери и углублением с противоположной стороны и заметил, что они не соединяются защелкой. Он взял нож и осторожно всунул его острие в щель. Нож прошел без сопротивления; по-видимому, двери не были заперты.
Рода изо всех сил нажал на ручку: дверь не тронулась с места. Видимо, в них был какой-то скрытый замок, который следовало найти. Он принялся за работу. Ловкими пальцами он обследовал каждый винт, касался каждого украшения на дверях, вставляя острие ножа в каждую щелочку, какую только мог отыскать — все было напрасно.
Он уже был готов отступить от двери и признать себя побежденным, когда вдруг заметил, что она закрыта на наипростейшую «завертку», какими уже тысячи лет повсеместно пользуются. Его охватило бешенство при мысли о напрасно потраченном времени. Ведь можно было предположить, что в конце коридора, с одной стороны уже застрахованного от взлома, двери с тонкими, не представляющими особенного препятствия стеклами не будут снабжены никаким особым знаком.
Завертка находилась слишком высоко для маленького Роды; поэтому он принес стул из кабинета и, поднявшись на него, открыл дверь.
Теперь он оказался в долгожданной лаборатории ученого. В первую минуту он остановился, ошеломленный множеством непонятных приборов и машин, не зная, как найти среди них ту страшную машину, которую ему было необходимо забрать. Но по прошествии некоторого времени он вспомнил, что слышал, как Яцек говорил, что это небольшая черная шкатулка, с виду похожая на фотографический аппарат. Он стал осматриваться, осторожно проходя между приборами, опасаясь случайно повредить какой-либо из них или, что еще хуже, попав на адскую машину, случайно вызвать взрыв.
В центре лаборатории стоял большой металлический барабан цвета потемневшей меди, от которого пучки проводов бежали к стене, исчезая в пробитом в ней отверстии. Два тонких золотистых провода соединяли этот барабан, закрытый со всех сторон, с незаметной шкатулкой на треножнике, которая, видимо, и была тем самым искомым аппаратом.
У Роды на висках выступил холодный пот. Ему следовало забрать эту шкатулку, чего нельзя было сделать, не оборвав проводов, соединяющих ее с барабаном, — и не вызвать при этом взрыва, который не только убил бы его, но и весь город, несомненно, уничтожил бы. На минуту его охватил такой сильный страх, что он готов был отказаться от добычи. Беспомощный и дрожащий, он смотрел на аппарат, как мышь на кусочек сыра, помещенный в мышеловку. К счастью, он вспомнил, что Яцек как-то говорил Ньянатилоке, что с некоторого времени никогда не оставляет в лаборатории включенной машины.
Он вынул нож и положил его на провода, чтобы их перерезать, но рука у него так дрожала, что он не мог этого сделать. Когда он стоял так, испуганный и неуверенный в том, что следует делать, взгляд его случайно упал на другую шкатулку, очень напоминающую первую, которая лежала в стороне. Он быстро бросился к ней в надежде, что это второй такой аппарат, который он без труда сможет унести с собой, но та шкатулка была пуста. Видимо, Яцек только собирался сделать другую машину — может быть, намереваясь взять ее с собой на Луну — и велел сделать для нее наружную оболочку, еще ожидающую, когда в нее будет помещен механизм.
Больше Рода не раздумывал. Он вернулся к аппарату, стоящему в центре лаборатории, и с закрытыми глазами провел ножом по проводам. Он услышал легкое шипение: кровь остановилась у него в жилах от ужаса, но это было не что иное, как только свист проводов, моментально свернувшихся спиралью.
Через несколько минут Рода уже вернулся в кабинет, унеся ценную добычу с собой. На место украденного аппарата он поставил пустую шкатулку и так соединил с ней перерезанные провода, что кто-нибудь, вошедший сюда, даже сам Яцек, не сразу мог бы заметить подмену. Дверь он тщательно закрыл за собой. В темноте, ни на минуту не расставаясь с добычей, которую платком привязал себе на грудь, он нащупал укрытие и положил ключ обратно, после чего на ощупь добрался до входных дверей, где решил дожидаться возвращения Яцека, спрятавшись за портьеру.
Укрывшись в складках портьеры, он прижал свою большую голову к мраморной притолоке и затаился, как кот, чтобы в ту минуту, когда дверь отворится, выскользнуть отсюда одним прыжком. Его начал смаривать сон, чему способствовала крайняя усталость и пережитые волнения. Напрасно старался он побороть его, повторяя мысленно, что заснуть теперь — это значит подвергать себя опасности обнаружения, если Яцек неожиданно вернется. Перед глазами у него маячили какие-то видения, руки и ноги наливались тяжестью. Сознание его медленно рассеивалось; ему казалось, что он уже на Луне, что долгой ночью ждет прихода друзей и учеников.
Сейчас…
Он не понял, что это значит, почему сквозь складки материи проглядывает свет. Попытался вспомнить, где он находится и что произошло, что является видением, а что реальностью, когда, случайно прикоснувшись к привязанному на груди аппарату, в одно мгновение вспомнил все. Он, видимо, заснул, не зная об этом. Он хотел вскочить. Но внезапная тревога парализовала его. Если в комнате светло, значит, тут кто-то есть, видимо, вернулся Яцек.
Тут же он услышал его голос:
— У нас нет времени, эти люди просто обезумели…
Потом снова наступило молчание.
Он пока не мог понять, разговаривает ли Яцек сам с собой или в кабинете еще находится кто-то другой, но не смел выглянуть из-за портьеры, чтобы движением себя не обнаружить. Он слышал шаги, приглушенные мягким ковром и глухой стук передвигаемого стула; видимо, Яцек кружил по комнате, возбужденный каким-то событием или известием.
Наконец все стихло, ходящий утихомирился. Послышалось несколько невнятных слов.
Рода затаил дыхание. Одной рукой он сильнее прижал аппарат, привязанный к груди, а другой с неслыханной осторожностью приоткрыл щелочку между косяком двери и висящей портьерой, чтобы голоса лучше доносились до него.
— Что ты можешь сделать? Говорю тебе еще раз, брось все это и пойдем со мной в далекий мир, и вскоре ты увидишь, что не о чем было заботиться и хлопотать.
Холодный пот в одно мгновение покрыл Роду с ног до головы. Он узнал голос Ньянатилоки, проницательности которого он инстинктивно боялся больше, чем Яцека и всех людей на Земле. Ему казалось, что страшные глаза буддиста проникают за это слабое укрытие, где он прятался, — ему хотелось закричать, убежать, но, к счастью, мышцы отказали ему в послушании. Он слышал такие громкие удары своего сердца, что боялся, как бы они не выдали его.
— Сейчас я не могу пойти с тобой, — как бы с колебанием ответил Яцек. — Я должен быть здесь, на месте.
— Зачем?
— Как бы то ни было, но это моя обязанность. По этой причине я даже откладываю экспедицию, хотя, возможно, нужен там моему другу.
Дальнейшего разговора Рода не слышал. Видимо, они отошли от его укрытия и разговаривали вполголоса, как часто делают люди, которые должны поговорить о слишком важных вещах, чтобы возвышать голос даже тогда, когда их никто не может подслушать.
Рода ловил какие-то обрывки слов, которые случайно чуть громче звучали в устах говорящего. Часто повторялось имя Грабца — два или три раза до него донеслись имена Азы и Яцека… Потом ему показалось, что речь идет о Луне, о нем и о Матарете.
— Будешь ты на Луне! — прошептал он про себя и, несмотря на внутреннее беспокойство, злорадно улыбнулся.
Звук отодвигаемого стула возвестил о том, что Яцек снова встал.
— Разве не лучше было бы, — говорил он громким голосом Ньянатилоке, — покончить со всем этим сразу и радикально.
Он засмеялся каким-то тихим смехом, от которого кровь застыла у Роды в жилах.
— Ведь ты же знаешь, — продолжал он, не в силах, видимо, приглушить голос, — что достаточно мне пойти туда, за эту железную дверь, и совместить две маленькие стрелочки одну с другой.
— Да. И что?
— Ха, ха! Эта самая смешная вещь, которую только можно себе вообразить! Не напрасно правительство доверило мне положение директора телеграфов всей Европы. Я приказал все провода общей сети провести в мою лабораторию. Ха, ха! Великолепный эксперимент! Создавать мы еще не умеем, но научились уничтожать. Да, достаточно пустить в главный провод одну искру из моего аппарата…
— И что? — спокойно повторил Ньянатилока.
— Гром. Такой гром, какого до сих пор не видел свет. Вся Европа, буквально вся Европа, опутанная сетью телеграфных проводов, города, континенты, горы — все это в одну минуту превратится в чудовищную взрывную массу, каждый атом, распадаясь на первичные частицы, будет действовать, как шашка динамита, даже вода и воздух…
— И что?
— Неужели ты не понимаешь, что такой страшный взрыв мог бы столкнуть Землю с ее орбиты, если вообще не разнесет ее на куски? Луна, как дикий конь, спущенный с привязи, полетела бы в пространство, и кто знает, о какое небесное тело она может удариться; зашаталось бы равновесие Солнечной системы…
— И что?
— Смерть.
Помертвевшему Роде показалось, что он слышит смех Ньянатилоки.
— Никакой смерти нет. Ведь ты сам прекрасно знаешь, что нет смерти для того, что существует на самом деле. Распалась бы только бесполезная иллюзия. Что же касается всего остального, то ты сам для себя можешь уничтожить этот призрак одним движением воли. А до этого ты еще не дозрел. Ненужный поступок, поступок ребенка, который гасит свет, чтобы не видеть пугающей его картины, а потом еще больше пугается в темноте.
Разговор снова затих. Только через некоторое время до Роды долетел выразительный вздох, а потом глухие слова Яцека, хотя и сказанные достаточно громко.
— Здесь мне в самом деле нечего делать, однако я не могу пойти с тобой, пока знаю, что буду тосковать по тому, чего никогда не имел и никогда не буду иметь. Ты прошел через жизнь бурную, как пенистый поток, и ни о чем не жалел, когда замкнулся в себе и стал создавать свой мир. У меня иногда такое впечатление, что я беспомощный ребенок, который хотел бы, чтобы ему рассказывали волшебные сказки.
Дальше слова снова исчезли в шепоте, который мог услышать только Ньянатилока. Роду весь этот умный разговор интересовал мало, и если он слушал его, то только потому, что надеялся поймать какое-нибудь слово, которое могло бы быть сигналом, когда откроется дверь и он выскользнет из ловушки. Ему было здесь очень неудобно, кроме того, он постоянно боялся, что портьеры недостаточно хорошо его укрывают. Вдобавок после слов, которые он услышал здесь, его невероятно тревожила машина, привязанная к его груди. Только неясное предчувствие говорило ему, что для того, чтобы она была приведена в действие, какая-то внешняя сила должна поступить туда и иметь возможность уйти назад, как он видел это на огромном барабане, стоящем в лаборатории, но это не успокаивало его нервного испуга. Были минуты, когда он чувствовал себя близким к потере сознания и так дрожал, что Яцек действительно мог бы увидеть его по движению закрывающей его портьеры, если бы смотрел в эту сторону…
Однако Яцек сидел за столом, спрятав лицо в ладонях, даже не думая смотреть на дверь. Перед ним стоял Ньянатилока, высокомерный, спокойный, как всегда, только на лице его вместо обычной улыбки блуждала тень какого-то грустного размышления.
— Мир здесь рушится, — говорил он, — а ты не имеешь смелости встать и уйти со мной, даже не оглядываясь на то, что является обязательным и неизбежным, и… не имеет никакого значения, хотя очень страшно выглядит. Мне жаль тебя. Мне грустно в первый раз за много-много лет, грустно так, как будто я должен умереть. И еще грустнее от того, что я знаю, где находится источник твоих колебаний. Ты обманываешь сам себя, выискивая разные причины, чтобы не признаваться в одном: тебе страшно, что, уйдя отсюда, ты больше никогда не будешь смотреть в глаза этой женщины… Подумай, что, уйдя отсюда и найдя самого себя, ты вообще не будешь этого желать.
Яцек поднял голову.
— А неужели ты не понимаешь, что я могу бояться этого именно потому, что, уйдя с тобой, я больше не захочу смотреть в ее глаза? А если это желание, которое является моей мукой, а может быть, и проклятием, мое единственное счастье?
Он задумался, а потом вдруг встал и начал трясти руками около головы, как будто хотел отогнать одолевающие его мысли.
— Я должен спасти себя! — крикнул он. — И у меня есть спасение, есть, я хочу, чтобы оно было!
Трижды посвященный вопросительно посмотрел на него.
— Мой друг зовет меня к себе, — сказал Яцек. — Я и так слишком долго тянул. Я полечу на Луну. Это мой долг. Корабль на днях должен быть готов.
Потом с вымученной улыбкой взглянул на Ньянатилоку.
— Если я вернусь живым, то, что бы я здесь не застал, я пойду за тобой!
Ньянатилока медленно кивнул головой, а потом, глядя Яцеку в лицо, движением руки показал на запертую дверь лаборатории. Яцек заколебался.
— Перед отлетом я уничтожу эту чертову машину, — сказал он наконец. — Не хочу, чтобы она попала в чьи-то безумные руки.
Сказав это, он с нервной поспешностью позвонил лакею и, изменив тон, повернулся к все еще молчащему товарищу:
— Я прикажу приготовить самолет, чтобы посмотреть, как ведется работа над моим кораблем. Останься здесь на это время; через день или два я вернусь и попрощаюсь с тобой.
В ту минуту, когда входящий лакей отворил дверь, Рода в наступающем вечернем мраке, как кот, незаметно выскользнул из кабинета и бросился вниз по лестнице, не оглядываясь назад.
X
Со времени неожиданного отъезда Яцека Аза размышляла только над тем, как бы быстрее выполнить свое задание: овладеть убийственной машиной… Она естественно не догадывалась, что исчезновение Роды имело какое-то отношение к этому, и ни на минуту не допускала, что он мог унести ценную для нее добычу.
Из окружающего мира до нее доходили глухие отголоски обещанного Грабцем «землетрясения». Неожиданно вспыхивали забастовки, правда, кратковременные, но удивительно организованные, кончающиеся так же, как и начинались: без видимой причины.
«Грабец тренирует свои войска, — думала Аза, читая сообщения, — и измеряет свои силы».
Действительно, происходило что-то подобное. Следовательно, ей нельзя было попусту тратить время, если она хотела в начинающемся движении сыграть какую-то роль, а не быть попросту растоптанной человеческой волной…
Яцека ей не удалось привлечь на свою сторону вопреки всем предположениям и предвидениям. Обычно послушный каждому ее слову, каждой улыбке и движению, подчиняющийся, как раб, ее воле, даже капризу, он становился непонятно твердым и недоступным, как только она упоминала о деле, больше всего интересующем ее в эти минуты.
Следовательно, нужно было искать другой путь. И взор Азы невольно обращался на Серато. Правда, когда она начинала задумываться об этом, удивительный мудрец и чудотворец казался ей еще менее подходящим, нежели Яцек, но это был уже последний шанс, который она могла использовать…
Удивительным было чувство Азы к Серато. Иногда в ней пробуждалось желание завоевать этого человека, который когда-то первым невольно разбудил в ней женщину, усиленное еще коварной жаждой сломать его святость… Она готова была отдаться ему, если бы удалось спровоцировать его на это, и представляла себе не без некоторого удовольствия, что в минуты любовного безумия может ослабнуть его воля, которой он удерживает свою молодость, и она оттолкнет его, дряхлого старика, как старую тряпку.
— Победа! — хищно усмехнулись ее губы, утрачивая обычное детское выражение. — Победа большая, нежели та, которую Грабец может одержать над всем миром…
Думая над этим, она почти забывала, что эта неправдоподобная власть над Ньянатилокой должна была быть лишь средством для достижения цели, получения какого-то ничтожного и в сущности нисколько ее не интересующего смертоносного изобретения — и наслаждалась жаждой испытания своих сил, борьбы, победы… Грабец и даже сам Яцек казались по сравнению с этим святым добычей ничтожной и не стоящей трудов…
Однако до Ньянатилоки ей было трудно добраться. Мудрец разговаривал с ней всякий раз, когда она этого хотела, но так безразлично, как будто она не только женщиной, но и человеком не была, а лишь какой-то говорящей машиной. Взгляд его скользил по ней рассеянно, и было видно, что он вынужден только из уважения к дому Яцека, в котором она была гостьей, слушать ее и терпеть. Когда однажды она навязала ему воспоминание об их встрече в цирке двадцать лет назад, Ньянатилока сказал «помню» так спокойно и безразлично, что она даже вздрогнула от неприятного чувства унижения. Она хотела испытать, не будет ли он избегать говорить об этом случае, что было бы для нее доказательством, что она по крайней мере ему не безразлична, но он — не поддерживая, впрочем, со своей стороны разговора, говорил с ней, если ей хотелось, об этом с тем же самым холодным и вежливым безразличием, с каким отвечал на другие ее хитрые вопросы, касающиеся его прежней жизни, отношений с женщинами, любви, увлечений…
Все это, однако, вместо того чтобы охладить Азу, возбуждало ее еще больше, так что вскоре она не могла уже думать ни о чем ином, как только о возможностях и способах покорения этого сверхчеловека…
Тем временем Яцек не возвращался с осмотра своего корабль. Кроме обширного письма Серато, он прислал только короткое письмо к Азе, в котором просил у нее прощения за то, что оставил ее одну в доме, и оправдывался хлопотами с постоянно останавливающейся фабрикой и необходимостью личного присмотра за работой.
Прочитав это незначительное письмо, Аза задумалась. Насколько же иначе писал ей Яцек еще совсем недавно, даже когда, задетый чем-то, желая избавиться от ее превосходства, пытался быть холодным и безразличным! Она поняла, что это влияние Ньянатилоки, если не непосредственное, то во всяком случае косвенное — тем большее ожесточение чувствовала она против этого человека, который появился тут, видимо, только для того, чтобы разрушить все ее планы.
Если бы не он, думала певица, не этот, в индусского чудака превратившийся скрипач, все прошло бы легко. Яцек один не смог бы сопротивляться ее очарованию. Она бы могла сделать с ним все, что угодно — раньше или позднее. Он несомненно раскрыл бы ей тайну своего изобретения и даже, кто знает, вместо того чтобы позволить другим извлечь из него пользу, возможно, согласился бы только вдвоем с ней завладеть этой силой и самовластно править миром? Тогда бы она на самом деле стала королевой, ей не нужно было бы оглядываться на Грабца и вообще ни на кого, ни на кого на свете…
Все испортил Ньянатилока.
«Я отомщу ему, — думала она. — Ты сам, ты сам за это должен будешь отдать его мощь; ты предашь своего друга, как Иуда, если я захочу, и в моих глазах превратишься в ничтожество, как много других гордецов…»
Однако были минуты, когда она сама не очень верила в успех собственных замыслов по отношению к этому странному человеку. Тогда ей приходило в голову, не лучше ли было бы оставить это все в покое и перенестись в другой мир…
Ведь Яцек собирался на Луну. Если бы она захотела, он наверняка взял бы ее с собой — к Мареку, который несомненно является королем и властителем серебряной планеты…
Тогда она закрывала глаза и наяву видела знакомую улыбку сильного человека, который встретил бы ее на Луне, радуясь, что снова видит ее сверх всяких ожиданий, благодарный за то, что она его не забыла и, чтобы соединиться с ним, согласилась на опасное путешествие…
Она почти тосковала по нему. Даже не по его улыбке, не по взгляду его глаз и не по прикосновениям его рук, а скорее по той мужской спокойной силе, ничем не напоминающей холодного, надменного безразличия Трижды посвященного, которая укрощала ее, как взгляд укротителя укрощает дикую пантеру, и наполняла сладким спокойствием.
Но подобные минуты «слабости», как она сама называла их, длились недолго, хотя наступали достаточно часто, поэтому ей приходилось усиленно бороться с ними и противопоставлять весь свой холодный разум этим фантастичным, неизвестно откуда берущимся порывам…
Один раз в таком настроении она написала Яцеку, как раз отвечая на полученное письмо, в котором он сообщал о продолжении своего отсутствия. Она не писала ему прямо о своих планах и еще не требовала, чтобы он взял ее с собой, но во всяком случае в ее письме звучала какая-то нота тоски и глубокой дружеской сердечности, так редко искренне у нее проявляющейся.
Письмо застало ученого в механических мастерских огромной фабрики, в которой строился его лунный корабль. Он был недоволен неожиданно медленным продвижением работ и постоянными препятствиями, особенно потому, что знал их источник и серьезно опасался, как бы события его не опередили. Решение о полете на Луну, которое сначала было принято под влиянием желания помочь попавшему в беду товарищу, с течением времени стало чем-то вроде спасительного мостика или щита, которым он пытался заслониться от усиливающегося вокруг него хаоса.
Это было бы самым простым выходом из положения. Улететь и не знать больше ни о чем, лишиться необходимости выбора положения в надвигающейся буре: с Грабцем или против него; уклониться от выбора между Ньянатилокой и Азой и иметь при этом оправдание перед самим собой, что выполняет благородный долг, ради друга подвергаясь опасности… Яцек прекрасно отдавал себе отчет, что все, что он делает, продиктовано скорее слабостью и нерешительностью, но в то же время понимал, что это единственное, на что можно решиться без упреков и сомнений, не должен ли он поступить иначе.
До сих пор его единственным опасением было то, что все вокруг него может пойти совершенно иначе, чем он себе представлял; и прежде чем он сможет пуститься в свое путешествие, вспыхнет война, которая сделает невозможным его отлет в незаконченном корабле… Поэтому он торопил руководство мастерских и рабочих, делающих корабль, с отчаянием наблюдая, как медленно движется работа.
Письмо Азы принесло ему новые сомнения. Он почувствовал, прочитал между строк, что Аза, возможно, хотела бы улететь с ним со Старой Земли в межзвездное пространство, и в первый момент вздрогнул от радости.
Да, да! Улететь вместе с ней от этой жизни, от отношений, которые душат, от общества, которое подавляет, и от грядущих схваток, вырвать ее из прошлого, которое останется тут, внизу, на Земле, как что-то несуществующее, и начать новую жизнь…
Он горько рассмеялся.
— Да, и отдать ее в руки Марека!
В первый раз он почувствовал что-то похожее на приступ ненависти к своему приятелю детских лет. Одновременно ему показалось, что он оказался в довольно смешном положении. Ведь Аза, очевидно, прибыла в его дом и теперь подсовывает ему мысль о совместном полете на Луну исключительно с целью соединиться с Мареком! Его она просто использует как орудие для исполнения своей воли. Она даже не говорит ему прямо, чего хочет, чтобы предложение исходило от него, и тогда она еще наверняка будет колебаться и заставит уговаривать себя, сделать то, что сама больше всего хочет.
Была минута, когда он хотел отдать приказание прекратить работы около корабля.
— Останусь здесь, — вслух говорил он себе. — Какое мне в конце концов дело до судьбы какого-то безумца, который когда-то был моим приятелем! Все в этом мире низко, отвратительно, мерзко! Даже самые мудрейшие не могут сохранить спокойствие и тянутся жадными руками к власти, даже самые великие не могут удовольствоваться величием своего духа… Хватит с меня этого, хватит! Я должен вернуться домой и, положив руку на маленький рычажок моей машины, уничтожить этот мир, не заслуживающий чего-либо иного…
В этот момент он забеспокоился, вспомнив, что, вернувшись с последнего собрания мудрецов, не зашел в лабораторию и не осмотрел оставленную там машину…
Потом махнул рукой.
«Ерунда! Ведь в мою лабораторию никто не сможет попасть без меня… Разве только один Ньянатилока. Но он был со мной на собрании, хотя, кто знает, не может ли он находиться в разных местах одновременно!»
При воспоминании о Ньянатилоке он снова глубоко задумался… Его манила мысль отправиться с ним вместе в уединение цейлонских лесов или недоступных Гималайских гор на поиски знаний, отличных от тех, которые он мог найти в Европе среди людей, мыслящих по-европейски, но он боялся, что не сможет найти в себе спокойствия, обязательного для подобных поисков.
Во всяком случае эта мысль помогла ему избавиться от влияния письма Азы и от беспокойства, которое оно принесло с собой.
Он решил ответить ей вежливо, но холодно и таким образом, как будто не понял и не заметил скрывающегося между строк желания сопутствовать ему в намечаемом путешествии…
В путешествие, однако, он должен отправиться безотлагательно! Только бы корабль побыстрее был готов!
Поспешно закончив письмо в отеле, он велел подать ему автомобиль и немедленно направился обратно на фабрику, откуда уехал час назад именно для написания ответа певице.
По дороге его беспокойство вызвало какое-то неожиданное движение — он постоянно проезжал мимо людей, которые, как ему казалось, были рабочими и должны были еще находиться на своих рабочих местах.
«Снова какая-то забастовка, — подумал он. — Какой-то рок висит над моим кораблем и всем путешествием на Луну!»
Он велел водителю увеличить скорость, теша себя иллюзией, что его личное влияние может удержать рабочих от новой остановки работы, которая так ему необходима.
На пороге фабрики он встретил директора. Тот стоял одиноко, засунув руки в карманы и насвистывая сквозь зубы.
— Что случилось? — спросил он, выскакивая из автомобиля.
Директор пожал плечами, даже не поклонившись ему, хотя обычно относился к нему с предупредительной вежливостью.
— А рабочие?.. — спросил Яцек.
— Ушли, — спокойно ответил директор.
— Снова забастовка?
— Да.
— А когда она закончится?
— Она не закончится.
— Как это?
— А так. Ушли и нет их. Сказали, что не вернутся. Мне все это уже надоело. Такая работа пусть идет к чертям!
Сказав это, он повернулся на каблуках и ушел, оставив удивленного Яцека на ступенях.
Только теперь, оглядевшись, он заметил, что поодаль стоят несколько человек, с интересом приглядывающиеся к нему, и шепчутся. Некоторых из них он узнал, это были фабричные рабочие, старые мастера, других, однако, он никогда не видел в этих местах. В какой-то момент ему захотелось спросить у них, что они здесь делают и почему так смотрят на него, но — в конце концов — какое ему до этого дело!
Подавленный и беспомощный, он стал спускаться по лестнице, направляясь к ожидающему его внизу автомобилю.
На последней ступеньке дорогу ему преградил один из знакомых ему рабочих.
— Подождите минуту!
Яцек удивленно посмотрел на него.
— Что тебе, дружище?
Рабочий не отвечал, но, преградив ему дорогу одной рукой, другой делал какие-то знаки. Яцек невольно посмотрел в ту сторону. Из-за угла к нему направлялся огромный человек с хмурым, упрямым лицом под растрепанной шевелюрой.
— Вы доктор Яцек? — спросил он, подходя к ученому.
— Да. Но я вас не знаю.
— Это не имеет значения. Меня зовут Юзва…
— А! Грабец как-то раз упомянул вас…
— Возможно. Мне он тоже говорил о вас. У вас есть машина, с помощью которой можно уничтожать города и целые страны…
— Кого это касается?
— Почему же? Это, например, касается меня. Мне нужно получить эту машину.
— Вы ее не получите.
— Получу!
Он кивнул рабочим, которые в одно мгновение окружили Яцека живым кольцом.
— Я могу приказать вас немедленно убить!
— Да. И что из этого?
— Или мы можем задержать вас здесь, а тем временем перетрясти вашу лабораторию в Варшаве.
Несмотря на серьезность положения, Яцек невольно усмехнулся. Из-под полуопущенных век он презрительно наблюдал за Юзвой. Ему хотелось спросить его: выломав дверь лаборатории, чтобы забрать машину, они так же смогут забраться в его мозг и вытащить из него тайну ее действия, без чего она всегда будет только никчемной, ни на что не пригодной скорлупой?
В эту минуту к Юзве подошел какой-то человек и подал ему записку, в которой было несколько строк… Предводитель бросил на нее взгляд и усмехнулся, после чего дал знак рабочим, чтобы они отступили от Яцека.
— Вы нам больше не нужны, — заявил он. — Мой друг Грабец как раз сообщает мне…
Он замолчал, а потом закончил, с вежливым, слегка издевательским поклоном показав на стоящий неподалеку автомобиль:
— Можете спокойно возвращаться домой. И советую вам лучше охранять свое имущество…
Яцек пожал плечами и, усевшись в автомобиль, велел везти себя в отель.
Здесь ему больше нечего было делать. Мастерские, видимо, остановились надолго: нужно было оставить мысли о скором завершении корабля и пока забыть о путешествии на Луну.
В отеле он велел приготовить на вечер самолет, намереваясь как можно быстрее вернуться в Варшаву.
А у него в доме Аза уже доводила свою игру до конца.
Вечер был душный. В воздухе, казалось, висела гроза — гроза чувствовалась и на улицах огромного города. С наступлением темноты, правда, как обычно, загорелись фонари, но по прошествии некоторого времени стали гаснуть, погружая целые улицы в темноту, как будто какая-то враждебная рука рвала провода и ломала электрические машины. Движение тем не менее ни на минуту не прекращалось, только вместо обычных прохожих теперь, неизвестно почему, появились какие-то неизвестные толпы, никогда ранее не виданные в центре, о которых никто не мог сказать, откуда они появились и где скрывались до сих пор.
Спокойный, сытый и беззаботный до сих пор обыватель с удивлением смотрел на людей с мрачными, застывшими лицами, одетых в рабочие блузы, о существовании которых он если и знал, то только понаслышке, считая почти сказкой, что такие существуют где-то и живут, как он…
Глухой недобрый гул шел по улицам, хотя внешне все было еще спокойно. Аза слышала его с крыши дома Яцека, куда вышла от душного воздуха комнат, который даже в полную силу работающие вентиляторы были не способны освежить. Она сидела на плоской террасе, вытянувшись на складном кресле, и смотрела из-под полуопущенных век на хаос там внизу, освещенный еще горящими в окрестностях фонарями. Дальше была уже непроглядная ночь, хотя чувствовалось, что в ней движется толпа, готовая в любую минуту осветить ее взрывами бомб и пожаром, обрушившимися на великолепные дома… Певица знала, что это означает. Некоторое время она сидела неподвижно, с наслаждением впитывая всеми порами почти электрическое напряжение бунта и схватки, которое уже висело в воздухе. Ноздри ее хищно раздувались, губы застыли в какой-то похотливой усмешке. На минуту ей показалось, что она ощущает дразнящий запах дикого зверя, который вот-вот бросится из зарослей…
Внезапно она очнулась и вскочила. Ведь это последняя минута для того, чтобы действовать! Если завтра начнется восстание — она не встанет перед ним, как ангел с пылающим мечом, со страшным орудием смерти и уничтожения в руках!..
Она быстро сбежала по лестнице на этаж ниже и направилась прямо в кабинет Яцека. Она знала, что застанет там Ньянатилоку.
Остановившись на пороге, она смотрела на свет лампы, горящей на столе, которая заменила потоки света электрического, уже погасшие по причине обрыва проводов.
Буддист сидел на стуле со склоненной на грудь головой, можно было подумать, что он спит, если бы не его широко раскрытые глаза, которыми он вглядывался в пустое пространство перед собой. Он был нагим до пояса, только вокруг бедер была обернута льняная повязка. Длинные черные волосы спокойно спускались ему на плечи.
Аза остановилась в дверях. На одно мгновение ее охватила робость, но потом в порыве безумного желания ей захотелось вырвать этого человека из неподвижности и постоянного равновесия, содрать с него святость, вырвать из него страстную дрожь… Она почти забыла в эту минуту, что не это было ее целью, что его она хотела только растоптать, чтобы открыть себе проход к этим дверям, находящимся у него за спиной.
— Серато!
Он не двинулся с места, не поднял глаз, даже не вздрогнул при звуке своего имени.
— Слушаю, — сказал своим обычным спокойным голосом.
Все планы Азы, которые она долго и старательно строила для этой решающей борьбы, поблекли и улетучились из ее головы.
Движимая своим инстинктом, она подскочила к нему и припала губами к его нагой груди, руки ее скользили по его лицу, хватались за рассыпавшиеся волосы, обвивались вокруг плеч… Прерывающимся от поцелуев голосом она начала шептать ему нежные слова, говорить о наслаждениях, которых он, наверное, не испытывал в своей жизни, звать его, умолять, чтобы он прижал ее к себе, потому что она умирает от любви к нему…
Она даже не понимала в эти минуты, на самом деле ли она чувствует и думает то, что говорит, или просто разыгрывает какую-то страшную комедию, которая захватила ее… Она чувствовала только, что теряет сознание, и при последнем его проблеске понимала, что все поставила на одну карту.
Няьнатилока даже не пошевелился. Он не отталкивал ее, не уклонялся от ее поцелуев, даже не прикрыл глаз. Могло показаться, что это не живой человек, а какая-то пугающая восковая фигура, если бы не презрительная улыбка, скользнувшая по его губам.
Аза, охваченная неожиданным страхом, отпрянула от него.
— Серато, Серато… — судорожно выдавила она.
На его лице, смуглом, как обычно, не было видно ни следа румянца, кровь в его жилах не заструилась быстрей.
— Чего вы хотите?
— Как это?.. Ты спрашиваешь! Тебя я хочу, тебя! Неужели ты не чувствовал моих поцелуев?
Он чуть заметно пожал плечами.
— Чувствовал.
— И… и!..
Теперь он посмотрел ей прямо в лицо ясным, спокойным взглядом.
— И удивлялся, что людям это доставляет удовольствие…
— А!
— Да. И даже что и мне это когда-то доставляло удовольствие.
Взгляд Азы случайно упал на острый бронзовый стилет для разрезания бумаг, лежащий на столе. И прежде чем смогла отдать себе отчет в том, что делает, она схватила нож и со всего размаха воткнула его в левую сторону обнаженной груди Ньянатилоки.
Кровь из раны брызнула на ее лицо и одежду — она еще видела, как мудрец вскочил, напрягся и откинулся назад…
С криком ужаса она бросилась к дверям, чтобы убежать.
В холле она наткнулась на Яцека, который, опустившись на самолете на крышу дома именно в эти минуты, поспешно шел в лабораторию. При виде ее он остановился как вкопанный. Он увидел кровь на ее лице и одежде.
— Аза! Что случилось? Ты ранена?
Она отняла у него руку, которую он хотел взять.
— Нет, нет… — говорила она как во сне, глядя на него бессмысленным взором.
— Не ходи туда! — закричала она неожиданно, видя, что Яцек направился к дверям кабинета, из которых она вышла.
— Что там такое?!
— Я… я…
— Что?
— Я убила… Ньянатилоку…
С криком ужаса Яцек бросился к дверям. Однако в ту же минуту на пороге появился Ньянатилока. Он был бледен как мертвец, в побелевших губах, видимо, не было ни капли крови, зато она обильно заливала его тело и повязку, обернутую вокруг бедер. На груди под левым соском был свежий шрам.
Аза, увидев его, зашаталась и оперлась спиной о стену. Крик замер у нее в груди.
Яцек отпрянул.
— Ньянатилока?..
— Ничего, все уже в порядке, друг мой. Я был близок к смерти…
— Ты весь залит кровью, а на груди у тебя шрам!
— Минуту назад там была рана. Я мог умереть, потому что нож прошел сквозь сердце… Но в последнюю минуту я вспомнил, что еще нужен тебе. Усилием гаснущей воли я поймал еще тлеющую искорку сознания и начал бороться со смертью. Это была самая тяжелая борьба, какую мне когда бы то ни было приходилось вести. Но в конце концов я, как видишь, победил.
— Тебя шатает!..
— Нет, нет, — слабо усмехнулся он. — Это остатки слабости, которая уже проходит. Со мной уже все в порядке. Я ждал тебя, зная, что ты вернешься сегодня ночью… Пойдем отсюда…
Яцек неожиданно подскочил.
— Моя машина!
Мудрец остановил его движением руки.
— Ее уже нет там. Ее украли. Я не почувствовал этого раньше.
Может быть, так лучше. Ведь без тебя никто не сможет ей воспользоваться?
— Нет…
— Ну и хорошо. Мы оба уйдем отсюда навсегда, навсегда…
Аза только теперь пришла в себя. Какой-то ослепительный свет вспыхнул у нее в голове. Одним прыжком она выскочила вперед и упала в ноги Ньянатилоке.
— Прости меня, прости!
Он усмехнулся.
— Я совсем не сержусь.
Он хотел отойти, но она обеими руками обняла его ноги. Ее золотые волосы, рассыпавшись, упали на пол перед ним, душистые губы прильнули к его босым ногам…
— Ты в самом деле святой! — кричала она. — Смилуйся, смилуйся надо мной, святой человек! Возьми меня с собой! Я буду служить тебе, как собака! Буду исполнять все, что ты захочешь! Очисти меня от скверны!
Он равнодушно пожал плечами.
— Женщины не могут достичь вершин знания.
— Почему? Почему?
Он ничего не ответил на ее стоны. Там, за окнами, зазвучали какие-то выстрелы, толпа шумела, гудела… Кровавое зарево разливалось за стеклами; Ньянатилока обнял рукой Яцека за плечи.
— Пойдем!
Яцек не сопротивлялся. Он еще как во сне слышал за собой крик Азы, волочащейся за ними по полу, слышал ее слова, которыми она заклинала чудотворца, чтобы он не отталкивал ее, угрожая, что, растоптанная им, она опустится на самое дно преступления, греха, подлости…
Он взглянул на учителя: ему казалось, что губы его пошевелились, как будто говоря:
— Какое мне до этого дело? Ведь у женщин нет души…
Эпилог
После восьми дней смертельной тревоги и неуверенности Матарет осмелился наконец выползти из своего укрытия. Оглушающий гул, который день и ночь ломился в тяжелые двери сводчатого погреба и сотрясал стены так, что они местами начали трескаться, с какого-то времени прекратился, и там, в мире, видимо, воцарилось спокойствие…
Матарет долго колебался. Сколько раз он приближался к дверям, чтобы открыть кованые запоры, но каждый раз у него перед глазами вставала та страшная минута, когда на его глазах в памятную ночь город начал разрушаться, и его снова охватывала тревога, похожая на ту, которая бросила его тогда сюда, в самую глубокую часть дома Яцека.
Он, может быть, и дольше оставался бы в этом подземелье, если бы не голод, угрожающий ему смертью. При своем поспешном побеге он даже не подумал о запасах продовольствия, всей его пищей за эти восемь дней был кусок хлеба, схваченный случайно по дороге, когда он пробегал около двери пекарни, размещающейся в нижнем этаже огромного здания. Воды у него совсем не было, поэтому он вынужден был обходиться вином, которое в больших количествах стояло под стенами в пузатых бочках и в бутылках, рядами уложенных на полках.
Он даже не думал, какому случаю был обязан тем, что погреб как раз был открыт и он смог в нем спрятаться. Вбежав сюда, он закрыл за собой дверь и, испуганный, спрятался в темноте, не смея в течение нескольких первых часов даже двинуться с места. Когда его стала донимать жажда, обжигая огнем и так уже со страху пересохшее горло, он стал осторожно ощупывать стены вокруг себя, сначала с мыслью, что, может, найдет для освежения губ влагу, текущую по стене…
Но погреб был совершенно сух и никакой влаги он не нашел, зато напал на бочки и бутылки. В первый момент он испугался, что это запасы каких-то химических реактивов, необходимых Яцеку для его опытов, и, несмотря на жажду, долго колебался, прежде чем поднес разбитую бутылку к губам.
Первый глоток вина разошелся у него по всему телу горячим огнем и отлично подкрепил ослабленные беспокойством силы. Ему хотелось напиться до состояния беспамятства, но разум помог преодолеть это желание, подсказав, что этот избавительный напиток может стать смертельным в случае злоупотребления им. Поэтому он сдержался и решил пить не больше, чем это требовалось для того, чтобы умерить мучающую его жажду.
Сначала все было хорошо, и вино оказалось прекрасным напитком, который не только поил и поддерживал физически, но и возбуждал его мысли, поддерживая духовно и улучшая настроение. Однако после двух или трех дней, в темноте трудно было вести им счет, постоянное и вынужденное пьянство начало проявлять фатальные результаты. Его желудок, обманываемый только кусочком сухого хлеба, больше уже не мог выносить крепких напитков; болезненные головокружения, общая слабость охватывали его и с каждой минутой все больше угнетали. Он предпочитал уж скорее терпеть жажду, нежели взять в рот хоть глоток вина, к которому чувствовал непреодолимое отвращение.
Последний день, проведенный в этом Случайном заключении, был для него уже невыносимой мукой; отсутствие воздуха усугубляло то, что вино, к которому он вынужденно возвращался, сильнее его отравляло, и, наоборот, отравление вином вызывало более сильное чувство голода.
Временами он проваливался в сон, полный видений, который длился неизвестно сколько. Тогда перед ним проплывали страшные картины: кровавые беспорядки, чудовищные взрывы, разваливающиеся города, какие-то сражения не то с людьми, не то со злобными лунными шернами… А потом снова наступало неожиданное успокоение. Ему снилось, что он стоит вместе с Яцеком на каком-то холме над городом и слушает рассказ о новых, счастливых отношениях на Земле. Яцек добродушно улыбается и говорит, что все благополучно закончилось, что теперь правят на самом деле самые лучшие, самые мудрые, и он вскоре полетит на Луну, чтобы там помочь Мареку в установлении вечного мира…
И снова светлый сон исчезал в страшном лихорадочном хаосе.
Солнечный город внизу внезапно превращался в дымящуюся груду развалин — зарева от пожаров покрывали кровавыми отблесками небосклон, отовсюду доносились стоны умирающих и чудовищный сатанинский смех какого-то человека, выросшего до невероятных размеров, у которого было лицо Юзвы и его мощные кулаки…
Матарет в страхе просыпался, ему хотелось кричать, звать на помощь.
Но вокруг него были только ночь и тишина, только все усиливающийся голод терзал его кишки и отчаянно толкал его к выходу.
Несмотря на это и на то, что отголоски войны утихли уже достаточно Давно, он с дрожью открывал тяжелые запоры дверей, чтобы выйти на свет. В темном и узком коридоре и на лестнице, ведущей наверх, он через каждые несколько шагов останавливался и глубоко дышал, как бы желая вместе со свежим воздухом набраться смелости.
Он представлял себе, что увидит, когда выйдет на улицу, и заранее готовил себя к этой картине.
Вокруг будут развалины, думал он. Скорее всего, дом Яцека уже не существует, и кто знает, желая выйти на свободу, не встретит ли он препятствий из кирпичей, камней и металлических балок, которые, быть может, уже погребли его живьем, тогда, когда он даже не знал об этом… А если ему удастся благополучно выйти, то он, несомненно, окажется в страшной пустоте. Города уже нет, только одни развалины и среди них — трупы и огонь, пожирающий все, что только можно найти в этих грудах камня и железа.
Дверь в конце лестницы была открыта. Он вышел через нее в широкий вестибюль; дом, по-видимому, еще стоял, по крайней мере, его нижний этаж был цел. Однако какая-то мертвая тишина царила вокруг. Видимо, служащие сбежали или были убиты, думал Матарет, пробираясь вдоль мраморных стен к широкой двустворчатой двери, ведущей на улицу. После легкого усилия она тихо отворилась: он остановился в ослепительном солнечном свете — и удивился.
Город выглядел как обычно. Правда, кое-где можно было заметить какой-то закрытый магазин или разбитое окно и выломанные двери, кое-где на стенах виднелись свежие отверстия, как будто выбитые пулями, вдали, Матарету показалось, что он видит какой-то разрушенный или сгоревший дом… И это было все. Люди сновали по улицам, как обычно; может быть, их было чуть меньше, но по их поведению было незаметно, что произошло что-то чрезвычайное.
Перед домом стояли два полицейских, как живой символ незыблемого порядка.
На легкий стук двери, закрывшейся за Матаретом, один из них обернулся и схватился за оружие, висящее сбоку.
— Ты чего там ищешь? — гневно закричал он.
Матарет испугался.
— Я просто прятался… — начал он несмело.
Тем временем приблизился второй полицейский. Он внимательно посмотрел на Матарета, потом что-то вполголоса сказал товарищу:
— Его Превосходительство…
— Нет, — ответил тот. — Его Превосходительство Рода не лысый. Я видел его. Это, должно быть, его товарищ или слуга, с которым он прилетел с Луны.
Он подошел к Матарету.
— В этот дом нельзя входить без разрешения, — сказал он.
— Но я всегда был тут…
— Это не имеет значения. Тем хуже. Кто знает, пташка, не сообщник ли ты…
— Надо его связать, — заметил второй полицейский.
— Да, — подтвердил первый, — и отправить на гауптвахту или прямо к Его Превосходительству…
Поскольку кандалы оказались слишком большими для маленьких рук Матарета, ему связали руки веревкой и куда-то повели. Он не сопротивлялся и ни о чем не спрашивал. Его охватила страшная слабость, он едва переставлял ноги, а в глазах у него было темно. Наконец полицейские заметили, что он не может идти дальше, поэтому на углу улицы посадили его в автомобиль и привезли к какому-то красивому зданию, которого он во время своих прогулок по городу еще не видел.
Здесь он был приведен в большую приемную, в которой он просидел целый час, прежде чем двери наконец отворились. Слуга в ливрее вызвал его к Его Превосходительству…
Матарет, шатаясь, вошел в кабинет и — онемел. В роскошно обставленной комнате, в кресле перед столом, в дорогой одежде сидел — учитель Рода.
— Это… это ты? — с трудом выговорил он.
Рода нахмурился.
— Я ношу титул Его Превосходительства, прошу об этом не забывать.
После этого он махнул слуге, чтобы тот отошел, и позволил Матарету приблизиться и сесть.
— Где ты скрывался?
— Дай мне поесть, — простонал Матарет, — поесть и попить…
Его Превосходительство милостиво позволил ему подкрепиться, а когда Матарет, немного насытившись, появился снова, он дружески принял его и сразу же обещал взять к себе, если он будет послушным.
Матарет долго смотрел на прежнего учителя, а потом товарища по несчастью с удивлением, граничащим с недоверием. Он не верил собственным глазам и ушам и не мог понять, говорил ли Рода серьезно или только издевался…
— Но скажи наконец, что произошло? — спросил он.
— Я уже сказал тебе, что мне принадлежит титул Его Превосходительства.
— Но каким образом? Как?
— Я спас человечество!
— Что?
— Спас общественный порядок!
— Ничего не понимаю.
— Естественно. Ты всегда был тупым… Если бы не я, этот город сегодня уже не существовал бы.
— Значит, революция?..
— Побеждена! Побеждена благодаря маленькой машинке, которую я геройски, с опасностью для собственной жизни вынес из дома этого проклятого Яцека.
— Как же так?
В Роде проснулась прежняя ораторская жилка. Забыв о своем новом положении и вскочив по приобретенной на Земле привычке на стул, он начал оживленно рассказывать, размахивая руками:
— Да, да! Я тоже не лыком шит! Выкрал у нашего уважаемого опекуна, вернее, захватил у него дьявольскую машину, которой он мог взорвать весь мир! Я нес ее на груди и чувствовал, что несу судьбу Земли, понимаешь?! Судьбу той земли, которая и для нас, людей с Луны, была когда-то матерью… Сердце у меня колотилось, видимо, сам Бог меня направил, чтобы я спас человечество…
Он замолчал, видимо, заметив, что в его устах эти слова должны звучать странно для ушей Матарета, привыкшему к совсем иным высказываниям. Однако, не смущаясь, он начал снова.
— Впрочем, это неважно. В конце концов этой машины добивались все. Я мог отнести ее Грабцу, даже собирался сначала так поступить.
— И что сделал?
— Подожди! К Грабцу я только написал, что машина захвачена, чтобы в случае чего он думал, что у меня ее отобрали силой… Ее так же можно было отдать Юзве либо за вознаграждение, как отнятую у врагов, возвратить Яцеку как истинному владельцу…
— И что ты сделал?
— Ах! Какой ты нетерпеливый! Я сделал то, что в этом случае было самым лучшим. Ты знаешь, я всегда уважал правящую власть…
— Ха, ха!
— Да, не смейся. Я уважаю власть. И поэтому по зрелому размышлению отправился к представителям правительства…
— И они — с помощью этой машины?
Рода рассмеялся.
— Да. С помощью этой машины.
— Перебили, уничтожили противников?
— Ну, нет, все обстояло не так плохо… Впрочем…
Он спрыгнул со стула и, понизив голос, прошептал Матарету на ухо:
— Впрочем, могу тебе сказать по секрету: из этой глупой машины вообще нельзя было стрелять.
— Как это?
— Очень просто: не было такой возможности. Видимо, в аппарате чего-то не хватало, когда я ее принес. А когда силой выбили двери в лаборатории Яцека, чтобы забрать остальное, оказалось, что он уничтожил все перед своим неожиданным исчезновением.
— И что?
— Ничего.
— Не понимаю.
— Потому что глупый. Ведь о том, что машину нельзя использовать, никто не знал: никто, кроме правительства и меня. Все же много слышали о том, что Яцек владеет страшным оружием… Было достаточно, когда разнеслось известие, что этот убийственный аппарат находится в руках правительства…
— А! Понимаю, понимаю…
— Вот видишь. Это немедленно было сообщено. Правительство объявило: если мы должны погибнуть в огне революции, то пусть гибнет весь мир! Ученые струсили первыми. Потом пришла очередь рабочих и всей черни, которой стало жаль света Божьего…
— А Грабец? А Юзва? А все остальные?
— Грабца правительство приказало повесить. Юзву забили насмерть его сторонники, когда он не захотел им подчиниться, желая, чтобы весь мир взлетел на воздух, чего они уже не хотели…
— И ты в конце концов оказался Его Превосходительством?
— Да. Еще я ношу титул «Стража машины» и «Спасителя порядка».
С невероятной важностью Рода прошелся по кабинету и снова остановился перед старым-товарищем, заложив руки назад.
— Разве я не говорил тебе всегда, — начал он, — что я со всем справлюсь. Кто бы мог подумать, когда нас здесь возили в клетке вместе с обезьяной…
Он замолчал и пугливо обернулся, не слышит ли его кто-нибудь. Потом ласково похлопал Матарета по плечу.
— Я не забуду о тебе. Ты страдал вместе со мной, хотя я очень недоволен твоим поведением по отношению к Яцеку, перед которым ты меня очернял, говоря, что я обманщик, все тебе прощу и постараюсь, чтобы…
Он замолчал, потому что именно в эту минуту Матарет плюнул ему в лицо и, повернувшись на каблуках, вышел из кабинета.
В вестибюле уже не было полицейских, поэтому его никто не задержал. Медленным шагом он спустился по широкой мраморной лестнице и влился в уличную толпу. Некоторые прохожие с интересом поглядывали на странного карлика — кто-то знал его как пришельца с Луны и приостанавливался, чтобы рассмотреть его, но большинство не обращало на него никакого внимания.
Он шел, замешавшись среди прохожих, без цели, даже не думая, куда идет. Иногда взгляд его падал на дом, разбитый выстрелами, развалины которого поспешно убирались работниками, иногда он замечал группы людей, оживленно разговаривающих о событиях последних дней, но, кроме этого, не заметил ни одного следа угрожающей бури, которая пронеслась над миром. Самое большое изменение заключалось в увеличенном количестве городских охранников и полицейских, которые жесткими, подозрительными глазами следили за прохожими…
Матарет думал о Яцеке. Куда он мог отправиться? Не погиб ли в уличных схватках? А может быть, он сидит в тюрьме? Ему невольно вспоминались минуты, проведенные в обществе ученого, разговоры с ним, обсуждения будущего путешествия на Луну с целью оказания помощи Мареку… А может, Яцек действительно улетел на Луну, оставив его здесь?
Он поднял голову к небу, где на голубом фоне обозначился бледный, притушенный дневным светом серп Луны.
Он очнулся от размышлений только наткнувшись на плотную толпу людей, стоящую под каким-то огромным листом бумаги, приклеенным на стене.
Кто-то читал вслух напечатанное на ней объявление, слышались выкрики удивления, но чаще слова признания и одобрения действий правительства, которое отдало распоряжение…
Заинтересованный Матарет приблизился туда и, по счастливой случайности, смог забраться на цоколь уличного фонаря и прочитать…
В глазах у него потемнело.
Собственно, это вообще не должно было его касаться, однако он чувствовал, что его охватывает стыд, его, варвара, прилетевшего сюда с Луны, за то, что начинает твориться на Земле.
Объявление правительства Объединенных Штатов Европы, вывешенное для общего сведения, гласило:
«Граждане!
Заботливое правительство, беспокоясь о благополучии общества, которое ему доверено в связи с неслыханными и достойными сожаления событиями последних дней, вынуждено принять меры, чтобы раз и навсегда положить конец злу, которое общество на своей груди, своей кровью, к сожалению, вскормило.
Ученые, открыватели и изобретатели некогда безусловно были благословением человечества. Им мы были обязаны своим благосостоянием, основанным на побеждении сил природы, потому что хотя мы собственными трудолюбивыми руками построили заводы и фабрики и установили господствующий порядок, надо признать, что они неоднократно своими изобретениями давали нам пульс к плодотворной работе. И хотя общее просвещение — это тоже заслуга общества, которое, заботясь об увеличении знаний и возвышении духа, построило миллионы школ и взяло дело обучения в свои руки, нельзя не признать, что ученые сыграли здесь немалую роль, помогая своими исследованиями открытию новых отраслей знания.
Это была справедливая плата обществу, которое позволило им развиваться и своим трудом создало условия для спокойной исследовательской работы.
В конце концов ими было открыто уже все, что нам необходимо, и они пошли гораздо дальше, чем мы могли от них требовать. Ученые, которые гордо называли себя „Всезнающими“, стали для нас дорогостоящим излишеством, и общество только в память об их прежних заслугах оказывало им уважение.
И тут произошла страшная вещь. Эти по милости общества существующие мудрецы пошли против него и вместе с самой низкой чернью пытались для собственной выгоды нарушить существующий в течение многих веков порядок на Земле.
Граждане! Мудрецы нам больше не нужны! Нам достаточно того, что уже открыто. Правительство, заботясь о благополучии общества, решило положить конец распоясавшимся гордецам и подстрекателям.
Решено:
1. Распустить с сегодняшнего дня общество ученых, называемое „Братья знающие“.
2. Отменить все огромные пенсии, выплачиваемые ученым, оставив им свободу зарабатывать самим себе на хлеб, если они хотят жить.
3. Также ликвидировать все огромные институты, занимающиеся так называемой „чистой наукой“ и бесплодными исследованиями, оставив только те, которые занимаются вопросами общественной жизни и экономики.
4. Запретить в будущем под страхом сурового наказания содержание частных лабораторий, а также выпуск научных работ, которые бы не прошли через особую цензурную комиссию и не были бы признаны ей общественно полезными.
5. Поддерживать повсеместно существование профессиональных школ и закрыть раз и навсегда любые высшие школы, так называемые „философские“ или общие, а прежде всего содержащуюся за счет общества „Школу мудрецов“.
6. Чтобы сделать невозможным отступление от вышеуказанного распоряжения, решительно запрещается любое частное обучение, под каким бы предлогом оно не проводилось.
Граждане! Правительство надеется, что вы с благодарностью примете к сведению это распоряжение».
Матарет слез с фонаря и, опершись о стену, молча смотрел перед собой ошеломленными глазами, насколько невероятным и чудовищным показалось ему то, что он прочитал. Относительно недолгое пребывание на Земле и постоянное общение с Яцеком научили его больше всего ценить работу человеческой мысли и ее свободное развитие, поэтому теперь у него было впечатление, что прямо перед его глазами происходит какое-то страшное самоубийство.
Он поднял голову и посмотрел на толпу. Он искал людей, которые содрогались бы от такого же, как он, возмущения, слушал, не прозвучат ли какие-нибудь возражения.
Но прохожие, остановившись на минуту перед объявлением, столь значительным для судеб человечества, бросали несколько слов, либо безразличных, либо выражающих признание правительству, либо, самое большее, удивлялись его решительности и беззаботно шли дальше, разговаривая о повседневных делах, иногда только касаясь событий последних дней.
Кто-то вспоминал о проклятой машине Яцека в доказательство неслыханной зловредности ученых, за которую они теперь понесли заслуженную кару. Другие называли имя Роды как спасителя, при этом выражали удовлетворение тем, что правительство наградило его высоким чином. В содержание этих разговоров со стороны вплетался рассказ какого-то старика двум молодым людям о том, что в ближайшие дни в театре снова будет выступать знаменитая Аза, которая уже долгое время на сцене не показывалась.
Сообщение, брошенное случайно и передаваемое из уст в уста, наэлектризовало всю толпу, так что о распоряжении, касающемся мудрецов, было забыто. Все спрашивали: правда ли это? откуда получено сообщение? в какой роли на этот раз выступит божественная певица?
Матарет не стал слушать. Медленным шагом он потащился дальше, уронив на грудь голову, насмешливо и презрительно скривив губы:
— Земля, — шептал он, — старая Земля…
У него за спиной перед плакатом, возвещающим смерть знаниям, все еще продолжался разговор о знаменитой певице и несравненной танцовщице — Азе.
Примечания
1
Лик-Обсерватори — астрономическая обсерватория на горе Хэмилтон в Калифорнии, основанная в 1874 году астрономом-любителем Джеймсом Ликом (1796–1876).
(обратно)2
Фантастический замысел… — речь идет о повести «С Земли на Луну», написанной в 1865 году французским писателем Ж. Верном (1828–1905), автором известных фантастических повестей.
(обратно)3
Палимпсест (греч.) — рукопись на пергаменте или папирусе, написанная после того, как с него счищен прежний текст.
(обратно)4
Траванкор — английское название одного из трех государств Малабара.
(обратно)
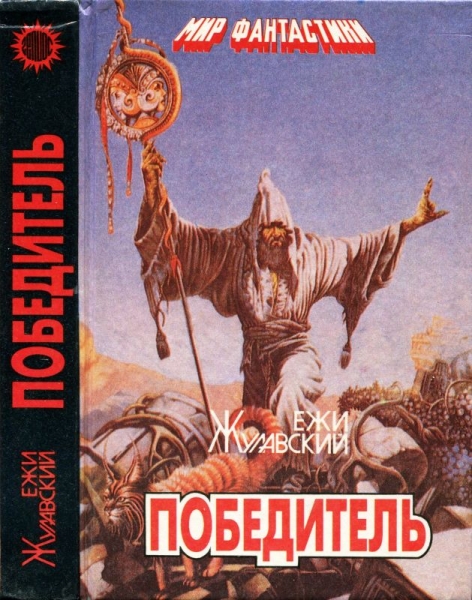


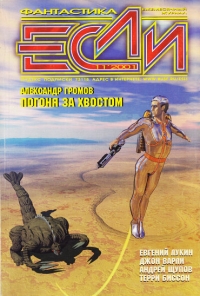

Комментарии к книге «Победитель. Лунная трилогия», Ежи Жулавский
Всего 0 комментариев