Александр Житинский ЧАСЫ С ВАРИАНТАМИ
Сегодня по календарю 24 июля 1985 года.
Это означает, что ровно через неделю мне снова сдавать экзамены в институт, который я уже однажды кончал, если, конечно, я опять не прыгну вперед или назад.
Я знатный прыгун.
Интересно знать, сколько мне всего лет? По паспорту, который торчит из кармана джинсов с заложенными в нем двенадцатью фотокарточками три на четыре, мне — семнадцать. Но этот возраст, равно как и сегодняшнее календарное число, имеет смысл для всех людей, только не для меня.
Истинное количество прожитых мною лет теперь подсчитать затруднительно. Я слишком много прыгал туда и сюда. Пришлось бы собирать время по кусочкам. Среди них были совсем крохотные, не больше нескольких часов. Впрочем, поначалу я совсем не фиксировал длительность своих прыжков, так что точно уже не сосчитать. Думаю все же, что я прожил в общей сложности лет сто двадцать.
Меня зовут Сергей Мартынцев. Это абсолютно точно. Я всегда оставался Сергеем Мартынцевым, куда бы ни прыгал и как бы далеко ни залетал. Я убедился, что имя — это единственная абсолютная реальность. Все остальное могло меняться: друзья, любимые, недруги, профессии и жизненные вехи. Даже даты рождения и смерти.
Отец сидит в соседней комнате и смотрит себя по телевизору. Он только что вернулся из Бразилии, сейчас на экране он разговаривает с бразильским сборщиком кофе. Мой отец — журналист. Он почти всегда был журналистом, лишь однажды я застал его военным переводчиком. Но об этом лучше не вспоминать.
Мне довелось похоронить отца. Это было уже в двадцать первом веке, незадолго до столетнего юбилея Советской власти. В «Известиях» поместили некролог, где назвали отца «крупным журналистом-международником». Сразу после похорон я прыгнул назад, не мог этого вынести. Первые дни после смерти отца я разговаривал с ним осторожно, точно с привидением. Он даже подумал, что я заболел.
— У тебя смурной вид, — сказал он.
Еще бы! Знал бы он, что три дня назад я стоял с матерью в траурном зале под звуки скорбной музыки… Но говорить ему об этом бессмысленно. Тогда он точно решит, что я заболел.
Между тем мое поведение не имеет ничего общего с болезнью. И психика у меня нормальная, хотя она-то как раз могла расшататься. Попробуйте поговорить с родным отцом наяву после его смерти или, очутившись в одной комнате с незнакомой женщиной, вдруг узнать, что это ваша жена. Впрочем, об этом после.
Здесь я намерен рассказать о своей жизни, точнее, о своих жизнях, ибо их у меня было довольно много. Дело даже не в том, что они были интересны. Просто мне довелось заскакивать туда, куда вам еще предстоит дойти. Я не утверждаю, что вы непременно туда придете. Все зависит от конкретного пути, а путей, как я убедился, бесчисленное множество. Однако совпадение не исключено.
Эта история началась год назад… Снова я вынужден остановиться, чтобы пояснить, что на самом деле она началась давным-давно, много жизней назад, однако по календарю это произошло в восемьдесят четвертом году. Должен также предупредить, чтобы вы не слишком доверяли словам «на самом деле». Никакого «на самом деле» нет, как вы сможете убедиться.
Одним словом, когда мне впервые исполнилось шестнадцать лет, ко мне пришел дедушка.
Я был в комнате один, заканчивались весенние каникулы; я лежал на тахте в стереонаушниках и слушал пластинку «Обратная сторона Луны» группы «Пинк Флойд». Она немного устарела, но по-прежнему нравилась мне. Отец был в Японии, мама на работе. Часы показывали половину двенадцатого.
Вероятно, деду открыла Светка. Она тогда ждала ребенка, моего племянника Никиту, о котором позже, и целыми днями сидела дома, плача от страха. Светка на три года старше меня.
Дед вошел неслышно. Впрочем, даже если бы он топал, как слон, я все равно ничего бы не услышал, как раз было громкое соло Ричарда Райта на органе. Дед подошел ко мне и снял наушники с моей головы. Я удивленно вытаращился на деда.
Причин удивляться было несколько. Во-первых, дед приезжал к нам крайне редко. У него были натянутые отношения с отцом, как я понимаю, не оправдавшим его надежд. Журналистика для деда — занятие суетное и малопочтенное. Мой дед был контр-адмиралом в отставке. Он жил один, вернее, после смерти бабушки ему помогала пожилая женщина Антонина Степановна. Дед звал ее экономкой.
Во-вторых, дед явился в форме. Я не видел его в мундире довольно давно, с детства, когда дед еще командовал кораблями и флотилиями. Это впечатление глубоко врезалось в память, особенно адмиральский золотой кортик, болтавшийся на боку.
Выйдя в отставку, дед надевал мундир только на торжественные собрания, посвященные Дню Победы, где я, естественно, не бывал. Сейчас он был при полном параде и при кортике, необычайно серьезный.
— Здравствуй, Сергей. Поздравляю тебя. С сегодняшнего дня ты — мужчина, — торжественно проговорил он и расцеловал меня. Из наушников на тахте продолжал попискивать «Пинк Флойд».
— Выключи это, — поморщился дед. — Я хочу говорить с тобой.
Я насторожился, ожидая очередного воспитательного разговора, которыми потчевали меня родители перед шестнадцатилетием. «Ты становишься взрослым, пора подумать о будущем…» И прочее в том же духе. Мне это все порядком осточертело.
Дед уселся на тахту рядом со мной и с минуту молчал, положив руку мне на плечо. Я почувствовал, что рука дрожит.
Затем он с усилием отстегнул кортик и положил его на ладонь.
— Вот тебе мой подарок. По Уставу личное оружие остается в семье. Мне скоро уходить, я хочу, чтобы он принадлежал тебе.
— Ну зачем ты так, дед… — вяло возразил я.
— Я знаю, что говорю.
Я принял кортик. Он был прохладен и тяжел. Я нажал на кнопочку у эфеса и вытянул лезвие из ножен. Оно было покрыто тончайшим слоем желтого масла. На рукоятке стояли три буквы: «Р. Д. М.» — Родион Дмитриевич Мартынцев.
— Но это не главное, — сказал дед, поднимаясь с тахты.
Я с интересом следил за ним. Дед был невысок и худ, последние годы он как-то усох, мундир на нем болтался. Седая короткая стрижка, множество морщин на лице, но глаза ясные и живые…
— Встань, Сережа. Сейчас ты обалдеешь, — сказал он и подмигнул мне. Я действительно обалдел. Не думал, что дед способен произносить наши слова. Обычно он был велеречив.
Я послушно встал. Дед был мне по плечо. Он испытующе, с хитрецой взглянул на меня снизу вверх, будто старый пират, открывающий юнге тайну клада, зарытого на далеком острове сорок лет назад.
В сущности, так оно и было. К сожалению, ничего в этом нет смешного, как выяснилось за прошедшую жизнь.
— Эк ты вымахал, — сказал дед, одновременно с восхищением и неудовольствием.
Он оглянулся на дверь и с воровским видом запустил сухую ладонь во внутренний карман адмиральской тужурки. Когда он вынул руку, в ней был небольшой, круглый, тускло поблескивающий предмет.
Щелкнула крышка, и я увидел циферблат старинных часов с тонкими резными стрелками и делениями по кругу до 24, а не до 12, как это обычно бывает. По левую и правую сторону циферблата располагались окошечки календаря. На календаре стояли число, месяц и год, соответствующие происходящим. Стрелки часов приближались к двенадцати, хотя казалось, что к шести, потому что цифра 12 находилась на месте шестерки обычных часов.
— Нравится? — спросил дед, заглядывая мне в лицо.
Я кивнул, хотя, честно говоря, особого восторга не испытал. Часы как часы. Кортик потряс мое воображение значительно сильнее. Я уже прикидывал, как после каникул понесу его в школу и покажу ребятам.
Вдруг дед убрал вниз ладонь, на которой покоились часы, но они остались висеть в воздухе на том же месте. Я остолбенел.
— Видишь? Они ничего не весят, — удовлетворенно проговорил дед и легонько толкнул часы указательным пальцем. Они плавно поплыли по воздуху.
Такие фокусы я раньше видел только по телевизору, когда показывали репортажи с борта орбитальной станции «Салют» и космонавты демонстрировали состояние невесомости, пуская по воздуху разные предметы. На Земле это выглядело чудом.
— И это не самое главное, — сказал дед, ловя часы и захлопывая крышку. В момент щелчка окружающее пространство как бы дрогнуло, будто от бесшумного взрыва.
Первой моей мыслью было: дед на старости лет увлекся фокусами, стал иллюзионистом-любителем. Вторая мысль была еще хлеще: дед спятил. Его рассказ блестяще это подтвердил.
Дед сказал, что часы волшебные. Слышать это от старого человека в парадной адмиральской тужурке было дико. По словам деда, волшебство часов заключалось в следующем. Во-первых, они всегда шли абсолютно точно, не требуя завода. Во-вторых, если попробовать перевести стрелки и календарь, для чего сбоку имелись три маленькие головки, а после захлопнуть крышку, то в то же самое мгновенье наступало время, показываемое часами.
— Где? — тупо спросил я.
— Что — где? — рассердился дед.
— Где наступает время?
— В пространстве, — он обвел рукой комнату.
— В каком?
— Ну, во Вселенной, — скромно пояснил дед.
Таким образом, это были часы обратного действия. Не время указывало им, какой год, месяц, день и час должны стоять на циферблате, а они управляли временем, предписывая ему, каким быть.
Дед получил эти часы в наследство от своего отца, моего прадеда. Тот был профессиональным революционером, политкаторжанином, заработал на каторге чахотку и умер в двадцать пятом году. Часы он подарил сыну в день его шестнадцатилетия, за два года до своей смерти.
Дед неторопливо рассказывал, поигрывая часами: то отпускал их — и они плыли в воздухе, по принципу Галилея сохраняя состояние равномерного прямолинейного движения, — то ловил их в ладонь, как муху.
— Почему они ничего не весят? — спросил я, будто это было самым главным.
Вообще говоря, этот факт действительно подтверждал необычность часов, если не был искусной иллюзией. Все остальное нуждалось в проверке. Что, если дед вычитал про часы в какой-нибудь научно-фантастической повести, а теперь меня разыгрывает?
— Я не знаю, — сказал дед. — Я моряк, а не физик. Мне говорили, что время как-то связано с силой тяготения. Вроде бы эти часы являются одним из полюсов гравитационного поля…
— А сколько всего полюсов?
— Не знаю, — отмахнулся дед. — Когда профессиональному военному дают новое оружие, его мало интересует, на каком принципе оно основано. Но он должен досконально знать его возможности: как, где, когда и против кого его следует применять. Понял?
— Какое же это оружие? — возразил я. — Так, игрушка…
— Опасная игрушка, мальчик, — отчеканил дед, глядя на меня почти со злостью. — Ты в этом убедишься. Если, конечно, воспользуешься ею. Если осмелишься воспользоваться.
— Еще как воспользуюсь, — сказал я.
Дед снова открыл крышку часов и взглянул на стрелки. Было без двух двенадцать.
— Запомни эту минуту, малыш, — тихим голосом сказал дед. — Полдень двадцать седьмого марта одна тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года. Возьми!
Он протянул мне часы. Я взял их. Ощущение было странное: часы одновременно были легки, поскольку ничего не весили, но массивны, так что приходилось прилагать усилие, чтобы сдвинуть их с места. Часы словно сопротивлялись движению, вели себя как живые.
— Непослушные, правда? — неожиданно улыбнулся дед.
— Значит, если переставить их на год назад, щелкнуть крышкой, то будет… — начал вслух размышлять я.
— То и будет год назад, — нетерпеливо перебил дед.
— Мне снова будет пятнадцать… И я окажусь там, где находился ровно год назад? Так?
— Да! Да! И ты, и я, и все. Понимаешь — все! Весь мир, все люди, вся Вселенная окажется там, где они были год назад. В том же положении и состоянии.
— А те, что умерли за этот год? — вдруг спросил я.
— Они воскреснут, — строго сказал дед.
— Ого! — сказал я, уважительно глядя на часы. — А дальше?
До меня еще по-настоящему не доходило.
— А дальше все будут жить снова тот год, который прожили! — закричал он. — Почему ты такой глупый мальчик?!
— И все повторится? Неинтересно.
— А вот и нет! Нельзя дважды войти в одну и ту же реку! Нельзя! Это ты знаешь? Так говорили древние! — кричал он.
— Почему ты кричишь? — обиделся я.
— Потому что в двадцать третьем году, когда отец подарил мне эти часы, я не знал и половины того, что знаешь ты сегодня. Но я был взрослее, — сказал он огорченно. — Может быть, я рано дарю тебе часы?
— Пожалуйста. Можешь не дарить. Не больно-то хотелось…
— Нет уж. Возьми, милок, — сказал он, отводя мою руку с часами. — Возьми. Подумай, как ими пользоваться. И нужно ли. Подумай.
У него была привычка повторять слова с разной интонацией.
— Я ухожу, — сказал он. — Ухожу. Никто не должен о них знать. Это может повредить тебе… Потом, когда ты помозгуешь над ними, мы поговорим.
— Постой, я же еще ничего не знаю! — взмолился я.
— Я все сказал. Все самое главное. Переставляешь стрелки и календарь, захлопываешь крышечку и… Да! Вот еще что. Держи их крепко вот здесь, если хочешь помнить, что с тобой было до прыжка, — от ткнул себя в шею, туда, где ямочка под кадыком.
— Прыжка? — переспросил я.
— Ну, скачка. Скачка во времени.
Дед пошел к двери.
— Ты сам-то пользовался ими? — спросил я вслед.
— Один раз. Один раз в жизни. Один раз в жизни я вернулся на месяц назад и прожил его заново… Это было давно.
Он хлопнул дверью.
Что бы вы сделали на моем месте? По-моему, человечество можно разделить на две группы. Одни сразу бы схватили часы и попытались проверить их в действии. Другие бы сначала подумали. Я решил подумать.
Я, как и большинство людей моего возраста, любил фантастику и зачитывался Бредбери, Стругацкими, Лемом. Однако читая их книги, я никогда по-настоящему не верил в реальность происходящего. Одно дело фантастика, а другое — реальная действительность.
Я трезво смотрел на мир в свои шестнадцать лет и знал, что левитация, пришельцы и машины времени существуют лишь в воображении фантастов.
И вот я оказался в фантастической ситуации. Причем от моего выбора зависело — использовать ее или нет. Я мог просто-напросто запихать часы подальше, забыть о них и жить себе как жил.
Правда, это было бы еще более фантастично. Иметь в руках такую штуку и не воспользоваться ею!
Я осторожно защелкнул крышку часов, опять ощутив легкое сотрясение пространства, и поволок их к письменному столу. Они сопротивлялись, как рыба на крючке. Судя по всему, их инертная масса была довольно велика.
Я засунул их в ящик стола, закрыл его и сел на стол, будто боясь, что часы могут взлететь вместе со столом. Они вели себя тихо. Дальше я принялся рассуждать.
Дед мой — человек экстравагантный, но склонности к мистификации у него ранее не замечалось. Наоборот, он был правдив и точен во всем, даже пунктуален. Да и зачем ему врать про часы?
Меня так и подмывало проверить их, но я боялся. Нужно было рассчитать все последствия. А как их рассчитать?
Допустим, что это не обман. Если обман, то и говорить не о чем. Допустим, правда. Следовательно, если я сейчас переставлю календарь хотя бы на вчерашнее число, то оно и наступит? Где я вчера был в полдень?
Вчера в полдень я стоял в очереди за пластинкой Челентано в фирменном магазине «Мелодия» на Большом проспекте Петроградской стороны. Я поехал туда к открытию и простоял в очереди два с лишним часа. Со мною был Толик.
Следовательно, если я сейчас хлопну крышкой, то в мгновение ока перенесусь на Большой проспект. И одет уже буду не в домашние тапочки и поношенный трикотажный костюм, а в джинсы, кроссовки и теплую финскую куртку. И Толик тоже окажется там, где бы он сейчас ни был.
Мысль оторвать Толика от его занятий показалась мне заманчивой, тем более что я догадывался, где и с кем он сейчас проводит время.
Да что Толик! Весь мир, все люди, вся Вселенная, как говорил дед, тоже перемахнут во вчерашний день. Те, кто родился за эти сутки, — а таких уйма на Земле, — исчезнут? А те, кто умер — оживут?! Не слишком ли жирно, как говорит моя мама? Чушь. Глухня.
И это все из-за каких-то замшелых часиков, которые тикают сейчас в ящике моего стола? Нет, я не такой осел. Сейчас возьму и проверю, решил я.
Но я продолжал прочно сидеть ни столе и даже ухватился за крышку руками. Было какое-то суеверное чувство, будто кошка перебежала дорогу. Душевные сомнения, так бы я сказал.
А имею ли я право? Может быть, сейчас у кого-нибудь счастье? Вот, например, Толик. Это мне делать нечего, а у него ответственный день. Собственно, чего я прицепился к Толику? У других дела еще важнее. Производственный план, квартал кончается, а я одним махом уничтожу суточную продукцию страны? За это по головке не погладят. Да и вообще нечестно.
Могу и не на сутки. Могу на месяц, на год! На сколько угодно. На сто лет назад. Интересно, есть ли ограничение по годам в этой машинке? Не вечная же она?
«Стоп! — сказал я себе. — Больше чем на шестнадцать лет назад мне прыгнуть нельзя. Меня еще не будет. Я еще не рожусь, а также не родюсь. Или не рождусь? Черт, у меня всегда с русским были нелады. Короче говоря, туда нельзя».
Таким образом, я выяснил одну границу. Мне можно было гулять во времени, начиная с марта месяца одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, когда я родился.
Обидное ограничение. Значит, к рыцарям-крестоносцам я уже не попаду. Могу, конечно, нажать крышку, пускай история начнется сначала, но мне-то не посмотреть.
Да и в шестьдесят восьмой мне не хотелось. Попаду опять в ясли с этими проклятыми часами. Мама наверняка их отберет…
Еще начнет их крутить и отправит человечество куда-нибудь к черту на куличики. Куда-нибудь к египетским фараонам.
«Стоп! — опять сказал я себе. — Почему я решил, что часы останутся при мне? Я их получил от деда сегодня. В яслях у меня не было никаких часов. Они только что появились. Следовательно, если я хочу прыгнуть в прошлое, оставив при себе часы, я не должен переходить границы полудня сегодняшнего дня».
Вот почему дед просил меня запомнить эту минуту! Конечно, можно прожить детство сначала и дождаться, когда дед снова мне их подарит. Но это же сколько ждать!
А как быть с памятью? Буду ли я помнить, что было со мной до скачка? Дед сказал — буду, если держать часы в момент переключения вот тут, у шеи. А все остальное человечество? Вопросов было выше головы.
Была не была! Я понял, что рассчитать все не удастся, и выдернул ящик письменного стола. Часы плавали там, как рыбка в аквариуме. Я схватил их и открыл крышку. Чтобы все-таки обезопасить себя от возможных неожиданностей, я решил вернуться во времени немного назад, причем в такой момент, про который я точно помнил — где, как и с кем я находился. Такой момент долго искать не пришлось. Я вспомнил, что десять дней назад перед последними тремя уроками мы стояли в коридоре и гадали, какие темы принесет Анна Ильинична на четвертное сочинение по литературе.
Я поставил нужное число и время — без пяти двенадцать, — приложил часы к ямочке на шее и, не раздумывая, обеими руками резко надавил на крышку.
Ощущение было незабываемым.
Все продолжалось доли секунды, однако я успел зафиксировать начальную фазу скачка, пока меня не смыло пространством прошедшего времени.
Одновременно со щелчком произошло уже знакомое мне легкое содрогание, и тут же вокруг часов стала быстро разрастаться поверхность чечевичной формы, будто от них отделялась оболочка. Внутри этой поверхности я успел заметить зеленое сукно письменного стола, на котором покоились часы, рядом — угол чернильного бронзового прибора, будто вдвигавшегося внутрь поверхности ниоткуда, и дедовский мундштук. Пальцы мои и часть груди у шеи уже были смыты распухавшей чечевицей, через миг исчез подбородок, нос, в то время как внутри поверхности продолжал возникать кусок письменного стола в дедовском кабинете — он торчал из моего тела, съедая его с огромной быстротою раздвигавшейся чечевичной поверхностью. Еще мгновенье — и поверхность достигла глаз. Я перестал видеть, последовало несколько сотых долей секунды полной темноты, и вдруг я оказался в школьном коридоре среди своих товарищей, возникнув, как и они, на границе раздела двух пространств, раздвигающейся с гигантской скоростью.
— …инична даст Наташу Ростову. Вот увидите, — сказал Толик.
— И князя Андрея, — авторитетно добавил Макс.
— А я к Пьеру готовилась. Хоть бы Пьер был! — заволновалась Марина.
«Все точно, — отметил я про себя. — Эти реплики имели место». Я прикрыл веки, сжал пальцы, как бы концентрируя мыслительную энергию, и с расстановкой произнес:
— Значит, так. Темы будут такие: «Образы Кутузова и Наполеона как отражение исторических взглядов Толстого», «Философия Платона Каратаева и ее связь с толстовством» и «Русский солдат в изображении Толстого».
Меня дружно осмеяли. Никто не напомнил мне, что в первый раз я тоже голосовал за князя Андрея.
Через пять минут в класс вошла Анна Ильинична и написала на доске названные мною темы. Слово в слово. Все онемели и дружно повернулись ко мне.
— Откуда ты знал? — прошептал Макс.
— Интуиция, — пожал плечами я.
— Ну ты логопед! — произнес он свою любимую присказку.
Анна Ильинична, как она потом объяснила, решила проверить самостоятельность нашего мышления, почему и залепила такие зверские темы. Конечно, никто не был готов, кроме меня, потому что я прекрасно помнил разбор сочинений, устроенных ею два дня спустя.
«Заодно и четвертную отметочку исправлю!» — подумал я, принимаясь строчить про Кутузова и Наполеона.
В первый раз я писал о русском солдате и получил трояк за содержание и четыре — за грамматику.
Через два дня я узнал, что получил «отлично» за содержание и ту же четверку за грамотность. В четверти вышла пятерка. Остальные имели те же оценки, что в первый раз.
За десять дней, предшествовавших моему второму шестнадцатилетию, я заслужил репутацию прорицателя. Ситуации повторялись одна за одной, и мне не стоило никакого труда предсказывать их.
— Вот смотрите, — говорил я в кино, как всегда прикрыв глаза и сжав пальцы в кулаки, — сейчас войдет рыжий щербатый мужик на костыле.
Через минуту в фойе входил рыжий щербатый мужик на костыле.
— Завтра химичка спросит тебя, тебя и тебя, — указывал я пальцем. — Готовьтесь.
На следующий день их спрашивали, они получали пятерки, изумленно благодарили.
Таким образом мне удалось повысить четвертные оценки не только себе, но и нескольким своим товарищам. За мной ходил хвост. Канючили, не переставая:
— Мартын, а что у меня будет в четверти по биологии?
— Серега, «Зенит» завтра выиграет?
— Проиграет ноль-один, — отвечал я.
В последний день четверти ошеломленные одноклассники потащили меня к нашей воспитательнице Ксении Ивановне. У нас с нею доверительные отношения.
— Ксения Ивановна, Мартынцев у нас пророк! — объявил Макс.
— Кто? — испугалась она.
— Прорицатель. Предсказывает будущее!
— Как же он это делает?
— Интуицией, — сказал Толик.
— Ах вот как? Тогда, Сережа, предскажи, пожалуйста, когда мне позвонит моя Катя. Она уехала с ансамблем в Таллинн, обещала позвонить. Я должна быть дома.
Тут я влип. Дело в том, что этого разговора в предыдущий раз, естественно, не было; я понятия не имел о Кате и ее гастролях в Таллинне. Тем более не догадывался, когда ей вздумается позвонить своей маме.
— В семь вечера, — наобум брякнул я.
И конечно, ошибся. Катя звонила в пять, когда Ксении Ивановны не было дома, а потом в одиннадцать вечера. Об этом узнал Макс, специально позвонивший ей на следующий день, чтобы узнать результат эксперимента. Репутация несколько пошатнулась.
Начались каникулы. Я виделся преимущественно с друзьями — Максом и Толиком. Жизнь моя, в общем, текла по тому же руслу, что в первый раз, но с небольшими отклонениями. Иногда я нарочно их устраивал. Помня, что в субботу ходил на дискотеку в ДК связи, на этот раз не пошел. Ничего не изменилось.
Я напряженно ждал дня рождения. Я снова хотел стать обладателем часов. За три дня позвонил деду, поинтересовался здоровьем.
— Тронут, — насмешливо сказал дед. — С чего вдруг такая внимательность?
Накануне дня рождения я слегка поправил свое реноме пророка, точно предсказав пластинку Челентано, которую мы с Толиком и купили в магазине «Мелодия».
Утром двадцать седьмого марта, выслушав поздравления мамы и Светки и получив от них в подарок ту же фирменную запечатанную японскую кассету, я стал ждать деда. На этот раз оделся получше, прибрался в комнате.
В половине двенадцатого дед не пришел. Не явился он и в двенадцать. Его не было в час, в три, в пять. Я извелся. Хотелось позвонить ему и напомнить. Очень мило получится! Так, мол, и так, дедушка, ты мне часики забыл подарить. Где они? Дед позвонил в шесть часов.
— Поздравляю тебя, мой мальчик, — сказал он слабым голосом. — Ты не мог бы зайти ко мне? Я приготовил тебе подарок.
Я помчался к нему сломя голову.
Я люблю бывать у деда. У него много старых вещей, старинная тяжелая мебель, маленькая картина Айвазовского. Все это испокон веку хранилось в семье, а не куплено в комиссионном, как у Толика. Его отец, директор овощебазы, года два назад свез на дачу всю новую мебель и стал покупать старинную. Толик рассказывал, что сейчас он гоняется за довоенным репродуктором — такая черная бумажная тарелка. Готов заплатить за нее сто рублей.
У деда есть этот репродуктор. Он слушал из него речь Молотова в первый день войны.
Но особенно мне нравится фонола. Это такой инструмент начала века, по виду похож на маленькое пианино. У нее есть клавиатура и несколько ножных педалей. Играть на фоноле может каждый, точнее, она играет сама, а ты только изображаешь игру, нажимая пальцами на клавиши. В фонолу заправляются специальные ноты — листы с дырочками, а ножные педали регулируют громкость и быстроту воспроизведения. У деда целая кипа нот — Бах, Бетховен, Шопен. Я люблю играть «Элизе» Бетховена. Жаль, что нет ничего современней: неплохо было бы сыграть партию Джона Лорда из «Дип Пепл», но и Бетховен сойдет.
Я хотел бы стать музыкантом в знаменитой команде. Но я не умею играть, только тренькаю слегка на гитаре. Фонола для меня самый подходящий инструмент.
Дед выглядел больным. Он был в домашнем вельветовом потертом костюме, нечто вроде пижамы. Вообще все было не так торжественно, как в прошлый раз.
Он опять объяснил мне про часы. Они лежали на письменном столе рядышком с чернильным прибором, придавленные канцелярской скрепкой, чтобы не взлетели. Прямо над ними на стене висел золотой адмиральский кортик.
— Ой, как болят сегодня ноги! — пожаловался дед.
Я вдруг подумал, что деду ничего не стоит воспользоваться часами и вернуться в те времена, когда у него не болели ноги, когда он стоял на мостике военного крейсера в адмиральской форме с золотым кортиком на боку. Почему он этого не делает? Зачем дарит часы мне?
— Ты все понял? — спросил он. — Не забывай прикладывать их сюда, — он указал на шею.
— Я знаю, — кивнул я.
— Откуда?
— Ты мне уже дарил, — сознался я.
Дед с минуту смотрел на меня. Затем печально покачал головой.
— Значит, ты уже попробовал?.. В таком случае мне говорить больше не о чем. Упражняйся дальше. Только не заставляй меня дарить их тебе до бесконечности. Пожалей старика. Отвертеться тебе не удастся. Я решил подарить часы тебе еще до твоего рождения.
Мне показалось, что он огорчен.
— Ступай, Сережа, — сказал дед.
Я с тоской посмотрел на кортик. Дед явно не собирался сегодня дарить его мне.
«Вот и попробовал! — думал я, возвращаясь. — Остался без кортика. Но зато часики при мне!» Тогда я еще не знал, что за все свои прыжки надо платить.
Из первого опыта я извлек несколько важных следствий. Следствие первое: все люди, возвращенные в прошлое силою часов, проживают его повторно как впервые, не помня о том, что оно уже однажды было. Все, кроме меня. Даже дед, многолетний обладатель часов, не заметил, что я заставил его дважды прожить прошедшие десять дней.
Следствие второе: прошлое не повторяется в точности, с фатальной неизбежностью. Иными словами, время не обладает свойством детерминированности, если пользоваться точными терминами. Это и понятно — я вношу в него возмущение своей памятью. Проживая прошлое повторно, я могу его корректировать, то есть влиять на ход времени. Значит, можно исправлять ошибки.
Эта мысль мне понравилась. Можно не бояться, жить начерно, а потом, узнав результат, переписывать жизнь набело.
Правда, может измениться и не только то, что зависит от меня. Дед ничего не знал о моем прыжке, однако не подарил мне кортик, не пришел ко мне, а пригласил, то есть сделал не совсем то, что в первый раз. Значит, на общий закономерный ход времени накладываются случайные флуктуации.
Я почувствовал себя исследователем Времени. Мне нравилось применять к нему понятия, почерпнутые из курса физики.
Следствие третье: природа времени совсем не та, что представлялась мне раньше. С этим еще предстояло разбираться. Я смутно догадывался, что мне предстоит изменить взгляды на причинность.
Но пока меня занимали конкретные вопросы: что делать с часами дальше? Я чувствовал себя «как дурак с писаной торбой». Так любит выражаться моя мама.
Это сейчас, исходивши Время вдоль и поперек, я мыслю философскими и физическими категориями. Тогда в голове был полный туман и неуемная жажда извлечь из часов практические выгоды.
Для начала я решил накопить небольшой капитал времени, куда можно было бы возвращаться, не рискуя потерять часы, то есть не заставляя деда дарить их снова.
Через несколько дней, прожитых как на иголках, я начал легкие упражнения с часами, прыгая исключительно назад. Я стремился растягивать удовольствия.
Например, когда мама приносила домой что-нибудь вкусненькое: орешки, торт или купленные по случаю бананы, — я съедал свою долю и тут же прыгал назад минуток на пятнадцать, чтобы съесть лакомство снова.
Банку сока манго я выпил пять раз подряд, и хотя аппетит остался прежним, в результате возникло отвращение к соку манго, чисто психологическое. Также не приносили желаемого удовлетворения повторные прослушивания хороших записей у знакомых и просмотр детективов по телевизору. Насыщение наступало быстро.
Это была стрельба из пушки по воробьям. Я быстро понял, что мелкие цели ведут к мелким результатам. Необходимо было выработать жизненный план, сообразуясь с наличием часов.
Но я все откладывал разработку жизненного плана. Пока меня занимали фокусы. Особенно нравилось разыгрывать Светку. Ее муж Петечка, с которым она раньше училась в школе, служил в армии и время от времени звонил ей из Шауляя. Услышав очередной звонок Петечки, я засекал время, потом отпрыгивал назад минуток на пять, шел к сестре и спрашивал:
— Хочешь, сейчас Петька позвонит?
— Ой, конечно!
— Пожалуйста! — я широким жестом указывал на телефон, и тот начинал звонить.
После двух таких импровизаций Светка стала приставать, чтобы я снова организовал звонок. Это было не в моих силах.
— Нет настроения, — говорил я. — Понимаешь, на это затрачивается психическая энергия…
— Серенький, ну пожалуйста!
— Попробую. На днях… — обещал я.
Наконец он позвонил. Светка пришла после разговора надутая:
— Видишь, он сам позвонил. Без твоей помощи.
«Посмотрим, что ты скажешь через пять минут!» — думал я, нащупывая часы в кармане.
Через пять минут, совершив прыжок и разыграв спектакль предсказания звонка, я удостаивался восторженного поцелуя сестры.
Скоро я стал замечать, что предсказания приносят мне все меньше удовольствия. Напротив, стало явственно вырисовываться чувство определенного неудобства, я бы даже сказал — стыда. Наблюдая, как простодушно изумляются или радуются мои друзья и близкие при повторе жизненного момента, как они волнуются, я чувствовал себя подлецом. Я знал результат заранее. Все равно что смотреть запись футбола по телевизору, зная счет, когда рядом искренне волнуется товарищ, не знающий этого счета.
Я решил прорицать только в случаях крайней необходимости, когда есть возможность реально помочь людям.
Такой случай представился.
Макс в воскресенье утром поехал с отцом на подледный лов. Была середина апреля. По радио предупреждали, что выход на лед опасен.
В понедельник, придя в школу, Макс сообщил, что на его глазах оторвало льдину с пятью рыбаками, среди которых был друг отца. Льдину унесло в залив. Рыбаков искали вертолеты, но не нашли. Вероятно, все утонули.
После уроков я отправился домой и перевел часы на два дня назад, чтобы сообщить Максу о возможном несчастье.
— Туда, куда вы собираетесь, ехать нельзя. Может оторвать льдину, — сказал я.
— Ты точно знаешь? — обеспокоенно спросил Макс.
— Точно.
Моя репутация прорицателя была настолько велика, что он не осмелился спорить.
— А куда мы едем? — спросил он.
— Как куда? На рыбалку.
— В какое место? Мы с отцом еще не знаем. За нами должны заехать.
«Вот тебе и раз! — подумал я. — Я же забыл спросить у него, где они были».
— Никуда нельзя. Сидите дома, — сказал я. — И другим скажите.
— Да это и по радио говорят. Все равно все едут… — засомневался Макс.
— Я тебе говорю — пятеро утонут! — разозлился я.
— И мы с отцом? — поинтересовался он.
— Вы — нет, — неохотно признался я.
— Тогда какого черта! Мы едем.
— Слушай, ты! Сиди дома, говорят! И особенно посоветуй сидеть дома приятелю отца! Он, считай, уже труп! — заорал я, не зная, как его убедить.
Макс испугался, обещал поговорить с отцом, хотя сомневался в том, что тот поверит моим предсказаниям.
Мы вышли из школы.
— Слушай, а может, обойдется? — с надеждой спросил Макс.
— Пятеро утопленников. Я сказал, — прохрипел я, как Жеглов в кинофильме «Место встречи изменить нельзя».
Внезапно я заметил на улице скопление народа. Стояла милицейская машина, рядом грузовик. Отчаянно визжа, к месту происшествия летел рафик «скорой помощи». Мы с Максом поспешили туда.
Когда мы подбежали, в открытый рафик вдвигали носилки. На них лежала девочка. Ее только что сбил грузовик.
— Видишь! А ты не веришь, — сказал я Максу.
— Так это же… — опешил он.
Я вернулся домой злой. Делаешь людям добро, а они не хотят верить! Но что-то еще сидело в душе. Какая-то зловещая догадка.
И вдруг меня осенило. Девочка! В прошлую субботу, до прыжка, мы с Максом не видели никакого уличного происшествия. Правда, мы с ним и о рыбалке не разговаривали. Тогда мы просто собрали портфели и пошли домой. Может быть, девочку сбило позже? Вряд ли… Если бы возле школы случилось такое, нам бы наверняка сообщили об этом в понедельник, чтобы еще раз напомнить о необходимости соблюдать правила движения. Выходило, что это я убил девочку своим возвращением назад. Рыбаков спас или не спас — еще неизвестно, а девочку уже угробил. Вот она, непредвиденная флуктуация хода времени…
Я схватил часы и опять полетел назад, в школу. Во времени, разумеется. На этот раз я не стал предупреждать Макса, а сразу повлек его за собою на улицу.
— Куда ты летишь? — недоумевал он, едва поспевая за мною.
— Нужно предотвратить несчастье!
Мы прибежали к тому месту и проторчали там битый час, кидаясь на всех мало-мальски похожих девочек, дабы предотвратить беду. При этом едва не угодили в милицию. Происшествия не случилось, однако я не уверен, что благодаря нам. Неизвестно, проходила ли мимо та девочка. Неизвестно, проезжал ли тот грузовик, ибо номера я не запомнил. Может быть, в этом повторе времени девочка пошла по другой улице? Откуда я знаю!
«Да, это тебе не повторение гола по телевизору, — подумал я. — Тут все тоньше».
Макс негодовал.
— Может, ты скажешь, наконец, чего мы здесь мечемся?! Чего ты бросаешься на третьеклассниц?!
— Мы спасли человека, — сказал я ему, вытирая пот. — Теперь спасем еще пятерых.
— Ну ты логопед… — протянул он.
И я начал снова рассказывать про льдину, убеждать. На этот раз Макс практически мне не поверил, но обещал все же сказать отцу об опасностях подледного лова в апреле. Настроение у меня было испорчено на два дня.
В повторный понедельник Макс, сияя, рассказал, что они все же ездили на Финский залив, никого не оторвало, никто и не думал тонуть.
— Вот так, прорицатель! — сказал он язвительно.
Этот случай заставил меня крепко подумать о своих возможностях. Не переоцениваю ли я их? Заманчивая перспектива стать благодетелем человечества, исправлять роковые случайности на поверку оборачивалась томительной беготней по времени, этаким мельтешением; причем когда я довел этот вариант до логического конца, то получилось, что я вообще не смогу двигаться дальше, буду вечно торчать, а вернее, дрожать возле какого-то момента времени, хотя бы в ту же прошедшую субботу.
В самом деле, на Земле ежедневно происходит масса роковых случайностей и катаклизмов, печальных последствий которых можно было бы избежать, если бы знать о них заранее. В ту же субботу, то есть уже в повторную субботу, сидя у телевизора и размышляя о своей миссии в истории, я узнал из программы «Время» о землетрясении в Перу. Погибло несколько тысяч человек.
По идее мне нужно было опять прыгать назад и посылать срочную телеграмму в Перу, или в ООН, или не знаю куда с предупреждением об опасности. Даже если предположить, что мне сразу и безоговорочно поверят, что тоже представлялось сомнительным, я не мог гарантировать эффективности своего шага. В тот повторный отрезок времени, когда в Перу могли спать спокойно, убежав подальше от эпицентра, на Земле случились бы другие роковые события, которых в первый раз не произошло. Тут полная аналогия с девочкой, попавшей под машину. Выходило, что я одной рукой спасал, а другой убивал. При этом спасал я погибших случайно, по воле небес, как говорится, а те, кто умирал при повторе событий, были исключительно на моей совести. Ведь они уже благополучно проскочили данный отрезок времени и лишь благодаря тому, что я заставил их жить вторично, попали в страшную переделку.
Я футбольный болельщик, хотя и не принадлежу к «фанатам», заполняющим тридцать третий сектор стадиона имени Кирова. Так вот, рассматриваемую ситуацию можно сравнить с повторным пенальти, когда вратарь взял мяч, а судья просит перебить. Конечно, при повторе мяч влетает в сетку. Мне всегда обидно за вратаря, я ему сочувствую.
Мог ли я по своей воле уподобить тысячи людей на Земле этому вратарю, уже взявшему мяч, но проигравшему при повторе?
Мне вспомнились два крылатых изречения, как нельзя лучше подходящие к моим выкладкам. «Благими намерениями вымощена дорога в ад» и другое, попроще: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».
Это цинизм, согласен. Ведь речь идет о человеческих жизнях. Но это честный цинизм.
Я решил не взваливать на себя обязанности врача-реаниматора «скорой помощи», тем более что моя «скорая помощь» мчалась к больному так неосторожно, что по пути наносила увечья здоровым.
Кроме того, в одиночку всюду не поспеешь. Мои альтруистические порывы на деле выглядели бы так: предупредил кого-то, спас, узнал о новом несчастье, прыгнул назад, предупредил, узнал, прыгнул, предупредил, узнал… И так до бесконечности.
«Прыг-скок, прыг-скок — обвалился потолок», как поется в одной милой песенке.
Мне страшно было подумать только об одном: что же будет, если беда случится с близким человеком? Однако проще решить, чем сделать.
Первые недели обладания часами, изрядно растянувшиеся для меня из-за бесконечных повторов, уже создали мне непререкаемый авторитет человека, предсказывающего будущее.
Странно, правда? Я знал только прошлое, а выходило, что угадывал будущее.
Ко мне беспрестанно обращались за пророчествами. Сначала мои одноклассники, потом их родители, потом друзья родителей… Популярность росла, как снежный ком. Я стал домашним пророком. Убедившись, что мои предсказания точны, ко мне валом повалили люди, беспокоящиеся о своем завтрашнем дне.
Людей чрезвычайно интересует будущее. Даже такой пустячок, как прогноз погоды на завтра, заставляет многих досматривать программу «Время» до конца. Несмотря на строгую научность синоптических прогнозов, это все равно выглядит маленьким чудом: вчера сказали, что сегодня пойдет дождь, и он в действительности пошел.
Я стал синоптиком времени, если можно так выразиться. Мой метод был уныл и прост: желающий знать прогноз сначала получал мое уклончивое обещание помочь. Затем я ждал вместе с ним — что будет, отпрыгивал в исходную точку и сообщал результат. Свалится ему на голову кирпич или нет, какое место завоюет он на соревнованиях по пинг-понгу и любит ли его Маша.
Я брался только за краткосрочные прогнозы, потому что долгосрочных замучаешься ждать. День-два, не более.
Очень быстро начала раздражать мелочность запросов от будущего. Помню, позвонила одна дама, дальняя родственница знакомых Толикиного отца. Ее страшно интересовал вопрос: можно ли ей надеть сегодня в театр новое французское платье?
— Надевайте, в чем дело, — сказал я.
— Сереженька, вы еще молоды, вы не совсем понимаете… Платье очень оригинального покроя, но не пошитое на заказ, а купленное в магазине. Если в театре будет еще хотя бы одна женщина в таком же платье — это будет для меня удар!
— Смело надевайте, — посоветовал я.
В полночь она снова позвонила со слезами и угрозами. Оказывается, она наткнулась в театре на свое платье. Премьера была испорчена к чертям собачьим.
Я тут же возвратил время к нашему первому разговору, дождался ее звонка и отчеканил:
— Ни в коем случае не следует надевать это платье. Там будет другая мымра в таком же.
На следующий день она прислала мне через Толика коробку конфет.
Я завел специальную записную книжечку, где регистрировал точное время заказа, чтобы не терять ни минуты при возвращении. Теперь я прыгал точно к разговору с заказчиком, прямо к своей прорицающей фразе. И все равно эти скачки утомляли. Создавалось впечатление, что я не живу, а топчусь на одном месте. Я понял, что совершил ошибку, став пророком.
Мои родные тоже оказались втянутыми в эту историю. Только не папа. В погоне за международными событиями он все время колесит по земному шару и не всегда успевает следить за внутренними делами.
Так полгода назад он проморгал Светкино замужество, находясь в республике Мозамбик. Светка с Петечкой закончили школу и поступили в институт вместе. В принципе мы догадывались, что они когда-нибудь поженятся, не предполагали только, что это произойдет так скоро. В начале второго курса выяснилось, что им необходимо срочно вступить в брак. Я сначала не понял причины такой спешки, но потом догадался, что у Светки будет ребенок. Папа слал тревожные телеграммы из Мозамбика, пытаясь понять, что у нас происходит. Наконец мама сообщила ему о свадьбе, и он прислал оттуда самолетом посылку каких-то плодов, названия которых никто не знал. Плоды мы съели.
Вот и теперь, отправившись в Японию, он упустил важную веху в моей биографии. Я понимаю, безработица в Японии много важнее, но и собственный сын нуждается во внимании. Пока я больше видел папу по телевизору в рядах демонстрантов с микрофоном в руках.
Впрочем, я не слишком огорчался. Папа с его деловыми качествами наверняка потребовал бы от меня предсказания международных событий, а я в этом деле не очень силен.
В глазах Светки я вырос до потолка. Раньше она относилась ко мне с легким пренебрежением, считая себя много старше. Особенно заважничала, когда вышла замуж и забеременела. То есть наоборот. Хотя «иметь детей кому ума недоставало». Я ведь классику помню. Петечка это подтвердил, завалив после свадьбы зимнюю сессию и отправившись рядовым в город Шауляй в Литве.
После предсказаний его звонков сестра стала подлизываться ко мне. Ей не терпелось узнать — кто у нее будет: мальчик или девочка?
— А кого тебе хочется? — спрашивал я.
— Девочку.
— Мальчика, значит, будешь любить меньше?
— Да ты что?! Дурак!
— Тогда какая разница? — философски спрашивал я.
Ждать, когда она родит, а потом вернуться назад и сообщить ей результат, было бессмысленным расточительством времени. Поэтому я уклонился от ответа.
Что касается мамы, то с ней сложнее. Она сразу почуяла неладное, лишь только у меня появились часы. А когда посыпались заказы по телефону, мама проявила характер.
Я завидую ее характеру. Кремень. Иногда мне кажется, что дедушка — ее отец, а не моего папы. У обоих есть — как бы это выразиться? — внутренние принципы, что ли. Мама, например, запрещает отцу привозить ей тряпки из заграницы. Он раньше пытался, она отдавала их подругам. Подчеркиваю: не продавала, а отдавала даром. Дарила. Она не навязывает нам своих взглядов. Мы-то со Светкой всегда ждем, что привезет папочка.
У мамы колоссальная интуиция. Иногда мне кажется, что она — ясновидящая. Она всегда угадывает, когда папу покажут по телевизору с репортажем. Я не совсем понимаю — как она к нему относится. Вообще, мама — человек скрытный.
Так вот, когда моя популярность предсказателя стала сравнима со славою библейских пророков, мама не выдержала.
— Сережа, может быть, ты объяснишь мне, что происходит?
— Ничего особенного. Я нашел свое призвание. Буду пророчествовать, — беспечно отвечал я, но сам насторожился.
— Дело не в этом. С нами последнее время происходит что-то странное. Я все время ловлю себя на том, что все повторяется. Понимаешь? Разговариваю с человеком, а кажется, это уже было. Меня не покидает ощущение, что это связано с тобой.
— Да ты что! При чем тут я?!
— Не знаю. Я и прошу объяснить.
— Я не могу, — потупился я.
— Почему?
— Я обещал не говорить.
— Хорошо, — спокойно сказала она. — Это твое дело. Обещал молчать — молчи. Но объясни тогда, как долго ты намерен заниматься обманом?
— Каким обманом? — возмутился я.
— Тем, что ты называешь прорицаниями. Ведь ты обманываешь. Я не знаю, как ты это делаешь, но знаю — это обман.
— Но ведь предсказания сбываются, — возразил я.
— Тем хуже. Значит, обман принимают за правду.
— Ну… Ты, в общем, права, — замялся я. — Это не совсем прорицания. Я просто знаю то, чего не знают другие.
— Я запрещаю, слышишь? — сказала она тихо. — Запрещаю.
Нужно знать мою маму, чтобы оценить ее слова. Она никогда ничего не запрещала — ни мне, ни Светке. Это не значит, что мы не чувствовали ее отношения к нашим поступкам. Но запрет как воспитательная форма был ею исключен. Может быть, поэтому я не курю и практически не пью вина. Толика нещадно секли за это — и вот результат: он курит с шестого класса.
В таких условиях нарушить запрет было мне не по силам. Да я и сам уже созрел, чтобы отказаться от пророчеств. Но как это сделать? Можно было просто отказаться от всяких предсказаний, но не хотелось выглядеть легкомысленным человеком в глазах окружающих. То он знает будущее, то не знает. Пророк — он всегда пророк. Лучше всего было бы уничтожить само воспоминание о моем неожиданном даре. Для этого необходимо было прыгнуть назад, к моменту моего первого предсказания, и жить снова, уже не пытаясь быть пророком. Это было самое мудрое решение.
Три вещи удерживали меня.
Во-первых, я опять оставался без часов и вынужден был дожидаться, пока дед в третий раз мне их подарит.
Во-вторых, утонувшие рыбаки и попавшая под машину девочка. Неизвестно, как будет с ними при новом повторе времени.
В-третьих, Марина.
Марина Осоцкая была самой красивой девочкой в нашем классе. Пожалуй, даже в школе. Может быть, и в микрорайоне. Мало того, она отлично училась и имела разряд по дельтапланеризму.
Я однажды видел, как она в Кавголове летала с горы. Горькое было ощущение. Никогда не поймать мне эту жар-птицу. Я понимал, что не могу ничего предъявить в обмен на ее исключительные качества. Зарубежные тряпки и вещицы, которые привозил папа, могли подействовать на других девчонок, но не на нее. Ей надо было предъявлять свое собственное. А что у меня было? Три аккорда на гитаре да неплохое знание футбольных правил. Слабо.
Поэтому я и думать о Марине не смел, довольствуясь тем, что она дружила с Максом — моим другом. Макс прилично знает испанский, сам собирает аппаратуру и имеет диплом городской математической олимпиады.
Но вот после моих успехов в роли гадалки, или гадальца — так будет точнее, — я заметил, что Марина стала проявлять ко мне интерес. Она не лезла с просьбами, как другие, угадать, вызовут или не вызовут к доске. Ее интересовала научная сторона.
Я опять начал туманно объяснять про подкорку и интуицию.
— Интересно, где была твоя интуиция год назад? — задумчиво спросила она.
— А что было год назад?
— Да так, ничего. Просто ты мне нравился, но совсем этого не замечал.
Вот это да! Сразу захотелось прыгнуть на год назад и заметить, черт подери! Но было обидно: с трудом наскребаешь годик жизни, так он медленно тянется — и вдруг выкидывать его и начинать сначала? Так я буду жить не вперед, а назад. Ничего, теперь я знаю, что способен ей понравиться, теперь я окружен ореолом… Посмотрим. Я только не знал, как быть с Максом. Друг все же.
А Марина все продолжала разговоры со мной о подкорке и таинственных явлениях мозга. Макс начал дергаться. Он напрягся и получил диплом по физике. Но что был его диплом по физике по сравнению с моим предсказанием, что он получит диплом по физике?
Однако я все равно чувствовал себя не в своей тарелке, будто завоевывал внимание Марины с помощью папашиных вещичек. Ведь часы достались мне от деда. Никаких реальных способностей прорицателя я не имел.
После долгих колебаний я решил покончить с этим делом. Слегка согревала мысль о том, что этим я заглажу трещину, возникшую в нашей дружбе с Максом. А Марина… Что ж, если ей нужны пророки, пусть обращается к цыганкам.
В один миг я стер свое прошлое. Я снова оказался в школьном коридоре, снова выслушал разговоры относительно тем сочинения, но не проронил ни слова. Можете представить себе отвращение, с которым я в третий раз писал одно и то же сочинение. Вероятно, из-за этого получил 4/4. И «четыре» в четверти.
Через десять дней я снова стал обладателем часов, причем на этот раз дед подарил мне их в больнице, куда он попал накануне моего дня рождения. Выглядел он совсем плохо. Я ничего не сказал ему.
Получив часы, я спрятал их подальше от глаз и снова прожил те два месяца, во время которых ранее непрестанно скакал туда-сюда, занимаясь прогнозами. На этот раз я вел себя тихо, ничем не обнаруживая своих способностей, хотя иногда так и подмывало закричать во весь голос: «Ну что же ты делаешь! Через неделю ты будешь горько жалеть об этом!» Но я молчал.
Слава богу, в этом варианте рыбаки не потонули, а девочка не попала под машину. По крайней мере, на моих глазах.
Пора было задуматься о будущем, как говорила моя мама. Наличие часов сделало мысли о будущем вполне конкретными. Я мог не просто мечтать и строить планы, но, заглянув на несколько лет вперед, проверить, что из них вышло.
Это было опасно. Все равно что нырнуть в незнакомом месте на озере или в реке. Можно лоб расшибить. Возникала масса вопросов, и первый среди них: как не потерять связь с часами?
Я рассуждал так. Допустим, я выберу какой-нибудь момент будущего и прыгну туда. Я сам и все материальные тела, включая часы, займут положение, соответствующее тому моменту. Что, если в тот миг мы будем разлучены с часами? Я могу быть в командировке, в отпуске, а часы оставить дома… Вдруг мне настолько резко не понравится в будущем или возникнет такая опасность, что нужно будет срочно прыгать обратно? А часов нет.
Я решил впредь не расставаться с часами. Для этого я приобрел тонкую и прочную стальную цепочку, продел ее в ушко, имевшееся на крышке часов, и стал носить их на шее, как медальон. Скоро я привык к ним, часы мне не мешали, ибо ничего не весили. Чтобы они не блуждали под рубашкой, я приклеил к задней стороне пятак. Эпоксидной смолой. Слегка волнуясь за часы, принял ванну. Часы выдержали купанье, в чем я практически не сомневался: волшебные часы наверняка изготовили водонепроницаемыми и противоударными.
Маме и Светке я объяснил, что теперь такая мода.
— А что в медальоне? — поинтересовалась сестра.
— Портрет Джона Леннона, — соврал я.
— Покажи!
— Не покажу. Это святыня.
Светка отстала.
Конечно, я не мог гарантировать, что медальон и в будущем всегда окажется при мне. Мало ли что может случиться. Но я рассчитывал, что привычка носить его на шее закрепится на всю жизнь, а значит, риска при скачках будет меньше.
Но что значил этот риск в сравнении с главной опасностью, о которой я боялся даже подумать. Я мог залететь туда, где меня уже нет. Длина прыжка роли не играет. Следующий день или следующий год — никто из нас не знает своего последнего часа.
Оттуда уже не вернуться.
Вот эта-то мысль и не давала мне покоя. Рассуждая логически, впредь нельзя было прыгать ни на одну минуту, если хочешь получить стопроцентную уверенность в возвращении.
Но тогда на кой ляд мне эти часы? Назад — неинтересно, вперед — страшно. Оставалось только проверять по ним время.
А жизнь накатилась свежая, неповторимая и прекрасная. Я соскучился по ней. Каждый день таил неожиданности: я купался в них, радуясь и огорчаясь, временами совершенно забывая о том, что у меня под рубашкой, как мина замедленного действия, болтаются волшебные часы.
Мы закончили девятый класс и поехали в КМЛ пропалывать овощные культуры. Макс не поехал с нами. Его как победителя городской олимпиады по физике премировали путевкой в Карпаты. Марина расценила это как предательство. Кажется, перед отъездом они поссорились.
После того как я остался прежним обыкновенным человеком, ее отношение ко мне тоже осталось прежним. Я был всего лишь другом Макса, не более. Но все же я, благодаря дружбе с Максом, был к ней ближе, чем любой другой из нашего класса, поэтому само собою получилось, что в КМЛ мы продолжали быть вместе: пропалывали одну грядку, бегали купаться и ходили на дискотеку, которую два раза в неделю устраивали нам шефы.
Макс незримо присутствовал при всех наших разговорах с Мариной, хотя она о нем не упоминала. Между нами возникла молчаливая договоренность сохранять статус-кво, хотя над нами посмеивались, называя меня заместителем Максима Кириллова.
Особенно усердствовал Толик, что меня удивляло. Видимо, он сам хотел бы стать заместителем Макса.
Медальон у меня на шее, конечно, заметили и тоже острили по этому поводу. Особенно интриговал всех пятак, приклеенный на обратной стороне. Марина тоже спросила, что там внутри. Это было, когда мы после прополки загорали на берегу озера.
Я молча нажал на замочек и откинул крышку часов.
— Ого! — сказала она. — Откуда у тебя это?
— Дед подарил, — сказал я.
— Какие легкие! — удивилась она, беря часы в руку. Цепочка у часов была короткой. Я нарочно сделал ее такой, чтобы часы было трудно снимать через голову. Поэтому Марине пришлось наклониться к моей груди, чтобы лучше рассмотреть часы. Ее лицо оказалось близко-близко. И я внезапно ее поцеловал. Клянусь, что это произошло помимо моей воли.
Я ожидал, что она возмутится, чего доброго влепит пощечину. Но она задумчиво повертела часы в руках и спросила:
— А пятак-то зачем?
Я хотел ответить, но задохнулся. Сердце билось так громко, что я боялся, как бы она не услышала. Марина отпустила часы и улеглась на камне лицом вниз. Я тоже спрятал лицо. Оно пылало. Минут пять мы лежали молча. Потом я сказал:
— Там дырка в корпусе. Я ее заклеил.
— А-а… — сказала она.
Мы еще полежали.
— Пойдем погуляем, — сказала она.
Сердце подпрыгнуло у меня до зубов. Я натянул джинсы и майку, стараясь не смотреть на Марину. И мы пошли по берегу озера.
Незаметно мы отклонились в лес и пошли по мягкому мху, пружинящему под ногами. У меня внутри было состояние невесомости. Мы молчали.
В лесу было тепло и тихо, как в старом доме, когда протопили печку. Березы светились из-за сосен розовым светом. Солнце просвечивало листочки, как рентген. Пахло почему-то дыней, хотя дынь нигде не было видно. Где-то далеко-далеко, будто в другой стране, ухала кукушка.
— Считай, — сказала Марина, оборачиваясь ко мне.
Мы остановились и стали считать кукованья. Кукушка куковала долго и щедро; видно, ничто ей не мешало. Она накуковала нам целую жизнь.
— Сто семнадцать, — прошептала Марина.
— И у меня, — сказал я.
— Неужели мы проживем сто семнадцать лет! — засмеялась она.
— Вместе… — еле слышно добавил я.
Она строго посмотрела на меня в упор, но ничего не сказала. А я подошел к ней и обнял. Дальше я плохо помню. Мы стояли среди деревьев в пустом, пронизанном солнцем лесу и целовались. Может, час. Может, два. Солнце скатилось низко. Лес потемнел.
Нам страшно было оторваться друг от друга, страшно прийти в себя, потому что нас подстерегал один и тот же вопрос.
— А как же Макс? — наконец спросил я, отрезвев.
Она повернулась и пошла прочь, поигрывая травинкой. Мне показалось, что такой я ее запомню на всю жизнь — беспечно идущую по мягкому мху и поигрывающую травинкой.
Мы пришли в лагерь к дискотеке. Танцевали вместе. И никто не сказал нам ни слова. Даже Толик.
Засыпая в тот вечер, я подумал, что это был самый счастливый день в моей жизни.
Так в чем же дело?! Меня так и подбросило на койке. Я хочу быть с Мариной, я хочу, чтобы это продолжалось до бесконечности! Вот они, часики… Я встал с кровати и, стараясь не разбудить спящих товарищей, на цыпочках вышел в коридор. Там включил свет и переставил стрелки и календарь на вчерашний день — на тот именно час, когда мы, закончив прополку, потянулись к озеру.
Прополку я не включил в число счастливых минут вчерашнего дня. Щелкнула крышка часов, дрогнуло пространство — и я опять оказался рядом с Мариной.
Мы снова лежали на том же огромном, нагретом солнцем валуне, покато сбегавшем в озеро. И я снова показывал ей часы, с нетерпением ожидая, когда она наклонится ко мне. И опять в первый раз поцеловал. Сердце вновь билось громко, но не так часто, как вчера. На этот раз Марина слегка отодвинулась и сказала мягко:
— Не надо, Сережа…
А потом был лес, и мягкий мох, и мы уже не стояли, а лежали в нем, обнявшись и заглядывая друг другу в глаза…
Простившись с Мариной после дискотеки, я тут же возвратил время вспять и вновь оказался с нею на валуне.
Этот фокус я проделал пять раз. Пять дней подряд мы были с нею вместе, пока это не начало напоминать мне сок манго. Да и она вела себя не совсем так, как впервые, будто знала о наших возвращениях. Сердце мое стучало ровно и уверенно, я действовал по программе, заранее зная, в какой момент поцеловать, где заглянуть в глаза…
На пятый день вышел конфуз. После первого поцелуя она вскочила на ноги, возмущенно воскликнув:
— Перестань, Мартынцев!
Я успокоил ее, подождал, пока она остынет, и пригласил на прогулку в лес, надеясь там отыграться. Все было прежнее — и солнце, и мягкий мох, и розовые березы… Запах дыни, правда, исчез, да кукушка, отсчитав нам десяток лет, умолкла.
— Десять лет… — недовольно протянула Марина.
— Зато наши. Ведь мы будем вместе, — уверенно сказал я.
— С чего ты так решил?
Я шагнул к ней, обнял и поцеловал, увлекая на мягкий мох, как делал это уже неоднократно. Но она вдруг принялась вырываться и орать:
— Пусти! Ты с ума сошел! Пусти, слышишь?!
Я разозлился. Нельзя же вести себя так непоследовательно! Отчаянно сопя, я продолжал обнимать ее, ловя губами ускользающее лицо.
— Пусти, дурак!
— Ты же любишь меня. Сама говорила, — тяжело дыша, выложил я козырь.
— Я?!
Надо было видеть ее лицо.
— Все равно мы будем вместе, — упрямо сказал я.
— Очень ты мне нужен!
— Вот увидишь.
Она поднялась, отпихнув меня, и пошла прочь, поигрывая травинкой. Однако совсем не так, как в первый раз. «Ну, ладно! — мстительно подумал я, нащупывая часы под майкой. — Я тебе покажу!»
Впоследствии я не раз жалел, что первый свой скачок вперед совершил в состоянии аффекта. И этого уже не поправить. Я мог стереть в памяти чужой опыт. Мой навсегда оставался при мне.
Очень уж мне хотелось тогда сразу доказать ей свою правоту. Я был уверен в том, что женюсь на ней, когда мы немного подрастем. Зря, что ли, мы пять дней подряд обнимались и целовались?
Страха перед будущим в тот момент не было. Я помнил, что кукушка обещала не менее десятка лет. К черту кукушку! Лихорадочно сообразив, что на доказательство потребуется лет шесть, пока мы закончим школу и институт, я перевел календарь на шесть лет вперед, оставив дату прежней. Я уже хотел щелкнуть крышечкой, но тут сообразил, что неплохо было бы поменять час, чтобы не попасть сразу, как кур в ощип, в незнакомую ситуацию. Пускай это будет ночь. Утром проснемся, поглядим…
Марина скрылась за березами. Интересно, где мы с ней окажемся через шесть лет? Я представил себе почему-то туристскую палатку — в это время у нас, наверное, будет отпуск, — а в ней мы с Мариной в лесу, на берегу озера. На приколе покачивается наша двухместная байдарка… Я приложил часы к шее и нажал на крышку.
Проснулся я от невероятно громкого звука трубы, разносящегося от громкоговорящей трансляции. В то же мгновенье в глаза ударил яркий свет. Я подскочил на кровати, с ужасом озираясь.
Я находился в длинном помещении, уставленном рядами двухэтажных железных коек. Между койками молча, с лихорадочной быстротой натягивали военную форму абсолютно незнакомые люди. Я инстинктивно потянулся к груди. Слава богу, часы на месте! Я открыл их и посмотрел время. Четыре часа ночи…
— Серега, чего сидишь? Тревога! — снизу вынырнуло симпатичное, но тоже совершенно незнакомое лицо, а до меня дошло, что я нахожусь на верхней койке.
Я неловко соскочил вниз, чуть не угодив на моего нижнего соседа, и схватился за зеленые солдатские галифе. Делать, как все, ничего не спрашивать! Война, что ли?!
В первый же момент я сообразил, что не имею решительно никакого понятия о тех шести годах, через которые я перепрыгнул. Полная пустота.
— Серега, ты чего? Не проснулся? — с удивлением воскликнул нижний сосед, вырывая из моих рук галифе. — Это мои. Вот твои!
Он указал на тумбочку, на которой аккуратно была сложена солдатская форма. Взглянув на погоны, я убедился, что я — ефрейтор. «Негусто!» — промелькнуло у меня в голове.
— Где носки? — спросил я соседа.
— Шутишь! — он захохотал, указывая на портянки, висевшие на нижней перекладинке койки.
Все вокруг уже бежали куда-то, топоча сапогами по крашеному деревянному полу.
С портянками пришлось помучиться. Раньше я теоретически знал про портянки, но не предполагал, что их так неудобно обматывать вокруг ноги. Когда засовывал ноги в сапоги, портянки съехали на голень. Застегивая на ходу ремень, я побежал за соседом.
Мы выбежали из казармы и оказались на строевом плацу, освещенном двумя прожекторами. Было жутковато. Солдаты спешно строились в шеренги, я старался не терять из виду соседа, бежал за ним, как привязанный.
Он занял место в строю, я вытянулся рядом. Он больно толкнул меня в бок локтем.
— Не тут твое место!
Я понял, что нужно встать по росту. Он был значительно ниже меня. Пробежав вдоль строя, я втиснулся наугад между двумя одинаковыми со мною по росту солдатами.
— Мартынцев опять позже всех, — проговорил прапорщик, стоявший перед строем с секундомером.
Секундомер меня несколько успокоил. Похоже, что не война. Вряд ли на войне засекают время построения секундомером. Похоже, учебная тревога.
Прапорщик произвел перекличку. Все кричали: «Я!» — и я тоже крикнул: «Я!»
Перед строем появился капитан.
— Здравствуйте, товарищи!
— Здра-жла-трищ-тан! — дружно прокричали мы.
— Наша рота получила боевое задание: занять высоту пятьсот тридцать один на направлении предполагаемого удара противника, опрокинуть и смять его контратакой…
«Опрокинуть и смять… — повторил я про себя. — Значит, все-таки война».
— Командирам взводов приступить к выполнению задания! — закончил капитан.
Слева вышел из строя лейтенант, по-видимому наш командир взвода. Он повернулся к нам лицом и крикнул:
— Взвод, слушай мою команду! Напра-во!
Я повернулся правильно. Это сильно меня взбодрило.
— Шагом марш!
Мы куда-то потопали.
«Вот влип! — думал я, шагая. — И назад не прыгнуть, некогда!»
С другой стороны, мне было интересно, как мы будем опрокидывать и мять какого-то противника.
Мы притопали к длинному низкому зданию с зарешеченными окнами. Над обитой железом дверью качался фонарь. Рядом стоял часовой.
— Разобрать оружие! — скомандовал лейтенант.
Все побежали к двери, я тоже. За дверью оказался склад оружия. Сослуживцы стали хватать сложенные в пирамиды автоматы. Прапорщик выдавал магазины с патронами. Я немного помедлил, ожидая, когда они расхватают автоматы. В пирамиде остался один. Я схватил его. Прапорщик сунул мне магазин и сказал:
— Тебя с отделением выкинем у овражка. Бери свой пулемет.
— А где он? — я очумело оглянулся по сторонам.
— Не проснулся — так тебя и так! — крикнул он, разворачивая меня и придавая толчком нужное направление.
Я увидел нечто напоминающее пулемет, схватил его — он был зверски тяжелый — и устремился к выходу.
— Голубев, патроны захвати! — крикнул прапорщик.
Мой сосед по койке с двумя ящиками патронов под мышкой выскочил за мной. У дверей склада уже урчал грузовик с брезентовым верхом. Мы полезли туда. Через минуту мы мчались в ночи, прижав холодные стволы к подбородкам.
Все молчали. Я с надеждой посматривал на Голубева. Он подмигнул мне. «Нет, все же не война…»
Грузовик затормозил.
— Мартынцев, выводи отделение на позицию. Займите оборону, в атаку — по красной ракете! — приказал лейтенант.
— Есть! — крикнул я радостно. — Отделение, за мной!
И выпрыгнул из грузовика. За мною посыпались мои люди, в том числе Голубев с ящиками патронов. Я насчитал человек шесть. Грузовик умчался. Я обвел взглядом подчиненных.
— Занять позицию! — скомандовал я.
— Кончай панику пороть, Серега, — сказал Голубев. — Покурим.
Все достали из гимнастерок сигареты и расселись под деревьями, прислонив автоматы к стволам. Я тоже уселся и потянулся к карману. Оказалось, я курю сигареты «Лайка». Пришлось прикурить и с отвращением затянуться. Дикая гадость.
— Уже ползут, — кивнул в сторону низкорослый парень с раскосыми по-якутски глазами.
Я взглянул туда. Противоположная сторона оврага полого спускалась к маленькой речке, над которой стоял белесый туман. В предутренней мгле из тумана выплывали черные контуры танков. За танками неслышно двигались человеческие фигуры с автоматами наперевес.
— Надо стрелять… — неуверенно сказал я.
Вдруг из переднего танка вырвалось короткое пламя, и в ту же секунду над нашими головами с уханьем и свистом пронесся снаряд.
— Командуй, чего сидишь?! — Голубев вскочил на ноги.
— Отделение, слушай мою команду! — я тоже вскочил. — По врагу короткими очередями… Патронов не жалеть!.. Умрем, но не сдадимся!
Все с интересом смотрели на меня.
— Ребята, ну давайте же! — взмолился я. — Устанавливайте эту штуку! — я показал на пулемет.
— Твоя же работа! — Голубев бросился к пулемету, принялся его разворачивать.
— Я не умею, — развел я руками.
— Сдрейфил командир, — констатировал Голубев, припадая к пулемету и наводя его на атакующих.
Мои солдаты залегли за деревьями. Началась бешеная стрельба. Я отполз в сторону, отложил автомат и дрожащими руками вынул из-за пазухи часы. Мимо свистели пули. Надо было срочно сматываться, учитывая обстановку. Но куда? В будущее не очень хотелось. Надо назад, к маме… Рядом взорвалась граната. Меня обсыпало землей. «Что-то слишком круто для холостых…» — успел подумать я, переводя стрелки, и стал нажимать на головку календаря. Замелькали годы в окошечке, месяцы, дни… Я окинул прощальным взглядом свое сражающееся отделение и щелкнул крышкой. В этот миг я чувствовал себя дезертиром.
Слава богу, я оказался дома, в своей комнате. Первым делом я взглянул на часы и убедился, что попал в тот же год, из которого прыгнул вперед, но не в июнь, а в август. Следовательно, КМЛ был уже позади. Оно и к лучшему: неизвестно, как смотреть в лицо Марине после вчерашней истории. Я стал анализировать итоги первого прыжка в будущее. Армию я разгадал быстро. Если это не было настоящей войной, в чем я был почти уверен, то, значит, я отбывал службу после института. Какого? Интересно было бы узнать.
Гораздо больше меня волновало другое, а именно — полное отсутствие в памяти информации о прошедших в промежутке годах. Я ведь как-никак их прожил. Не свалился же я с Луны прямо в казарму. Тот же Голубев, и прапорщик, и лейтенант прекрасно меня знали. А я их — нет. Выходит, что некто, называвшийся Сергеем Мартынцевым, служил с ними, учился стрелять из пулемета, дослужился до ефрейтора, а потом в один миг все позабыл, когда в него из КМЛ впрыгнул я? Странная картина.
Рассуждая логически, этот Сергей Мартынцев остался там, у овражка, стрелять по танкам, когда я из него выпрыгнул. Но вернулась ли к нему прошлая память? Научился ли он снова стрелять из автомата? Совершенно неизвестно…
Какая-то чертовщина получается: я был здесь, дома у мамы, и одновременно служил в армии, но в другое время, шесть лет спустя. Более того, пока я прыгал туда и обратно, на что ушло не более двух часов, прежний я успел прожить пару месяцев, уехал из КМЛ, потом был неизвестно где, а теперь сидит дома и ломает голову. Я совершенно запутался. Что же это за время такое?
Или: что это за времена? Судя по всему, их довольно много. Надо срочно поговорить с дедом, решил я.
— Сережа, ты готов? — раздался из другой комнаты голос мамы. «К чему?» — испугался я, оглядываясь. Тут я понял, что переодеваюсь, поскольку был в трусах и в одном носке. На стуле висел мой черный вельветовый костюм. Значит, мы с мамой куда-то идем.
— Сейчас! — крикнул я, принимаясь быстро одеваться.
В комнату вошла мама. Лицо у нее было строгое. Под глазами я заметил мешки. Мама была в темном платье с черным платочком вокруг шеи.
— Пошли, — сказала она.
В коридоре нас ждала Светка. Живот у нее заметно подрос. Она тихонько всхлипывала, утирая кончиком платка слезы. Я почувствовал, что произошло что-то ужасное и непредвиденное, но спросить боялся. Мы молча пошли по лестнице.
У подъезда стояло такси. Мы уселись в него так же молча.
— Пожалуйста, к Военно-морской академии, — сказала мама.
И тут я догадался.
У подъезда академии стояла вереница машин и автобусов. Нас встретил офицер и повел маму под руку вверх по лестнице. Мы с сестрой шли сзади.
Двери актового зала были широко раскрыты. В них бесшумно входили люди. Из зала выплывала траурная мелодия.
Посреди зала на возвышении стоял гроб, обтянутый красной материей и окруженный венками с траурными лентами. В гробу лежал дед в адмиральской форме. У гроба навытяжку стояли курсанты с карабинами. Блестели примкнутые штыки.
Нас усадили на стулья с правой стороны.
В зал входили люди, возлагали цветы, оставались стоять, глядя на деда. Он лежал с плотно сомкнутыми губами, будто улыбаясь загадочно и горько. Мне было страшно смотреть на него. К нам подходили, шептали какие-то слова. Потом началась панихида.
Слова с трудом доходили до меня. «Крупный флотский военачальник», «честный и принципиальный», «беззаветное служение Родине». Мне вспомнилось, как он подмигнул мне, даря часы. Он унес с собою их тайну.
Шестеро офицеров подняли гроб на плечи и понесли к выходу. Впереди колыхалась вереница венков и бархатных подушечек с дедовскими орденами.
В автобусе дед лежал в закрытом гробу между мною и мамой. На крышке покоились его адмиральская фуражка и кортик. Он так и не подарил его мне.
На кладбище, улучив момент, я отодвинулся назад и, пригнувшись, скрылся за могильными крестами и памятниками. Гроб уже опускали в могилу. Глухо стучала земля о крышку. Вдруг ударил в небо залп ружейного салюта. Я стоял рядом с мраморным крестом, на котором потускневшим золотом была выбита надпись: «Федор Федорович Горбыль-Засецкий, адвокат». На мраморной плите стояла маленькая и тоже мраморная скамеечка. Я присел на нее, и рука сама потянулась к груди, отыскивая часы.
За что он так наказал меня? Ведь я не могу жить дальше, зная, что он лежит тут, засыпанный теплой летней землей. Я со страхом взглянул на матовый вороненый циферблат, в первый раз понимая, что за вещь у меня в руках. Остальное было делом минуты. Я прыгнул назад ровно на две недели.
…И оказался под водой. Час от часу не легче! Судорожно двигая руками, я попытался вынырнуть, но мне кто-то не давал. Меня держали за плечи, толкали вниз… Вода клубилась пузырьками воздуха. Я собрал последние силы, сбросил чужие руки и вынырнул на поверхность. Передо мной были радостные лица Макса и Толика. Не раздумывая, инстинктивно, я двинул Макса в нос кулаком.
— Ты чего?! — опешил он. — Психованный, что ли?
Кажется, он обиделся и поплыл к берегу надменным правильным брассом. Толик последовал за ним.
Я осмотрелся. Мы были в Озерках. На пляже валялись загорающие.
Я поплыл к берегу. Там сидели и лежали наши, среди них Марина. Ни на кого не глядя, я нашел свою одежду, быстро натянул ее и пошел прочь.
— Серый, ты куда? Мы же только приехали! — кричали сзади.
— Прижали мы его, он испугался, — объяснил Толик.
Плевал я на них! Испугался… Я деда только что хоронил. Я примчался домой и первым делом осторожно выведал у Светки, где находится дед.
Она пожала плечами: дома…
— А как он себя чувствует?
— Прекрасно. А зачем тебе?
Я набрал номер телефона.
— Дед, это я, Сергей. Можно к тебе приехать?
— Милости прошу, — ответил он удивленно.
Я поехал к нему.
Вот эти минуты были самыми страшными — когда я ехал в трамвае к деду. Меня прямо трясло. За последние несколько часов я пережил неудачное объяснение с Мариной в лесу, танковую атаку, похороны деда и едва не был утоплен. Ощущения, прямо скажем, разнообразные. Но не это главное. Перед глазами стояли плотно сомкнутые губы деда в гробу.
Он встретил меня приветливо.
— Заходи… У тебя появились новые вопросы?
— Почему новые?
— Ну, ведь мы же с тобою вчера беседовали. Ты мне рассказывал о своих прыжках, как ты их называешь. О своих ужимках и прыжках. Не обижайся. Вы помирились с Мариной? Кажется, сегодня ты хотел ей что-то сказать в Озерках?
«Любопытная информация», — подумал я, проходя в кабинет.
Там все было по-старому. На столе лежала толстая тетрадь в кожаном переплете. Она была раскрыта на последних страницах, усыпанных ровным, мелким почерком деда.
— Что ты пишешь? — спросил я, кивнув на тетрадь.
— Мемуары… — сказал он, как-то странно взглянув на меня.
— Для издательства?
— Для тебя, — дед начал раздражаться. — Я считаю, что каждый человек должен оставить воспоминания о себе для своих потомков. Хотя бы краткие. Наступает час, когда они необходимы сыну или внуку. Впрочем, мы с тобою говорили об этом вчера. Ты забыл?..
Видимо, на этот раз уже я посмотрел на него странно, потому что дед склонил голову набок, озадаченно причмокнул губами, и сразу его осенила догадка.
— Ты прыгал?
— Да, — потупился я.
— Ага, и это произошло до вчерашнего нашего разговора. Ты прыгал вперед, поэтому ничего не знаешь о том, что произошло с тобою здесь, — удовлетворенно кивал дед, распутывая загадку. — А сейчас ты вернулся и пребываешь в недоумении…
Я потупился еще сильнее.
— Ну, и как там, в будущем? Какие новости? — спросил он с виду беспечно, но, как мне показалось, с затаенной тревогой.
Я поднял лицо. Это было мучительно. Мы встретились глазами, и дед все прочитал в моих глазах.
— Садись, Сергей… — Он направил меня к креслу, по пути легким движением дотронувшись до груди, где под рубашкой покоились часы. — Часики на месте. Молодец… Я в свое время не догадался всегда иметь их при себе… Молодец.
Я уселся в кресло, дед — напротив. С минуту он смотрел на меня, а точнее, сквозь меня.
— Когда это случится? — вдруг тихо спросил он.
Я посмотрел на него с мольбой. Я не мог сказать ему, когда он умрет.
— Понимаю. Не надо, — остановил он меня. — Надеюсь, я успею закончить это, — дед взглянул на тетрадь. — Значит, ты вернулся из-за меня?
Я кивнул.
— Напрасно. Живые не должны встречаться с мертвыми. Это противоестественно. Они должны лишь помнить о них…
— Дед, возьми их назад, — я вытянул часы за цепочку, и они повисли у меня в руках, как гирька убийцы.
— Спрячь, — поморщился он. — Неужели ты думаешь, что я отступлю перед смертью? Я с нею не раз встречался. Это неприятная дама, не скрою, но можно стать сильнее ее. Тем более когда знаешь, что жизнь и смерть относительны.
— Как? — не понял я.
— Это следствие феномена часов. Ты еще не понял? Значит, ты не дал себе труда подумать над ними. Слушай меня внимательно. Это все чисто логические умозаключения.
И дед прочитал мне теорию часов, то есть теорию пространства-времени, которую он вывел из свойств этого удивительного прибора. Конечно, это не было строгой физической теорией — дед не обладал для этого необходимыми знаниями, — но кое-какие понятия об относительности пространства-времени он имел, что, кстати, меня удивило.
Дед сказал, что время — не единственно. Времен — бесчисленное множество. Точнее — временных пространств, как он выразился: это то же самое, что четырехмерное время-пространство у Эйнштейна, с той лишь разницей, что там оно одно, а на самом деле их бесконечно много. Правда, я уже предупреждал, что означают слова «на самом деле». Все эти пространства пересекаются в одной-единственной точке. Эта точка и есть мои часы, как вы догадались. Каждое временное пространство можно сравнить с пленкой бесконечного кинофильма, где кадрик за кадриком зафиксированы все состояния Вселенной. С помощью часов мне удается совмещать кадрики разных пространств, будто прикладывая одну пленку к другой, и перескакивать из кадрика в кадрик.
Далее я живу уже в новом пространстве, но с тем, старым, ничего не случилось. Кино крутится дальше. Более того, своим прыжком я порождаю новое временное пространство. Если я впрыгиваю в кадрик своей жизни где-то впереди, как это случилось, когда я попал в казарму, то я лишь мгновенье существую в нем, а дальше кино раздваивается: тот человек, который назывался Сергеем Мартынцевым и дослужился до ефрейтора, с твердой памятью и военными навыками, скорее всего успешно отразил атаку неприятельских танков, а я, впрыгнувший в кадр его жизни совсем из другого времени, повел кино по другому пути и вынужден был бежать, оставив себя в лесу с автоматом в совершенно беспомощном состоянии. Следовательно, там, в будущем, сейчас крутились два сходных кино: в одном — бравый ефрейтор Сергей Мартынцев отражал атаку, а в другом — тот же ефрейтор, внезапно потерявший память и воинский опыт, скорее всего, позорно бежал с поля боя, бросив автомат, и должен был за это предстать перед судом военного трибунала.
Существенная разница, не правда ли?
— Так, значит, меня… нас много? — пробормотал я.
— И тебя много, и меня много, и всех — очень-очень много, — весело сказал дед. — Беда только в том, что мы не знаем о существовании друг друга. Иногда слабо догадываемся: все-таки пространства влияют одно на другое. Тогда возникает слабая догадка, воспоминание, будто это уже с тобою было когда-то… Дежавю.
— Что? — спросил я.
— Дежавю. Ложная память… Отсюда же предчувствия и сбывшиеся предсказания. Каждый из нас живет бесконечное количество жизней. В близких пространствах они более или менее совпадают, в далеких — расходятся. Может быть, в каком-нибудь дальнем пространстве я еще не родился. А в другом и не явлюсь на свет никогда… И тех, и других пространств — бесконечность. Следовательно? — спросил он, как наш учитель математики.
— Следовательно… — тупо повторил я.
— Следовательно, бесконечное число моих «я» существовало, существует и будет существовать всегда! — эффектно закончил дед.
С минуту до меня доходило.
— Так это же… бессмертие… — пробормотал я.
— Правильно. Бессмертие, — дед почему-то подхихикнул. — Только от такого бессмертия мне ни тепло, ни холодно, поскольку я не общаюсь с другими своими «я».
— Так вот же. Общайся, — я опять протянул ему часы.
— Нет, Сережа, — он отстранил их. — Я уже выбрал. Негоже на старости лет… — дед не договорил.
Он сделался серьезен, ушел в себя. Мы долго молчали.
— Значит, мне осталось совсем немного… — наконец произнес он. — Ну что ж… Надо доделать свои дела. Ступай, Сергей.
Он уселся за стол, придвинул к себе тетрадь. Я поднялся тоже и стоял рядом, как истукан, не в силах тронуться с места.
— Ступай, ступай! — недовольно сказал он.
Я деревянно наклонился к нему, чтобы поцеловать.
— Вот еще новости! В гробу поцелуешь! — раздраженно ответил он, отмахиваясь от меня, как от мухи.
Я поспешно покинул комнату.
Потянулись томительные дни, каждый из которых приближал роковую дату. Я не видел выхода из создавшегося положения. Не допустить смерти деда можно было лишь одним способом: самому прекратить жить. Нет, не убивать себя, упаси бог, а просто болтаться по пространствам времени в пределах тех четырех месяцев, что прошли от моего дня рождения. Я перестал есть и выходить на прогулки. Напрасно меня вызванивали друзья по телефону, не понимая, что со мною случилось. Мама, конечно, тоже заметила, но даже она не почувствовала, что таится за моею апатией.
— Сережа, что с тобой? — спросила мама, когда я в очередной раз отказался обедать.
— Он влюбился. Точно, — сказала Светка.
— Не похоже… — с сомнением сказала мама.
Оставалось два дня. Я чувствовал себя одновременно как приговоренный к смерти, которому сообщили дату исполнения приговора, и как судья, подписавший этот приговор. В первый раз я оценил мудрость и милость природы или судьбы, не знаю, держащей нас в неведении относительно смертного часа. Притом, что мы уверены в его неминуемости, ибо никому не удалось его избежать, мы живем спокойно и даже веселимся, благодаря сущему пустяку — неосведомленности о часе ухода. Точное его знание, даже если час этот отодвинут на сто лет — парализует. Ты перестанешь жить, лишь будешь сто лет считать, сколько тебе осталось.
Оказалось, что это справедливо по отношению не только к себе, но и к близким.
В момент наиболее мучительных раздумий позвонил дед.
— Сережа, ты еще тут? — спросил он.
— В каком смысле?
— Ты не пробовал прыгнуть вперед?
— Нет.
— Напрасно. Это тягостная процедура, поверь мне, и лучше будет, если ты ее избежишь. Мне много раз приходилось провожать близких и друзей.
Со стороны можно было подумать, будто он говорит о проводах на вокзале.
— Улетай, мой мальчик. Тебе еще предстоит много испытаний, — продолжал он.
— Что ты говоришь?! — с досадой закричал я, но тут же вспомнил, что разговариваю с человеком, который послезавтра умрет. — Дед, милый, я не знаю, как тебе сказать… Зачем ты мне их подарил? Что мне теперь делать?
Я едва не заплакал, как первоклассница, ком стоял в горле.
— Ага, я же тебя предупреждал! — ехидно отозвался дед. — Сам виноват. Нечего было их крутить. Экспериментатор! Давай уматывай отсюда, чтобы я тебя больше не видел!
Он прогонял меня в другое пространство.
— Как же «уматывай»? Я же не на ракете, в самом деле… Здесь же останется другой «я»…
— Вот он меня и проводит, — тихо сказал дед. — Прощай, мой мальчик. Не возвращайся больше ко мне, не надо…
Я не мог ответить, горло сжало.
Я стал готовиться в дальнюю дорогу. Я сразу понял, что прыгну далеко, чтобы раз и навсегда проститься с неудачами юности, начать новую жизнь и забыть о волшебном даре, полученном в подарок от деда.
Можно было, конечно, перепрыгнуть неприятную процедуру похорон и явиться первого сентября в десятый класс, как ни в чем не бывало. Но мне это почему-то казалось подлостью. Да и встречаться с друзьями больше не хотелось. Слишком много я накрутил в последнее время, слишком запутал отношения да и сам запутался во времени, чтобы так вот запросто явиться к ним с безмятежной физиономией.
И хотя я точно знал, что они не имеют понятия о моих прыжках и время текло для них обычным путем, поскольку они ничего не помнили о возвратах, мне все же казалось, что каждый мой шаг им известен.
Нет-нет, улететь далеко, распрощаться с этими унизительными годами, когда тебя не считают человеком, а так, каким-то полуфабрикатом человека, а вся твоя жизнь не имеет самостоятельной ценности, служа лишь подготовкой к той, настоящей, взрослой жизни. Улететь, и дело с концом! Там разберемся.
Я готовился всерьез, прощался надолго, навсегда. Сентиментальный комочек в горле сопровождал мое прощание. Я вышел к ужину, удивив маму, был кроток и тих. Я смотрел на маму и сестру, стараясь унести этот миг с собой, потому что он никогда более не повторится. Я вдруг увидел, что у мамы на указательном пальце левой руки белеет кусочек пластыря. Она вчера чистила рыбу и порезала палец. Мне захотелось поцеловать этот палец, чтоб быстрее зажило. И я бы сделал это, если бы не боязнь показаться ненормальным.
А я был нормальным, более нормальным и внимательным к жизни, чем когда-либо прежде!
Внезапно Светка подурнела лицом, вся ушла в себя, а через минуту просияла:
— Мама! Он толкается изнутри!
— Ничего страшного, — улыбнулась мама.
— Серый, хочешь пощупать? — она подошла ко мне, и я положил ладонь ей на живот. Он был тугой и теплый, как арбуз на бахче. И вдруг что-то слабенькое, но упругое толкнуло меня в ладонь и затаилось, будто испугавшись дерзости.
Это был мой племянник Никита, с которым мы встретились буквально через полчаса.
Все это может показаться смешным, но у меня на глаза навернулись слезы, и я поспешно ушел к себе в комнату, не допив чая.
Медлить было нельзя. Я знал, что каждую минуту может раздаться звонок и дедова экономка, рыдая… Не думать об этом! Все уже решено.
Я окинул прощальным взглядом свою комнату, где каждый предмет был родным: гитару, магнитофон с кассетами, джинсы и кроссовки… Интересно, что из них встретит меня там? Посмотрел и на мусорную корзину под письменным столом, из которой возвышался ворох порванных в мелкие клочки бумажек. Вчерашний день, готовясь к будущему, я уничтожил некоторые документы, которые посчитал ненужными и компрометирующими меня в новой жизни. Среди них были школьные дневники, записки от девочек — наследие седьмого класса, тоненькая тетрадка со стихами, вернее, с песнями, которые я пробовал сочинять год назад, когда мне купили гитару, и открытки от отца с видами разных уголков земного шара, откуда он вел свои репортажи.
Оставив все это после себя в сохранности, я рисковал встретиться с моим прошлым в будущем. А я не хотел этого. Я полностью порывал с собою, вернее, с ним — этим бездарным и непоследовательным типом, вялым и ленивым созерцателем, эгоистом Сергеем Мартынцевым, оставляя его доживать юность в своем унылом временном пространстве без всякого волшебного дара. Я летел в другие пространства и миры, где уже сейчас разворачивалась моя ослепительная взрослая жизнь.
Прощай, мама! Прощай, Светка с племянником в животе! Прощай, отец!
Когда я увижу вас, вы будете уже другими. Да и сам я буду другим. Прощай навеки, дед! Прости меня.
Я улегся на тахту, держа перед собою часы, и, дрожа от волнения, принялся их настраивать.
Я заранее выбрал 2000 год. Меня манят круглые цифры. Кроме того, я становился вдвое старше. Солидный тридцатитрехлетний мужчина. Возраст Иисуса Христа. Была и честолюбивая мыслишка — оказаться в XXI веке раньше, чем современники.
Я выбрал осень 2000 года. День осеннего равноденствия. Бабье лето. Я люблю осень. Часы с минутами я оставил прежними — около одиннадцати вечера.
Я прислушался. Мама в своей комнате строчила на машинке, Светка, вероятно, уже спала.
Перед самым защелкиванием крышки меня вдруг обожгла страшная мысль: а вдруг там, в 2000 году, уже никого нет? Вдруг произошла всемирная катастрофа, о которой все время говорят?
Но даже это не остановило меня. Вероятно, я верил в человеческий разум. Я приложил часы к шее и с силою, обеими руками надавил на крышку.
Мое положение в пространстве не изменилось. Я лежал на той же самой тахте, в той же самой комнате. Слабо светился ночник. Я был накрыт одеялом.
Я сразу понял, что на мне абсолютно ничего нет, даже часов. Рядом со мной, под тем же одеялом, лежала красивая незнакомая женщина. Тоже совершенно голая. Одной рукой она обнимала меня за шею.
Не скрою, это было дико приятно, но поймите меня правильно. Я просто не был к этому готов. Несомненно, это было хуже, чем оказаться с глазу на глаз перед танковой колонной, не умея стрелять из пулемета. Я инстинктивно отпрянул от нее, с ужасом разглядывая. Она была белокура, с пухлыми губами и слегка вздернутым носиком. Клянусь, я видел ее впервые. Нет, это не Марина… Она не могла так измениться.
«Жена? Не жена? Как зовут?» — такие примерно вопросы скакали у меня в голове.
Вероятно, ей не понравился мой вид.
— Ты чего, Сержик?.. — прошептала она, пытаясь ко мне прижаться.
Я выпрыгнул из постели и заметался по комнате, как заяц. Мне было непереносимо стыдно. Она с интересом наблюдала за мной.
— Где трусы?! — заорал я, хотя мне следовало бы крикнуть, в сущности: «Где часы?!»
— Тихо! Ребенка разбудишь, — недовольно проговорила она, кидая мне трусы.
Я поймал их и натянул с такой быстротою, будто от этого зависела моя жизнь.
«Жена…» — обреченно подумал я.
— Пить хочется, — сказал я первое, что пришло на ум, и потопал на кухню.
Там сидел неизвестный молодой человек и читал газету на английском языке. Его длинные волосы были заплетены в мелкие косички. Косичек было много. Они свисали с головы, как сосульки.
— Привет, — сказал я на всякий случай.
— Привет, — равнодушно отозвался он.
Я попил воды, чтобы хоть что-то предпринять. Не знакомиться же с ним, в самом деле? Наверняка он меня давно и хорошо знает.
— Пожрать есть чего-нибудь? — спросил я.
— Посмотри в холодильнике, — мотнул он головой.
Он никак не мог быть моим сыном. На вид ему было лет шестнадцать. Хотя все может быть. Акселерация за это время могла усилиться.
Я заглянул в холодильник. Он был заполнен в основном разного размера тюбиками, как зубная паста.
Я с недоумением взирал на них. Парень оторвался от газеты, тоже заглянул в холодильник и схватил большой тюбик, на котором было написано «Второе N 5». Он отвинтил колпачок, поднес тюбик ко рту и выдавил на язык нечто зеленоватое.
Я последовал его примеру. «Второго N 5» больше не оказалось, и я довольствовался «Первым N 7». По вкусу оно было похоже на гороховый суп.
— Паршивый тубус, — сказал парень, завинчивая колпачок.
Мне мой понравился. Я выдавил еще. Слизывая суп с губы, я вдруг ощутил, что мне мешает что-то колкое. Ощупав лицо, я убедился, что это усы.
Усы меня доконали. Я испугался. Я понял, что мне никогда не восстановить событий прошедших шестнадцати лет.
Но времени на размышления не было. В кухню вдвинулся пузатый лысоватый мужик, тоже в одних трусах. Не без труда я узнал в нем Петечку, только весьма обрюзгшего и постаревшего.
Я обрадовался ему, как родному, хотя прежде особых симпатий не испытывал.
— Никита, марш спать! — приказал он парню.
Тот неохотно повиновался. Петечка уселся за стол напротив меня, с отвращением выдавил «Второе N 5» из тубуса в рот.
— Мяска бы сейчас… — вздохнул он. — Татьяна спит?
— Спит, — кивнул я.
За несколько секунд я получил бездну нужной мне информации. Никита был его сыном, это факт, следовательно, моим племянником, который полчаса назад стучал мне пяткой в ладонь изнутри живота, а Татьяна, без сомнения, — моя жена.
— Так ты решил? Будешь брать? — спросил Петечка, как будто продолжая прерванный разговор.
— Нет, пожалуй, не буду, — солидно ответил я, решив, что разумнее пока уклоняться от любых предложений. Зачем мне брать какого-то кота в мешке?
— Ну и дурак… — Петечка зевнул и почесал волосатый живот. — Тачка совсем новая, двадцати тысяч не пробежала.
Он поднялся и пошел к двери.
— Может, еще надумаешь?
— Посмотрим, — ответил я.
Оставшись один, я быстро осмотрел кухню, выдвинул ящики кухонного стола, заглянул в шкафчики. Ничего интересного. Успел заметить только свою старую любимую чашку. Встреча с ней была приятна.
Я вернулся в комнату. Жена спала, отвернувшись к стене. Я осторожно лег рядом, стараясь не разбудить ее. «Утро вечера мудренее…» — благоразумно подумал я, засыпая.
Однако утро оказалось не мудренее, а мудрёнее. На меня одна за другой посыпались загадки. Требовалось проявлять величайшую изворотливость, чтобы во мне не заподозрили самозванца.
Когда я проснулся, жены, слава Богу, рядом не было. Зато тут же прибежала девочка лет семи, с косичками и бантиками, и с криком «Доброе утро, папочка!» бросилась меня целовать.
— Доброе утро, — сказал я. — Как тебя зовут?
— Даша… — удивленно протянула она, но тут же засмеялась, подумав, что я шучу.
Я тоже рассмеялся, хотя и не думал шутить.
Я накинул какой-то халат, оказавшийся маловатым, и прошмыгнул в ванную, стараясь, чтобы меня не заметили. Там я наконец разглядел себя в зеркало. Отвратительная усатая рожа. Недолго думая, я схватил бритву, помазок и мигом сбрил усы. Я брился впервые в жизни, поэтому слегка порезался.
Я догадывался, что мне в ближайшее время предстоит очень многое сделать впервые в жизни. Где часы, будь они прокляты?!
Я вышел из ванной, получил легкий нагоняй от жены за то, что надел ее халат, а также за сбритые усы и, обнаружив в шкафу мужскую одежду, подходящую по размеру, облачился в нее.
Когда я вышел на кухню, там уже кончали завтракать Петечка и Светка. Сестра очень изменилась, стала пышной дамой. Мне хотелось ее обнять, но я посчитал это неуместным.
Вдруг мною овладело беспокойство. Где же мама? Где отец? Я вдруг понял, что в нашей трехкомнатной квартире проживают теперь только моя и Светкина семьи. Неужели родители… Нет, этого не может быть! Но не спрашивать же об этом!
Я наспех позавтракал, стараясь подавить беспокойство и жалуясь на головную боль. Светка с Петечкой убежали на работу. Я пока не понял, на какую. Однако меня больше занимало собственное место в жизни. Куда мне-то идти?!
— Отведи Дашку в школу, — распорядилась Татьяна. — Я тебя подожду.
Мы с дочерью вышли на улицу, и я повел ее в свою школу, рассудив, что Даша учится именно там.
Я угадал. В школе я заметил двух-трех знакомых учителей, правда сильно постаревших. Уже выходя из гардероба, столкнулся с Ксенией Ивановной.
— Сережа, здравствуй! — она обрадовалась.
— Здравствуйте, Ксения Ивановна!
— Давно тебя не видела. Как наши?
Ей-богу, я хотел бы это знать больше нее.
— Работают… — отвечал я со вздохом.
— Ну заходи как-нибудь ко мне, поболтаем. Сейчас некогда, — она поспешила по коридору все той же легкой походкой.
Я вернулся домой, хотя туда не хотелось. Татьяна уже была при параде, ждала меня. Я получил четкие указания: купить после работы картошки и помидоров, захватил портфель, и мы вышли на улицу.
Оказалось, что у нас есть машина. «Жигули» неизвестной мне модели. Зачем же тогда Петечка предлагал какую-то тачку? Но этот вопрос уступил место другому. Я понял, что не умею водить.
— Голова раскалывается, — сказал я, дотрагиваясь до лба. — Может, ты поведешь? — рискнул спросить я, не уверенный, что моя жена умеет это делать.
Она пожала плечами и села за руль. Облегченно вздохнув, я устроился рядом.
— Завези сначала меня, — попросил я.
— А я пешком пойду?
— Нет, мне машина сегодня не нужна… («Мне она вообще не нужна, черт ее дери!» — подумал я в скобках.) Я на метро приеду.
— Как знаешь…
Она строила из себя обиженную. Вероятно, за то, что я вчера так поспешно смылся. А может, за усы. Ладно, это не самое главное! Сейчас работать надо.
Жена привезла меня к большому новому зданию. В него входили люди. Как назло, у дверей не было никакой вывески. Я пошарил по карманам и нашел пропуск. Там, рядом с моею фотокарточкой, было написано, что должность моя — ведущий специалист, а отдел имеет номер семнадцать.
«Хотелось бы все-таки узнать — специалист по чему?» — не без злорадства подумал я.
Я чмокнул жену в щеку, посчитав, что так будет естественно, и смешался с толпой сослуживцев. Честное слово, я себя чувствовал гораздо хуже Штирлица в ставке Бормана. На всякий случай я кивал всем подряд. Многие отвечали мне тем же.
Вы никогда не пробовали искать свое рабочее место в учреждении, где вы служите? Смею заверить, что это занятие принадлежит к разряду увлекательнейших. Тем более когда на дверях нет ни единой таблички. Прошагав с деловым видом по однообразным коридорам нескольких этажей, я понял, что этот метод не годится. «Сейчас возьму и спрошу!» — мстительно подумал я. Но было неудобно.
Везде что-то докрашивали, подстругивали, подвинчивали. По всей видимости, наше учреждение только-только вселилось. Мне попался плотник с деревянным ящиком, откуда торчали инструменты.
— Пожалуйста, зайдите в семнадцатый отдел, — дерзко сказал я. — У нас форточка не закрывается.
— Знаю, — проворчал он. — Дойдет очередь…
— Нет, пожалуйста, сейчас. Дует. — Я был непреклонен.
Он взглянул на меня с неудовольствием, повернулся и пошел по коридору обратно. Я последовал за ним.
Плотник привел меня в мой отдел. Он находился на втором этаже. В комнате стояли пять столов. Четыре были заняты сотрудниками: тремя женщинами и одним молодым человеком лет двадцати трех.
Я поздоровался…
— Здравствуйте, Сергей Дмитриевич! Вы мне ужасно нужны. Необходимо подписать письма. Петр Тимофеевич уже заходил, интересовался… — с ходу затараторила одна из женщин, самая молодая.
Я кивнул и сел за свободный стол. Плотник, ворча, приступил к форточке, которая и в самом деле не закрывалась.
Сотрудница положила передо мной письма, отпечатанные на машинке, и я расписался против своей фамилии, мысленно поздравив себя с началом трудовой деятельности.
— Как-то странно вы сегодня расписываетесь… — удивилась она.
— Все течет, все меняется… — пошутил я, с тоской вспоминая родной XX век и безмятежные школьные годы.
До обеда мне удалось установить, что начальник отдела Петр Тимофеевич сидит в соседнем кабинете, а в этой комнате я — самый главный. Тщательно обследовав стол под видом уборки, я обнаружил, что наш отдел занимается чем-то связанным с экспортом электродвигателей. В папках лежали контракты, протоколы, договора, многочисленные письма. На многих из них стояла моя подпись. Я узнал, как она выглядит, и стал тайком тренироваться. До обеда мне прислали еще четыре письма и два контракта. На телефонные звонки я попросил отвечать сотрудников, ссылаясь на ту же головную боль.
Но все это чепуха. Самое главное то, что я нашел часы. Они лежали в нижнем ящике письменного стола, под грудой папок, и были аккуратно запаяны по ободочку, так что раскрыть их не представлялось возможным. «Предусмотрительным стал, паразит!» — мысленно обругал я себя, то есть того Сергея Мартынцева, который приготовил мне все эти сюрпризы. Вообще, я себе что-то не очень нравился.
Подгоняемый сердобольными соболезнованиями подчиненных, я перед обедом зашел к начальнику и отпросился, пожаловавшись на невыносимую головную боль. Очень хотелось представиться, я с трудом удержался от этого. Начальник был лет сорока, аккуратный, застегнутый на все пуговицы. Впрочем, я тоже.
Здесь все были застегнуты, как я заметил.
— Пожалуйста, Сергей Дмитриевич, идите лечитесь. Если расхвораетесь, полежите дома. Не забудьте только к понедельнику подготовить справку, — сказал начальник.
— Хорошо, — сказал я, сжимая в кармане часы.
Я вылетел на улицу, как на крыльях. Свобода! Захотелось мороженого и в кино. Интересно, что идет в кино в 2000 году? А что в магазинах? Но я вспомнил, что я теперь человек семейный, и отправился в овощной. Там были те же картошка и помидоры, что в XX веке.
Набив портфель овощами, я поспешил домой, чтобы продолжить свои исследования. «Кстати, неплохо было бы разыскать паяльник», — подумал я.
Ключ я нашел в кармане. Отпер дверь и быстро обежал квартиру, как вор. Мне повезло: дома никого не было. «А как же Дашка? — вдруг подумал я. — Уроки в первом классе давно уже кончились. Может, она на продленке?» Странно, что я подумал о ней. Впервые сегодня увидел. С другой стороны, дочь как-никак. Рассказать бы это Толику с Максом — померли бы от смеха!
Но мне было не смешно. Я методично принялся исследовать квартиру, надеясь добыть драгоценную информацию относительно второй половины прожитой мною жизни.
Я быстро обнаружил, что Светка с мужем живут в бывшей комнате сестры, мы с Татьяной — в моей, а наши дети обитают в бывшей комнате родителей, разделенной ширмочкой. Затем я приступил к детальному изучению своей комнаты.
Сразу бросился в глаза видеомагнитофон. Я приметил его еще утром, сомневаясь, не ошибся ли? Проверка подтвердила: видеокассетник, японский. Видимо, отец привез его из Японии уже после моего прыжка сюда. Видеокассет было довольно много.
Моего старого магнитофона не оказалось, зато звуковых кассет было полно, среди них и старые, известные мне. Гитар было две — акустическая и электрогитара. Интересно, зачем она мне? Неужели я умею играть?
Из документов, обнаруженных в ящике стола, я установил, что наш брак с Татьяной зарегистрирован восемь лет назад. Ее девичья фамилия оказалась Бессонова. Я также нашел копию своего диплома. Профессия у меня была — экономист. Это еще куда ни шло. Мог ведь оказаться врачом. Выкрутиться было бы труднее, хотя если участковым — то можно. Они всем прописывают одно и то же.
Из многочисленных отцовских открыток я узнал, что папочка за эти годы еще трижды объехал весь земной шар. Это меня не удивило. Сведения были скудные, согласитесь. Главное, ничего о маме. Я стал перебирать видеокассеты, и тут мне повезло. Как видно, мой двойник или предшественник, не знаю, как его называть, — одним словом, Мартынцев, который жил здесь до меня, любил снимать на видеопленку памятные семейные события. На кассетах были карандашные надписи: «Рождение Никиты», «Никите годик», «Выпускной вечер», «Проводы в армию», «Свадьба» и так далее. Последней в этом ряду стояла кассета с надписью «Даша идет в школу». Она была снята три недели назад.
Я начал с нее. Полчаса ушло на овладение японской техникой. И вот на экране появилась Даша с букетом, рядом с ней Татьяна, а с другой стороны — мама! Вот счастье! Мама жива и здорова и выглядит почти так же! Я чуть не подпрыгнул от радости.
Быстренько просмотрев сюжет в ускоренном темпе, отчего вся моя семья прыгала и бегала на экране, как в фильмах Чаплина, причем раза два мелькнул и я — какой-то нелепый, чему-то радующийся, — я перешел к другим пленкам.
Я узнавал свое прошлое в ускоренном темпе. Бегали, смешно обнимаясь и позируя, люди на экране, среди которых я временами узнавал знакомые лица; уезжали поезда, взлетали самолеты… Какой-то чужой человек с моим лицом вводил невесту в зал Дворца бракосочетаний, выносил сверток с младенцем из родильного дома, получал аттестат зрелости…
Я вдруг подумал, что ничего этого уже не будет в моей жизни. Я уже проскочил.
Внезапно я увидел себя на сцене с гитарой. Я переключил скорость на нормальную. Я пел в составе ансамбля из четырех человек на каком-то студенческом вечере. Песня была мне незнакома. Потом на сцену вышел ведущий и сказал: «Группа «Сальдо» — Сергей Мартынцев, Владимир Ряскин, Роберт Арутюнян, Глеб Старовский».
Они опять запели. То есть мы запели. Песня была ничего, с душой. Мне понравилось.
Я прослушал концерт до конца. Пленка уже кончалась, как вдруг появилось изображение какой-то свадьбы — не моей, а другой, потому что свою я уже пробежал. У нас все было как у людей. Здесь же праздновали с излишней помпой, в потрясающем банкетном зале… Видимо, свадьба была записана раньше концерта, а потом стерта, так что остался лишь кончик с танцами. Я увидел себя — я был пьяный, неуклюже пытался танцевать. Наконец камера выхватила невесту и жениха. Я вздрогнул: это были Марина и Толик. Я выругался самым страшным ругательством, которое знал. Пленка кончилась.
«Надо искать паяльник, распаивать часы и двигать отсюда», — подумал я апатично. Но куда? Теперь было все равно — что вперед, что назад.
Хотелось увидеть маму. Но как ее разыскать? Я перелистал все записные книжки. Маминого телефона не было. Естественно, кто же записывает в книжку мамин телефон! Его знают на память.
Прибежал из школы Никита. Он был без косичек. Впрочем, тут же заплел их и переоделся с явным намерением куда-то удрать.
— Ты бабушкин телефон не помнишь? Выскочило из головы, — сказал я.
— Нет, не помню, — он уже был в дверях.
— Странно. Ты разве не звонишь ей?
— А зачем? Она квартиру не хочет менять. Из-за нее живем тут как сельди в бочке!
— Что-то я не пойму. Да постой ты! Какую квартиру?
— Дядя Сережа, ты не заболел? Бабка не хочет менять прадедову квартиру. Не хочет ехать в однокомнатную. Вредина!
Он убежал.
Я тут же оделся и поехал по дедову адресу.
Мать встретила меня как-то равнодушно. Я даже опешил. Все казалось, что мне должны бросаться на шею после шестнадцатилетнего отсутствия. Может, мы с нею вчера виделись.
Но мы вчера не виделись, как вскоре выяснилось.
Я разговаривал с нею так, как вчера, на кухне, когда мы в последний раз ужинали вместе — там, в моей юности. Ее, кажется, это удивило. Она потихоньку меняла тон, будто оттаивала. Начала улыбаться, но как-то робко, еще не веря.
— Ты сегодня не такой, как всегда… — сказала она.
— Почему?
— Разговариваешь по-человечески.
А мы пока разговаривали на простые темы: как здоровье, о Дашиной учебе… Тут я воспользовался видеофильмом, сюжет которого толково пересказал. Пришлось немного пофантазировать.
— Нет, ты сегодня совсем другой, — сказала она. — И усы сбрил. Правильно сделал, мне они совсем не нравились.
Я вдруг взял ее руку, поднес к губам и поцеловал.
— Помнишь, тут был порез? Уже зажило? — спросил я. — Ты чистила рыбу, потом мы сидели на кухне… И Никита толкался изнутри у Светки…
Мама заплакала:
— Господи, как давно это было. Неужели ты помнишь?..
Она поцеловала меня. Мне стало спокойно и хорошо, как в детстве.
— Мама, это было вчера…
— Да, будто вчера, ты прав…
— Мама, это правда было вчера.
И я стал рассказывать. Все с самого начала. Мать слушала сначала с беспокойством, но через минуту лицо ее прояснилось — она поверила.
— Да-да… Смерть деда. Я тоже от нее веду отсчет. Очень многое после нее стало меняться. Ты резко изменился. Я приписала это переходному возрасту. Ты стал злее и циничнее. Почему-то был обижен на деда. Однажды в сердцах сказал, что дед тебя обманул.
Да, это бушевал в прошлом мой двойник, мой брат, мой однофамилец. Я улетел, а он остался. Он остался и решил, что часы на этот раз не сработали. Завод кончился. Наверное, он пытался прыгать еще и еще, но я прихватил с собой полюс гравитации, оставив ему лишь красивую оболочку — точную копию часов в пространстве прошедшего времени.
Неудивительно, что он запаял их со злости. Хорошо, не выбросил. Я вдруг с ужасом подумал, что мой двойник, оставляемый в прошлом, уже не может пользоваться волшебной силой часов, а значит, они теряют для него ценность. И в то же время исключительно от него зависит, где я найду часы при скачке в будущее. Сегодня нашел на службе, а ведь мог вообще не найти. Он вполне способен был их продать, например… Меня прошиб холодный пот от этой мысли. Чего-то я еще не понимал в механизме действия часов. А мама и вправду уже разговаривала со мной так, будто мы не виделись шестнадцать лет. Она рассказывала мне мою жизнь, какой она ее наблюдала со стороны, и это было гораздо прозаичнее тех телевизионных праздников, которые показал мне видеомагнитофон.
В десятом классе я поступил в вечернюю музыкальную школу, а потом, уже в финансово-экономическом, стал играть в ансамбле. Я и сейчас в нем играю «на танцульках», как выразилась мама. Мы в том же составе — все уже взрослые люди — мотаемся по пригородам и играем на молодежных вечерах. За это хорошо платят. «Теперь понятно, на какие деньги я купил машину», — подумал я.
Вернувшись из армии, я устроился в свое учреждение. Мама не смогла точно сказать, как оно называется. «Электровнешторг…» и еще несколько обрубков слов — это не совсем точно. Меня устроил отец, пользуясь связями. Теперь я чиновник.
По словам мамы, у меня не осталось проблем в жизни, кроме одной — квартиры. Так же как у Светки. Мы с сестрой, а в особенности Петечка, требовали размена двух больших квартир — дедовой и нашей — на четыре маленьких. Но мать не соглашалась.
— Постой, почему на четыре? — не понял я.
— Две вам и две нам с отцом.
— Как это?..
— Сережа, мы с отцом развелись сразу после твоего рождения. Мы уже давно чужие люди. Нас связывали только дети, а теперь вы выросли…
«Хорошенькие дела…» — подумал я.
— Эта квартира, — мать окинула взглядом дедовский кабинет, где все осталось на своих местах, — единственное, что сохраняет память о нашей семье. Жаль, что вы и ваши дети этого не понимаете.
Мама подошла к письменному столу, открыла ключиком средний ящик и вытащила толстую тетрадь. Я узнал ее, так как видел совсем недавно. Это были мемуары деда.
— Здесь кое-что написано для тебя, — мама протянула мне тетрадь. — Я многого не понимала, я же не знала о часах, а дед писал так, что непосвященный не догадается… Я еще не показывала тебе. То есть тому… Но он ведь тоже мой сын! — вдруг возмутилась мама. — Я считала, что он… ты… в общем, недостоин.
Я взял тетрадь, перелистнул ее. Страницы с обеих сторон были покрыты ровным бисерным почерком деда.
— Мама, что же мне делать?
— Жить, Сережа. Просто достойно жить. Ты ведь еще не занимался этим по-настоящему. Ни в одном из вариантов.
Значит она считала, что те шестнадцать лет, которые провел на ее глазах мой благополучный двойник, тоже не были жизнью? Тогда чем же?
«Так испохабить собственную жизнь!» — в отчаянье подумал я.
— Где отец? — спросил я.
— Он в Бризании… Ах, ты же не знаешь… Это в Африке. Новое государство. Когда приезжает, живет здесь, в соседней комнате.
Мне необходимо было срочно все обдумать и прочитать мемуары деда. Я спросил, могу ли я остаться в комнате отца. Домой мне совсем не хотелось. Я боялся даже представить себе момент, когда нужно будет снова лезть под одеяло к жене.
— Смотри, Таня может рассердиться, — сказала мама, но я понял, что она рада.
— Понимаешь, ма… — я мучительно покраснел, не зная, как сказать ей об этом. — Я не умею… быть мужем.
— Вот оно что, — мама улыбнулась. — А я думала, ты уже научился в своих путешествиях по времени.
— Да вот как раз времени-то и не было… — я развел руками.
— Ну, это не самое главное для того, чтобы стать мужем, — мама стала серьезной. — Тут как раз совсем необязательно иметь голову на плечах. Хотя… голова нигде не помешает. Не волнуйся, Сережа. Ты сам не заметишь, как это произойдет.
«Хорошенькие дела…» — опять подумал я.
И все же я не очень стремился побыстрее перейти этот рубеж. Поэтому позвонил Татьяне и довольно сухо сказал, что заночую у матери, она неважно себя чувствует.
По голосу жены я понял, что она в полном недоумении. По-видимому, подобная чуткость была мне раньше не свойственна.
С волнением углубился я в мемуары деда, открывая для себя его жизнь, которая ранее была известна мне лишь в отрывках. Я читал жадно, надеясь уловить в написанном совет или хотя бы намек на то, как мне жить дальше. Для кого же писал дед, если не для меня? Я рассматривал его судьбу, все время помня о том, что в руках у него находилась волшебная вещь, имелась чудесная возможность каждую минуту изменить ход своего существования и испробовать новый вариант судьбы. Но вскоре я почувствовал разочарование. Жизнь деда складывалась так, будто от него ничего не зависело. Начиная с девятнадцати лет она текла по строгим флотским законам, причем отсутствие выбора, казалось, совсем не тяготило его. Наоборот, он находил какое-то непонятное удовлетворение в исполнении приказов и предписаний, многие из которых казались мне идущими вразрез с его собственными желаниями.
Дед попал во флот по комсомольскому набору, когда учился на втором курсе юридического факультета университета. Выходило, что он совсем не намеревался стать моряком, а хотел быть юристом, однако никакого сожаления по поводу такого неожиданного поворота судьбы я не встретил на страницах его мемуаров.
После окончания военно-морского училища дед получил назначение на Крайний Север. Там он командовал тральщиком, потом эскадренным миноносцем. В этой должности его застала война.
Страница за страницей были посвящены описанию будничной флотской службы: походы, стоянки, ремонты, обучение молодых матросов, учения, парады… О семейной жизни дед писал скупо. Фраза, посвященная появлению на свет моего отца, выглядела так: «Сын Дмитрий родился в июле сорок первого года, когда я не мог уделить этому событию должного внимания. Назван в честь деда».
И только тут, в описании первых дней войны, я обнаружил скрытое упоминание о том, что дед все-таки воспользовался часами. Цитирую:
«Война началась неожиданно для многих, хотя ее приближение ощущалось всеми. Я не был исключением. Мне казалось, что в запасе еще есть какое-то время — может быть, год или два. В начале мая мое судно встало на ремонт в доках базы. Первый день войны мы встретили со снятой для переборки машиной и полностью размонтированными торпедными аппаратами. Если бы знать за месяц, мы успели бы в аварийном порядке закончить ремонт. Однако я нашел способ достойно подготовиться к испытаниям. Уже на следующий день корабль вышел в море на боевое патрулирование».
Ясно, что за несколько часов вернуть на корабль разобранный дизель и восстановить вооружение невозможно. Дед вернулся на месяц назад, чтобы лучше подготовиться к войне. Это был тот единственный в жизни случай, о котором он упоминал.
Кстати, насколько мне известно, он не сделал даже попытки за этот месяц эвакуировать семью в более надежное место, чем военный городок плавбазы, который уже в первые дни войны подвергся бомбардировкам врага.
Окончание войны дед встретил капитаном первого ранга, кавалером орденов Нахимова и Красного Знамени.
Затем он окончил Академию Генерального штаба, командовал крупными флотскими соединениями, преподавал, вышел в отставку, а в последние годы входил в Совет ветеранов.
Жизненный путь деда представлялся мне ясным и логичным, несмотря на то, что подчинялся железной необходимости воинских порядков.
Нельзя сказать, что он не делал в жизни ошибок. О них дед писал с беспощадной прямотой, но нигде в его мемуарах я не уловил намека на то, чтобы попытаться исправить ошибку с помощью имеющегося в его владении прибора. Это меня крайне удивило и даже раздосадовало, поскольку, на мой взгляд, свидетельствовало либо о его ограниченности, чему я не очень верил, либо о постижении им какой-то тайны жизни, в которую я не был посвящен. Вслед за жизнеописанием, занимавшим большую часть тетради, шли разрозненные по виду заметки, представлявшие собою результат наблюдений и размышлений. Привожу некоторые из них.
«Неизбежность смерти слабых людей приводит к бездействию, а сильных заставляет работать с удвоенной энергией».
«Как бы я жил, если бы начал жизнь сначала? Я много размышлял над этим, ибо имел разнообразные задатки, как всякий живой человек, и неизменно приходил к выводу, что прожил бы ее точно так же. Следовательно, я доволен ею, не так ли? Да, но только в том смысле, что не сделал в жизни ни одного поступка, противного моей совести, то есть прожил ее достойно. Сейчас, глядя смерти в лицо, я понимаю, что сознание достойно прожитой жизни есть главный и необходимый ее итог, а пережитые трудности, лишения, ошибки и неудачи лишь придают достоинству необходимую серьезность».
««За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь», — гласит народная мудрость. Она таким образом указывает на разумность погони за одним зайцем. Но стоит ли за ним гоняться? Жизнь — это не погоня за зайцем».
«Трижды я оказывался в ситуациях предельно критических: дважды на тонущем корабле и однажды, как ни странно, на ковровой дорожке одного кабинета. Все три раза я имел время, чтобы изменить ситуацию на более благоприятную, но ни разу не воспользовался этим. Почему? С судьбой нужно сражаться честно. Либо честно победить ее, либо так же честно умереть».
«Внуку. У людей в районе шеи, под кадыком, есть так называемая вилочковая железа. Тимус — по латыни. Она достигает наибольшей величины у грудных младенцев, к старости сходит на нет. Предполагают, что деятельность этой железы как-то связана со старением, с протеканием биологического времени жизни организма».
«Если бы смерти не было, ее следовало бы изобрести».
«Хотел бы я снова стать молодым? Как ни странно, нет. Люди, мечтающие о возврате молодости, не отдают себе отчета в том, что ее очарование заключается прежде всего в новизне ощущений, а не в избытке сил. Старость — понятие не энергетическое, а информационное. Начать жизнь сначала можно лишь молодым старичком».
«Необходимость прожитой жизни определяется не тем, насколько твоя судьба совпала с собственными представлениями о ней, а тем, насколько совпала она с исторической жизнью народа того времени, когда ты жил».
Я закрыл тетрадь. Это было как приговор.
Достал он меня все-таки, мой дед. Из-под земли достал. Из покинутого мною пространства достал.
Все это он понял и рассчитал, не прибегая к эксперименту, задолго до того, как я начал свои прыжки и ужимки. А я, как последний дикарь, как трехлетний младенец, баловался блестящей игрушкой, считая себя исключительной личностью.
Моя судьба не совпадала ни с собственными представлениями, ни с исторической жизнью народа.
Да и что, собственно, было исторической жизнью народа в то время, когда я метался по пространствам? На этой ровной исторической поверхности не наблюдалось ни одной революции, ни одной индустриализации, ни одной войны… Судя по рассказам мамы и кадрам видеокассет, я прожил свою маленькую жизнь так же, как миллионы сограждан — в необременительной борьбе за благополучие, за наиболее полное удовлетворение моих растущих потребностей. Я уже почти выиграл эту борьбу, если не считать квартиры. А мне только тридцать три года. Что же я стану делать дальше?
Несмотря на то что я жил так же, как большинство, что-то мешало мне признать мою жизнь эквивалентной исторической жизни народа. Но неужели отсутствие катаклизмов? Нет, это абсурдно. Отсутствие высоких целей и идеалов?
Но почему, бог мой, почему они были у деда? Откуда он их черпал? Откуда брал их его отец — профессиональный революционер и политкаторжанин? Неужели я настолько испорчен и себялюбив, что не желаю народу счастья, а борюсь только за свое — непогрешимое и бесталанное, как будильник? Где он — народ?!
Я со злостью отшвырнул тетрадь. Я был зол на деда. Зачем ему понадобилось искушать меня? Я прожил бы свою тихую жизнь как придется, не задумываясь о ее смысле. Теперь же приходится решать уравнение со многими неизвестными.
Я достал из кармана записную книжку и стал ее листать. Захотелось встретиться с друзьями, чтобы проверить, как они прожили этот период. Книжка меня поразила.
Она была устроена по функциональному принципу. Фамилии в ней практически отсутствовали, записаны были лишь имена, изредка с отчествами. Вместо фамилий имелись краткие пояснения; к какой сфере принадлежит абонент. Род занятий и оказываемых услуг. Почему-то эти слова тоже были написаны с заглавных букв.
Коля Джинсы, Марк Петрович Колбаса, Елена Сергеевна Зубы, Аллочка Авторучка, Надежда Тимофеевна Билеты, Саша Зонт, Николай Иванович Запчасти.
Или же другая группа: Миша Внешторг, Галочка Министерство, Семен Трофимович Референт.
Встречались абоненты, не поддающиеся никакой расшифровке. В основном женщины. Вера Адлер, Лена Белые Ночи, Люсенька Телогрейка и даже Эльвира Гоп-со-смыком..
Решительно потряс меня Иван Иванович Бубу. Я решил, что это какой-то неизвестный мне вид услуг или продукт, появившийся в самом конце двадцатого века, и неожиданно позвонил по его номеру. Трубку поднял мужчина.
— Слушаю.
— Иван Иванович?
— Он.
— Это Сережа…
— М-м…
— Мартынцев.
— Извините, не припоминаю. Вы чем, так сказать, богаты? Чему мы, так сказать, рады?
«Чем же я богат? — подумал я. — Экспортными электродвигателями? Танцами?.. Скорее танцами».
— У нас ансамбль, — сказал я.
— Ах, «Сальдо»! Так бы и сказали. Пока ничего нет.
— А когда будут?
— В следующем квартале. Звоните.
Он повесил трубку. «Бубу будут в следующем квартале», — меланхолично подумал я и набрал номер Макса. Он значился в записной книжке под своей настоящей фамилией. Я волновался. Как меня встретит старый друг? Ответил мне женский голос. Я узнал маму Макса.
— Здравствуйте, Ольга Викторовна. Это Мартынцев.
— Сережа? — удивленно спросила она после паузы.
— Максим дома?
— Да… Сейчас я позову.
Трубку довольно долго никто не брал. Затем послышалось шуршание, и голос Макса произнес четко и сухо:
— Я же сказал тебе, чтобы ты не звонил. Нам не о чем разговаривать.
Вслед за этим последовали короткие гудки.
Я повесил трубку, разделся и лег спать на отцовском диване, где мама уже приготовила мне постель.
Я долго не мог заснуть. Смотрел на политическую карту мира, будто светящуюся в темноте комнаты на противоположной стене.
«Чужое… Чужое пространство…» — повторял я про себя, уже зная, что останусь в нем надолго, может быть, навсегда, потому что после всего, что я узнал, я не мог себе позволить удрать из него в лучшие пространства и времена. Необходимо было жить тут, пытаясь по мере сил исправлять ошибки предшественника.
Я был готов его убить, то есть убить себя, растерявшего за каких-нибудь шестнадцать лет друзей, высокие порывы и идеалы юности. Мне показалось, что тихо улизнуть в другое пространство было бы подлым по отношению к Сергею Мартынцеву, который здесь сильно помельчал и омещанился. Как-никак я отвечал за него, ведь он был моим двойником. Я решил ему помочь.
Утром я отправился на работу с твердым намерением начать новую жизнь. На этот раз без помощи часов, по собственной инициативе.
Я проработал до обеда, еще раз убедившись, что служба моя вполне посильна для человека с незаконченным средним образованием, каковым я по сути и обладал. Я даже принял какую-то делегацию и весьма толково заключил контракт на поставку электробритв в какую-то страну, появившуюся в мире на рубеже веков.
После обеда я пошел к начальнику отдела и положил на стол заявление об уходе.
— Не понимаю вас, Сергей Дмитриевич, — он прочитал заявление и поднял на меня глаза. — Вам что-нибудь не нравится?
— Да.
— Что же? Оклад? Режим? Отношения?
— Я, — сказал я.
— Не понял?
— Я себе не нравлюсь.
Он подумал, отложил заявление:
— Директор будет возражать.
— Но я ведь имею право, не так ли?
— Право — это право, а долг — это долг. Подумайте, — сказал он, давая понять, что разговор окончен.
На следующий день мне приказом прибавили оклад, а начальник в разговоре объяснил мне, что мой уход сейчас крайне несвоевременен, поскольку учреждение только что пережило реконструкцию, переезд, так что не стоит увеличивать организационные трудности. Я продолжал подписывать бумаги и принимать делегации. Попытка начать новую личную жизнь также закончилась полным провалом.
Во-первых, для начала мне все-таки пришлось стать мужем Татьяны. Мама оказалась отчасти права: это не потребовало особых умственных усилий, хотя было зрелищем смешным и жалким, если бы кто-нибудь смотрел. Как ни странно, моя жена вдруг переменила ко мне отношение, стала ласковой, мягкой и даже красивой, черт возьми! Она стала мне нравиться больше. А сама так просто влюбилась в меня без памяти, все время повторяя, что этого она ждала очень долго. Я никак не мог взять в толк — чего она ждала?
Разговаривать после всего этого о разводе было просто глупо. Зачем? На каком основании?
Во-вторых, Дашка. Я почти с ужасом стал замечать, что с каждым днем эта незнакомая, но симпатичная девочка буквально внедряется мне в душу, занимая там все больше места. Лишенный в детстве отцовского внимания и просто общения с отцом, я теперь будто исправлял его ошибку, отдавая дочери все свободное время. Это обстоятельство тоже не могло не укрепить семейную жизнь, тогда как я намеревался ее разрушить.
По существу, новую жизнь удалось начать лишь в одном пункте: я перестал быть членом ансамбля «Сальдо», поскольку не умел играть на гитаре, а там это было совершенно необходимо. Мне пришлось выдержать неприятный разговор с коллегами и даже заплатить им неустойку за те концерты, которые уже были назначены.
Естественно, это не могло пройти незамеченным в семейной жизни. Потеря весомой прибавки к зарплате плюс неустойка снова отодвинули от меня жену, чему я был, честно говоря, рад. Меня уже начинали раздражать ее ласки.
Короче говоря, эффект был незначительный. Сергей Мартынцев всячески сопротивлялся моему вмешательству в его жизнь. Он устроил ее весьма прочно, с надежной круговой обороной.
Поняв, что грубым наскоком я ничего не добьюсь, я решил потихоньку видоизменять свою жизнь в сторону улучшения. Для начала нужно было вернуть старых друзей. Задача осложнялась тем, что я не совсем четко представлял, из-за чего мы расстались. Относительно Толика и Марины еще можно было догадаться. Вероятно, мне было тягостно поддерживать отношения с бывшим приятелем и его женой, которая когда-то была моей первой любовью. Но что нарушило нашу дружбу с Максом?
Я набрался духу и поехал к нему. За те несколько недель, что прошли с момента моего прыжка, ни Макс, ни Толик, ни Марина ни разу мне не позвонили.
Максим открыл мне дверь. Он был в расстегнутой старой рубашке и трикотажных спортивных брюках. С первого взгляда я понял, что друг мой сильно переменился. Вместо веселого, уверенного в себе человека, признанного лидера и баловня судьбы на меня смотрел нервный, подозрительный субъект с взъерошенными волосами и взглядом отпетого неудачника.
— Пришел? — с вызовом сказал он.
— Пришел. Пустишь? — сказал я как можно дружелюбнее.
Он дернул плечом:
— Проходи.
Я зашел в квартиру, где не раз бывал в юности. В ней царило запустение. Прежний уютный дом превратился в сарай, где без всякого смысла и порядка раскиданы были предметы мебели и гардероба. Посреди прихожей валялся спущенный футбольный мяч, морщинистый, как урюк. С голой лампочки свисала серебристая мишура, оставшаяся, по всей видимости, с празднования прошлого Нового года. На пыльном зеркале пальцем было написано: «Я пошел в кино». В комнате было не лучше.
Я уселся на продранный диван, утонув в нем почти до пола, причем в меня со стоном впилась изнутри железная пружина. Максим уселся на стул верхом и сложил руки на спинке. Я почувствовал, что он давно желал этого визита, но боится уронить достоинство.
Разговор был трудным. Я продвигался в нем ощупью, как в темной комнате, где когда-то бывал, но давно позабыл обстановку. Постепенно, с трудом в моей голове складывалась картина жизни Максима с той поры, когда мы разошлись во времени.
Началом всему было то злосчастное лето, когда мы уехали в КМЛ, а он отправился в Карпаты по туристической путевке. Перед отъездом у них с Мариной произошел серьезный разговор, насколько он может быть серьезным в шестнадцать лет.
Впрочем, именно в шестнадцать лет он может быть наиболее серьезным по сути, определяющим дальнейшую судьбу.
Вернувшись, он обнаружил большие перемены. Выяснилось, что после моего объяснения с Мариной, когда она дала мне пощечину, ее вниманием ухитрился завладеть наш приятель Толик. Оказывается, мы с Максом дрались в классе, в начале нашего последнего учебного года. Выгоды из этого опять-таки извлек Толик. Потом мы вроде бы помирились, но трещинка осталась. Вдобавок на Макса накатилась полоса неудач, к которым он не был готов.
Макс неожиданно не поступил в университет на филологический, и его взяли в армию. Это было для него большим ударом. Он привык быть удачливым, привык брать нужное ему не задумываясь, будто имел на это бессрочное разрешение. Оказалось, что срок существует и кончается с выпускным балом. Дальше все стало даваться Максу с трудом, к которому он не привык.
Когда он вернулся из армии, Марина была уже замужем, я заканчивал экономический институт, а ему предстояло начинать все с начала. Из лидера он превратился в аутсайдера. Он опять недобрал на филфак, пошел работать, и тут у него умер отец…
Я складывал хронологически биографию Макса из догадок, недомолвок и намеков. Постепенно мое смирение и желание восстановить дружбу помогли ему расслабиться. Наш разговор больше стал напоминать его исповедь.
— Она сломала меня, понимаешь? Никогда не думал… Главное, как я потом понял, не то, что мы расстались. Главное, что она Толика выбрала! — с горечью говорил Макс, наклонив стул вперед, так что он опирался на пол двумя ножками. — Вот где меня заело! Если б хоть тебя!
— Спасибо, — улыбнулся я.
— Что — спасибо! Скажешь, вы с Толиком могли мне что-то противопоставить? Объективно, а? Особенно он. Жлоб — он и есть жлоб. Но как она могла?!
Я тоже не понимал, как она могла, но я знал меньше. С внезапной смертью отца рухнул дом, мать заболела. Максим ухаживал за ней, а жизнь катилась дальше, и его старые друзья, то есть мы, все дальше уходили от него: строили семьи, рожали детей, получали квартиры и должности. Макс потерял уверенность в себе, доверие к женщинам, стал мнителен и излишне амбициозен.
Окончательный наш разрыв, как я понял, произошел около года назад, когда я предложил ему новое место работы, весьма заманчивое, куда мог бы устроить его по протекции. Макс уловил нотки покровительства, вспылил, наговорил мне кучу колкостей и обиделся навсегда.
Я вдруг понял, что в ломке и этой судьбы приняли участие дедовы часы. Ниточка тянулась из юности, беря начало в моем тщеславном желании испытать варианты жизни.
Между тем период влюбленности у жены, вызванный, как я полагаю, моей юношеской непосредственностью, закончился. Непосредственность перешла в посредственность. Учитывая существенную потерю в заработке, это оказалось весьма существенным.
Шли дни, текли недели, и я все больше убеждался, что живу с абсолютно чужой женщиной, которая к тому же недовольна произошедшими со мною переменами. Я скучал в кругу наших общих знакомых, находя их разговоры глупыми или мелочными, я перестал гоняться за вещами, чему ранее посвящал много времени, я стал опускаться, как она выразилась. Татьяна сказала, что я пошел по пути Максима.
Мой друг работал переводчиком технической литературы в издательстве, имел скромный заработок и совершенно не следил за собой. Свое свободное время он посвящал исследованиям по старой испанской литературе. У него на столе стояла черная металлическая статуэтка Дон Кихота.
После нашего примирения он стал бывать у нас, вызывая дополнительное неудовольствие жены. Мы вспоминали юность, тщательно обходя по молчаливому уговору Марину и Толика. Мне уже было известно, что у них двое детей, Марина работает художником-модельером, а Толик вертится по административной части.
Очень скоро моя семейная жизнь стала напоминать ад. Обычно я приходил домой около шести, удачно оформив очередной контракт на продажу партии вентиляторов или полотеров. К этому времени дома все были в сборе. Я входил в собственную квартиру как в зоологический сад с беспривязным содержанием зверей. Укрыться было совершенно негде. Лишь один домашний доверчивый зверек — моя Дашка — подходил ко мне и лизался. Остальные были дикими зверями. Они так и норовили укусить.
Моя сестра стала за эти годы заместителем директора по производству в одном научно-производственном объединении, выпускающем промышленные роботы. Я не подозревал, что в ней столько деловых качеств. Она часто говорила про план, премиальные, внедрение, сетевое планирование и стимулирование. Моя жена ее за это презирала. Сама она была женщиной светской, не чуждой художественных устремлений. Среди ее знакомых попадались режиссеры, художники и литераторы.
Петечка, как мне кажется, нигде не работал, но функционировал с бешеной энергией по части купли-продажи одежды, мебели и вообще всякой всячины, в чем ранее участвовал и я, то есть мой предшественник в этой семье. С Петечкой и его делами я порвал быстро и решительно, правда, с небольшим общесемейным скандалом.
Меня тайно поддерживал Никита, который ни в грош не ставил своего отца и интересовался лишь видеофильмами и аэробными девушками.
Аэробика вообще процветала. Ее любителей и любительниц можно было встретить везде: на улицах, в магазинах, в троллейбусах. С маленькими магнитофончиками на шее и стереонаушниками на ушах они беззвучно дергались, как марионетки, иной раз в самом оживленном месте. Имелись коллективные системы аэробики, когда от одного магнитофона тянулся шнур со многими парами стереонаушников. Желающие могли подключиться к нему ушами и бились, точно под током, в едином ритме, связанные одной ниточкой.
Это рассматривалось как форма общения.
Я же общался с Дашкой. В выходные мы уходили на острова и бродили там в относительной тишине и спокойствии.
— Папа, расскажи про древность, — просила она. Для нее древностью была середина прошлого века. Я рассказывал про войну, опираясь на мемуары деда, потом переходил к временам, которые помнил сам.
Я бы давно улетел из этого пространства, если бы можно было прихватить Дашку с собой. Кстати, часы я все-таки распаял и снова повесил на шею.
Вы спросите, какова была международная обстановка в том будущем, куда я попал? Обстановка была сложная.
Вы спросите, как одевались и чем питались в то недалекое время? Одевались разнообразнее, питались однообразнее. Вы спросите, стали ли лучше люди? Нет.
Но и хуже они не стали. Люди оставались людьми во все времена. Надо сказать, что я адаптировался к новому веку на удивление быстро. Внешние новшества меня не занимали. Я приглядывался к моим постаревшим современникам, стараясь решить вместе с ними и за них один и тот же вопрос: зачем я живу? Не знаю, возможно, наличие часов и перебор вариантов делали этот вопрос для меня острее. Но я вдруг понял, что знаю, как не хочу жить, и в полном неведении относительно того — как хочу.
Я не хотел жить бесцельно и вяло, я хотел двигаться куда-то, проходить осмысленный путь. Я хотел иметь то ощущение достойно прожитой жизни, о котором писал дед.
Однако проходили месяцы, а ничего не менялось. Не считать же изменениями то, что мы переехали к маме на дедовскую квартиру, оставив Светку и Петечку в нашей? Теперь перевес в борьбе за себя был на моей стороне, ибо Татьяна осталась в одиночестве перед жизненными принципами, которые отстаивали мама и я. Собственно, это были принципы деда.
Я уже стал смиряться с тем, что придется жить с Татьяной и впредь, как в один прекрасный день жена ушла от меня, забрав с собой Дашку.
Нет, она не улетела в другое пространство. Она переехала на соседнюю улицу к оператору научно-популярного кино, который в это время снимал фильм о времени и пространстве.
Ей-богу, я мог бы рассказать жене и о том, и о другом гораздо больше, чем любой оператор.
Жизнь совсем остановилась.
Мать получала пенсию, я — зарплату, которая отличалась от пенсии лишь размером. По воскресеньям приходила Даша. Она была вежлива. Дважды в неделю по вечерам приходил Максим. Мы с ним играли в шахматы.
Я ходил на футбол и хоккей. Правила той и другой игры не претерпели никаких изменений.
«Ну и часики! Ай да часики!» — мысленно восхищался я часами, временами вытягивая их из-под жилета. Я носил жилет.
Наконец из Африки вернулся отец. Мы встретились как чужие. Он был недоволен изменениями в моей семейной жизни, а также тем, что я теперь живу за стенкой. Так мы и существовали в разных комнатах одной квартиры, три обособленных и когда-то родных человека: мать, отец, сын.
Промелькнул год. Ничего не происходило. Отец уехал в Швейцарию. Я продавал насосы в Алжир. Мать ходила слушать оперы в Мариинку.
Наш шахматный счет с Максом выражался соотношением 957:944. Лидировал Макс.
И тут я прыгнул, как в лестничный пролет, еще на пятнадцать лет в сторону удаления от Рождества Христова.
Это было именно так. Что-то зрело во мне и вдруг прорвалось в одночасье. Помню, когда я взялся за головку часов, мне было решительно все равно, в какую сторону переводить календарь. Сзади я уже был, а впереди еще нет. Я полетел вперед.
Меня утешала мысль, что тот Сергей Мартынцев, которого я оставляю вместо себя, уже не будет прохиндеем и дельцом, а останется, как я надеялся, добропорядочным, но несколько скучноватым холостяком, доживающим до пенсии.
Я решил сократить этот путь, уверенный, что пропустить пятнадцать лет такой жизни — все равно что проспать лекцию о пенсионном обеспечении колхозников. Никто не заметит — ни ты, ни лектор, ни окружающие.
Совершив процедуру с часами, я оказался в автомобиле, который вез меня по городу. На мне был солидный костюм и шляпа. Рядом на сиденье стоял портфель.
Впереди с шофером ехал молодой человек, относящийся ко мне почтительно. Потом я узнал, что это мой референт.
В этом пространстве все оказалось проще, чем в предыдущем. Мне даже не нужно было говорить. За меня говорил референт. Он вел себя как рыба-лоцман рядом с акулой: то забегал вперед, открывая двери и представляя меня кому-то, то оказывался рядом, готовый выполнить любое распоряжение, то отставал и оказывался в тени, как бы подчеркивая этим, что он выполняет сугубо черновую работу.
Итак, я очутился в начальниках какого-то учреждения и некоторое время руководил наобум, полагаясь целиком на референта. Часто приходилось сидеть в президиумах и зачитывать речи. Пешком я уже не ходил, вероятно, поэтому обнаружил у себя изрядное брюшко и плешь на макушке.
В личной жизни тоже произошли перемены. Во-первых, моею женой снова оказалась Татьяна. Во-вторых, Даша не жила с нами, а находилась почему-то в Тюмени, где работала и жила в общежитии. Как выяснилось, она ушла из дому семнадцати лет, сразу после окончания школы. Мы с Татьяной занимали роскошную трехкомнатную квартиру.
Мать и отец были уже совсем старенькими, жили там же, в дедовой квартире, и вроде бы опять сошлись, во всяком случае, вели общее хозяйство.
Это единственное, что понравилось мне в этом пространстве, если говорить о семейных делах.
Я понял, что мой двойник, оставленный на рубеже веков, все же дрогнул и пошел по проторенному пути. Нельзя было оставлять его так надолго. Слишком мал был у него запас юношеских сил и принципов, которые я сумел в него вдохнуть. Жизнь потихоньку взяла свое, он образумился — именно так это выглядело со стороны — и начал делать карьеру, правда не прибегая к особенно подлым методам, в основном за счет усердия в работе.
Но я все равно никак не мог мириться с его нынешним положением, хотя, думаю, застал его на жизненном пике. И снова я предпринял попытку помочь ему стать человеком.
Я начал с того, что стал ходить на работу пешком, как все люди. Или ездить в автобусе. Это вызвало форменную панику среди референтов и секретарей. Поначалу меня сопровождала машина, которая медленно следовала за мной на всем пути от дома до службы. Я стал хитрить и играть с нею в прятки, пользуясь проходными дворами. Согласитесь, что начальник учреждения, бегущий трусцой проходными дворами мимо мусорных бачков, вызывает в лучшем случае недоумение.
Немного пообвыкнув и разузнав, какого рода деятельностью занимается наша контора, я стал сам говорить речи на собраниях, не обращая внимания на текст референта. Это вообще произвело эффект разорвавшейся бомбы. Приближенные шарахались от меня, как от зачумленного, зато рядовые сотрудники стали улыбаться при встрече и здороваться дружественно.
Нечего и говорить о том, что я обедал теперь в общей столовой, стоя в общей очереди с подносом, запретил Татьяне пользоваться служебной машиной и принимал сотрудников по личным вопросам в любое время, а не от четырех до пяти по вторникам.
Мой демократизм не знал удержу.
Молодой референт стал ледяным. Его непроницаемый взгляд говорил только о том, что я рехнулся. Татьяна тоже задергалась, тащила меня в санаторий и намекала, что в прошлом у меня уже наблюдались странные аномалии в поведении.
Слух о внезапном сумасшествии начальника распространился мгновенно. Самое обидное, что в него поверили все — даже рядовые сотрудники.
Кончилось тем, что меня сняли и кинули заведовать Дворцом бракосочетаний, ибо медицинское обследование не подтвердило психопатологии.
Перед новым назначением мне дали отдохнуть. Я попытался разыскать Максима, но он словно в воду канул. Мама сказала, что лет шесть назад Максим похоронил свою мать и уехал куда-то на Дальний Восток. Писем от него не обнаружилось.
Татьяна снова стала собирать вещички, со слезами упрекая меня в изломанной жизни. Это было достаточно скучно. Я взял билет и полетел к Дашке в Тюмень.
Забыл сказать про часы. Все эти годы они хранились у мамы, на том же дедовском письменном столе. Улетая в Тюмень, я прихватил их с собой.
В Тюмени я остановился в гостинице, а вечером отправился в общежитие. Это был обыкновенный жилой дом с квартирами. В каждой, занимая отдельные комнаты, жили молодые специалисты. Даша закончила нефтехимический институт и работала здесь по распределению.
Я боялся, что дочь меня не узнает. Прошло шесть лет, как она рассталась с нами, и с тех пор мы виделись очень редко, если верить моей жене.
Мне открыла маленькая симпатичная девушка с твердыми смуглыми щечками и раскосыми глазами. По виду татарка. Она вежливо улыбнулась мне и постучала в дверь к моей дочери.
— Даша, к тебе…
Даша возникла на пороге — молодая, красивая, с толстой золотой косой, перекинутой через плечо. Я задохнулся. Меня, будто горячим воздухом, обдало моей непрожитой юностью, и от этого на глаза навернулись слезы. Я плакал от жалости к себе, от того, что мне никогда не испытать уже заманчивого таинства надвигающейся жизни, предчувствия любви и утрат.
— Папа… — сказала она.
— Я уже не начальник, — попытался улыбнуться я, но слезы застили глаза. Боясь уронить их, я шагнул к ней и обнял. Слезы быстро скатились по щекам, оставив обжигающий след, и упали ей на плечо.
— Помнишь ту собаку, — говорила она, сидя на тахте с поджатыми под себя ногами и задумчиво расплетая косу.
Я помнил ту собаку. Я видел ее совсем недавно в том пространстве, откуда прибыл, на Каменном острове, возле поваленной липы.
Собака приходила туда каждое воскресенье, когда Татьяна разрешала мне погулять с Дашей. Это была бездомная дворняга неопределенной масти, которая встречала нас, виляя хвостом, на одном и том же месте в определенный час. Мы приносили с собой ее миску, а в пакете — еду, устраивались на поваленном дереве и наблюдали, как собака ест. Она вылизывала миску и благодарно смотрела на нас. Потом мы прогуливались по берегу, следя за легкими байдарками и каноэ, скользящими по Невке.
Не знаю почему, но всякий раз, оглядываясь на ту собаку с моста, чтобы послать ей прощальный привет, я чувствовал себя таким же бездомным, как она.
Так получилось, что мы с Дашей снова и снова возвращались воспоминаниями в тот год, когда я прыгнул к ним из юности и познакомился со своею семьей. У меня просто-напросто не было других воспоминаний, но странно, что их не было и у Даши. Раннее детство она вообще не помнила, а то, что произошло после моего возвращения на путь истинный, как выражалась Татьяна, вспоминать не хотела. Семья формально склеилась, научно-популярный кинооператор канул в небытие, но дочь я потерял.
Теперь я вновь завоевывал ее доверие в тюменском общежитии, в краю нефти и газа, о которых знал лишь понаслышке. О матери Даша спрашивала вяло, из вежливости.
Зато она сильно оживилась, когда я рассказал ей о своих подвигах в конторе. Сначала не поверила, посмотрела на меня с недоверием. Но потом глаза ее заблестели, она засмеялась, откинув голову назад, а я, довольный ее вниманием, с радостью изображал в лицах, как я убегал от персональной машины или менял местами президиум и участников собрания.
Однажды я и вправду проделал такой опыт, перед самым медицинским обследованием. На собрании, посвященном Женскому дню, я усадил начальство на сцене в три ряда, а стол, покрытый красной скатертью, трибуну и микрофоны установил в зале.
— Ты совсем впал в детство… — отсмеявшись, сказала Даша.
Она немного ошиблась. Я выпал из детства прямо сюда, в так называемую зрелость.
Несколько вечеров подряд я провел в общежитии молодых специалистов за разговорами, чаем и песнями под гитару. Мода на громкую музыку и аэробику уже давно прошла, песни стали теплее и человечнее. Конечно, я воровал у детей недоставшуюся мне молодость, оттого было немного стыдно.
Я почти влюбился в Дашину подругу Альфию, в ее маленький носик и прямую черную челку. Я уже серьезно подумывал о том, чтобы остаться здесь, в Сибири, и хотя бы последний отрезок жизни прожить как все нормальные люди. На пятый день пришла телеграмма от матери: «Умер отец».
В гостиной дедовской квартиры еще дотлевали поминки, еще витали в воздухе сбивчивые мемуары ветеранов, а мы с мамой и Дашей уже уединились в кабинете отца, решая, как мне быть дальше.
Даша прилетела со мною из Тюмени. В самолете я рассказал ей историю часов.
— Странно… — задумчиво сказала она. — Получается, что ты мне чужой. А я помнила тебя таким, каким ты был, когда я ходила в первый класс, и все эти годы думала, что это и есть настоящий ты. Оказывается, ты прилетал ненадолго…
— Правильно думала. Это и был настоящий я. Все остальные не в счет.
— С остальными я жила, — возразила она. — А ты прилетал как праздник… Такой же юный и непосредственный…
Даша сидела в любимом кресле деда и забавлялась с часами. Они опять ничего не весили. Приклеенный когда-то пятак затерялся где-то во временных пространствах. Даша отпускала часы и легонько дула на них, отчего они плыли по воздуху, как плоский мыльный пузырь.
— Как быстро все прошло… — вздохнула мама. — Но не это обидно. Не получилось — вот что главное. Не получилось…
— Ты преувеличиваешь, — сказал я. — У тебя стройная жизнь, мне бы такую. Чего не получилось?
— Семьи не получилось, Сережа. Мы все отдельно. От этого наши беды.
— Возьми их и начни сначала, — я указал на часы.
— Нет, я уже не смогу, — покачала головой мама. — Снова встретиться с отцом, помня об этих поминках… Нет, нет!..
— Ты можешь встретить кого-нибудь другого, а отцу отказать, — настаивал я с упорством, за которым скрывались мои тщетные попытки хоть что-нибудь понять в жизни.
— Нет. Это предательство, — тихо сказала мама.
— Но почему же? Почему?! — не выдержал я. — Вы прожили врозь почти всю жизнь. Вы не сошлись — не знаю уж чем! Зачем повторять эксперимент сначала?
— Во-первых, я ничего не собираюсь повторять, — холодно сказала мама. — Во-вторых, мы любили друг друга. Понимаешь? По-настоящему. А семьи не вышло. Так тоже бывает. Я не имею права искать свое новое счастье без него. Он мне не простит.
Даша думала. Часы плавали у нее над головой, отсвечивая золотом как легкий нимб. Если бы наш разговор слышал кто-нибудь из ветеранов, собравшихся в соседней комнате, он подумал бы, что мы сумасшедшие.
— Тогда я отдам часы Даше, — сказал я. — Как знать, может быть, ей они еще пригодятся.
— Спасибочки! — сказала дочь. — После всего, что я о них наслышалась! Нет уж… — и она толкнула часы в мою сторону.
Они поплыли по комнате, как снаряд, целящий мне прямо в сердце. Я перехватил их и сжал в руке с такой силой, будто хотел раздавить.
— Оставь их себе, Сережа, — сказала мама. — Каждый должен нести свой крест. По-моему, ты еще не испытал всего, что тебе суждено.
— Да, видимо, так, — сказал я, нащупывая на оболочке кнопочку открывания крышки.
— Пойдем к гостям, Даша, — сказала мама.
Они обе подошли ко мне и расцеловали, как перед дальней дорогой. Я снова остался один. Щелкнул замочек часов, и я увидел циферблат…
Безумно грустно покидать пространство, с которым ты успел сродниться. Эти разлуки равносильны смерти. Уезжая надолго, быть может навсегда, человек не воспринимает это «навсегда» как нечто абсолютное, потому что остается в том же мире, в пространстве тех же измерений, что другие. Он может вернуться к близким в принципе, даже если обстоятельства судьбы или эпохи делают возвращение невозможным.
У меня не было такой принципиальной возможности. Каждый раз я улетал навсегда. Каждый раз, возвращаясь, я возвращался другим. Мое абсолютное «я» оставалось неизвестным моим родным, они каждый раз видели его относительную оболочку — очередного Сергея Мартынцева, который был для них единственным, но на самом деле являлся лишь частичкой абсолюта.
Сейчас, помедлив несколько секунд и произведя манипуляцию с часами, он вернется в гостиную и сядет за поминальный стол, а тот, абсолютный, который и есть настоящий я, умчится в иные сферы опыта.
Куда же я бежал теперь? Чего хотел?
Я хотел найти свою истинную жизнь, то есть такую, которую мог бы полюбить после всего, что мне пришлось испытать. Я понимал, что найти такую жизнь путем случайных прыжков в другие пространства невозможно. Слишком много вариантов судеб разбросано там, слишком много…
Те варианты, что испытал я, были не лучше и не хуже других. Но везде, в любых временах, я обнаруживал одно пугающее обстоятельство — отсутствие любви.
В этом была причина несчастий и одиночества моих близких. В этом была причина бесцельности и скуки моих жизней.
Все варианты, которые я испытал, росли из одного ствола. Они росли из детства, куда я никогда не возвращался, боясь надолго утерять часы. Теперь меня уже не интересовало обладание ими. Я достаточно наигрался. Меня притягивал тот момент жизни нашей семьи, когда мать с отцом еще любили друг друга. Еще любили друг друга…
Мать сказала, что они разошлись, когда мне было пять лет. Значит, все остальные годы они делали вид, что любят друг друга, и жили вместе, чтобы не огорчать детей — меня и Светку. Вот почему отец колесил по земному шару!
И все равно они не добились своей цели, потому что нельзя делать вид, что любишь. Можно только любить.
Вся наша разобщенная ныне семья росла из того корня, когда мать с отцом еще любили друг друга. Еще любили…
А потом перестали любить — и дерево зачахло, превратилось в отдельные побеги, не связанные друг с другом.
Я вернулся на сорок лет назад. Менее чем в секунду я превратился из солидного мужчины, уже начавшего стареть, с залысинами и брюшком, в пятилетнего мальчика с прямой жесткой челкой, большими серыми глазами и тоненькими ручками и ножками.
Этот мальчик ничего не забыл, ни единого варианта. Он знал жизнь почти на полвека вперед.
Я оказался в семьдесят втором году, в декабре месяце. Была середина дня. Я лежал в кроватке в детском саду, видимо отдыхая после обеда. Вокруг меня лежали современники.
Сначала я осторожно рассмотрел свои ручки и ножки, пытаясь к ним привыкнуть. Они были нежными и слабенькими. Я чуть не расплакался от жалости к себе, и мне стало страшно: что смогу сделать я в этом пространстве, обладая столь слабым телом, лишенный спасительных часов?..
Но раздумывать было некогда. В спальню вошла воспитательница Виолетта Михайловна, которую я смутно помнил взрослой высокой тетей с громким голосом. На самом деле она оказалась молоденькой девушкой, которая годилась бы мне в дочери и могла быть подругой Даши, находись мы в предыдущем пространстве. И росту она была невеликого, и голосок у нее был негрозен.
— Дети, пора вставать, — сказала она, проходя между кроватей.
Я откинул одеяло, нашел свою одежду и со смешанным чувством стыда и изумления стал натягивать детские колготки.
— Сережа, тебе помочь? — спросила воспитательница.
— Благодарю. Я сам в состоянии, — ответил я.
Она удивленно посмотрела на меня, но ничего не сказала.
Дальнейшие события показали, что в этом пространстве мне нужно быть весьма осторожным, чтобы сохранить в целости психику окружающих. Уже после полдника на занятиях по лепке из пластилина, что мне было как-то неинтересно, я отвлекся и, найдя на столике Виолетты Михайловны газету «Комсомольская правда», углубился в нее. Мне хотелось узнать, что происходит в мире, точнее, что происходило в мире в период моего раннего детства. Просматривая хронику международных событий, я почувствовал, что кто-то смотрит на меня. Я поднял глаза. Виолетта Михайловна стояла рядом, глядя на меня с неподдельным ужасом.
— Сережа, что ты делаешь?
— Читаю, — сказал я. — Разве не видно?
— Ты умеешь читать? — растерянно спросила она. — Мы же прошли всего три буквы…
— Мне достаточно, — ответил я и снова углубился в чтение.
— Ах ты, проказник! Ты разыгрываешь меня! — рассмеялась она, давая мне легкого шлепка по задней части. — Иди лепи зайчика.
— Виолетта Михайловна, вы позволите мне не лепить зайчика? — вежливо спросил я. — Меня больше интересуют ближневосточные проблемы.
У нее остановились глаза, а затем она вихрем вылетела из комнаты. По коридору застучали ее каблучки.
«Видимо, побежала к заведующей», — подумал я, свертывая газету. Когда Виолетта Михайловна вернулась с нашей пожилой заведующей, я уже мирно лепил зайчика, общаясь со своими сверстниками по пространству.
— А мой зайчик лучше! — сказала моя соседка, белокурая толстая девочка с бантом.
— Я бы не сказал, — пожал я плечами.
Воспитательница и заведующая смотрели на меня во все глаза.
— Лучше! Лучше! — выкрикнула подружка и смяла моего зайчика. Я понял, что если сейчас иронически усмехнусь и проявлю рыцарскую сдержанность, то меня тут же уведут на обследование к детскому невропатологу. Поэтому я, переживая внутренний стыд, ибо был человеком воспитанным, вцепился ей в бант, крича:
— Мой зайчик лучше! Мой! Зачем ты испортила моего зайчика?!
Заведующая и Виолетта Михайловна облегченно вздохнули, оттащили меня от приятельницы и поставили в угол. Там у меня было время обдумать стратегию поведения в этом пространстве.
Необходимо было снова стать ребенком, иначе хлопот не оберешься. С другой стороны, поддерживать искренние контакты со сверстниками — это значит обречь себя на духовный голод. Два года лепить зайчиков, а потом идти в первый класс?.. Утомительно.
Трудно, практически невозможно не обнаружить своего интеллекта, обладая им. Впрочем, справедливо и обратное.
Я весь извелся, ожидая, пока мама заберет меня из садика. Я очень волновался. Несмотря на то что мы расстались с мамой несколько часов назад, я почти физически ощущал пропасть в сорок лет, через которую я перелетел. Какой я встречу маму? Узнаю ли я ее?..
На музыкальном занятии разучивали песню «Пусть всегда будет солнце». Текст я прекрасно помнил, поэтому исполнил песню первым, заслужив поощрение воспитательницы. Когда пел «Пусть всегда будет мама», на глаза навернулись слезы. Проклятая старческая сентиментальность! Мои одногруппники повторили припев нестройным хором и без всякого чувства. Они еще не знали, что мама — это не навсегда. Я испытывал жалость к этим детишкам и одновременно завидовал им.
Однако вместо мамы прибежал отец. Он был худ и чем-то озабочен. Быстро помог мне одеться, задавая дежурные вопросы: «Чем кормили?», «Какие буквы учили?».
Я смотрел на него с печалью, вспоминая поминки. Как скоротечна жизнь!
Он воспринял это по-своему, сказал:
— Ты какой-то смурной сегодня…
В сущности, он еще ничего не знал о жизни.
По пути домой отец заскочил в телефонную будку и долго говорил с какой-то Люсенькой, в чем-то оправдываясь перед нею и скашивая глаза на меня. Потом мы пошли в магазин и купили гирлянду на новогоднюю елку. «Купи ружье», — попросил я отца. «Денег нет», — сердито отрезал он. «А когда будут?» — поинтересовался я. «Отстань. Никогда», — мрачно пошутил он. Если бы ему сказать, что через десять лет он будет привозить из командировок джинсы и видеомагнитофоны, он бы не поверил.
Мама встретила нас как-то буднично и хмуро. А у меня опять из глаз покатились слезы. Как молода и хороша была мама! Как испуганно-ласково склонилась ко мне она, увидев, что я плачу! Я обнял ее и уткнулся в теплую грудь. Она гладила меня и целовала.
— Что случилось, Сережа? — шептала она.
— Случилась жизнь, — прошептал я.
— Что? Что? — не поняла она. И вдруг заплакала тоже.
Причину маминых слез я разгадал быстро. Достаточно было недели, чтобы понять, что счастье нашей семьи висит на волоске. Внешне все обстояло благопристойно, но внутри зрел конфликт, причиной которого, как я понял, была некая Люся.
Моя мама — максималистка, как я уже упоминал. Характер ее в молодости оказался таким же, как и в зрелом возрасте, если не тверже. По намекам и недомолвкам родителей я установил, что отец влюбился в машинистку редакции, где он работал, и теперь мучается, не зная, что делать. Мать, кажется, не собиралась его прощать, машинистке же было лестно, что за ней ухаживает начальник отдела молодежной газеты. Дело шло к развязке. Мама, как видно, надеялась, что анонимный звонок, благодаря которому она обо всем узнала, — злостная сплетня. Отец старался ее в этом убедить, он лгал и изворачивался так, что мне было стыдно за него, но в семье становилось все сумрачнее.
Моя старшая сестра ничего не замечала. Поразительная ненаблюдательность! Впрочем, она только что научилась складывать и вычитать и ужасно задавалась передо мною. Как-то за ужином она спросила:
— А сколько будет пять плюс три? Вот и не знаешь!
— Восемь, к твоему сведению, — сказал я.
— А трижды пять?
Она чуть не подавилась.
— Сколько же будет трижды пять? — заинтересовался папа.
— Пятнадцать, — пожал плечами я.
— А… четырежды пять?
— Двадцать.
— А семью… восемь! — округлив глаза, спросила мама.
— Пятьдесят шесть, — ответил я невозмутимо.
Последовала долгая пауза. Светка обеспокоенно переводила глаза с папы на маму. Отец взял меня за руку и увел из-за стола в комнату. Там он прогонял меня по всей таблице умножения.
— Откуда ты это знаешь? — спросил он наконец.
— На Светкиной тетрадке написано. Сзади, — сказал я.
Папа проверил. Действительно, на последней странице обложки Светкиной тетради была напечатана таблица умножения.
Папа хмыкнул.
— Слушай, может быть, ты вундеркинд? — спросил он.
— Вполне возможно, — ответил я.
Мы вернулись к столу. Конец ужина прошел в приподнятой обстановке. Родители поминутно проверяли таблицу умножения, подозревая какой-нибудь фокус, они смеялись и радовались. Светка на меня разозлилась.
Папа стал проявлять ко мне внимание. Выяснив, что я внезапно научился читать и считать, он подсунул мне шахматный учебник. Через четыре дня я обыграл папу в шахматы, поскольку и раньше, в прошлых жизнях, его обыгрывал, когда он появлялся дома. Папа переключил на меня все свои силы и, по-моему, стал забывать о своей машинистке. Но она его не забывала.
Однажды в воскресенье мы с папой отправились в зоопарк. Папа шел с гордым видом, как бы говоря встречным: «Мой сын — вундеркинд!» У входа в зоопарк нас поджидала красивая молодая женщина с пухлыми губами. Она чем-то напомнила мне мою жену Татьяну. Увидев ее, отец растерялся.
— Здравствуйте, Дмитрий Родионович, — сказала она надменно.
— Почему ты… Почему вы здесь? — спросил отец.
— Вы сами говорили, что в воскресенье пойдете с сыном в зоопарк. Вы же теперь у нас любящий отец, — проговорила она с большим подтекстом.
— Познакомься, Сережа. Это Людмила Петровна… — Отец засуетился.
Людмила Петровна, не глядя, сунула мне ладошку. Я ее не заинтересовал. Мы пошли в зимние помещения зоопарка и пробежались вдоль клеток. Отец нервничал, потому спешил. Людмила Петровна хранила молчание.
— Пойдемте посидим в мороженице, — сказал отец, когда мы вышли. При этом он заискивающе посмотрел на машинистку. Она равнодушно пожала плечами. Мне стало жаль отца. Я понял, что он по неопытности влип в эту историю и теперь не знает, как из нее выпутаться.
В мороженице мы с Людмилой Петровной сели за столик, а отец встал в очередь за мороженым. Глядя в упор на Людмилу Петровну, я холодно произнес:
— Людмила Петровна, разве вам не известно, что у отца семья? У него жена и двое детей. Как расценивать в этом случае ваше поведение?
— Как? Как ты сказал? — До нее не дошло.
— Как вы слышали, — продолжал я. — Не надо говорить мне про любовь. То, что происходит, не имеет к ней ни малейшего отношения. Вы пользуетесь служебным положением Дмитрия Родионовича. Наверняка он раньше отпускает вас с работы и делает вид, что не замечает, когда вы вместо редакционных рукописей перепечатываете гороскопы. Разве я не прав?
Людмила Петровна стала медленно сползать со стула.
— Я прошу вас оставить отца в покое. Иначе я приму меры, — строго закончил я.
— Ме… ты… при… что? — залепетала она.
Вернулся отец с мороженым и двумя чашечками кофе. Людмила Петровна, покрывшись пятнами, вскочила со стула и пулей вылетела из мороженицы.
— Что случилось? Что ты сказал тете? — ошеломленно спросил отец.
— Я сказал тете, что у нее вся спина белая! — закричал я своим звонким детским голоском.
Публика вокруг заулыбалась. Отец опустился на стул и выпил одну за другой обе чашечки кофе.
— А может, оно и к лучшему… — прошептал он.
Таким образом, мне удалось отшить Людмилу Петровну. Как я вскоре узнал, она уволилась из редакции. Но это был лишь первый шаг к восстановлению мира и любви в нашей семье. Я никогда не предполагал, какой это кропотливый и длительный процесс. Мне приходилось думать за двух взрослых людей сразу и еще за свою малолетнюю сестру. Но я отдался этому целиком. Тут важна каждая мелочь. О них так часто забывают в суете будней, думая, что сойдет и так. Но я уже знал по будущему опыту, что не сойдет. Я проводил тонкую воспитательную работу. Я понял, что мои родители, вступив в брак молодыми, не были подготовлены к серьезному душевному труду, каким является строительство семьи. Конечно, мне мешало то, что они принимали меня за малыша, а впрочем, в моем положении были и свои преимущества.
Мне можно было играть в непосредственность. Например, при виде красивой женщины в автобусе я невинно спрашивал папу:
— Правда, наша мама лучше?
Я говорил совершенно искренно. Отец соглашался, сначала неуверенно, но потом со все большим энтузиазмом. Или я предлагал:
— Давай купим маме игрушку!
— Лучше цветы, — говорил папа, а мне только того и нужно было. Мы покупали букетик астр или мимозы, когда наступила весна, и шли домой с чувством, будто сделали что-то хорошее. Мама постепенно оттаивала после истории с машинисткой. Поначалу ей казалось, что отец просто хочет загладить вину, но потом она поняла, что он не хитрит. Любовь нуждается в подтверждении со стороны. Отец находил подтверждение любви у меня — смешно сказать! — пятилетнего мальчика. Я не знаю, для кого он больше старался, — для мамы или для меня. Впрочем, это все равно. Мы были одной семьей, и любовь у нас была общая, как и должно быть в семье.
Воспитательная работа с мамой складывалась труднее. Необходимо было пользоваться более тонкими методами. Я не боялся сфальшивить, ибо делал это, повинуясь той же любви. Впервые за всю жизнь я стал ощущать тепло своих близких, потому что сам стал отдавать им его. Изо всех своих слабеньких сил я старался помогать маме. Я видел ее старой и немощной — там, впереди, потому мне было легко и просто. И я не уставал говорить ей о том, какой у меня умный, красивый и самый лучший на свете папа.
Родители стали жить так, будто боялись расплескать вазу с водой. В доме поселилась чуткая тишина, которая временами взрывалась нашим смехом. Нам стало интересно друг с другом. Перед сном мама и папа желали мне спокойной ночи, и я, лежа в темноте, долго слушал их голоса на кухне. Слов я не разбирал, слышал только интонацию. Так разговаривают внимательные друг к другу люди.
У меня было странное состояние: я чувствовал себя ангелом-хранителем нашей семьи и одновременно семья надежно охраняла меня от невзгод. В прошлом детстве я не испытывал такого чувства, я помню точно. И в то же время не покидало ощущение хрупкости этого счастья, его недолговечности. Я часто плакал по вечерам в темной комнате, зарывшись в подушку. Мне не хотелось становиться взрослым. Взрослым я уже был.
Вскоре я понял, что мама тоже испытывает ощущение хрупкости. Однажды вечером мы остались с нею вдвоем. Папа со Светкой отправились проведать деда в день Советской Армии и Флота, а у меня была ангина. Я лежал с горящими гландами, и мама поила меня чаем с малиной. Она отставила чашку и вдруг прижалась губами к моей пылающей щеке, крепко обняв. Я почувствовал, что мама дрожит.
— Что с тобой, мама? — спросил я.
— Я боюсь за тебя, боюсь… — повторяла она.
— Я скоро поправлюсь, вот увидишь..
— Я не о том, мой мальчик. Ты еще не можешь понять. Я боюсь за тебя вообще. Ты слишком добр.
— Разве можно быть слишком добрым? — спросил я.
— Вот именно, что нельзя. На свете много злого, ты еще узнаешь… Ты беззащитен, потому что добр.
— А разве доброта — это не лучшая защита?
Мама отодвинулась от меня и печально покачала головой:
— Откуда ты такой? Никогда не думала, что сын у меня будет вундеркиндом. Порой мне кажется, что ты все понимаешь…
— Это так и есть, — кивнул я.
— Сынок, не пугай меня. Ты стал каким-то маленьким старичком. Ну, покапризничай, что ли…
— Не бойся, мама, — сказал я. — Я не вундеркинд. Никаких вундеркиндов нет. Просто некоторые дети уже были взрослыми, а их называют вундеркиндами. Они были обыкновенными взрослыми и снова станут ими, когда вырастут.
— Какой сильный у тебя жар, — сказала мама, прикладывая ладонь к моему лбу. — Ты не бредишь, малыш?
— Бредю, — сказал я.
Я поневоле становился центром семьи. Даже Светка, поревновав немного, уверилась в моей гениальности и стала относиться с почтением. Как неотразимо действует гениальность, даже мнимая! Отец, питавший в юности честолюбивые надежды, давно понял, что он — обыкновенный человек не без способностей, которые позволят ему достойно пройти жизненный путь. Но не более. Теперь он переложил надежды на меня и стал одновременно готовить меня к званию чемпиона мира по шахматам, а также к карьере гениального музыканта и поэта. Однажды я написал на двух страничках краткий отчет о путешествии в 2000 год. Я старался писать ученическим почерком. Это было самое трудное. Отец понес листки в редакцию, там ему не поверили. Подумали, что он написал это сам. Отец расстроился, однако это еще более укрепило его в вере. Действительно, на первый взгляд, я проявлял необыкновенные, фантастические способности. А я был просто бывшим взрослым.
Никто вокруг не понимал, что самыми необыкновенными качествами для любого возраста всегда были и будут любовь, доброта, мудрость, а вовсе не умение извлекать звуки из скрипки, составлять фразы или передвигать деревянные фигуры.
Меня это огорчало, я старался не выделяться. Во всяком случае, решительно отказался от всех спецшкол, когда пришло время учиться. Я поступил в ту же школу, где учился когда-то сам и куда ходила моя дочь Даша. Там я снова познакомился со своими будущими друзьями — Максом, Мариной и Толиком. Они были еще совсем несмышлеными.
Огромных трудов стоило смирять свое честолюбие. Мне так легко было удивлять родных, учителей и сверстников, что это грозило превратиться в профессию. Однако я слишком хорошо знал, что плата за это в будущем — слишком высока. Природа не наделила меня особыми способностями, и по мере приближения к юности золотой запас гениальности непременно бы истаял, поскольку был лишь свалившимся с неба жизненным опытом. Я хорошо понимал, сколь велико будет разочарование близких и злорадство дальних, когда я не оправдаю надежды. Особенно волновал меня отец. Второго крушения надежд он не переживет. Необходимо было подготовить его к разочарованиям.
Подготовка к разочарованиям — непременное условие счастья. Мы так любим очаровываться собою и своим будущим, мы настолько необъективны в этом вопросе, что совершенно закономерные преграды, тупики и заминки воспринимаются как несправедливые удары судьбы. Мы слишком много хотим от жизни, забывая, что того же хотят все другие. Но у жизни ограниченный запас счастья. Не стоит стремиться к обладанию большим куском, достаточно уметь наслаждаться малым. Это так ясно становится, когда побродишь по закоулкам собственной судьбы, то и дело натыкаясь на несбывшиеся надежды и мнимые цели. Отец сказал мне:
— Сережа, ты совсем забросил шахматы. Почему?
— Мне неинтересно, — сказал я.
— Напрасно. В твои годы редко кто так играет. Ты мог бы стать гроссмейстером, когда вырастешь.
— Зачем? — спросил я.
— Чтобы стать потом чемпионом мира.
— Зачем? — спросил я.
— Чтобы быть первым в своей сфере деятельности. Чтобы тебя все знали, — сказал отец, понемногу раздражаясь.
— Зачем? — спросил я.
— Чтобы быть независимым! Ездить по свету! Чтобы тебя все любили! — закричал отец.
— А разве меня не любят? — спросил я.
— Кто? — опешил он.
— Ты. Мама. Светка.
— Любим, конечно… Но… этого мало.
— Мне хватит, — сказал я. — Только любите меня, как я вас. Этого хватит на всю жизнь. И еще останется.
— Нет, ты не будешь чемпионом мира, — пробормотал отец. — Ты будешь философом.
А я уже давно был философом. Каждый человек, проживший жизнь, непременно становится философом. Иначе грош ему цена.
Нет, я не претендовал на создание новых философских доктрин. Я говорю о философии в житейском смысле.
Когда спрашивают: «Как сделать так, чтобы мне было хорошо?» — это не философия, а эгоизм. Когда спрашивают: «Как сделать так, чтобы всем было хорошо?» — это тоже не философия, а альтруизм.
Философия начинается тогда, когда человек спрашивает себя: «Как примирить первое со вторым?» Ответ на этот вопрос есть, но я его еще не знаю.
Единственное, чем я с увлечением занимался в новом детстве, была музыка. Мне купили гитару, и я стал ходить в музыкальную школу. Точнее, меня туда водили за ручку — то папа, то мама, то сестра. Я не испытывал унижения. Таковы были условия игры.
К третьему классу я уже сносно играл на гитаре и пел песенки «Битлз» на английском языке, повергая родителей в смущение. В те годы эта музыка еще не была общепризнанной среди взрослых.
В обычной школе я старался быть как все. Но у меня не получалось быть как все. Когда я пытался убедить своих будущих друзей в необходимости жизненной философии, надо мною смеялись. Уроки мне было скучно готовить, потому я иногда не знал, что мы проходим, и по ошибке обнаруживал свои знания за более старшие классы, а это воспринималось как вызов и пижонство. Я изо всех сил старался смотреть на своих сверстников как на детей. Меня стали бить.
Толпа одноклассников, среди которых были и девочки, подстерегала меня в школьном дворе после уроков. Они набрасывались на меня и били портфелями, стараясь попасть по голове. Напрасно я взывал к их разуму — это обходилось мне в несколько лишних ударов.
Я не отвечал им и не жаловался. Это еще больше восстанавливало их против меня.
Жизнь стала довольно невыносимой.
На ноябрьские праздники — мне тогда было уже десять лет — в Неву, как всегда, вошли военные корабли, чтобы участвовать в параде. Дед, преподававший тогда в академии, пригласил нашу семью на прогулку. Мы помчались по Неве на военном катере, оставлявшем белопенный след. Командир по-военному приветствовал деда — он был его бывшим учеником и подчиненным.
Дед сам показал нам крейсер. Здесь все было железным — палуба, пушки, трубы. Наконец мы спустились в кают-компанию, где проходил шефский концерт. Перед моряками выступали пионеры из Дворца культуры имени Ленсовета.
Внезапно дед сказал:
— Сережа, сыграй и спой тоже. Сегодня праздник.
Я понял, что он, как и отец, ревниво следит за моими успехами. Мне подали гитару, ведущий объявил мою фамилию.
— Только не пой по-английски, я тебя прошу, — напутствовал меня дед.
Я оказался на сцене. На меня смотрели матросы в бескозырках. Что же им спеть? Я взял аккорд и начал:
«Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают…»
Мой неокрепший голос звенел, как струна, и гитара вторила ему мягкими переборами. Я видел, как отвернулся дед и запрыгал кадык на его жилистой шее, а у молодых матросов потемнели в печали лица. Именно там, на маленькой эстраде кают-компании, я понял, что песню поют не голосом и даже не сердцем, а всею прожитой жизнью. Моя жизнь была велика и изломана мною самим, потому голос звучал мучительно-искренно, волнуя души.
На «бис» я исполнил «Миллион алых роз». После концерта матросы окружили меня, наперебой прося списать слова. И я вспомнил, что песня эта еще не родилась, она появится позже, почему и вызвала такой интерес.
Растроганный дед повез нас на машине к себе домой, на торжественный обед. По дороге он спросил:
— А что это за песенка про розы, Сережа?
— Слышал где-то, — уклончиво ответил я.
— Наша лучше, — сказал дед, имея в виду «Темную ночь».
В дедовской гостиной, столь знакомой по разным пространствам, был накрыт обеденный стол. На стене висел портрет бабушки в молодости. Мы расселись за столом в чинном молчании, и дед поднял хрустальный бокал с вином.
— Сегодня мать была бы довольна нами, — сказал он, глядя на бабушкин портрет. — В нашем доме мир и покой. Светлая ей память!
И я вдруг представил себе великое множество пространств, в каждом из которых мы жили — в одних лучше, в других хуже, — я попытался вообразить себе этот день во всех вариантах и настроениях как росток будущей жизни в каждом пространстве, ибо любой день, и даже минута, является ростком будущего. Сейчас в нашей семье царили мир и покой, что не значит, что дальше все пойдет гладко, но эту минуту, этот день запомним мы все. В сущности, наше прошлое состоит из мгновений радости и печали, стыда, восторга, унижения, любви. Сейчас было мгновение любви, которое хотелось остановить.
Я выскользнул из-за стола, шепнув маме, что забыл вымыть руки. Но в ванную я не пошел. Я повернул в дедовский кабинет. Там все было как всегда. Этот кабинет, как и часы, был абсолютен, он не менялся в пространствах времени. Я приблизился к письменному столу. Часы лежали там же, рядом с чернильным прибором, придавленные канцелярской скрепкой. Я почувствовал волнение. Вот они, мои удивительные, соблазнительные, мучительные! Я соскучился по ним.
Я щелкнул пальцем по ободку, и часы вылетели из-под скрепки, проскользнули по зеленому сукну стола и полетели по комнате, параллельно полу. Я поймал их и нажал на кнопку замка. Крышка откинулась.
Мне безумно захотелось прыгнуть. Но куда? Зачем? Разве я не убедился уже, что кусочки судьбы не склеиваются в цельную жизнь, а ее надобно прожить без пропусков от начала до конца?
Но желание было сильнее. Я пристрастился летать в пространствах. Я стал пленником часов.
Как всегда, сознание услужливо подсунуло доводы. Целую кучу доводов. В семье установилось спокойствие, даже счастье. Мое постоянное присутствие больше не является необходимым, кроме того, его даже не заметят, ибо я оставляю в каждом пространстве своего двойника. Мне скучно и утомительно дожидаться со своими сверстниками, когда я стану совершеннолетним и дед снова подарит мне часы. Меня колотят в школе. Разве не довод? Я хочу снова стать взрослым!
И вдруг я вспомнил про Марину. Мысль обожгла меня. Как я мог забыть, что, пока я здесь устраиваю счастье семьи, а маленькая Марина поджидает меня с товарищами в школьном дворе, чтобы стукнуть портфелем, там, в будущем, буквально прозябает наша любовь, а потом и вовсе Марина становится женою Толика?!
Хоть разорвись, ей-богу! В каждом варианте какая-нибудь неувязка, или «хвост вытащишь — грива увязнет», как говорил мне много лет вперед один старик в Тюмени, когда я поведал ему о вариантах своей судьбы.
Тем не менее решено. Я лечу туда, к краеугольному камню, к тому валуну, на котором произошло объяснение с Мариной. Там многое определилось. Тот день в комсомольско-молодежном лагере я помнил по минутам, поэтому не составило труда перевести стрелки и, вздохнув, как перед прыжком с вышки, нырнуть в свое будущее.
Мы снова лежали на валуне. Я с удовлетворением рассмотрел свое юношеское тело — будто примерял новую одежду после старой, из которой вырос. С такими мускулами можно бороться за счастье. Лежавшая рядом Марина тоже была непохожа на голенастую девочку из третьего класса.
— Сегодня дискотека будет? — спросила она.
— Дискотека? — повторил я.
Мне дико было слышать это слово после метаний по времени.
— Ну да, дискотека, — сказала она.
— Будет, все будет, — сказал я.
Она повернулась ко мне. В ее взгляде я заметил любопытство.
— Ты какой-то не такой…
— Это правда, — кивнул я, разглядывая ее.
Я старался снова пережить то мгновенье, тот сладкий миг, когда останавливается дыхание и толчки сердца подступают к горлу. Но ничего не происходило. Передо мною была миленькая и глупенькая девочка, в которой только что, полчаса назад, пробудилось женское начало. Сейчас это начало спросонья смотрело на меня, изумляясь.
— А что там, внутри? — спросила она, дотрагиваясь пальчиком до часов, висящих у меня на шее.
Я молча откинул крышку и показал ей циферблат.
— Ого! — сказала она. — Откуда у тебя это?
— Дед подарил, — сказал я.
— Какие легкие, — удивилась она, беря часы в руку. Она наклонилась к моей груди, как тогда, и я почувствовал ее прерывистое жаркое дыхание. Она явно чего-то ждала от меня, продлевая эту паузу, а я смотрел на ее пылающую щеку и завиток волос рядом с ухом, не в силах не то чтобы поцеловать ее, а даже дотронуться. Бесконечная жалость охватила меня — жалость ко всей ее предстоящей жизни, к любовным страданиям, к мукам, с которыми она будет рожать детей; жалость к ее старости и далекой смерти.
— Пойдем? — спросил я, поднимаясь.
— Пойдем, — тряхнула она головой.
И все. И никакого леса, пахнущего дыней, никакой кукушки, обещающей нам годы счастья. Ничего этого не было в этом пространстве, потому что я знал и чувствовал слишком много для своих номинальных шестнадцати лет.
Клянусь, я любил ее по-прежнему, но между нами лежала пропасть моего опыта, которую было не перескочить. Чувство, испытанное мною, скорее было похоже на то, что я испытал в Тюмени, встретившись с Дашей.
И вот тут я окончательно понял, что первая любовь бывает один раз, сколько бы ни прыгать по пространствам.
Короче говоря, и здесь у меня не получилось стать эгоистом; я снова выбрал альтруизм. Всякий пошатавшийся по времени поневоле становится альтруистом.
Вечером была дискотека. Я танцевал с недоумением, неубедительно. Я уже не находил в этом никакого смысла. Медленные танцы мы танцевали с Мариной, причем я ощущал, что она в моей власти, что она ждет от меня действий. Но я оставался корректен и предупредителен, как старый аристократ, танцующий со своей шестнадцатилетней дочерью. Толик вертелся рядом, бросая на нас горячие взгляды.
— Мартын, я Максу скажу, что ты Маринку заклеил, — сказал он, улучив момент.
Я ударил его по лицу. Было гадкое чувство, что я, взрослый человек, бью сопливого щенка. С другой стороны, этот щенок был выше и сильнее меня. Завязалась драка.
Нас пробовали растащить, но Марина вдруг крикнула:
— Не надо! Отойдите от них.
Наши образовали ринг, следя за честностью поединка, а мы с Толиком остервенело бились в нем, как молодые петушки. Впрочем, я был старым петушком.
Я бил его за прошлое, когда он трусливо прятался в толпе, поджидавшей меня для расправы, и за будущее, когда он стал мужем Марины. Выяснилось, что убежденность и духовный опыт значат больше, чем грубая сила. Я побил Толика, к удивлению одноклассников.
— Ладно, Мартын! Еще посчитаемся! — прохрипел он, стирая с губы кровь.
Я не стал ему говорить, что он однажды уже посчитался со мною в будущем.
Марина спросила, врачуя мои раны после драки:
— Сережа, ты из-за меня дрался?
— Вот еще! Из-за Максима, — буркнул я.
Кажется, она разочаровалась.
А потом я потратил весь десятый класс, чтобы помирить их с Максом, снова подружить и поддерживать дружбу. Я выращивал их любовь с такой заботливостью, будто они и вправду были моими детьми. Впрочем, я старался и для себя. Я знал, что нам легче будет идти по жизни вместе и что мы никогда не предадим друг друга. А Толик? Мне было его не жалко.
И вот сегодня на календаре — июль 1985 года.
Марина с Максом готовятся поступать на филфак. Наверное, Макс на этот раз поступит. Толик идет в институт советской торговли. Светка уже давно родила племянника Никиту, теперь мне предстоит его воспитывать, потому что я один знаю, в кого он может превратиться. Да и о Петечке надо подумать, чтобы не погряз во всякого рода сомнительных делах.
Мать с отцом на этот раз живут хорошо и дружно. И самое главное, в этом варианте дед не умер, живет, пишет свои мемуары, которые я уже читал. Но что делать мне? Это вопрос вопросов.
У меня есть моя гитара и жизненный опыт всех вариантов, которого нет ни у кого. Чтобы спеть обо всем, что я знаю, не хватит всей новой жизни, которая дана мне теперь как бы в подарок, как добавочное время в футболе, когда в основное время результат не определился. Я перебираю струны, обозреваю варианты судьбы и всех своих двойников, находящихся в разных пространствах. Художнику должны открываться все горизонты жизни одновременно. Я хочу стать художником, хотя понимаю, что одного жизненного опыта, пускай даже причудливого, недостаточно. В сущности, человеку нужна всего одна жизнь, других не надо. Можно все успеть, если распорядиться ею разумно. Потому мне вряд ли снова понадобятся часы. У меня есть мысль — закончив эти записки, пустить часы из окна, с девятого этажа нашего дома, чтобы они плыли над Землей в далекие края и дальние страны, руководимые ветрами и бурями над планетой, пока не попадут в руки кому-нибудь, кто еще раз попытается найти с помощью них свое счастье.
Может быть, ему повезет больше.
Святослав Логинов ЗАКАТ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ
Вечер — время особое. Солнечный шар медленно наливается красной усталостью, от кипарисов и елей падают густые тени. Но словно не желая признавать близость ночи, все живое вскипает яростно и своевольно. По сухому песку стремительно проносятся ящерицы, необычно шустрые в это время суток, в ветвях розовеющих магнолий разноголосо вопит пернатое население, а там, где серый песок незаметно переходит в гниющее болото, начинают бурно готовиться к ночи рыбы и мокрокожие — гулкие шлепки, уханье и дробное кваканье разносятся в вечернем воздухе особенно далеко.
И в этот же час, перед тем, как погрузиться в ночное подобие смерти, свершается главное таинство жизни.
На пологой горушке у самого края болота сдвинулся, рассыпаясь, песок. Что-то зашевелилось там, отчаянно барахтаясь, стараясь выбраться из надоевшего плена к воздуху, багровому исчезающему свету, свободе. Родившееся существо еще облепляли кожистые пленки яйца, задние конечности вязли в глубине, но существо извивалось, размахивая миниатюрными ручками, билось… разлепило один золотистый глаз, впервые увидав мир, затем второй, и наконец выдралось наружу и неуклюже поползло по песку, волоча за собой смятую скорлупку, бывшую прежде его вселенной.
По всему пригорку, сухому, насквозь прогретому за день, творилось то же самое. Братья и сестры родившегося взрыхлили поверхность холма. Одни ползли куда-то, подчиняясь инстинкту, другие уже стояли на ногах, смешно раскачиваясь, не умея опереться на ненужный пока хвост. А из песка появлялись все новые, рвущиеся к жизни существа.
Родившийся подполз к воде, ткнулся носом в ее нечувствительную плоть. Вода понравилась, но откуда-то он знал, что в воду ему нельзя. Пока нельзя. Детеныш пополз вдоль воды и здесь, на мокром песке, наткнулся на улитку. Сама ли она выползла на берег, или ее оставила отошедшая вода, детеныша не заботило — он сразу понял, что надо делать. Он перевернул улитку, даже не успев удивиться, как ловко справились с работой пятипалые, с далеко отстоящим мизинцем, руки, и куснул мягкое тело. Улитка пыталась спрятаться в раковине, но детеныш мгновенно, словно всегда этим занимался, разгрыз раковину и принялся за еду.
Другой детеныш, точно такой же, мокрый, с налипшим на хвост и лапы песком, подобрался к найденной улитке. Первый недовольно забил ногами, отгоняя соперника, но неожиданно всем существом осознал, что новенький его брат, и почувствовал, как нестерпимо тому хочется добраться до улитки и попробовать, что это такое. Детеныш подвинулся, пропуская брата, вдвоем они живо разделались с остатками улитки, отползли от воды и растянулись на песке.
Солнце спустилось, быстро начало темнеть. Исчезающая красная полоса заката не грела, не грели и звезды, раскрывшие свои глаза. Песок остывал. Детеныш чувствовал, что начинает проваливаться в небытие, подобное тому, которое он испытывал, лежа в яйце. Он еще видел, слышал, осязал, но конечности и хвост не подчинялись ему. Детеныш лежал, тараща глаза в сгущающуюся темноту, не видя ничего, кроме звезд на небе. Но потом две звезды, красных и пристальных, оказались внизу. Они двигались, и их сопровождал легкий шорох и фырканье. Кто-то возился в темноте, постепенно приближаясь к детенышу. Вот он остановился совсем рядом, там, где лежал брат. Брат пискнул, потом детеныш услышал хруст, чавканье и понял, что «пришедший ночью» ест их также, как они ели улиток.
Глаза придвинулись вплотную, детеныш ощутил чужое дыхание и прикосновение волосков, ощупывающих его. Улитка могла хотя бы прятаться в хрупкую раковину, он же не мог ничего. Ночная прохлада сковала крошечное тельце и не давала пошевелиться.
Детеныша коснулся мокрый нос, но в это мгновение от болота, откуда прежде доносился лишь нескончаемый лягушачий концерт, прилетел низкий рокочущий рев, и кто-то двинулся к берегу, тяжело ступая и поднимая при движении волну. Ночной хищник замер, отпрыгнул в сторону — красные звезды описали дугу — и исчез.
Детеныш не испугался и не обрадовался. В его теле осталось слишком мало тепла. Он засыпал. И уже засыпая, всем существом почувствовал, как волной нарастает вокруг нечто могучее, не голос даже, а хор, говорящий сам с собой, сам себя спрашивающий и сам себе отвечающий. Но сил понять, что это, уже не было.
Утром солнце согрело песок и пробудило к жизни застывшего детеныша. Сперва он лежал неподвижно, лишь часто дышал, дергая тонким горлом, затем взорвался суматошными движениями. Рывком поднялся на ноги — впервые в жизни! — шагнул раза два, остановился. Перед ним валялся бесформенный серый клочок, а из него торчала крохотная рука с зажатыми в кулачок пальцами. То, что осталось от брата. Секунду детеныш стоял неподвижно, потом раскачиваясь, побежал дальше. Вечер был еще так не скоро, а внизу в просвеченной лучами теплой воде, ползали улитки.
Но вечер все же пришел. На багровую землю легли черные тени, солнце, коснувшись горизонта, погасло. Холодел воздух, остывал песок, и детеныша охватила вялая усталость. Беспокойство, овладевшее им при наступлении темноты, сменилось безразличием. Один страх тлел внутри: скоро придет сверкающий глазами, и на этот раз ничто не остановит его, — это была даже не мысль, а лишь обреченное представление.
Однако, ночной хищник медлил. Тьма сгустилась, от болота потянуло пахучей сыростью. Прохлада сковала тельце детеныша, но его брюшко было плотно набито едой — и это немного согревало его; так что сознание не ускользало окончательно, и когда вновь в бескрайних просторах, еще неведомых детенышу, родилась могучая музыка, сотканная из множества голосов, детеныш понял, что это не сон, это на самом деле кто-то говорит, радуется и негодует, удивляется и получает ответы, живет, не желая признавать смерти, приходящей после заката.
И детеныш присоединился к ночному хору, послав в пространство свое первое беспомощное «почему?». Он не ждал ответа, но ответ пришел.
— Спи, малыш, — сказали ему. — Ты еще мал, но ты вырастешь. Мы ждем тебя. А страшный с красными глазами больше не появится — мы не пустим его…
Ночь набирала силу, и успокоившийся детеныш подчинился приказу, уснул, свернувшись клубком в ямке, полной пустых скорлупок.
Третий день жизни был наполнен событиями. Детеныш испещрил следами весь берег, разузнал великое множество вещей. На дальнем склоне холма он нашел траву. Она оказалась вкусной, но слишком жесткой. Зато та трава, что росла в воде, понравилась ему необычайно. Кроме того, в воде плавали серебристые рыбешки и шустрые головастики. Детеныш хотел поймать одного головастики казались ужасно вкусными, — но тот скрылся в глубине, а детеныш, кинувшись следом, нахлебался от неожиданности воды. Потом он обнаружил, что умеет плавать, и снова погнался за головастиками. Другие детеныши тоже плавали и тоже гоняли головастиков, но неожиданно из глубины метнулась плоская тень — и у детеныша стало одним братом меньше.
Детеныш торопливо выбрался на берег. Ему казалось, что сейчас в темной воде мигнут два красных глаза, и на песок вылезет ночной страх.
Впрочем, через минуту детеныш успокоился и словно забыл о недавней трагедии. Он поймал стрекозу, но та ударила ему по глазам жесткими радужными крыльями, вырвалась и улетела. Детеныш побежал за ней следом, перевалил через горушку и здесь наткнулся на большую ящерицу. Ящерица была вдвое больше его, она раскорячилась на земле, не мигая рассматривала детеныша и медленно распахивала широкую пасть.
Хотя ящерица ничем не напоминала ночного убийцу, на секунду детенышем овладел ужас. Ящерица могла запросто заглотить его целиком. Детеныш сдавленно пискнул и издал громкую как крик мысль:
— Меня нельзя есть!.. Уходи!
Ящерица судорожно зевнула и побрела прочь, чертя по песку длинным хвостом. Детеныш понял, что большой зверь подчинился его крику, что он теперь может ходить за ящерицей и дергать ее за лапы, а она не тронет его. От сознания своей власти у него закружилась голова, он побежал вперед, не разбирая пути, быстро переставляя окрепшие ноги и подняв для равновесия хвост.
Остановился он, наткнувшись на живую гору. Это живое превосходило все, что встретилось ему за три дня. Но почему-то у детеныша не было страха, одно лишь любопытство. Детеныш подбежал ближе, и навстречу ему опустилась огромная ладонь, каждый палец которой был больше всего детеныша. Детеныш живо вскарабкался на эту ладонь, его подняло на неизмеримую высоту к золотистым озерам глаз. Детеныш ощутил снисходительную усмешку, доброту, легкое удивление, идущее от великана.
— Вот ты какой, — сказали ему. — Не уходи далеко, там ты пропадешь.
Тогда, слившись с этим огромным, детеныш сделал свое главное открытие — осознал себя.
— Это я! — закричал он, подпрыгивая. — Я! Я живой! Я ел траву и улиток, а меня никто не съел! Я могу бегать, я дрался со стрекозой, я приказал ящерице, и она послушалась. Это же я! Меня зовут Зау!
Проходили дни, Зау рос. Он привык не спать по ночам, а замерев, слушать беседу великанов, — это было огромным удовольствием, хотя он почти ничего не понимал. Самому говорить еще не хватало сил: задав вопрос, Зау почти сразу проваливался в небытие. Но все же Зау многому научился. Он узнал, что добрые великаны — это такие же существа, как и он сам, что когда он вырастет, он тоже станет огромным и сильным. Он выяснил, что зубастая рыба никогда не выплывает на мелководье. А потом увидел, как пришел взрослый и, взбаламутив воду и перетоптав половину улиток, поймал рыбу и съел ее на глазах у восхищенных братьев Зау.
Теперь стало безопасно плавать по всему болоту, можно было нырять, разгоняя ряску и путаясь в толстых стеблях кувшинок. Можно было доставать улиток с самой глубины, ловить мальков и головастиков.
Впрочем, улиток, головастиков и мелких рыбешек осталось гораздо меньше, чем вначале, и приходилось порой повозиться, чтобы раздобыть себе обед. К тому же, Зау подрос и ему уже не хватало обычных трех-четырех улиток. Все чаще малыши жаловались по ночам беседующим взрослым, что они голодны.
И вот однажды на берегу вновь появился взрослый великан и принес улитку. Такой огромной улитки никто из братьев Зау не видывал. Завернутая спиралью раковина казалась целым холмом, а длинные щупальца улитки свисали до земли, даже когда взрослый поднял улитку на вытянутых руках.
Зау вместе со всеми подбежал к расколотой раковине и стал есть упругое серое мясо. Давно он так не пировал. Но радость была омрачена неожиданным открытием. Он вдруг заметил, как мало осталось их на берегу. Некоторые, самые нетерпеливые, ушли в дальние заросли, где было много травы и мелкой живности, но где попадались звери, не понимавшие или не слушавшие приказов, поэтому оттуда почти никто не возвращался. Многие братья Зау уродились слабее остальных, а потом не сумели выправиться. Они чахли и умирали один за другим. Но самый большой урон нанес ночной страх.
Зау знал: того, кто приходит ночью, зовут молочником. Когда холод заставляет засыпать живущих, один лишь молочник не подчиняется ему и выходит на охоту. Еще дважды с момента рождения Зау молочник ухитрялся преодолеть ловушки, поставленные взрослыми, и устроить на берегу побоище.
К тому времени Зау настолько подрос, что мог, хоть и недолго, двигаться ночью. Правда, через несколько секунд непослушные конечности замирали, и Зау засыпал так крепко, что не слышал ночных разговоров, которые любил больше всего на свете. Поэтому запас энергии Зау берег, чтобы лежа в полной неподвижности, беседовать с маленькими и взрослыми, далекими и близкими братьями. Многого в разноголосом хоре он не понимал, многое забывал к утру, но приходила новая ночь, и Зау снова учился.
Однако, когда молочник пришел в четвертый раз, Зау, хотя мысли его были далеко, вскочил и побежал. Он не знал, что запаса дневной силы хватит ему лишь на десять шагов, а молочник видит в темноте и неутомим в беге. Просто крошечное тельце не желало быть съеденным, и Зау спасался. Сослепу он влетел в воду, а молочник, которому хватало добычи на берегу, не полез за ним.
Сидя по горло в воде, Зау обнаружил, что вода остывает гораздо медленнее песка. В теплой воде способность двигаться не покидала его, и Зау на ночь стал забираться в воду. Другие малыши последовали за ним, но потом случилась очень холодная ночь, вода на мелководье выстыла, и несколько братьев утонуло.
Такие холодные ночи почему-то стали повторяться все чаще. Зелень на берегу стояла скучная, не было молодых побегов. Выросли и пропали головастики. Если бы не помощь взрослых, в береговой колонии начался бы голод. Взрослые, беседуя между собой, называли случившееся бедствие «зимой». Самих взрослых зима не пугала, у них было что-то под названием «дом», в котором было тепло даже зимой. Взрослые строили дом из деревьев, и Зау тоже решил построить дом. Насобирал палок и воткнул их во влажный песок. Бегать между торчащими палками было очень интересно, но от ночного холода они не помогали.
Зима не нравилась всем. Ящерицы скрылись между камней, глупые мокрокожие зарылись в ил и не всплывали даже, чтобы глотнуть воздуха. Одни молочники любили зиму. Это было их время.
То, что молочник не один, что их много, потрясло Зау до глубины души. Когда ночью он услышал тяжелый удар, а потом резкий незнакомый визг, он не подумал о молочнике. Молочник ходит в тишине, лишь пофыркивание выдает его. Утром Зау побежал смотреть, что произошло за холмом, где стояли западни, настороженные взрослыми.
Застряв в узком проходе, оставленном в ограде, лежал незнакомый зверь. Он был невелик, лишь немного больше изрядно подросшего Зау, но вид зверя был чудовищно отвратителен: вытянутое тело покрывали какие-то нити, словно убитый успел прорасти небывалой травой или покрыться мерзкой черной плесенью. Хвост, слишком длинный и тонкий, чтобы помогать при ходьбе, тянулся нелепым червяком. В раскрытой пасти белели длинные тонкие зубы, а глаза, так страшно сверкавшие во тьме, теперь были почти неразличимы. Зау никогда не видел молочника, но сразу понял, что это он и есть. Только молочник мог быть столь беспредельно гадок. Длинные нити на кончике морды — ведь это они касались Зау в первую ночь его жизни! — обвисли, в ноздрях запеклась густая кровь. Молочник был мертв, раздавлен упавшим сверху толстым куском бревна.
Зау, охваченный неожиданной радостью, начал подпрыгивать, раскачиваясь и размахивая руками.
— Молочник умер! Большая деревяшка упала и убила молочника! Никто больше не придет ночью, никогда не раздастся шорох, красные глаза больше не засветятся! Молочник умер!..
Услышав мысли Зау, со всего берега сбежались остальные детеныши. Они смотрели, раскачивались на хвостах, подпрыгивали и пели:
— Умер молочник!..
Но потом пришел взрослый, веткой брезгливо отшвырнул раздавленный труп и начал приводить ловушку в порядок.
— Молочник умер! — закричал ему Зау. — Больше не надо бояться!
— Нет, малыш, — ответил взрослый. — Этот умер, но есть другие. Вам еще рано жить самим.
— Другие? — переспросил Зау. — Еще молочник?.. Много молочников?..
Это не умещалось в голове. Ужас может быть только один, и лишь один может быть молочник. И все же это была правда. Через несколько ночей молочник пришел и загрыз одного из братьев. А потом и этот молочник попал в капкан и был раздавлен. Зау смотрел, как взрослый вытаскивает убитого убийцу, и вдруг понял, что больше не может бояться.
— Когда придет молочник, — громко подумал он, — я возьму большую деревяшку и убью его. Я прямо сейчас возьму деревяшку, найду молочника и убью его.
Взрослый опустил на землю чурбан и сказал, не глядя на малышей, копошащихся у его ног:
— Эти молочники еще молодые, они недавно родились, у них мало опыта. Поэтому они так часто попадаются. Но если вы встретитесь со старым молочником, деревяшка не поможет.
— Он большой, как ты? — спросил кто-то.
— Он маленький, но вам лучше с ним не встречаться.
Зау понуро пошел к берегу.
Снова потянулась невеселая зимняя жизнь. Но все же Зау разыскал палку поувесистей и клал теперь ее рядом с собой, чтобы ударить молочника, когда тот придет за ним.
Через несколько дней пошел дождь. Такого дождя на памяти Зау еще не было. Струи воды впивались в землю, разбрызгивали песок, секли траву, сшибали с веток старые листья. Случись подобное полгода назад, когда Зау только родился, он был бы убит — с такой силой падала с неба вода. Зато сразу после дождя отовсюду полезла трава, деревья украсились свежими побегами. Зима кончилась. Не только днем стало тепло, но и после заката Зау мог долго бродить по берегу. Правда, он почти не видел в темноте, но и просто осознавать себя хозяином собственного тела было приятно. К тому же он мог теперь сколько угодно беседовать по ночам — и Зау непрерывно учился, узнавая тысячи новых вещей.
Почти ничего из того, о чем говорили взрослые, Зау не встречал, но образы, возникавшие в голове, были столь подробны, что Зау казалось, будто он знает все о мире, раскинувшимся за пределами болота и песчаного пляжика. Этот мир манил и отпугивал одновременно. Но Зау догадывался, что скоро желание видеть и делать пересилит страх.
С приходом весны молочник стал появляться реже, но Зау все равно таскал с собой палку и часто, воинственно взвизгивая, врубался с нею в камыши, круша их направо и налево и представляя, что вместо смирных растений перед ним злобный молочник. Однако, когда молочник пришел на самом деле, палка оказалась забытой.
Красные глаза просверлили темноту, обдав Зау волной ужаса. Но прежде чем молочник кинулся на него, Зау прыгнул сам. Он понимал, что бежать некуда, и на этот раз смерть не обойдет его стороной. Челюсти Зау, привыкшие дробить ракушки и перемалывать стебли, сомкнулись на холке не ожидавшего нападения хищника. Молочник издал скрежещущий визг, зубы его полоснули Зау по руке. Целой рукой Зау судорожно искал палку, но ее не было, а сила убывала, движения становились все слабее, медленнее. Острые как осколок раковины, резцы молочника вновь рванули по пальцам, но Зау не почувствовал боли. Расход энергии был слишком велик, Зау засыпал в самый неподходящий для этого момент. Он не чувствовал, как кривые когти дерут чешуйки на его животе, как извивается и верещит зажатый молочник. Последняя мысль, с которой Зау провалился в темноту, была: «Только бы не разжать зубы…»
Зау очнулся позже обычного, когда берег уже бурлил. Вокруг Зау толпились братья, а рядом на песке валялся задушенный молочник. Молочника подцепили на палку — она лежала совсем близко! — и потащили к границе участка. Зау поплелся следом. Искалеченная рука безвольно висела, мышцы были разорваны, два пальца словно сострижены начисто. Самое печальное, что молочник отгрыз мизинец, и Зау, глядя на болтающуюся руку, подумал, что больше он ничего не сможет ею схватить.
Пришел взрослый, забрал дохлого молочника, потом принес комок битума и помазал раны Зау. Услышав смятение в мыслях детеныша, сказал:
— Ты храбрый и сильный. А с рукой ничего страшного не случилось. Ты молодой, рука заживет. К осени вырастут новые пальцы.
Боли Зау почти не чувствовал, и хотя облепленная смолой рука мешала ему, вскоре он уже носился по песку вместе со всеми. Хотя беготня больше не приносила радости. Если прежде от кромки вода до зарослей, отгороженных заборами и рядами ловушек, Зау добирался больше получаса, то теперь покрывал это расстояние за пару минут. Днем проходы в ограде были открыты, но Зау лишь однажды, на третий день своей жизни, выбрался наружу, сам не заметив этого. Теперь он частенько околачивался возле зарослей, не смея углубиться в них, но и не имея сил отойти. Эта странная игра — ходить взад-вперед через ворота — отнимала у него все больше времени.
Другие подростки вовсю бегали в заросли, с каждым днем уходили все дальше и дальше. Возвращались возбужденные, обменивались впечатлениями. Некоторые не возвращались, и Зау не мог понять: погибли они или просто остались там жить, не захотев вернуться.
Сам Зау боялся уходить. Воспоминание о зубах молочника мучило его. Он понимал, что с одной рукой в лесу делать нечего. Сначала надо дождаться, чтобы выросли новые пальцы.
И вот, когда эти мысли окончательно определились, Зау решился и ушел. Кусты сомкнулись за его спиной, но он не остановился, не повернул назад, а продолжал идти, кося в разные стороны любопытными глазами, боясь и ожидая нового.
Кустарник сменился лесом, туи и тяжелые ели закрывали небо, лишь с полян можно было увидеть голубой простор, в котором на страшной высоте парил владыка воздуха — беззубый птеродонт. Вниз он спуститься не мог, каждый сучок опасно грозил его нежным крыльям, поэтому лес был отдан птицам. Эти смешные летуны перепархивали в дерева на дерево, наполняя воздух хриплыми криками.
Мрачный хвойный лес сменился светлым лиственным. Здесь было гораздо больше птиц, а внизу встречались не только безмозглые мокрокожие, но и настоящие звери: змеи, ящерицы, дикие двуногие зверушки, удивительно похожие на самого Зау, но бессмысленные и пугливые. Зау вначале решил, что это его пропавшие братья, и радостно кинулся к ним, но зверушки, услышав его мысли, в панике умчались. На бегу они громко щебетали и пересвистывались.
Двуногие очень понравились Зау, но догнать их он не смог. Тогда Зау спрятался в кустах, а когда двуногие вернулись, он приказал им стоять. Потом он попытался заставить их маршировать строем, но умения приказывать всем сразу у него на хватило, двуногие снова разбежались и больше уже не вернулись.
На полянах, заросших кустарником и высокой сочной травой, паслись другие звери. Они были столь колоссальны, что Зау на всякий случай, обходил поляны стороной, опасаясь, что его раздавят, не со зла, а просто не заметив.
А потом он наблюдал, как один из этих гигантов был повержен хищником, ворвавшимся на поляну. Хищник тоже передвигался на двух ногах, и Зау даже не стал прятаться, до того зверь был похож на взрослых его племени. Хотя настоящий взрослый едва достал бы ему до плеча, а руки пожирателя были такими же беспомощными, как у щебечущей мелкоты, да и безлобая голова оказалась лишь придатком к пасти. Зау, замерев следил, как чудовище раздирает сбитого великана на части. Но через несколько минут ошеломление прошло, Зау расслышал самодовольное ворчание, заменявшее хищнику мысли, и понял, что тот хоть и огромен, но глуп и не опасен. Из памяти эхом ночных уроков всплыло название зверя: тарбозавр. Зау подумал, что можно было бы отнять у тарбозавра добычу, приказав ему уйти, но не решился, догадываясь, что тот может и не разобрать приказа.
Зау развернулся и побежал через лес, громкой мыслью предупреждая всех, что идет пусть маленький, но настоящий хозяин. Ни зубастый тарбозавр, ни толстолапая эупаркерия не посмеют тронуть того, кто умеет говорить, а древним глухим хищникам не справиться с ним. Мокрокожий стегоцефал, что порой встречается на болотах, не сможет его проглотить, и широкоротая рыба уже не смотрит на Зау, как на добычу. Он вырос, он большой, никто не страшен ему.
«А молочник? — кольнула мысль, но Зау отогнал ее. — Сейчас день, молочник прячется в потайных норах, а если он вылезет оттуда, Зау снова задушит его.»
Впереди раздался громкий треск расщепляемой древесины. Зау кинулся на звук. Несколько неосмысленных гигантов, натужно упираясь, ломали деревья, другие — четвероногие, зацепляя бревна изогнутыми рогами, волокли их куда-то. Все это было абсолютно не нужно им, и в воздухе, казалось, висело удивление, излучаемое работниками. Но Зау прекрасно знал, что заставляет их трудиться. Где-то рядом находились его взрослые собратья, их приказы и выполняли большие, но неразумные звери.
Зау миновал взрытую изуродованную полосу, где проводилась ломка леса, и по краю широкой дороги поскакал смотреть, для чего нужно столько стволов.
Заросли кончились, Зау увидел окаймленный осокой песчаный пляж, поверхность воды, знакомо блестящую под лучами солнца. Но сходство этим и ограничивалось, потому что вместо небольшой болотистой лужи перед Зау расстилался огромный водный простор. Противоположного берега было не видно, ветер, разбежавшись над водой, вспенивал волны с крутыми гребешками.
По всему берегу шла работа. Рогатые монстры, распахивая песок, заталкивали стволы в воду. Там их поджидали взрослые братья Зау. Они отгоняли всплывшие бревна и что-то складывали из них в воде. Несколько пленных тарбозавров заколачивали в дно сваи. Зау восхитился, глядя, как лупят они безмозглыми башками по дереву, словно пытаясь нанести смертельный удар упавшей на землю жертве. А чтобы первый же удар не разбил тупую морду вдребезги, зубастая пасть каждого хищника защищена здоровенной дубовой нашлепкой. Зау взвизгнул от восторга, глядя на работу живых кувалд. Он не знал, что строится здесь, — дом или еще что-нибудь интересное, его просто переполняла радость и желание быть вместе со всеми.
— Я тоже хочу строить! — закричал он, бросившись вниз, к урезу вспененной грязной воды.
Ночь выдалась на редкость холодной, Зау влез в самую середину садка, где поднимающиеся снизу теплые струи не давали ему застыть. Рядом темным горбом выпирала из воды туша Хисса. За прошедшие два года Зау сильно вытянулся, но все же не доставал старшему товарищу и до пояса. Хисс был невероятно стар и огромен. Тело его, словно у мокрокожих было покрыто бородавками и наростами, тяжелые руки с годами стали неповоротливыми, будто лапы манжурозавра. Никто, даже сам Хисс не мог сказать, сколько времени он живет на свете. Иногда он упоминал зверей, которых никто уже не встречал, или говорил об эпохах, когда не было зимы, а молочники даже ночью боялись высунуться из нор. Но чаще Хисс молчал или тяжко перебирал в уме, что сделано за сегодняшний день и что предстоит сделать завтра.
Уже два года Зау работал вместе с Хиссом. Они обслуживали садки. После того, как строители вбивали в илистое дно лагуны сваи и укладывали бревна, наступал черед Хисса и Зау. Они заваливали дно мелким древесным мусором и травой, засеивали садок дрожжами и личинками белого червя, и вода в садке начинала бродить. По поверхности растекались масляные разводы, со дна поднимались пузыри. Жадные рыбы-воздухоглоты копошились на гниющем дне, их вылавливали сотнями, но они не убывали, пока весь сор и щепки не перегнивали и не ложились на дно плотным черным слоем. Тогда Хисс с помощником ремонтировал садок, вновь забивал его трухой и засеивал. А если стены садка приходили в полную негодность, начинал на этом месте строить новый.
Первое время Зау полагал, что все говорящие занимаются подобной работой, и удивлялся, зачем другие взрослые приезжают к ним за рыбой и жирными моллюсками в витых и двустворчатых раковинах. Неужели у них самих нет всего этого? Рыбы Зау было не жалко, ее вылавливали очень много, и Зау помогал укладывать живых вздрагивающих рыбин на повозки, запряженные меланхоличными горбатыми стиракозаврами.
Но потом он узнал, что говорящие занимаются множеством разных дел. Оказывается, рыбу увозили в поселок, где жило много говорящих. Зау тоже стал наведываться туда, чтобы походить среди настоящих домов (он уже знал, что это такое), полакомиться сладкими плодами, что выращивались вдоль реки, многоногой морской улиткой или куском мяса, отнятым охотниками у беспомощного в своей глупости хищника.
Хисс в поселок не ходил, в еде довольствовался рыбой, да иногда словно игуанодон объедал верхушки окрестных деревьев. Зау не знал, возраст ли причиной такому поведению, или просто когда-то все говорящие жили так.
Дома у Хисса не было, ночевал он в садке, погрузившись в воду по самую шею. Зау, еще не забывший обычаев детского пляжа, тоже залезал на ночь в воду. Вода в садке была теплой и вонючей, зимой над ней поднимался пар.
Молочников Зау больше не боялся, но ненавидел, как и прежде. Как-то, одно из этих существ, не дождавшись темноты, выбралось на пляж и, крадучись, направилось к раздавленным остаткам рыбы. Зау, ночью не видевший ничего, все же разглядел в сгущающихся сумерках юркую тень и удивился, каким маленьким оказался грозный некогда враг. Зау выскочил на сушу, чтобы растоптать отвратительную тварь, но молочник шмыгнул в сторону и мгновенно исчез — напрасно Зау метался по берегу. Потом, уже сидя в воде, он долго не мог успокоиться.
Утром Хисс подозвал Зау к небольшому обрывчику, где старые садки высушили берег, заставив воду отступить. Хисс поднял обломок бревна и мощным ударом обрушил бывший берег. Оказалось, что обрыв источен ходами: мелкие молочники брызнули в стороны. В этот день Зау не работал. Зато он расковырял весь берег, истребляя молочников: взрослых пытавшихся подпрыгнуть и вцепиться ему в живот, и детенышей, слепых, беспомощно сбившихся в норах. Зау мстил за год страха, за братьев, из которых почти никто не выжил. Утолить ненависть он не смог, а устав, понял, что так с молочниками не справиться.
Хисс к молочникам относился спокойно, говорил, что они всегда крали яйца и всегда убивали детенышей, так что ничего особенного в этом нет. Если бы детеныши не погибали в первый год жизни, то в мире просто не хватило бы места для разумных. Значит, и молочники тоже нужны. Зау слушал, соглашался, потом вспоминал леденящее ожидание гибели и — не соглашался.
И был еще один вызывающий недоумение вопрос. Дремучая мысль Хисса была, насколько воспринимал ее Зау, понятна ему, однако в ночном хоре Зау слышал голоса, обсуждавшие нечто невообразимое. Речь там шла не о садках и рыбе, а о вещах сложных и не имевших к повседневной жизни никакого отношения. Взрослых волновали тайны памяти, они спорили, что из чего состоит и во что переходит. Любой вопрос в их спорах разрастался, усложняясь, Зау терял нить рассуждений и словно в самом раннем детстве слушал ночной разговор как вдохновенную, но непонятную музыку, где лишь изредка мелькнет и западет в память знакомый звук.
Если ночью и поминались знакомые Зау садки, то говорилось о них с тревогой. Беспокоились, что все меньше остается мелких бухт, но главное, почему-то взрослых тревожило, что бревна старых садков пропадают под водой, заносятся илом. Все равно ведь старые бревна уже никуда не годились. Однажды Хисс выволок со дна такое бревно — оно было тяжелым и твердым, как камень: Зау лишь потерял время, пытаясь выпилить на нем пазы и снова пустить в дело.
Хисс в таких разговорах не участвовал, неясно даже, понимал ли он их. Он лишь порой одобрительно-иронически фыркал, а на вопросы Зау, о чем говорят дальние взрослые, пренебрежительно отмахивался:
— Маются. Хотят больше, чем могут.
Ненадолго этот ответ успокаивал Зау, но потом он снова вслушивался в песнь мысли, ожидая время, когда сможет не только задать вопрос, но и сказать сам — громко и сильно.
В холодные ночи Хисс порой засыпал словно новорожденный, хотя забродившая вода в садках всегда была теплой. Мысли Хисса прерывались, дыхание останавливалось, Хисс с головой уходил под воду и неподвижно лежал там. Лишь редкие удары его сердца доносились до Зау.
Начиналось утро. Зубастые птицы, разжиревшие на отбросах, орали в ветвях. Солнце начало пригревать, и Зау собрался на берег. Прежде всего он толкнул полузатонувшую тушу Хисса, чтобы старик очнулся от забытья. Но на этот раз Хисс не поднял иссеченную шрамами голову, даже не шелохнулся. И Зау вдруг осознал, что не слышит гулких ударов Хиссова сердца.
— Хисс! — закричал Зау.
Он нырнул в гнилую воду, обхватил руками тяжелую голову, поднял к свету.
— Хисс! — просил он. — Дыши, пожалуйста!
Хисс медленно открыл мутные глаза, затем снова закрыл их. Зау, хрипя от напряжения, пытался сдвинуть Хисса, подтащить его к берегу, но огромное тело оставалось неподвижным. А потом медленно из неслышимых глубин, нарастая и заглушая все, возник тяжелый вибрирующий звук, мрачное гудение, парализующее, лишающее сил и воли.
Зау, спотыкаясь, добрался до берега, упал на песок. Рев и гул, идущие от умирающего Хисса, захватили его целиком. Звук складывался не в слова, а в картины и ощущения. Зау не понимал, что творится с ним, он лежал, словно размазанный по гальке, и ему казалось, что его нигде нет. Был Хисс. Он, Зау, был Хиссом, древним, живущим несчетные тысячелетия, а вокруг бушевал невообразимо праздничный юный мир. Забытые звери и сгинувшие чащи окружали его, солнце палило в выцветшем небе, не знавшем зимы, прозрачные хвойные леса покрывали сухие плоскогорья. Казалось, ничто не может поколебать благополучия мира; говорящие жили повсюду: ловили рыбу, растили перистые пальмы с нежной сладкой сердцевиной, истребляли в сохнущих болотах последних гигантских мокрокожих, прожорливых и неумных. Ничто не могло угрожать разуму. Услышав звук мысли, двуногий горгозавр бежал прочь, судорожно дергая хвостом, изумленно замирала ненасытная челышевия, послушно сворачивал с пути упрямый моноклон.
Голос Хисса разносился на много дней пути, и никто вокруг, сколько хватало слуха, не занимался сейчас делами: говорящие стояли, где застал их звук, и, замерев, слушали прощальный рассказ старика, голос его памяти.
Так же, как и сегодня, из тысяч рожденных выживали единицы, но век их был долог, а умирая, они оставляли свою память. Теперь Хисс говорил от имени тех ушедших поколений, и нельзя было понять, идет ли счет на сотни тысяч или сотни миллионов лет. Двигались, сталкиваясь и расходясь континенты, истекали огнем горы, высыхали и рождались моря. Там, в забытой стране бродил, низко опустив тяжелую голову, хирозавр — зверь с ловкой пятипалой рукой, которая сделала его владыкой сущего. Это его потомки расселились по землям, вопль ужаса превратили в разумную речь, построили дома и рыбные садки, насадили рощи, подчинили всех живущих от безногой ящерицы до парящего в выси птеродонта.
Но что-то сдвинулось и сломалось в мире. Произошло это задолго до того, как новорожденный Хисс впервые замер в жуткой неподвижности, ожидая прихода молочника. Беда не торопилась, она накапливалась постепенно, не привлекая внимания мудрых говорящих. Ночи становились холоднее, но взрослые в теплых домах не замечали этого. Исчезали некогда процветавшие виды животных, но ведь большинство из них уничтожили сами говорящие, потому что неразумные соседи были не нужны или попросту мешали.
Немногие видели беду, но среди них оказался и Хисс. Он бросил дом, других говорящих и жил так, как жили его предки в те времена, когда они почти не отличались от бессловесных. Столетия Хисс молчал, слывя чудаком, и лишь теперь раскрывал перед другими свою боль и свое неумение предотвратить копящуюся угрозу. Его предостережение звучало мудро, но беспомощно.
Звук медленно замер. Зау шевельнулся, отыскивая свое крошечное «я» в том огромном, что растворило его. Потом вскочил и, вспенивая воду, кинулся к Хиссу. Но остановился, поняв, что Хиссу уже ничего не нужно.
Через час к садкам пришли все говорящие, что жили в поселке. Тело Хисса достали из воды, положили на высокий штабель из бревен, заготовленных для ремонта садков. Вспыхнул огонь, столб черного дыма поднялся к небу. Зау стоял, не принимая в происходящем никакого участия. Казалось, за первый год жизни он мог бы привыкнуть к смерти братьев, но Хисс был вечен, его голос еще звучал в голове, и там не оставалось места, чтобы понять, что всесильные взрослые тоже умирают.
Когда погребальный костер прогорел, собравшиеся двинулись обратно в поселок. Между собой они не говорили, в каждом слишком сильно звучал голос Хисса. Зау поспешил следом за уходящими. Он знал, что завтра в садках будут работать другие, знал, что и сам может остаться работать, и никто не прогонит его. Но гремело в голове завещание Хисса, и Зау спешил. Он хотел знать, что происходит. Он просто хотел знать, а здесь его больше ничто не удерживало.
Город можно было узнать издали. Собранные из камня и дерева дома окружали большие площади. На утоптанной множеством ног земле ничего не росло. Пустынен был и морской залив, на берегу которого раскинулся город.
В поселке, где бывал Зау, стояло всего два десятка домов, почти во всех жили разумные, и лишь в двух занимались работой: мастерили разные предметы из дерева и заготавливали впрок отнятое у хищников мясо.
В городе домов были многие сотни, но только половина из них оказалась жилой. В городе трудились, и даже сам воздух пах дымом, загнившей водой и еще чем-то резким и неживым. Этот запах пугал и притягивал одновременно. Звери в городе попадались редко и были словно придавлены непрерывной работой. Хотя в самом центре города оказалось несколько небольших озер, но мокрокожие здесь не встречались вовсе — вода была мертва.
А еще над городом разливалось монотонное басовитое гудение. Зау даже не сразу понял, что это не обычный звук, что гудит в мыслях. Ревело так мучительно, что даже собственные мысли Зау начали путаться, и он уже не понимал, зачем сюда пришел. Самое удивительное, что этот рев не был живым: в нем не было ни следа разума или чувства.
Понемногу Зау приспособился к шуму и начал различать мысли говорящих, хотя ничего не мог в них разобрать — шум был слишком силен.
«Как здесь можно жить? — недоумевал Зау. — Кто это сделал? Зачем?»
Выло со всех сторон, но Зау все же определил направление наиболее мощного рева и пошел туда. Он ничуть не удивился, оказавшись на самой грязной площади. Из ворот каменного здания лениво тек ядовитый ручей. Едкая жидкость, растекаясь лужами, жгла ноги. Это было не самое лучшее место в мире, но все же Зау вошел в ворота.
Он увидел ряды странных емкостей, похожих на крошечные рыбные садки. В них бурлили вонючие жидкости. Рев стоял невыносимый. Зау осторожно приблизился, наклонился над одной из емкостей. Для этого ему пришлось схватиться за блестящую полосу, идущую над садками. В это же мгновение жестокий удар сбил его с ног. Зау свалился на промасленный асфальтовый пол. Руку свело судорогой, обожженные пальцы не разгибались.
Казалось бы, удар должен был отбить у Зау охоту знакомиться с неприятным зданием, но именно в эту минуту Зау понял, что останется здесь. Он поднялся и побежал искать кого-нибудь, кто помог бы ему разобраться во всем.
Вскоре он встретил говорящего, который вытаскивал из бурого раствора сетку. В сетке бесформенными комами лежали какие-то предметы. Незнакомец промыл предметы в воде, несколькими ударами сбил с них корку, и Зау увидел блестящий металл. Теперь он знал, что тут делают! Топоры и гвозди, буравы и стальные скобы — все, что требовалось для работы в поселке, готовили здесь! Ради этого можно было простить вой и вонь, едкую землю и мертвую воду.
Зау подошел ближе.
— Я хочу помогать! — сказал он.
Ревущие медные полосы заглушили его голос, но все же незнакомец обернулся, смерил Зау недоброжелательным взглядом.
— Убирайся, я ничего тебе не дам! — прокричал он.
— Я хочу работать! — завопил Зау.
На этот раз взрослый расслышал. Он усмехнулся и рявкнул:
— Попробуй!
Зау с готовностью кинулся вперед и тут же получил еще один сокрушительный удар. Медная полоса над ваннами била беспощадно. Пока Зау поднимался, рабочий ушел в другой конец помещения. Зау, спотыкаясь, побежал следом. Он не понимал, почему незнакомец так безразличен к его боли, душу Зау заливала обида, но выше боли и обиды было желание самому научиться делать металл.
Взрослый повернул рычаг в каком-то ящике, встроенном в стену, в глубине ящика оглушительно треснули искры, и сразу наступила тишина.
— Наработался? — спросил взрослый, глядя на пошатывающегося Зау.
Лишь теперь Зау как следует разглядел странного собеседника. Несомненно, он был взрослым, хотя ростом превосходил Зау едва ли на палец. Вид у него был неважный: воспаленные глаза, нездоровое дыхание, изрытая оспинами кожа с редкими, неправильной формы чешуйками. Хвост он держал на весу, словно собирался бежать. Зау не сразу понял, что хвост «изрытого» покрыт язвами от едкой дряни, выплескивающейся из ванн.
Не дожидаясь ответа, взрослый повернулся и пошел прочь. Зау поспешил следом.
— Мне негде ночевать, — сказал он.
— Ну и что? — послышалось в ответ.
— И я хочу есть.
Вместо ответа «изрытый» остановился и ударил Зау в грудь.
— Не ходи за мной!
Зау покачнулся. Изрытый был слишком тщедушен, чтобы ударить сильно. С ног сбивал сам факт, что его ударил говорящий.
Ночь Зау провел на замусоренном городском берегу. Он не разбирал хора мыслей — мешало электрическое гудение невыключенных где-то машин. А ведь сегодня ему предстояло осмыслить самое невероятное: старший брат, такой же говорящий, как и Зау, не услышал его, не понял его боли, усталости и голода. Это было почти так же невозможно, как молочник.
Зау сполоснулся в нечистой воде залива, хотел было поискать на дне улиток, но раздумал — вода скверно пахла, по поверхности плыли нефтяные разводы; даже если здесь водятся улитки — есть их нельзя.
Сначала Зау хотел дождаться утреннего света и тепла и немедленно уйти из города. Но постепенно к нему вернулась решимость узнать о городе все. Утром, едва потеплело, Зау пришел на площадь. Изрытый появился чуть позже. Он шел, не глядя по сторонам, и поднял голову, лишь когда Зау преградил ему путь.
— Я хочу работать! — крикнул Зау. — И знать!
Изрытый оглядел напружинившегося, готового отпрыгнуть от удара Зау и проворчал:
— Ладно, одному все равно не справиться. Пошли…
За месяц Зау вполне освоился с новой работой. Он больше не боялся электрического тока, хотя истошный вой находящихся под напряжением проводов по-прежнему выводил его из себя. В памяти словно сами собой всплыли понятия, как под действием тока выделяется из раствора металл. Через месяц Зау управлялся с электролизными ваннами так ловко, что мог делать работу совершенно недоступную его туповатому учителю.
А вот жизнь в городе по-прежнему оставалась загадкой для Зау. Не менее странен был и Изрытый. Зау так и не узнал, как его зовут, а может быть, сам Изрытый не захотел выбрать себе имени. Порой Зау сомневался, говорящий ли его напарник. Старик Хисс тоже почти всегда молчал, но в нем угадывалась мощная работа интеллекта, которую Зау по малолетству не умел понять и лишь удивлялся тяжеловесной неповоротливости того, что долетало к нему. Изрытый не думал ни о чем. Дневной труд был ему неинтересен. Он любил много и вкусно поесть, но нажравшись, терял интерес и к еде. Задолго до наступления прохлады он замирал, затянув веками воспаленные глаза, и не думал ни о чем. Вместо мыслей он издавал негромкое жужжание, тягучее и монотонное, почти не модулированное по амплитуде, примитивное, как вой электролизера. Причем Изрытый был не один такой. Где-то в соседних домах начинали зудеть другие пустоголовые, и в этом подобии общения, ничего в себе не содержащем, Изрытый находил наркотическую сладость. Когда с приходом тьмы раздавались голоса подлинных говорящих, Изрытый находился уже в полном трансе и не слышал ничего.
Теперь Зау жил в доме, потому что ночевать в городе на улице было совершенно невозможно. Тем более опасно оказалось проводить ночь в воде залива, куда сбрасывались стоки мастерских. Несколько ночей Зау промаялся без приюта, а потом нашел дом. Говорящий, поселивший Зау в доме, объяснил, сколько он должен работать, чтобы иметь право здесь жить. В системе оплаты Зау разобрался довольно быстро, не понимал лишь, зачем она нужна вообще, но познакомившись поближе с Изрытым, понял и это. Если бы Изрытый мог получить кров и пищу даром, то он нигде бы не работал, лишь стоял бы под струями теплой воды, бегущей с потолка, и, закрыв глаза, гудел. Необходимость за все платить заставляла его работать. Та же система распределения была, оказывается в поселке, но Зау попросту не заметил ее, поскольку брал со складов много меньше, чем полагалось им с Хиссом.
Городской дом был великолепен. В нем была большая сухая комната и вторая, поменьше, где из труб под потолком лилась вода. В душе Зау проводил чуть не все свободное время. Днем и ночью, летом и зимой в доме было одинаково тепло. Деревенские дома согревались пузатыми газовыми реакторами, в которых бродили всякие отбросы. Реакторы грели слабо, и их приходилось то и дело чистить. Здесь тепло подавалось по трубам, и Зау не знал, откуда эти трубы идут.
С Изрытым Зау сработался, хотя старший товарищ по-прежнему был хмур и неприветлив. Изрытый предпочитал однообразную работу, он мог часами следить, как медленно вытягивается из ванны наращиваемая труба. Зау нравились хитрые многоконфигурационные детали, которые еще не сразу догадаешься, как делать, поэтому работу они делили мирно. Лишь иногда Изрытый, глядя на старания Зау, презрительно произносил:
— Университет!
Это слово было для него высшей степенью неодобрения и одновременно служило для обозначения всего ненужного и непонятного.
Через несколько месяцев работы Зау заметил, что его ноги и хвост начинают болеть. Обожженная разлитыми реактивами кожа трескалась, чешуйки на хвосте расслаивались. Тогда Зау заказал в столярной мастерской широкие деревянные решетки, которые было легко мыть. Ходить между ванн стало безопасно. Но Изрытый, увидав решетки, устроил Зау скандал.
— Что это за университет! — бесновался он. — Я и без них хорошо обходился!
— Но так удобнее… — возразил Зау.
— Удобнее должно быть дома! Я за твой университет работать не стану!
— А я, — сказал Зау, помолчав, — больше не буду отдавать тебе половину сделанного. Все равно ты уже давно ничему меня не учишь. Изрытый размахнулся и хотел ударить Зау, но тот отскочил, и Изрытый упал. С этого времени они больше не разговаривали и даже работу делили молча.
Так прошло два или три года — Зау точно не знал, зима в городе мало заметна. Зау вырос и сильно превосходил ростом Изрытого. Теперь Изрытый уже не пытался драться, а молча признавал превосходство бывшего ученика. В остальном их отношения не улучшились. Изрытый механически исполнял свои обязанности и при первой возможности уходил домой, запирался там, купался, жрал и жужжал. Он больше не восставал против нововведений, что время от времени изобретал Зау, но относился к ним с нескрываемой враждой, даже щипцы, которые Зау собственноручно смастерил, Изрытый не принял и продолжал лазать в ванну изъеденными кислотой руками.
Как-то Зау не выдержал и, нарушив привычное молчание, спросил, почему напарник работает именно здесь, а не отправился, например, в деревню или, как когда-то сам Зау, на рыбные садки. Сначала Изрытый хотел по обыкновению пройти молча, но взглянул на повзрослевшую фигуру Зау и ответил:
— А ты пробовал жить в деревне? Задарма грелки чистить, землю рыть. Здесь у меня дом — лучше не бывает. У меня все есть. Ты на садках хоть раз пробовал печень плезиозавра?
Зау пожал плечами. Печени плезиозавра он не пробовал. Не хотелось.
Единственная за три года беседа ясности в понимание города не прибавила. Зау продолжал жить один, перекидываясь несколькими словами лишь со служителями на складах, когда раз в неделю сдавал работу, получал новое задание и заодно набирал на неделю вперед продукты и немногие нужные вещи. Больше он не говорил ни с кем — заговаривать со встречными в городе было не принято. Если бы не ночной хор, Зау вообще мог бы разучиться говорить.
Провода, находящиеся под напряжением, своим воем мешали разговаривать, но возле домов, там, где жили разумные, их не было, и каждую ночь, когда в мире темнело, и ослепшие глаза могли различать лишь точки звезд и слабое пятно Луны, Зау, замерев от предвкушения счастья, посылал неведомым собеседникам привет.
Зау давно научился выделять в разговоре отдельные темы, узнавать голоса. В этих беседах тоже больше всего беспокоились о конкретных проблемах, но это были интересные проблемы. Зау и сам не раз спрашивал, как устроить то или иное новшество, и получал если не ответ, то дельные советы. Порой Зау отвечал на чужие вопросы, и это случалось все чаще. Но среди внешних разговоров звучали и иные речи. Говорили о глобальном: о смысле жизни, о тайнах мира.
Иногда голоса сами собой сливались в единый зов, и он был слышен на непредставимо огромном расстоянии. Тогда им отвечали другие говорящие. Они рассказывали о своих землях, находящихся за морем, куда никто не мог дойти. Эти земли были недостижимы, и ничто, кроме голоса иных говорящих, не долетало оттуда, но все же они были вместе, потому что когда слышишь голос брата, то значит, он рядом с тобой. В эти минуты Зау чудилось, что он вновь слышит рокот умирающего Хисса, и миллионы лет плывут перед ним. Хотя Зау понимал, что такое случается очень редко. От природы говорящие были долговечны, именно поэтому мало кто из них доживал до естественной смерти, когда разумный прощается с миром, но не оттого, что умирает, а потому, что перестает жить. Гораздо чаще живущего подстерегали несчастный случай или разрушительные болезни. Печальный пример Изрытого подтвердил это.
Изрытый с каждым месяцем чувствовал себя хуже, хотя и не придавал этому никакого значения. Он с трудом ходил, вяло работал, без радости жил в удобном доме, без удовольствия ел редкие фрукты или пресловутую печень. Ночами он, убаюканный собственным мычанием, младенчески засыпал, и хотя в доме всегда было тепло, лежал застыв и ничего не слышал. Жизнь проходила мимо него, но Изрытый этого не замечал. Постепенно и Зау привык не обращать на Изрытого внимания, стал относиться к нему как к бессловесной твари, которая покорно делает, что ей прикажут.
Теперь Зау был полным хозяином в мастерской. Он делал то, что хотел, и Изрытый не злился, что Зау тратит слишком много электричества. Теперь Зау раздражался, что Изрытый не способен понять, как сделать тот или иной диковинный предмет. Все реже в гальванических ваннах выращивались молотки, зубила или оси для тележек. Среди всевозможных заказов Зау выбирал самые сложные, радуясь, что создает части машин, о которых он лишь слышал по ночам. Иногда он делал деталь, не дожидаясь заявки, и сдавал ее в ту самую минуту, когда приходил заказ. Хотя случалось, что такая работа оказывалась зряшной, ибо никто не спешил заказывать любовно обдуманный и тщательно оговоренный предмет. Эти изделия Зау хранил некоторое время, стараясь угадать, чем они могли бы служить и отчего не потребовались изобретателю, а потом растворял их в ванне, пуская в переделку.
В тот день Зау привычно задержался после ухода Изрытого, чтобы без помех сообразить, как разместить в ванне громоздкие заготовки. Они казались зеркальным отражением друг друга, в ванне размещались удобно, и раствор равномерно обтекал их. А вот для растворяющегося анода места не было. Зау решил положить никелевую пластину на дно и не знал только, как лучше подвести к ней ток.
Зау возился с обесточенной линией, прикидывая так и этак, когда сзади раздался голос:
— Ты красиво думаешь.
В дверях стоял незнакомый говорящий, вернее — говорящая — в последнее время Зау начал обращать внимание на это прежде неважное различие. Польщенный похвалой Зау молчал, а незнакомка продолжала:
— Ты, должно быть, тот самый металлург, который умеет делать все, что угодно. У тебя сильный разум, и хотя я не интересуюсь металлургией, но твой голос различаю уже давно.
— Меня зовут Зау, — нашел что сказать смущенный металлург.
— А меня — Меза, — представилась незнакомка.
Зау был в растерянности. Впервые говорящий прямо признался при нем, что он тоже участвует в ночном хоре. До сих пор никто об этом с Зау не говорил, можно было лишь догадываться по богатой образной речи, что тот или иной говорящий не просто дребезжалка наподобие Изрытого, а подлинный Говорящий. И теперь Зау не знал, как себя вести, все это было настолько личным, что не поддавалось обсуждению.
Зау кивнул и натужно выдавил:
— Я могу быть чем-нибудь полезен?
Ответом был спутанный клубок мыслей.
— Да… То есть — нет… — и лишь потом Меза произнесла: — Вообще-то, мне нужны некоторые детали, но мне нечем платить. Металл дорог.
— Что именно надо сделать? — спросил Зау так решительно, что Меза против воли послала в ответ четкий, до осязаемого зримый образ. — Это же очень простая вещь, — сказал Зау. — Я делал этот предмет на той неделе, но заказа на него не поступило.
— Мы не давали заказа — нам нечем платить.
— Я сделаю все, что надо, без всякой платы, — сказал Зау, — только куда их потом отнести?
— Это далеко, на том конце города, за озерами, — произнесла Меза. — Я работаю в университете.
— Где?! — изумился Зау. — В университете?..
Большой, много крупней, чем обычные, молочник кружил по вольеру. Голый хвост волочился среди опилок. Время от времени тварь подбегала к стальной решетке и, приподнявшись на задние лапы, просовывала в отверстие покрытую бурым волосом морду.
Зау смотрел, и в нем медленно поднимался вопрос: «Зачем нужно плодить эту пакость, мастерить для нее клетку, кормить молочника, вместо того, чтобы убить его и постараться побыстрей забыть об отвратительном создании?»
Давно уже Зау не испытывал к молочникам никаких чувств, кроме брезгливости. Ушел в прошлое обреченный детский страх, погасла ненависть, когда-то заставлявшая ломать берег и гоняться за верещащей мелочью с обломком бревна. Теперь он был занят более важными делами, а осторожные молочники старались не показываться днем, так что Зау позабыл о них. Но при виде снующего по клетке паразита в руке, покалеченной в детстве зубами молочника, проснулась тягучая боль — выросшие, взамен оторванных, пальцы вспомнили о давней ране. Зау выронил принесенные решетки, которые, оказывается, он изготовил для молочников! — и сумев наконец объединить расстроенные мысли, задал вопрос:
— Для чего это здесь?
Меза появилась из-за стеллажей в дальнем конце помещения. Она послала приветствие, но почувствовав неладное, быстро подошла, спрашивая:
— Что случилось?
— Вот, — Зау показал на клетку с молочником.
С трудом разобравшись в сумятице мыслей, Меза ответила:
— Это и есть моя работа, точней, ее часть. В университете собрались те, кто знать х о ч е т с и л ь н е е, ч е м и м е т ь. Я изучаю животных. Всех. В том числе и молочников.
Это был довод. Зау на себе испытал тягучую муку бессилия, когда не мог найти ответа на вопрос, а хор говорящих не отвечал ему. Значит, для поиска ответов приходится заниматься и таким…
Зау наклонился, рассматривая мечущуюся гадину. Молочник, как и весь их род, был глух, он не слышал мыслей, не умел оценить ситуацию, но все же беспокойство ощутил, засновал по клетке, издавая время от времени дребезжащий писк. Волосины на кончике морды нервно шевелились. Зау передернуло от отвращения, он поспешно выпрямился и потребовал:
— Расскажи о них.
— Это странные существа, — сказала Меза, — нелепая боковая ветвь, тупик. Они произошли от древних мокрокожих и потому остались так неразвиты. Их внутреннее устройство еще дисгармоничней внешности. Они ушли из воды и не мечут икру, но без воды не способны прожить и нескольких суток, потому что сохранили примитивные лягушачьи почки. Шкура молочников не служит защитой от сильного солнца, поэтому они обычно прячутся днем. Это единственные животные, ведущие преимущественно ночной образ жизни. И здесь видно их родство с лягушками, ведь те тоже не засыпают, если вода теплая, и тоже имеют влажную кожу. Но из-за того, что по ночам, особенно зимой, холодно, молочники выработали у себя адскую способность. Их тело всегда сильно нагрето. На это уходит прорва энергии, из-за чего молочники вынуждены непрерывно и неустанно жрать. Пища им еще нужнее, чем вода, они воистину ненасытны. Зубы — единственное, что они развили у себя выше всякого представления. Вряд ли тебе приходилось когда-нибудь готовить такой набор инструментов, что каждый из них носит в своей челюсти. Если им дать волю, они сожрут весь мир.
— Среди говорящих тоже есть такие, — сказал Зау, вспомнив Изрытого.
В мыслях Мезы мелькнуло что-то сложное и противоречивое, не оформившееся в слова, так что Зау даже не смог понять, к чему относится этот всплеск. Казалось, Меза смотрит на чужую мысль сразу с нескольких сторон, одновременно соглашаясь и отвергая ее. Зау так не умел.
Меза распахнула двери, так что стал виден захламленный берег и черная поверхность одного из городских озер. Зау ждал, не понимая, зачем показывают ему эту давно знакомую картину. Молчание тянулось.
— Да, — наконец сказала Меза, — мы тоже способны сожрать мир, и делаем это довольно успешно. Город появился здесь потому, что на озерах могло кормиться много говорящих. Сегодня в озерной воде убита даже плесень, а мы травим залив. Так поступают не только пустоголовые, которые хотят поскорее заглотить свой кусок и отключиться, но и разумные говорящие тоже. Мы куда более непостижимые существа, чем молочники. Мы способны воспринимать боль и радость соседа как свои собственные, мы поднялись на вершину единства душ. Но мы спокойно смотрим на гибель ближнего, ведь из ста родившихся вряд ли один вырастет взрослым. Только разумные способны быть столь добры и жестоки, так предусмотрительны и беспечны, бесчувственны и сострадательны. Природа не создавала прежде и не создаст больше никогда существ, которые сравнились бы с нами в благородстве и мерзости одновременно. Возможно, это общее свойство разума, но каких бы иных разумных существ ни представить, мы все равно останемся непревзойденными и в дурном, и в хорошем. Наши мысли сливаются в единое целое, но в делах мы разобщены. Взгляни, каждый, даже думающий о вечном, делает лишь сиюминутные дела. От этого страдает Земля. Мы уничтожаем животных, перекраиваем растительный мир, пачкаем почву, воду и воздух. Скоро на Земле станет невозможно жить, а мы спокойны, словно чешуя покрывает не только наши тела, но и сердца…
Зау молча слушал. Это была знакомая нота беспокойства, всегда звучавшая в хоре, но впервые Зау слышал ее так ясно, и видел, кто произносит слова тревоги.
— …Мы с умиротворением и радостью, во имя дивной цели — облегчить жизнь говорящим, уничтожаем все, до чего можем дотянуться. А руки у нас длинные, достать мы можем далеко. Боюсь, что история разума закончится тем, что на Земле останутся одни молочники…
— Уж эти-то точно не выживут, — возразил Зау, — сожрут сами себя.
Вместо ответа Меза прошла между рядами клеток и террариумов, где копошилась всевозможная мелкая живность, и остановилась возле небольшого вольера, в котором на слое нечистых опилок лежал молочник. Рядом копошилось еще несколько вредителей, совсем крошечных. Молочник ткнул носом в одного из мелких. Зау ждал, что сейчас шкурка окрасится кровью, а затем послышится с детства до озноба знакомый хруст плоти, но все было мирно. Детеныш барахтался в опилках, а молочник вылизывал его, не торопясь вонзать зубы. Потом он перевернулся на спину, и мелкие все разом кинулись к нему. Они карабкались на голое розовое брюхо, тыркались беззубыми мордами, слизывая выступающую из бугорков на брюхе белую, похожую на гной слизь. Больше Зау не мог смотреть. Он чувствовал, что еще немного, и ему станет дурно.
— Они едят большого? — спросил он, отвернувшись.
— Не совсем. Тот сам кормит их. Это его детеныши, молочники не бросают своих детей, как мы, а заботятся о них, выкармливают своим телом, пока детеныши не подрастут. Вот почему они так живучи и неистребимы. Все иные животные угнетены нами и вымирают. Процветают одни молочники. Мало того, они меняются. Меня это тревожит. Посмотри, раньше таких крупных не встречалось. Ты знаешь, я иногда фантазирую, что было бы, если на Земле не стало говорящих. Древо жизни тогда уродливо искривилось бы, случайная боковая ветвь оттянула бы к себе жизненные соки, молочники несказанно размножились бы, подавив и уничтожив все остальные виды. Не сдерживаемые главной ветвью, они дали бы огромное разнообразие форм и лишь разума не смогли бы создать из-за своей глухоты, неумения сопереживать, слышать чувства других. Но и без разума им придется решать: что в них сильнее жадность, рожденная теплой кровью и требующая сожрать все, или удивительное стремление сохранить и накормить другого. Тогда мне начинает казаться, что прекрасные говорящие и безмозглые молочники, живущие в норах, очень похожи.
— Не надо, — попросил Зау. — Я не хочу себе этого представлять.
После похода в университет Зау решил начать реконструкцию мастерской. Кислота и ядовитые растворы солей из ванн стекали по дренажной системе в залив. Зау решил уменьшить количество стоков, а остатки отвести в мертвые озера посреди города, полагая, что там они принесут меньше вреда. Для этого требовались насосы и трубы. Зау мог бы изготовить их сам, если бы на дело годился металл. Но Зау лучше всех понимал, как быстро будет съедено железо, а тем более хром или никель, жгучими электролизными растворами. Приходилось искать другие материалы, для чего надо было часто покидать мастерскую. Вот только оставить ее было не на кого — Изрытый слег.
Он не появлялся на работе пятый день подряд, и Зау, потеряв терпение, отправился к нему домой. Издали он услышал самозабвенное жужжание Изрытый предавался зуду. Зау попытался разбудить напарника, он звал его, расталкивал, но все было напрасно. Изрытый глаз не открывал, конечности его были расслаблены, и лишь иногда коротко дергались. Язвы, тут и там изъевшие кожу, нагноились, чего прежде не было.
Зау забеспокоился, подумав, что Изрытый может умереть, но тут же постарался отогнать эту мысль. Ведь Изрытый молод, ему не исполнилось и ста лет, даже рисунок на чешуйках, где они целы, не стерся.
Зау отнес тщедушное тело во влажную комнату, промыл под душем язвы, потом стал искать какие-нибудь лекарства. Изрытый лежал неподвижно, его зудение наполняло дом.
Лекарств Зау не нашел. Не было даже ароматической смолы, чтобы покрыть раны. Нашлись протухшие остатки еды, заплесневелый настой дурманящего корня, увядшие листья табака. Не слишком много удовольствий получал Изрытый от своего большого заработка.
Жужжание усиливалось. По распростертому телу волнами пробегала дрожь. Зау понял, что Изрытый действительно умирает. Бессмысленное гудение единственная радость пустоголовых — захватило весь мозг, блокировало жизненно важные центры. Изрытый не только не мыслил, он не дышал, не билось сердце, остановились зрачки, а истощенное тело не могло заставить мозг вернуться к жизни. Звук оборвался неестественным взвизгом. И хотя у Изрытого еще вздрагивало сморщенное брюхо, подергивался хвост, Зау видел, что все кончено. Он вышел из дома, прикрыв дверь. Надо было позаботиться о погребальном костре.
Тело Изрытого вывезли за город и сожгли. Двое пустоголовых, занимавшихся этим делом, не могли понять, зачем Зау увязался за ними и помогает им. Ведь они предупредили, что работа эта случайная, они справятся сами и заработком делиться не станут.
Домой Зау вернулся не сразу. Сначала он пошел прочь от города, вверх по встретившейся реке. Шел и думал, пытаясь понять, зачем жил Изрытый, что собой представлял. Не было ответа ни на один из этих вопросов. Не жил Изрытый, а тянулся через годы, старательно убивая себя. И никем не был, даже имени себе не нашел. Был он функцией от еды, функцией от работы. Плохо, когда ты не существуешь и обозначаешься всего лишь функциональным прилагательным: «ученый», «рабочий», а не… — Зау запнулся и произнес еще одно прилагательное: «Говорящий».
Струи реки переливались под солнцем. В чистом негородском воздухе гудели жуки, тритон опускался на дно, мигая оранжевым пятном брюшка. Голенастые фламинго стояли на мелководье, выискивая добычу прямыми розовыми клювами, а потом, вспенивая концами крыльев воду, летели прочь, спасаясь от подползающего тонкомордого крокодила. Природа жила ради самой жизни, безразличен ей был разум, блестящие знания, мудрые откровения ночного бытия… Но когда говорящие н а ч и н а л и д е л а т ь, то дела эти больно ранили природу.
Зау почувствовал, что не хочет возвращаться в нечистый город; настоящим счастьем было бы поселиться здесь, и жаль только, что Меза не видит всего этого.
Зау развернулся и поспешил обратно к городу.
Меза, как обычно была в лаборатории. Она вообще старалась как можно меньше времени тратить на самое себя и предпочитала сидеть голодной, чем зарабатывать на жизнь. На университет средства выделялись скупо, так что большинство говорящих, которые вели там исследования, работали где-нибудь еще.
Меза промывала в большой кювете икру какого-то редкого мокрокожего. Сквозь полупрозрачную оболочку были видны черные запятые свернувшихся зародышей.
Зау подошел, положил руку Мезе на затылок. Он не знал, что говорить, но даже неформулированные его чувства звучали громче слов. Меза замерла, и целую вечность они стояли неподвижно. Слова были не нужны, но все же прозвучали и они. Меза вздохнула и произнесла:
— Не надо.
Зау показалось, что он ослышался. Он же знал, видел, как Меза всем существом говорит «да», но то, что она произносила, опровергало очевидное.
— Не надо, — повторила Меза и, почувствовав, что сейчас Зау заговорит обиженно и недоумевающе, поспешила добавить: — Не сердись, я не хочу тебя оскорблять, ты хороший. Если бы эти отношения были для меня приемлемы, я не хотела бы никого, кроме тебя. Но это невозможно. Ты еще совсем молод, ты не понимаешь, зов тела кажется тебе прекрасным, а на самом деле мы ничем не отличаемся вот от них, — Меза встряхнула кювету с икрой. — Липкий стегоцефал выльет из брюха икру, а через день, забыв обо всем, сам же ее пожирает. Я так не могу, прекрасное должно быть долгим.
— Ты считаешь, что лучше быть, как молочники? — ошеломленно спросил Зау.
Меза запнулась, а потом, словно бросаясь с обрыва, произнесла:
— Да. У них лучше.
Через два дня Зау женился. Произошло это просто и буднично. Зау высмотрел себе жену на улице, подошел, сказал:
— Ты мне нравишься, — и дальше они пошли вместе.
Какой-то пустоголовый пытался остановить их, твердя, что он подошел раньше, но Зау лишь взглянул на него коротко, и тот проворно отпрыгнул, ожидая удара. И в эту минуту Зау действительно мог ударить. Это потом он со стыдом думал, что был, должно быть, похож на Изрытого.
Зау привел подругу на берег реки, где дышали спорами шапки плаунов и изгибал тонкую шею маленький пресноводный плезиозавр. Там они провели неделю. А потом Зау так же внезапно остыл. Подруга, имени которой он не удосужился узнать, стала ему совершенно безразлична, и он сразу заметил, что вода в реке не так уж и чиста — рудники в верховьях спускают в нее какую-то дрянь, а за узкой полосой леса курятся залитые черной жижей поля, и тянется лента дороги, по которой доставляют от далекой вулканической гряды пахучий порошок серы и бочки с кислотой для его электролизных ванн.
Сезон любви кончился.
Зау знал, что пройдет чуть меньше месяца, в теле его случайной знакомой созреют яйца, тогда она закопает их в песок одного из детских пляжей, и для нее тоже все кончится.
Зау вернулся в город. В университет он больше не ходил и делал лишь ту работу, на которую приходили заказы. Не начал он и переброску стоков от залива к радужным озерам. Все равно, одна мастерская ничего не меняла. А если во время бдений речь заходила об угрозе животным и растениям, об изменении условий, Зау отмалчивался, стараясь не откликаться на этот разговор.
Ежегодно весной Зау без труда находил себе новую подругу, а через неделю-полторы так же легко забывал ее. И его не тревожило, что так мало приходит в город молодых говорящих, и не волновало, есть ли среди них те, кто обязан своим существованием ему. То есть, порой Зау задумывался об этом, но немедленно вспоминалось оскорбительное сравнение Мезы, и Зау гнал из головы ненужные и вдвойне неприятные размышления.
Среди заказов Зау по-прежнему старался выбрать самые неординарные, требовавшие сообразительности и ловкости в работе. Особенно его привлекали задачи, связанные с изменением структуры металла. В зависимости от примесей и условий изготовления, одна и та же стальная пластинка могла быть покорно-гибкой или до звона упругой. Постепенно Зау вновь начал делать недоговорные работы, но теперь уже только для самого себя: не считаясь с расходом энергии, наращивал различные образцы, калил их в оглушительно визжащей муфельной печи, которую сам и сконструировал. Зау понимал, что то, чем он занимается, — тоже «университет», но бросать любимого дела не хотел, он лишь не произносил слова, которое однажды и надолго стало ему отвратительным.
Постепенно удивительные возможности металлов обрели известность среди говорящих, и, наконец, пришел первый заказ изготовить пружину. Описание заказа было составлено так, что Зау не понял точно, что именно нужно изготовить. В ближайшую ночь он пытался обговорить подробности, но на его вопрос никто не откликнулся. Зато на следующий день заказчик пришел сам.
Пальн, так его звали, был невысоким говорящим со странно замедленными осторожными движениями и необычайно тихим голосом. Неудивительно, что Зау ночью не расслышал его. Однако разум у Пальна оказался гибок и быстр, так что понять, что именно следует сделать, не составило труда. Но самое странное, что этот, второй за все годы предмет, заказанный не через склады, и лично, тоже был связан с молочниками! Только пружина, в отличие от клетки, должна была не сберегать, а убивать, так что Зау мастерил детали капкана с удовольствием, а потом вызвался сам установить звонко щелкающий механизм.
На рассвете шепотун Пальн зашел за ним. Зау взял не один, а четыре изготовленных капканчика и отправился вслед за проводником. Они вышли из города и двинулись вдоль берега залива, мимо рыбацких поселков, прочно связавшихся в памяти Зау с именем Хисса.
Теперь Зау и сам видел, как уступами отходит теснимое садками море, и как отступает истребляемый говорящими лес. Исчезли жавшиеся к воде последние кордаиты и легкоперистые гинковые — их было слишком легко ломать, и реликтовые посланцы древних лесов покорно исчезли с лица Земли.
Зау остановился, тряхнул головой, отгоняя наваждение. Это же было не с ним… Кордаитовые чащи помнил Хисс, а при Зау оголилась прибрежная дюна, началась ломка леса в болотистой низине за ней, и в воды бухты легли стволы темной туи и призывно пахнущей магнолии. Знакомые места, которые он никогда не вспоминал, но оказывается, никогда и не забывал.
Пальн свернул на дорогу, пропаханную хлыстами поваленных деревьев, потом двинулся напролом через кусты терновника, разросшиеся на месте бывших лесосек. Зау ломился следом. Через полчаса перед ними открылось небольшое, затянутое ряской болотце и пологий песчаный склон, огороженный забором, едва доходящим Зау до пояса. Они пришли к цели, преодолев за полдня путь, на который когда-то Зау потребовалось три года жизни.
— Тише! — предупредил Пальн. — Здесь нельзя громко. Оглушишь малышей.
Весь его мир, когда-то казавшийся бескрайним, лежал перед ним, и всего-то в нем было с десяток шагов. Но этот мир, как и прежде, был населен. Миниатюрные существа, крошечные копии самого Зау скакали по песку, бултыхались в воде, разгрызали витые ракушки прудовиков — какими огромными казались когда-то эти улитки, какими маленькими представлялись теперь! Сознание Зау наполнилось тонкими криками, визгом, звонкими восклицаниями бессмысленной радости. Перед ним, невообразимо уменьшившееся — лежало его детство.
— Им три дня, — прошелестел Пальн.
Один из детенышей, покинувший общую кучу, давно и целеустремленно штурмовал осыпающуюся песком горку. Вот он выбрался наверх и поскакал, размахивая хвостиком. Проход в заборе он миновал, похоже, даже не заметив его, и остановился лишь когда уткнулся в ногу Зау. Зау наклонился, подставил ладонь, малыш без тени сомнения вспрыгнул на нее, такую большую, что там могло бы разместиться десяток таких, как он. Зау поднес ладонь к лицу, разглядывая и узнавая себя самого.
— Это я! — кричал малыш, подпрыгивая. — Меня зовут Тари! Я живой! Ночью приходил страшный с красными глазами, но я зарылся в скорлупки, и он не нашел меня! Я тоже вырасту большим. Я буду!..
— Беги, Тари, — прошептал Зау, боясь, что голос его чересчур громок. — Ты обязательно вырастешь, но пока не выходи за ограду. Здесь для тебя слишком опасно.
Детеныш умчался, щебеча что-то. Зау смотрел ему вслед, стараясь ни о чем не думать, а потом пошел настораживать ловушки, чтобы «страшный с красными глазами» не пришел за маленьким Тари.
Но вместо молочника пришел другой «страшный». Вечером за холмами появилось багровое зарево. Там у нефтяных озер располагались мастерские, в которых варили асфальт и готовили пластмассы. От завода тянуло гарью и тошнотворно-сладким запахом растворителей. И вот там случилась авария, несколько мастерских сгорело. Клубы непроницаемого дыма окутали берег, дым рвал горло, разъедал глаза. Зау почел за благо не дышать, пока не выбрался из отравленной зоны, хотя и знал, что будет расплачиваться за это неделями головной боли. Детеныши остались в дыму, сами они выйти не могли, найти их в темноте полуослепший Зау не сумел.
Когда дым рассеялся, Зау вместе с Пальном вернулся к детской площадке. Берег был усеян комочками свернувшихся детенышей. Где-то среди них лежал и трупик крошечного Тари, который уже никогда не будет.
Через день Зау возвратился в город. Он шагал по захламленному берегу, топча взбитые прибоем серые шапки пены, смотрел на промасленную убитую землю, на отравленную зелень, местами еще вылезавшую из изуродованной почвы, и пытался представить себе: где здесь были рыбные тони, где выращивали рис или низкие пальмы с мучнистой сердцевиной, а главное, где могли лежать детские площадки, искрящиеся первыми звонкими словами, давно отзвучавшими, площадки, залитые сегодня мазутом и кислотой, среди которых новорожденный не прожил бы и четверти часа.
Несколько недель Зау не выходил из мастерской, готовя детали ловушек и всевозможный инструмент, который мог потребоваться ему в дальнейшем, а потом собрался и ушел к опустевшему болоту. Он понимал, что новая работа будет далеко не так интересна, как прежняя, знал, что будет обречен на многомесячное молчание и сможет лишь слушать других. И все же Зау не колебался, делая выбор, поскольку видел, что самые остроумные железки теряют смысл, если окажется, что с ними некому возиться.
Молчальник Пальн без лишних слов принял его помощь, показал изнанку знакомого с детства нехитрого хозяйства площадки. Главным в работе оказалась тишина — близкий голос портил слух детей и мешал слушать общий хор, из которого детеныши сами выбирали нужные сведения. Даже шептать без особой надобности Пальн не советовал. Жить Пальн предложил вместе с собой в примитивном деревенском доме, без душа и с отоплением в виде пузатого, булькающего самовара дрожжевой грелки, необходимость чистить которую так пугала Изрытого. А через несколько лет Пальн так же просто оставил дом Зау, а сам ушел на другую площадку, где не осталось почему-то ни одного воспитателя.
Каждый год по весне, когда у других начинался сезон любви, Зау, ворча про себя (единственное время, когда он мог себе это позволить!), здоровенными граблями прочищал дно болотца, которое без этого давно бы заросло, и засеивал мелководье микроскопической икрой улиток и зернистыми комьями лягушачьей икры. Потом, поглядывая на припекающее солнце, сгребал в кучи песок и начинал ждать рожениц. Те приходили, не глядя ни на кого, разрывали ямки, быстро оставляли кладки, присыпали яйца разогревшимся на солнце песком и уходили с сознанием выполненного долга. Зау с ними не разговаривал, и они не обращали внимания на него.
Когда на жарком склоне не оставалось мест, Зау перегораживал вход на площадку и отправлял всех дальше, за город, где в нескольких часах пути на краю больших болот были оборудованы еще две площадки. Иногда роженицы спрашивали, нельзя ли найти на площадке дополнительное место, тогда Зау молча отказывал им. Конечно, песчаных куч можно было нарыть сколько угодно, но тогда слишком много малышей погибло бы в перенаселенном детском саду.
Однажды среди опоздавших Зау увидел Мезу. Видно, и в ней голос крови взял верх над рассудком. Меза, услышав, что Зау узнал и вспомнил ее, заколебалась, но все же подошла и спросила о лишнем месте, хотя заставленные ворота говорили яснее слов.
— Я не могу идти к болотам, — сказала она. — В лаборатории не осталось никого, животные за это время погибнут.
Зау отвернулся. Он хотел сказать, что у него погибнут разумные, напомнить, как сама Меза твердила о необходимости заботиться прежде всего о своих детях, вспомнились и молочники, поставленные ему в пример, и думы о бессмысленности самой жизни, если она кончится вместе с тобой… Все это пропиталось давней, но неугасшей обидой и сплелось в такой клубок горечи, что когда Зау повернулся, чтобы коротко ответить: «Нет», — Меза уже уходила, вздрагивая, словно ее стегал источающий вопль оголенный электрический провод.
Две недели после появления яиц Зау жил спокойно, следил лишь, чтобы не добрались до песчаного инкубатора прожорливые ночные воры. А потом начиналась суматоха. За несколько часов теплый берег покрывался сотнями маленьких, неистово галдящих фигурок. Углядеть за всеми детенышами не было никакой возможности — они лезли в воду, срывались с забора, убегали и не возвращались. Многие болели, а бывало, что из целой кладки так и не появлялось ни одного живого…
К осени на площадке оставалось лишь несколько десятков воспитанников. Их Зау различал по голосам, заботился о них, подкармливал в голодный сезон, снисходительно, вполголоса беседовал с ними и вообще относился к ним, как к состоявшимся говорящим, хотя и понимал, что первую зиму переживет меньше половины детей.
Временами эта селекция, отбор на выживаемость, казалась Зау жестокой, но тогда он вспоминал краткие наставления Пальна: разум родился в борьбе за выживание, и каждый разумный обязан повторить этот путь. Если слишком заботиться о новорожденных, они вырастут слабыми и среди них не окажется ни одного по-настоящему разумного, а лишь пустоголовые жужжалки. Такие опыты ставились и обошлись говорящим слишком дорого. Потом на память приходили чадолюбивые молочники: безмозглые, хищные и глухие. Этот врезавшийся в душу образ помогал балансировать между равнодушием и ошибкой.
За неделю до нового сезона любви последние малыши покидали площадку. Обычно Зау сам отводил их в ближайший поселок, откуда они разбредались кто куда в поисках места. А Зау возвращался к песчаному холму и готовил его к приему нового поколения.
Следующий год повторял предыдущий, а потом сам повторялся с началом нового сезона. Катастрофы случались редко, хотя химические мастерские были восстановлены и даже разрослись.
Обычно больше всего жизней уносили холодные зимы и хищные враги. Порой случалось, что по весне Зау некого было отводить в поселок. Особенно досаждали молочники, изобретавшие все новые и новые каверзы. Теперь Зау жалел, что Меза куда-то исчезла, и ее голоса давно не слышно. Может быть она, первая заметившая мутации среди молочников, могла хоть что-то посоветовать. А так приходилось бороться вслепую, почти не зная противника.
Воспитатель — это была работа, все признавали ее нужной; и хотя Зау не сдавал на склады изделий, все же за ним резервировалась и еда, и кое-что из вещей. Заработок воспитателя было бы смешно сравнивать с тем, что получал Зау, когда был металлургом, но, с другой стороны, в университете вообще ничего не платили, Мезе с товарищами приходилось полагаться лишь на себя и щедрость таких, как Зау. Хотя теперь Зау не смог бы делиться с другими своим достатком. Впервые он столкнулся с ситуацией, когда заработка стало не хватать. Не на жизнь, разумеется, здесь его требования всегда были скромны, а на работу. Молочники наносили свои безжалостные визиты уже с появлением яиц, и Зау, видя, что капканы не спасают от напасти, решил испробовать яд. А поскольку личных фондов не хватало ни на яд, ни на приманки, Зау пришлось зарабатывать их на стороне.
Большие болота назывались так то ли по традиции, то ли по недоразумению. На самом деле это были большие поля. Затянутая илом и залитая водой низина ежегодно засеивалась съедобным тростником, рисом, другими влаголюбивыми растениями, которые охотнее прочих употреблялись в пищу говорящими. Туда и отправлялся Зау, когда ему не хватало нищенского содержания воспитателя. Приходилось по колено в жидкой грязи укоренять стебли рассады, убирать урожай, но больше всего трудов уходило на борьбу с вредителями. Невидимая глазу мушка дырявила листья, портила цветки. Трижды в сезон следовало обходить посевы и опылять их толченым в пудру порошком серы. Желтый налет плыл по воде, не смачиваясь взлетал с ее поверхности, но потом все же тонул, накапливаясь в торфяных толщах.
Туда же под воду попадали и другие вредные вещества. Семена перед зимним хранением окуривали, убивая жучков удушливым ядом, что варился на нефтяных озерах. Перед посадкой зерно смешивали с черным порошком урановой смолки. Когда Зау узнал об этом, он удивился и испугался. Он знал, как действуют на живое соли урана и тория, и даже в гальванических мастерских никогда не пользовался ими. Но потом ему объяснили, что без радиационной обработки нельзя надеяться на дружные всходы, а что касается ядовитых солей, то смолка нерастворима, в зерно она не попадает, а надежно задерживается рыхлым илом и остается там, в торфе.
Поработав на полях, Зау хорошо познакомился и с ядами, и с приманками. Молочники и здесь были первыми среди вредителей, безжалостно портя урожай. А вот яд на них почти не действовал — привыкли к яду сотни травленных поколений! Теперь дозы отравы на полях употреблялись такие, что Зау рисковал погубить детенышей, даже в том случае, если никто из них не тронет ядовитых приманок.
Химическую войну Зау благоразумно прекратил не начиная, но продолжал работать в двух местах, потому что решил строить дом. Новый дом потребовался для детей. Один год не приходился на другой, хотя обычно они отличались друг от друга не сильно. Но потом случилась страшная зима, солнце не показывалось несколько дней кряду, и к концу этих дней на песке не осталось ни одного живого детеныша. Их маленькие тела не смогли прийти в себя после слишком долгого оцепенения.
Тогда-то, получив печальную возможность нарушить обет молчания, Зау обратился к говорящим, требуя от имени погибших малышей большей к ним заботы. Он просил поставить на пляжике дом, чтобы в слишком холодные ночи детеныши могли в нем спасаться.
Ответом было повторение общеизвестных истин: о детях нельзя слишком печься, лишения оборачиваются к их же благу. А годы, когда погибал весь выводок, случались и прежде. Жалко, но… ничего не поделаешь.
Не получив поддержки, Зау решил строить дом сам и вновь отправился в ту слишком свободную весну на поля, чтобы на заработанное приобрести не полагающийся ему лес и немудреное домашнее оборудование. В строительстве Зау никто не помогал, но и не мешал. Это было его дело, его право на эксперимент, пусть даже то был эксперимент над будущими поколениями. Зау сам укладывал бревна, конопатил стены, устанавливал грелку. Родившиеся новой весной малыши толклись вокруг него, лезли под топор, и каждый предлагал в дело свою щепочку, палочку или веточку.
Строительство дома было приостановлено лишь однажды. Зау устанавливал потолочные перекрытия, когда среди бела дня послышался звук, словно сразу на полную мощность заговорил ночной хор. Но на это раз в хоре был всего один голос. Зау обмер, забыв, что неудобно держит на весу потолочную балку. Он понял, что где-то, может быть на другом континенте, повторяется высокая трагедия Хисса. Мудрый говорящий, достигший предела своих бесконечных лет, последний раз держал речь перед разумными. Эта речь сильно отличалась от того, что говорил Хисс. Неведомый старец не только передавал живущим память предков, но и кричал о многом, что он сам познал и увидел в жизни. Не только животный мир менялся, беднея на глазах долгожителя, не только уничтожались леса и отравлялось море. Гибла вся планета. Жизнь на холодной земле существовала лишь благодаря укутывавшему ее одеялу из углекислого газа, создающего парниковый эффект. Не будь его, тепло уходило бы в пространство, и в мире стало бы так холодно, что выжить смогли бы разве что птицы да вездесущие молочники. Что-то подобное уже было в мире двести миллионов лет назад, и возвращение доисторических времен казалось невозможным. Но тем не менее, в углекислотном одеяле уже зияли рваные дыры, которые продолжали расползаться. Носитель жизни углерод оседал в меловых отложениях морских рифов, огораживающих пастбища аммонитов и белемнитов. Уголь уходил под песчаные наносы на месте иссушенных рыбных садков, пропадал вместе с отравленным илом полей, оставался в настилах гатей и фундаментах состарившихся домов. Каждое лето безвозвратно уносило из атмосферы углерод, и всюду эти страшные процессы подстегивались умелой, знающей рукой говорящего. Не случайны суровые зимы — они будут еще суровей, не случайны дожди — ветры, рожденные еще теплыми и уже холодными зонами, поднимают с океана массу воды. Не зря Зау строит дом, скоро без него детеныши вообще перестанут выживать. Только поможет ли и дом?
Детеныши не много поняли из услышанного, а Зау долго стоял в прострации, привычно сдерживая мысли, но чувствуя, как против воли созревает в нем план очередного эксперимента.
Когда был достроен дом и отпущено в жизнь первое поколение побывавших там малышей, когда вновь пришел краткий весенний отпуск, который Зау уже давно не посвящал любви, когда наконец появилось свободное время, Зау позволил себе обдумать появившийся полгода назад замысел.
Он хорошо помнил свою неудачную попытку вновь пустить в дело мореную древесину, долгие годы пролежавшую под водой. Но сейчас он и не собирался использовать что-либо по второму разу. Надо было всего-лишь вернуть атмосфере похищенный у нее углерод. Для этого не годились затонувшие бревна и тем более, напоенный водой слежавшийся торф. Зау остановился на древнем угле, отложившемся в незапамятные эпохи и превратившемся в камень.
Неподалеку от города, там, где река, на которой Зау проводил свою медовую неделю, бурлила, переливаясь через пороги, на поверхность выходило несколько пластов каменного угля. Минерал этот за полной ненужностью никем не разрабатывался, так что всякий мог использовать его в любых целях. Зау решил вернуть углю жизнь. Сделать это можно было только с помощью огня.
С вечноживым, подвижным всепожирающим пламенем говорящие сталкивались лишь в смерти. Мертвых сжигали, так чтобы от них не оставалось ни единой кости, освобождая место на Земле новым живущим. Нигде больше опасный огонь не употреблялся, так что Зау пришлось идти на выучку к могильщикам. В грязных городах все больше погибало повзрослевших, но еще молодых говорящих, так что появилась и такая профессия. Это было невеселое учение, в могильщики шли почему-то исключительно пустоголовые, которые не умели толком объяснить, как добыть и поддержать огонь. Но все же Зау разобрался в этом, обзавелся он и необходимым для добывания огня инструментом.
Развести огонь среди черных глыб угля оказалось несложно, хотя сам уголь долго не хотел разгораться. Наконец, он взялся жарким беспламенным огнем. Легкий смолистый дым костра сменился беспросветными удушливыми клубами, так напоминавшими ядовитую гарь нефтяных мастерских. Зау, лихорадочно вспоминая, нет ли поблизости детских колоний, кинулся гасить огонь. К сожалению, этому его не научили вовсе. Задыхаясь и перхая, Зау голыми руками растаскивал исходящие багровым жаром угольные комья, лишь сильнее разнося огонь. Он не чувствовал жара и сперва не обращал внимания на то, как трескается чешуя на запястьях и вздувается волдырями ошпаренная кожа. И лишь потом острая боль заставила его прекратить бестолковую работу и вывалиться из пламени.
Дымное облако расползалось по окрестностям. Зау бежал сквозь едкую тьму, нечленораздельно мыча от боли, словно дошедший до экстаза пустоголовый. Руки, вначале не чувствовавшие огня, вспухли и болели нестерпимо.
Пожар остановить не удалось. Огонь ушел вглубь земли, и еще несколько лет из расщелин поднимались дымные фонтаны, а берег реки был усыпал крупной копотью. Гарь мешалась с водой, поганя чистое дно, в реке исчезли заводи с желтыми точками кувшинок, погибло, быть может, последнее в мире лежбище карликовых речных плезиозавров.
Год Зау не работам: болели руки. Зау надолго превратился в инвалида. Его из милости кормили, а жил он на детской площадке в собственноручно построенном доме. По утрам уходил от детей на безопасное расстояние и думал. В праздную голову приходили невероятные идеи, представлялось, будто сожженный пласт угля был когда-то, задолго до появления говорящих, залитым водой полем, и кто-то, опасаясь за урожай, посыпал его удушливым серным порошком, обрабатывал радиоактивными коллоидами. О чем тревожиться? Ил все поглотит, уголь все впитает. Вот и ушел уголь в землю навсегда, остудив воздух и море, и беда тому, кто вздумает ковыряться в старых помойках, добывать антрацит и сланцы: вместе с углем освободится и упадет кислотным дождем пленная сера, и вонючая гарь, и невидимая урановая гибель. А без этого углерода, когда-то кутавшего и гревшего землю, в мир явится — и уже идет — Великий Холод.
Логично все получалось и стройно. Почти как у Мезы в ее бредовых фантазиях. Вот только кто мог в древности возделывать эти поля? Неповоротливый мокрокожий мастодонтозавр или клыкастая иностранцевия со скошенным лбом? Или гигантский диплодок с мозгом улитки, первый из зверей истребленный предками Зау за то лишь, что был слишком легкой и большой добычей? Конечно, никто из них не смог бы так надежно уничтожить мир, это под силу лишь разуму.
А спасти мир вряд ли сумеют и разумные.
Однажды, в минуту надежды, Зау посчитал, сколько углекислоты он так катастрофически вернул в оборот. Результат получился столь ничтожен, что не стоил и упоминания.
Болели руки, болела голова. Выхода впереди не было.
Вторую неделю лил дождь. Мелкие капли, не по летнему холодные, безнадежно выравнивали песок пляжа, которому давно пора быть взрытым сотней маленьких ног. Но берег оставался пуст, и холмики кладок, сбереженные от набегов молочников, почти сравнялись с землей. За последнее десятилетие это был второй такой год, и Зау уже знал, что ему ожидать. Он разрыл один из холмиков. В нос ударил запах смерти. Никто не вылупится из яиц, равнодушно брошенных в холодную мокреть.
Опустив тяжелые, в шрамах и струпьях давних ожогов руки, Зау побрел к дому. Он привычно сдерживал мысли, хотя сейчас можно было говорить в полный голос, можно было кричать…
Вечером Зау разложил у воды погребальный костер для неродившихся. Когда огонь прогорел — залил угли, теперь он знал, как это делается. Смотрел на курящийся белый пар, перебирая в уме варианты поведения.
Теплый дом, уже не первый на этом пляже — первый давно сгнил — мог спасти и до поры спасал малышей. Но для яиц дрожжевая грелка не годилась, им было нужно горячее солнце. Хорошую температуру могли бы дать электрические нагреватели, но их шум еще в яйце убьет разум детенышей, они родятся глухими. А глухой говорящий — все равно что мертвый. Есть еще огонь, но он слишком горяч, и к тому же, вряд ли найдется сила, которая заставит его развести огонь в доме.
Впереди пустой год, за это время можно было бы что-нибудь придумать, — но что можно придумать одному? Давно уже говорящие, задавленные бедой, которую сами же вызвали, решают лишь сиюминутные вопросы. Много лет нет в городе университета — братства разумных, готовых бескорыстно взяться за исследование любой проблемы. Они не сумели помочь в главном, и их стало накладно кормить.
И теперь остается, вопреки очевидному, надеяться, что следующий год окажется удачнее предыдущего, а освободившееся время тратить на подготовку к зиме, потому что зимой теперь и взрослого говорящего тянет в сон, если он слишком долго пробудет на улице.
Летние месяцы ушли на пустые заботы о себе самом, а зима уничтожила последние надежды на чудо. Зимние дни стали такими холодными, что брожение в грелке почти прекратилось, и даже дома приходилось быть начеку, чтобы не уснуть ненароком.
И вот однажды утром, с трудом продержавшись до света, Зау увидел, что комната выстыла совершенно. Мороз победил грелку.
Зау распахнул дверь и собственными глазами увидел смерть — то, что он знал лишь теоретически, что предсказывали чудаки из университета. Вода замерзла и стала твердой, вместо дождя с неба сеялась мелкая белая крупка.
Жизнь на берегу кончилась, надо было уходить.
Зау собрал свой инструмент, постаревший как и он сам, стершийся от времени, аккуратно притворил дверь дома, последний раз обошел пустой детский пляжик. Ветер нес над песком снежную пудру. Снег зализывал пятипалые следы, оставленные ногами Зау, одинокая белая цепочка рассекала мир детства. Зау наклонился, погрузил в песок обе руки. На смерзшемся песке рядом со следами ног четко отпечатались две пятерни — оттиски рук, искалечивших мир. Выемки заносило снегом, потом поверх снега их забросает песком и, если никто больше не будет жить на этом пляже, то следы так и останутся там, в слежавшейся толще, уйдут в глубь земли, окаменеют, и, может быть, это будет самым долгим, что оставит он после себя.
Зау стряхнул ледяную сонливость, начавшую охватывать его, и поспешил к городу.
Зиму он провел в городе вместе с немногими оставшимися там собратьями. Колония жалась ближе к электрогенераторам, превращавшим всех в подобие пустоголовых, но в то же время несущих тепло. Питались жители старыми запасами, которые приходилось разваривать в горячей воде.
Окрестности города, когда-то плотно обжитые, были отданы во власть молочников. Молочники вышли из нор. Притерпевшиеся ко всему, травленные ядом и радиацией, привыкшие к холоду и темноте. Теперь их ничто не сдерживало — они множились и менялись на глазах. Какой удачей было бы для Мезы увидеть это разнообразие отвратительных форм! Иные грызли дерево и питались, кажется, одной корой, другие пожирали собственных собратьев, но все были мерзки и многочисленны. Они появились даже в домах, так что капканы Зау никогда не оставались без работы.
Жить в городе, мучаясь от круглосуточного рева электропечей, было невыносимо тяжело, и, с трудом дождавшись весны, когда зазеленел, казалось напрочь убитый морозом ивняк, а со дна оттаявших луж всплыли ожившие лягушки, Зау покинул город. Он двинулся на юг, откуда тянул теплый ветер и летели возвращающиеся птицы. Там, судя по всему, еще оставалась нормальная жизнь, если можно, конечно, называть происходящее нормальной жизнью.
Впереди были сотни лет и тысячи километров бегства.
Он потерял счет времени и местам. Долины рек и суровые плоскогорья проплывали мимо, не врезаясь в память, а лишь истирая ее своей необязательностью. Месяцы и десятилетия упруго сжимались и рассыпались трухой секунд, пропуская сквозь себя идущего.
Иногда Зау встречал поселения говорящих внешне вполне благополучные, но он замечал, как мало там живет молодых, видел, как расползаются от городов пятна рукотворных пустынь, — и уходил дальше. Никто не шел за ним следом, говорящие оставались на местах, жертвуя разумом и будущим ради сегодняшнего удобства и тепла.
Случалось, в закрытых от ветра долинах попадались нетронутые уголки, где Зау хотел бы жить. Тогда он останавливался, строил дом, ловил и приручал животных, если они еще водились в этой местности. Но проходил десяток лет, зима догоняла Зау, и он бежал, оставляя жилище, бросив все.
И наконец, он достиг предела. С гребня серой источенной ветром скалы он увидел океан. Материк был перейден из конца в конец. Дальше пути не было.
Под ногами мелко хрустел ракушечник — витые и двустворчатые домики морских существ, погубленных во время чужих попыток остановить выстывание атмосферы. Тем, кто жил здесь когда-то, удалось, опрокинув в море миллионы тонн ядохимикатов, уничтожить микроскопический известковый планктон, поглощавший драгоценный углекислый газ. Но вслед за планктоном и кораллами погибли упрятанные в раковины спруты — аммониты и стремительные белемниты, исчезли, лишившись пищи, эласмозавры и плезиозавры, чьей печени Зау так и не отведал, пропали пережившие многие эпохи шустрые рыбоящеры. Море опустело и потомки незадачливых рыболовов отошли на север, их выморочные поселения Зау оставил позади.
Но все это было напрасно, Великая Зима приближалась. Углекислотная шуба истончалась с каждым годом, планета замерзала. И вот холод загнал его сюда — на южную оконечность земли. Здесь ему предстоит строить последнее убежище, спасаться в нем и ждать неведомо чего, без надежды дождаться.
Океан ударял холодной волной в обрыв берега. Соленые брызги залетали наверх, высыхали, покрывая колючей сединой кожу. Зау стоял, напряженно вслушиваясь. Тишина. Ни одного голоса. На всем берегу, а может быть, и на всем материке, он единственный нарушает безмолвие, посылая в мир полную отчаяния мысль.
За спиной громоздится лес: корявые, изуродованные стволы — ветер свищет меж безлистных ветвей. Это ничего, лес оклемается, если ему позволит погода. Он сейчас без листьев, потому что зима и холодно. Даже сюда, на южную точку континента, пришел зимний холод. Все время льют дожди. Никогда раньше их столько не было — бесконечных, мелких, изводящих душу. Облака загораживают солнце, от этого холодает еще быстрее. Зау невесело вздохнул: даже сейчас он ищет объяснения происходящему.
Из-за леса донесся тонкий вой. Там бродят группы молочников, осмелевших, ставших опасными. Сбылось безумное видение Мезы: говорящие съели свою землю, и молочники без помех догрызают то, что осталось.
Где-то за морем — материки Гондваны. Там тепло, там еще должны жить говорящие. Но уже давно не слышно оттуда голосов — то ли не с кем беседовать через море, то ли и там беда, и разум задохнулся в собственных отбросах. Впрочем, даже если там и живы разумные, им не удастся отсидеться в теплых землях. Пройдут эпохи, но когда-нибудь страны соединятся, и по дну бывшего моря хлынут орды глухого, беспощадного, ко всему привыкшего зверья. Если они на его глазах так изменились, то что же будет потом…
Темнело. Воздух быстро холодел, и Зау поспешил к дому. Там тоже было холодно, грелка работала плохо. Зау прикрыл дверь и начал раскладывать на камнях набранные днем ветки. Еще один бессмысленный и опасный эксперимент. Мысль не может успокоиться, хотя надежды на победу давно нет. Что делать, таким он создал себя — сначала его покинут силы и только потом разум.
Огонь затрещал, вскинувшись по ветвям. Комната сразу осветилась, Зау стал хорошо видеть. Он осторожно взял еще одну ветку, бросил в огонь, быстро отдернув руку. В комнате постепенно становилось тепло, Зау ощущал это по тому, как исчезала сонливость. И все же его не оставляло чувство обреченности. Во все века огонь разводился лишь для того, чтобы хоронить умерших, давний опыт с углем был не в счет. И теперь Зау казалось, будто он хоронит самого себя.
Синие клубы дыма плотным слоем собирались под потолком. Дыму было некуда деваться, постепенно он заполнил помещение, заставив Зау лечь на пол. Но вскоре дым достал его и там. Несколько минут Зау лежал, не дыша и часто моргая, чтобы умерить резь в глазах, потом выскочил на улицу отдышаться и проветрить дом. Дым повалил следом из открытых дверей. Почему-то его не становилось меньше, густые клубы выплывали из проема и тут же сливались с затянутым облаками ночным небом. Зау сунулся в дом и увидел, что в комнате горит пол. Должно быть, угли провалились между подложенных камней. Зау плеснул в огонь запасенную заранее воду, потом метнулся было к берегу, но сделав два шага, остановился. В темноте он не видел абсолютно ничего и мог лишь разбиться, упав с обрыва.
Дом горел. Теперь с лихвой хватало и тепла, и света, только тушить было нечем и незачем. Зау стоял и рассматривал свои праздно висящие руки. Неужели это он? Неужели это его руки? Когда он успел стать таким? Это скорее лапы Хисса, натруженные и уставшие. Завтра с утра ему снова придется браться за работу. Одному, без помощников таскать бревна, строить дом, ночами спасаться у костров… Для чего? Чтобы в одиночестве протянуть еще несколько сотен мрачных лет? А потом? — Зау шевельнулся. — Потом он доживет до своего предела и перед смертью расскажет историю жизни и гибели могучей цивилизации говорящих. И может быть, если на материках Гондваны в Африке или Индии — есть еще разумные, они услышат его, и это поможет им хоть в чем-то. Далеко Африка…
К утру пожарище остыло. Бледное солнце выбралось из-за горизонта и тут же пропало среди облаков. С неба привычно засеяло мелкой водой. Зау, вяло двигаясь, натаскал сучьев, выломал в лесу два ствола, но донести их до берега не смог. Он понимал, что не сумеет разжечь насквозь промокший хворост.
Перед закатом налетел ветер и разогнал тучи, выстрелив на прощание в лицо снежным залпом.
Зау не мерз, он лишь чувствовал, как мороз сковывает его, убаюкивая бездонной чернотой сна. Трудно ступая, Зау вышел к пожарищу. Под ногами хрустел лед.
Остывшее солнце тяжело падало к горизонту, раздвигая размытые остатки туч. Наступил вечер. Один из бесчисленных вечеров на планете Земля. Скорее всего, для него этот вечер станет последним.
Ветер гнал к берегу мутные валы. Но ни один плавник не мелькал среди белых гребней. И воздух не прочерчивала распяленная тень рамфоринха, лишь несколько чаек-ихтиорнисов бестолково бились в воздушных струях. Свистел ветер, и в тон ему с пустой земли доносилось тонкое подвывание. Молочники дождались своего мокрого и холодного часа.
Солнце скрылось, лишь карминовая полоса заката кровавила небо. Быстро темнело, беспомощные глаза не могли служить Зау. Но все же, повернувшись к лесу, Зау увидел полукруг горящих точек. Заметив движение, молочники отскочили, переливчато перекликаясь. Даже эти, новые, они были ничтожно слабы по сравнению с ним, но они умели ждать, а за их спинами стояли тьма и холод.
Зау шагнул вперед, сознавая, что бесцельно тратит остатки сил. Огненная цепь рассыпалась, охватывая его со всех сторон.
Полоса заката обуглилась, слившись с чернотой.
Молочники выли.
«Оставлять этой пакости Землю, — с трудом подумал Зау, — обидно…»
Вячеслав Рыбаков ПРОБНЫЙ ШАР 1
Спрогэ, везший сменные экипажи для мирандийских станций, сообщил, что встретил за орбитой Юпитера искусственный объект внеземного происхождения. Новость быстро облетела всю Солнечную, к месту встречи потянулись корабли. Объект оказался идеальным шаром полутора километров в диаметре. Ни на какие сигналы он не отвечал, локация и интралокация не дали результатов. Посланная Спрогэ партия буквально на первых же минутах обнаружила люк. Земля приказывала от контакта пока воздержаться и ждать прибытия специалистов. Но Шар словно играл в поддавки. Явно видимая кнопка была слишком соблазнительной, и кто-то не удержался.
Как и следовало ожидать, сразу за люком оказалась небольшая камера, отделенная еще одним люком от недр Шара. Второй люк открылся столь же легко. Загадки сыпались одна за другой, все быстрее — первый люк закрылся, но связь с исследовательской группой не прервалась. Захлебываясь от волнения, перебивая друг друга, исследователи сообщили, что попали в совершеннейшим образом смоделированные земные условия и что им очень неловко оставаться в скафандрах — по пояс в траве они шли к зарослям кустарника, тянувшимся по берегу реки. «Ужас, как мы давим траву, — сказал начальник группы. — За нами такой след остается…»
Уже тогда скользнула мысль, что это — ловушка.
Он остановился.
Переложив маки в левую руку, Андрей похлопал платан по необъятному стволу, затянутому теплой, как человеческая кожа, корой, глянул вверх, в бездонное варево листьев, а потом, будто спросив у платана удачи, в который раз за последние дни набрал номер Соцеро. Соцеро в который раз не ответил. Андрей подбросил кругляшок фона на ладони. Ему больше некуда было звонить. Он хотел спрятать фон, но какой-то седой мужчина с тонким лицом музыканта попросил дать на минутку позвонить. Андрей протянул ему фон и, чтобы не смущать, отвернулся к морю.
— Нет, они сказали — нет, — негромко и поспешно заговорил музыкант. — Меркурий совсем закрыт, что-то строят. Придется ограничиться астероидами и Марсом, там есть очаровательные места…
Интересно, подумал Андрей. Что там могут строить опять? Может, нужны пилоты-одиночки? Впрочем, Соцеро бы сказал. Хотя Соцеро куда-то сгинул, звоню ему, звоню… Но это же последний друг настоящий. Гжесь ушел в Звездную. А Марат погиб на этом… этом проклятом.
Ближе к «Эспаньоле» расфуфыренная круговерть становилась все гуще. Здесь уже никто не смотрел с восхищением и завистью на дикие маки, которые полчаса назад Андрей сорвал для Симы далеко в степи, тщась донести до нее хоть тень степного великолепия. Андрей спустился на пляж и сразу заметил одинокого мальчика лет семи — тот неумело пускал блинчики по гладкой поверхности дымчато-розового моря. С удовольствием загребая стучащую гальку носками туфель, Андрей подошел к мальчику.
— Ты что творишь, убоище? — спросил он. — Там же девочка плавает, смотри, какая красивая. Ты ей голову разобьешь.
Мальчик обернулся. Он совсем не был похож на сына Андрея — длиннолицый, мрачный — и глядел исподлобья.
— Не разобью, — угрюмо ответил он Андрею. — Мне дотуда не дострелить.
— А если случайно дострелится? Несчастный случай на то и случай, что происходит случайно. Прежде чем стрелять, проверь, нет ли кого на линии выстрела, причем обязательно с запасом. Потом берешь камень за ребрышки, приседаешь и кидаешь параллельно воде. Вот так, — Андрей показал. Мальчик слегка взвизгнул. Да, подумал Андрей, такого рекорда мне до конца дней своих не повторить. Бывает же…
— Понял? — спросил он мальчика. — Смотри еще раз, — он тщательно изготовился, внутренне уже оплакивая фиаско, и камень едва не сорвался, но ничего — проплюхался бодренько, а через секунду там, где он прошел, вынырнула лысая голова в маске и стала шумно отфыркиваться. Тьфу, ты, черт, подумал Андрей, мгновенно покрываясь потом. Вот же — опять неконтролируемые последствия, сейчас бы как влепил… Муравейник.
— Дерзай, — сказал он. Мальчик смотрел на него с восторгом. — Во-он туда кидай.
Мальчик взял голыш и спросил:
— Я правильно делаю?
— Правильно, — одобрил Андрей и сел рядом с мальчиком.
Мальчик замахнулся, задал опять свой вопрос и выронил голыш.
— Неправильно, — сказал Андрей.
Несколько минут они там играли, но мальчику быстро надоело. Лицо его вновь стало унылым, Андрей вскочил и выворотил изрядный валунище.
— А вот сейчас будет блин так блин! — закричал он и, как ядро, пустил его в воду. Мальчик засмеялся, схватил первый попавшийся булыжник и, с трудом его подняв, неумело кинул метра на полтора от берега.
— Вот блин так блин! — завопил он тоненьким голоском.
— А вот сейчас будет всем блинам блин! — закричал Андрей тоже тоненьким голоском, подхватил мальчика и как был, в одежде, вломился в воду. Мальчик визжал, заходясь от смеха, и бил по воде руками и ногами; с берега, улыбаясь, смотрело человек двадцать. «Бл-и-ин!» — закричал мальчик, но Андрей уже увидел мужчину в очень яркой рубашке, завязанной на животе узлом, и очень ярких плавках, который озабоченно спешил к ним с громадным, очень ярким полотенцем в руках.
Андрей выволок мальчика на сушу, и тот бросился навстречу мужчине с криком: «Папа! Пап! Во здорово!» С Андрея текло. Мужчина подошел ближе и вдруг остолбенел, глядя Андрею в лицо. Узнал что ли, с досадой подумал Андрей.
— Это вы? — потрясенно спросил мужчина. С давних пор есть лишь один ответ на этот вопрос.
— Нет, — сказал Андрей, — это не я.
На подмогу мужчине двигалась полная красивая женщина, одетая тоже очень ярко. Мальчик еще дергал отца за руку: «Ты почему никогда не пускаешь блинчики, пап?», но отчетливо повеяло морозом. Мужчина поколебался секунду, а потом решительно набросил полотенце на сына, как набрасывают платок на клетку с птицей, чтобы птица замолчала.
— Как вам не совестно, — процедила подошедшая женщина. — Я вас давно заметила и позволила немного развлечь Вадика, но это слишком.
— Простите, — покаянно сказал Андрей. Ему было неловко и совестно. — Знаете, пацан стоял такой одинокий, прямо жалко стало.
— Духовно богатый человек никогда не бывает одинок.
Ожесточенно растираемый Вадик что-то сдавленно загугукал из-под полотенца.
— Он уже купался сегодня свои три раза. Кроме того, это крайне вредно для духовного развития. Мы говорим: три, и только три. Но вдруг является совершенно чужой человек и разрушает все запреты! Во-первых, это подрывает уважение ребенка к ним, во-вторых, — к нам.
— Простите, — сдерживаясь, сказал Андрей.
— Взрослый человек, а ведете себя, как ребенок. В одежде полезли в воду!
— Ах, простите, — сказал Андрей, уже откровенно издеваясь, но издевку понял лишь мужчина. Его глаза сузились, он прекратил растирание.
— Клара, прошу тебя…
На набережной мужчина догнал Андрея.
— Подождите! — выдохнул он и схватил Андрея за локоть. — Я хочу сказать… Я всегда мечтал встретить вас и сказать… Я вам завидую!
— Да что вы говорите?! — ахнул Андрей. — Да не может быть!
— Да. Да! Вы… — мужчина дышал, как после долгого бега, — вы так свободны! Захотел одетый в воду — пошел. Захотел уничтожить Шар — пожалуйста.
Вот чудак, с тоской подумал Андрей. Ему бы эту свободу.
— Зря вы Шар со штанами мешаете…
— И с моим сыном вы свободнее меня!..
— Зато своего я уже сто лет не видел, — утешительно сообщил Андрей. Мужчина помолчал, хмурясь.
— У меня была такая же возможность! — выпалил он отчаянно. — Была! Но я не… Я когда услышал потом про вас, — подумал — хоть один человек настоящий нашелся! Ведь пилоты стали уже побаиваться. А ну как встретится… подманит!.. И я боялся. Не признавался никому, а боялся. Как он исчез, подманив тех, со станции, многие стали говорить — взорвать его, сжечь плазмой! Говорили! А духу только у вас хватило…
— Знаете, — ответил Андрей, — мне давно пришло в голову, что если человек с совестью, он должен делать только то, что хочет. Если человек поступает не как хочет, а как хотят другие, мир становится беднее на одного человека. Но чем шире спектр, тем динамичнее и перспективнее система. Выполнять свои желания — это просто-таки наш долг.
— Я вам завидую, — произнес мужчина и, помолчав, отпустил его локоть.
— А голосовали вы за или против? — спросил Андрей просто из интереса, но мужчина решил, что это упрек, и отвел глаза.
— Если бы я голосовал за ваше оправдание, товарищи не поняли бы меня, — произнес он изменившимся голосом.
— Ясно.
— Негодование тогда было очень велико.
— Я помню.
— Поймите меня правильно. Я как раз получил новое назначение. Тот экипаж не сталкивался с Шаром. Никто из них не мог так бояться и ненавидеть его, как я или вы!
Андрей честно попытался вспомнить, боялся ли он Шара. Да нет, мысль, что Шар подманит его прямо из его планетолета, даже в голову ему не приходила.
— Я впервые получил место третьего пилота. И Клара мною гордилась! Как я мог?!
Андрей кивнул.
— Ну, конечно… Человека уничтожить легче, чем Шар…
Мужчина вздрогнул.
— Вы не поняли, — проговорил он со всепрощающей укоризной. — Все-таки вы не поняли. А я так переживал за вас.
— Ах, простите, — сказал Андрей.
2
Первая партия благополучно вернулась на корабль, но судьба второй, более многочисленной и оснащенной, оказалась непостижимо трагической. Она проработала в Шаре восемь часов, затем программа была исчерпана, и Спрогэ, державший с исследователями постоянную связь, скомандовал возвращение. Получение приказа было подтверждено, и связь прервалась. Через четверть часа Спрогэ отправил на выручку еще трех человек. Поговаривали, что именно из-за этих троих Спрогэ впоследствии застрелился. Вторая группа с порога Шара сообщила, что трава у входа не смята, Спрогэ приказал им войти в Шар и попытаться найти хоть какой-нибудь след, правда, удаляясь от входа не более чем на сто метров, и если беглые поиски окажутся безрезультатными, немедленно возвращаться. Связь с тройкой прервалась через двенадцать минут. Буквально сразу после этого Спрогэ вызвали со спешащего к месту встречи грузовика — он должен был, как планировалось, отбуксировать Шар ближе к Земле — и сообщили, что их радар зафиксировал впереди, несколько в стороне от курса, металлическую цель, которую сразу смогли дешифровать. Это был медленно летящий скафандр, автоответчик которого давал позывные корабля Спрогэ. Человек в скафандре на вызовы не отвечал. Сообщению невозможно было поверить — все скафандры были налицо, за исключением тех, в которых ушли в Шар исследователи. Через полчаса, однако, грузовик сообщил, что взял скафандр на борт. Внутри был обнаружен труп человека. Причину смерти, как сообщили с грузовика, установить пока не удается (не удалось и впоследствии). Изображение передали на корабль Спрогэ — это был химик, ушедший в Шар со второй группой. Его обнаружили в тридцати шести миллионах километров от Шара через сорок минут после прекращения связи.
Оставив возле Шара три кибербакена, Спрогэ пошел навстречу грузовику, с помощью своей мощной аппаратуры просматривая пространство. Мысль его была ясна — если один исчезнувший член экспедиции оказался далеко в открытом космосе, остальных можно найти там же и, возможно, спасти. Надежда явно иллюзорная, но вряд ли кто-либо смог бы отказаться от такой надежды спасти людей. Спрогэ встретил грузовик, никого не найдя, а еще через два часа все бакены одновременно сообщили, что перестали фиксировать объект слежения.
Он заулыбался издалека.
Сима сидела за столиком у бушприта «Эспаньолы».
Они познакомились год назад, и Сима сразу потянулась к Андрею. Ей было очень плохо в ту пору — она никогда не рассказывала, почему. И он поддерживал ее, как умел, и постепенно полюбил ее, насколько может вообще полюбить уставший от себя человек, — стал нуждаться в ней. Иначе ему совсем не для кого было бы жить, а для себя он не умел.
— Это тебе, — сказал он, падая на одно колено и протягивая букет.
— Спасибо, — ответила она, подержала цветы на весу, как бы не зная, что с ними делать, а потом положила на стол. Андрей встал. От его колена на полу осталось круглое влажное пятнышко.
— Представь себе, — проговорил он, садясь, — пятый день не могу дозвониться до Соцеро.
— Что он тебе вдруг понадобился? — удерживая соломинку в углу губ, спросила Сима.
— Он мне всегда нужен. Как и ты.
Она усмехнулась чуть презрительно, потом выронила соломинку изо рта в бокал и, не поворачиваясь к Андрею, нехотя произнесла:
— Неделю назад мне Ванда рассказывала, что большую группу опытных пилотов затребовал Меркурианский филиал спецработ. По-моему, она упоминала фамилию Соцеро.
Андрей удивленно склонил голову набок.
— Вот как? А цель?
Сима пожала плечами. Видно было, что мысли ее где-то очень далеко, и она с трудом поддерживает разговор.
— Что ж он мне не позвонил…
— А зачем ему, собственно, перед тобой отчитываться?
— Ну, как… Друзья же… знаешь, какие! Знаешь, как мы в войну играли?
«Их было пятнадцать. Да, это было великолепно. Оперировать все лето в лесах Западной Белоруссии, прорывать окружения, спланированные учителями с великим хитроумием, чувствовать надежную сталь оружия, верить в себя и в тех, кто рядом, вдыхать пороховой дым. А на привале вдруг впервые в жизни задуматься и понять, каково это было на самом деле.»
— И что чудесно, — мечтательно сказав Андрей и даже глаза прикрыл. — Всемогущество какое-то, правда. Единство. Как мы взорвали мост! Ох, Сима, как мы взорвали тот мост! Это же сказка была, поэма!.. — он вздохнул. — А Ванда словом не обмолвилась, в чем там дело?
— Послушай, Андрей, — задумчиво произнесла Сима и повернулась наконец к нему. — Я тебе нужна? Действительно?
— Да, — ответил он удивленно.
Она покачала головой.
— Тебе никто не нужен, — в ее голосе были слезы и торжество. — Ты одного себя любишь, настолько, что стараешься всем быть нужным. Все равно кому. Со мной ты был лишь потому, что был нужен мне.
Она умолкла, глядя на него непримиримо и выжидательно, Он молчал.
— Разве я не права?
— Права, — ласково произнес он. — Как ребенок. Для ребенка ведь любая ситуация решается однозначно.
— Какой ты специалист по детям!
Когда ему хотелось, она била беспощадно, не задумываясь.
Андрей погладил ее холодные пальцы. Ему всегда казалось, что человек, сделавший другому больно, сам мучается и жаждет прощения и тепла.
Она отняла руку и сухим тоном судьи спросила:
— Когда ты последний раз виделся с сыном?
— Давно, — ответил он негромко. — Зачем тебе?.. После всего я…
— Знаешь, я не касаюсь этих твоих космических дел. Меня твой Шар мало трогал, даже пока был, и уж совершенно перестал волновать с тех пор, как ты спалил его, хотя я бы, конечно, такой глупости не сделала, да и любой здравомыслящий человек… Геростратов комплекс неудачника, так я сразу решила, еще не зная тебя. А узнала — подивилась. Ты же был приличный пилот. Только недавно поняла — ты просто любишь ломать то, что дорого другим. Тебя это возвышает в собственных глазах. Но не сваливай на нас свою несостоятельность в семье. Надо честно сказать: да, мне захотелось сломать и всё тут!..
— Ох, Сима, Сима, — выговорил он. — Хорошо, вот представь: твой сын говорит тебе…
— У меня нет детей, — резко сказала она. — Ты намеренно стараешься ударить побольнее?
Он только стиснул зубы.
— У меня слишком много важной работы, товарищи не поймут меня, если я их оставлю! Тем более что на помощь мужчин, как видно по тебе, рассчитывать не приходится!
Генных инженеров действительно зверски не хватает, поспешно подумал Андрей ей в оправдание. Но где я слышал про непонимающих товарищей, совсем недавно… Она хотела, чтобы я ее заставил, понял он. Настоял или подстроил.
— Ладно, — примирительно сказал он. — Пойдем купаться.
— Ты просто смешон! — она резко поставила на столик свой опустевший бокал. — Посмотри! Ведь за что бы ты ни взялся, все ты делаешь не так, вкривь и вкось! И хоть был бы просто подлец, это еще полбеды! Нет, эта вечная поза! Я ведь думала, ты необыкновенный… добрый… все знаешь и все можешь.
— Ты сегодня так говоришь, будто меня ненавидишь.
— Да. Я ненавижу тебя. Ты очень плохой человек, Андрей.
Она резко встала.
— Не провожай. Мне больнее, чем тебе. Мне гораздо больнее.
Она рывком повернулась и пошла прочь.
— Цветы! — глупо крикнул он. Но она даже не сбилась с шага.
Сидевший поодаль от «Эспаньолы» мужчина, расцветая в улыбке, поднялся Симе навстречу. Она взяла его под руку, мельком оглянулась — видит ли Андрей, удостоверилась, поцеловала спутника в щеку, и они двинулись по набережной. Андрею показалось, что это музыкант, недавно просивший у него фон. Но он не успел разглядеть. Сколько времени ждал, подумал Андрей. Интересно, за кого она ему меня выдала? Товарищ по работе. У нас очень важная работа, у нас очень много работы. Срочный разговор на четверть часа. Ты не обидишься, милый, если я попрошу подождать вот здесь? Бедняга. Ищет, ищет того, кто бы за нее прожил ее жизнь, а она бы только при сем присутствовала в качестве бесконечно хрупкого украшения… претендуя на воплощение бездеятельной горней справедливости, но на деле, по слабости своей, лишь сварливая и беспощадная. Как тут поможешь? Это в детства складывается. Неуверенность, страхи, запреты… Он вспомнил Вадика, глухо и тщетно гугукающего под полотенцем.
Тоска была — хоть вой. И еще — неловкое, стыдное какое-то сочувствие и досада, словно Дездемона на сцене вдруг споткнулась, выругалась хриплым басом и закурила.
Странно все устроено, подумал Андрей отстраненно. Обычную измену или подлость простят, может, не заметят даже. Но доброты и любви, проявленных не так, как хотелось бы ожидающим их, не прощает никто и никогда. Потому что знают: если лучшее уже отдано им, и отдано «не так», больше не на что надеяться. И надо уходить.
3
Второй раз на Шар наткнулись спустя восемь лет, совсем в другом месте. Патрульный катер сообщил на Землю о встрече и на большом удалении остался ждать. Через неделю прибыла подготовленная в кратчайший срок мощная экспедиция.
Кибернетики открыли люк и ввели в камеру набитый аппаратурой кибер. Однако дальнейший путь оказался блокированным. Все попытки кибера пробиться за второй люк, длившиеся неделю, оказались тщетными. Заседания ученого совета шли почти беспрерывно, к ним подключались специалисты с Земли, прибыл даже грузовик со специальной режущей установкой — все впустую. Наконец, третий пилот, Трамбле, предположил, что требуется человеческое присутствие. С научной точки зрения эта гипотеза была абсолютной чепухой, и так чепухой бы и осталась, если бы Трамбле, после двухдневных мук, не вышел из корабля якобы для профилактического осмотра наружных маршевых конструкций. Лишь оказавшись у Шара, он связался с рубкой; задержать его не смогли. Люк открылся от первого же прикосновения человеческой руки, и Трамбле тут же вернулся. Медленно продвигавшийся кибер транслировал изображение спирального коридора, в котором царили космический холод и вакуум. Кто-то предположил, что им встретился совсем не тот Шар, который встретился Спрогэ, но это был явный абсурд — на микроскопическом слое пыли, скопившейся на Шаре (по его толщине определили приблизительный возраст Шара в полтора миллиона лет), еще в первые часы экспедиции обнаружили следы, оставленные людьми Спрогэ. Прошло восемь часов, коридор казался бесконечным. Затем связь с кибером прервалась. Немедленно был послан другой, с ним полетел второй пилот Марат Блейхман, чтобы открыть люки. Внешний люк закрылся, и люди в рубке услышали крик: «Там Земля, я вижу! Только человеку дано видеть живое!» Затем связь прервалась. Послали человека с приказом открыть внешний — только внешний! — люк. В камере находился лишь кибер. Открывать внутренний люк не стали. Неделя прошла в бесплодных попытках что-то сделать. За полсуток до окончания срока автономности Марата сам командир, не сказав никому ни слова, улетел к Шару. Он открыл внутренний люк и действительно увидел высокую нетронутую траву и голубое небо. В течение получаса, не переступая границ камеры, командир вызывал Марата по радио, а затем ввел кибера в зеленую внутренность Шара — ломая траву, тот двинулся вперед. Командир вернулся. Более суток кибер передавал в рубку изображение коридора, проделал почти тридцать километров по узкому извилистому каналу, затем связь с ним прервалась. Запас киберов иссяк; оставив на разном расстоянии от Шара восемь бакенов, экспедиция в тот же день ушла к Земле. Через сорок две минуты бакены сообщили об исчезновении объекта слежения.
Он вздрогнул.
— Вы ли это, Андрей? — раздался сзади певучий женский голос.
Нет, конечно, это не Сима. Перед ним стояла женщина ослепительной красоты. Рядом с нею высился не менее яркий мужчина в короткой, перекинутой через плечо пантерьей шкуре; длинные синие волосы его были завиты. Андрей узнал женщину, их знакомил зимой Гарднер — один из всем недовольных, которые с некоторых пор крутились вокруг Андрея, ошибочно принимая его за своего.
— Добрый вечер, Гульчехра, рад видеть вас.
— Мы не помешаем? — спросила женщина.
— Нет, что вы. Напротив!
— Андрей, познакомьтесь, это Веспасиан, — пропела Гульчехра. — Сиан, это Андрей. Это он сбросил Шар на Солнце.
Она произнесла это, словно предлагая урода в банке: «У него две головы».
— Ах, я слышал, — промолвил Веспасиан.
Гульчехра рассмеялась и удалилась к стойке, в то время как Веспасиан утвердился в кресле и уставился на Андрея громадными коричневыми глазами.
— Ты был с ней?
— Я? — опешил Андрей. — Да нет… где уж…
— Не надо лгать! Я чувствую тебя — ты прост и незамысловат, ты не смог бы сам. Это Гуль, она шакти. Рядом с ней мужчина не может не стать гением. Шар! Ход гениальный!.. — Губы его дрогнули от презрения, он сделал широкий жест рукой. — Великолепно! Гениально, я так сказал! Прекратить всю их суету, все их потуги разом! Саморазвертывание, самореализация такого масштаба, такой хлесткости — в нашем пошлом мире сусальных добродетелей это подвиг! Я никогда не поверю, что ты обошелся без соприкосновения с высшими силами.
— С чем, с чем?
— Там, — он воздал руки к небесам, — на перекрестках астральных путей, соединяющих поля восходящих и нисходящих инкарнаций…
Подошла Гульчехра, осторожно неся золоченый подносик с тремя бокалами.
— Ну, о чем вы здесь? — она уселась и схватилась за бокал.
— О тебе, солнце мое, — сказал Веспасиан.
— Гульчехра, я задам вам вопрос, который, быть может, не вполне сейчас уместен…
— Да-а? — заинтересованно пропела Гульчехра, наклоняясь к Андрею всем телом.
— Вы давно виделись с Гарднером в последний раз? Я к тому всего лишь, простите, что брат его работает в Хьюстонском управлении грузоперевозок. Может, вы помните случайно… не говорил ли он о новом строительстве на Меркурии?
При имени Гарднера женщина с отработанной загадочностью заулыбалась было а-ля Мона Лиза, но сам вопрос ее явно разочаровал.
— Оставь это! — гневно вскрикнул Веспасиан и так стукнул кулаком по столу, что с маков посыпались лепестки. — Рядом с тобой, — он ткнул в сторону Андрея длинным пальцем, — прекраснейшая из женщин мира! А ты говоришь о какой-то возне! Трус! Ты ищешь забвения в мелочной суете вещей, боясь освобождения духа.
— Успокойся, милый, пожалуйста, — испуганно залепетала восхищенная Гульчехра. — На каком накале ты живешь, ты совсем не щадишь себя…
— Да, — с грустью произнес Веспасиан и обмяк в кресле. — Идти ввысь нелегко… Но я иду! — он опять устремил взгляд на Андрея. — На пляже. В горах. Дома. Даже когда сплю. Самосовершенствование не может быть дискретным, — он брезгливо вытащил из бокала соломинку, допил коктейль и встал. — Гуль, нам пора.
Андрей резким движением выплеснул за борт свой нетронутый коктейль.
А ведь я чуть не теми же словами втолковывал Вадькиному отцу про желания… Слова, что вы с нами делаете?
Неожиданно для себя он рассмеялся.
Я же их спас!
Всех, кто по собственному почину или выполняя приказ, раньше или позже опять полез бы в этот проклятый Шар! Неужели мы сами не додумаемся до подпространства и до всего на свете без этого зверства, когда один посылает на смерть, а другой идет на смерть и пропадает без следа!
А они сочли себя униженными, потому что я поставил на одну доску и тех, кто стремился бы вперед, и тех, кто отполз бы назад.
Да, наверное, существует принцип «Нет ничего, что подлежало бы насильственному уничтожению». Но с молоком матери впитанное стремление оберегать и радовать говорило другое. Люди не должны погибать! Люди не должны страдать! То, что опасно, должно уничтожаться! В глубине души Андрей до сих пор был уверен в этом. И это оказывалось страшнее всего, потому что теперь он не мог доверять никому, даже глубине собственной души.
4
Шар стал легендой; старые капитаны рассказывали о нем жуткие сказки. Смертельная опасность исследований придавала Шару особое очарование — вероятно, сродни тому, которым обладали прежде таинственные кладбища и заколдованные замки, — что же касается спящих красавиц, то их с лихвой заменяла перспектива овладеть подпространством, которым, очевидно, пользовался Шар.
К тому времени как на него набрела яхта с молодоженами, на счету его было уже два десятка загадочных смертей. Парочка в панике вызвала патруль, а сама, едва дождавшись его, прервала путешествие — по слухам, с тех пор оба зареклись покидать Землю. Диспетчерская едва сумела убедить их не улетать до подхода патруля — дело в том, что одно из бесчисленных поверий, нагромоздившихся к тому времени вокруг Шара, гласило: он не ускользает в подпространство, пока рядом находится и его наблюдает человек; диспетчер же, в прошлом профессиональный космонавт, безоговорочно принимал профессиональные суеверия. Патруль занял позицию слежения, а Совет Космологии и Космогации тем временем уже собрался на заседание, которое с короткими перерывами длилось несколько суток. Решено было исследований не предпринимать, но держать Шар под непрерывным наблюдением. Действительно, более полутора лет рядом с Шаром находилась станция, на которой, сменяясь каждые две недели, дежурили наблюдатели. Научные результаты этого дежурства оказались практически нулевыми, и существование станции было бы бессмысленным, если бы, во-первых, не подтверждение дикого поверья — Шар не исчезал. А во-вторых, что совсем не имелось в виду при создании станции, наблюдатели предотвратили семь самочинных попыток проникнуть в Шар.
Однажды смена не вышла на связь. Патруль нашел станцию пустой, а Шара уже и в помине не было. На пульте рубки стоял кристаллофон, и десятки ученых самых разных специализаций часами вслушивались потом в заикающийся от волнения голос: «Он сам позвал, и мы пошли. Как мы могли не пойти, раз он сам?! Меня он отпустил, но Чэн и Джошуа остались, они меня ждут. Ваш проклятый патруль уже рядом, он все испортит! Но мы вернемся, я знаю, он сказал, мы уцелеем, мы вернемся!» Они не вернулись.
Грузовой планетолет Андрея, везший на Меркурий тяжелое оборудование, встретил Шар между орбитами Меркурия и Венеры три года назад. Оставив груз болтаться в пространстве, Андрей взял Шар а гравизахваты и, не сообщая на Землю, на большом ускорении поволок к Солнцу. Едва не возник бунт. Но Андрей подавил его в зародыше, просто заперев людей в их каютах, хотя решиться на это было едва ли не тяжелее, чем на само уничтожение Шара. Он продолжал разгонять Шар далеко за орбитой Меркурия и лишь вблизи короны выпустил груз. Перегрузка при торможении и повороте была почти предельной, но Андрей в течение нескольких часов не отрывался от телескопа, чтобы Шар не ушел, — врачи поражались потом, как он не потерял сознания. Уже далеко в глубине верхней фотосферы Шар начал разрушаться. Отчетливо видно было, как он, прокалывая бушующие слои твердого пламени, медленно начал оплывать, а потом вдруг упруго распался на вереницу ослепительных громадных капель, которая продолжала со страшной быстротой соскальзывать в огненную глубину.
Он очнулся.
Достал фон и запросил у справочной данные на Соцеро.
— Место пребывания — Меркурий, станция слежения, — ответил автомат после очень долгого молчания. — Должность — пилот-оператор. Беседа в настоящий момент невозможна из-за специфики проводимых работ.
Ну вот, подумал Андрей, что за станция объявилась? Из-за станций закрывать планету?! Его вдруг зазнобило. Он несколько раз подбросил фон на ладони, а потом позвонил приятелю из Бюро спецработ.
— А, привет, — обрадованно сказал Семен. — Ты как снег на голову. Я, знаешь, думал, тебя и на Земле-то давно нету…
— Я по делу. Что вы там строите на Меркурии?
Семен заморгал.
— Может, нужны пилоты-одиночки?
— А ты что… все бездельничаешь?
— Ну, нет, конечно. Мы работать приучены, всю весну вот у вулканологов отбарабанил. Побираюсь, где придется… Но это ж летать.
— Побираюсь… Экий ты, знаешь, ядовитый, Андрюша. Ты ж добряк был!
— Добряк с печки бряк, — буркнул Андрей.
Семен тяжко вздохнул.
— С Лолой так и не видишься?
— Так и не вижусь.
— И с парнем?
— Слушай, — проговорил Андрей, — черт возьми. Однажды он подошел ко мне и спросил: папа, почему тебя никто не любит? К пяти ему шло… Я так и сел. Как же, говорю, мама, а дядя Соцеро? А он говорит: ты когда уходишь, мама, если думает, что я не вижу, плачет, говорит: за что мне такое наказание, — он помедлил. — Я ведь до сих пор не знаю, может, я и впрямь это сделал неправильно. Значит, не имею права сказать ему: они не поняли меня, а ведь я у тебя самый лучший. Но, с другой стороны, не годится человеку с малых лет знать, что такое остракизм. Рабом вырастет, сможет лишь повторять за другими, а сам — ни-ни… И хватит, говори дело!
— Нахватался слов умных, — проворчал Семен. — Остракизм, остракизм… Лола твоя до сих пор этак небрежно, знаешь, осведомляется, как ты… здоров ли… модны ли рубахи, которые тебе подружки твои подбирают… Нет там тебе работы, — почти мстительно продолжил Семен. — Черт его знает, что за станция, она не по моему отделу шла. Астрономы что-то вынюхали на Солнце. Из-за станции этой, знаешь, два объекта законсервировано, а еще у семи отложено начало работ на неопределенный срок.
— Но с чего туризм-то закрыли?
— Какой туризм?
— На Меркурий.
— Откуда я знаю? — Семен развел руками. — Впервые слышу. Туризм… У меня своей работы навалом! Да и дочурки в основном на мне… Если я, знаешь, еще туризмом начну… Станция и станция! Не поставили меня в известность, не сочли нужным — и спасибо от всей моей души! Надо делать свое дело!
— Да угомонись! — засмеялся Андрей. — Я слова не сказал!
— Я вижу, куда ты гнешь. Полез не в свое дело — вот как твой подвиг называется. Я даже голову не хочу, знаешь, себе ломать — правильно ты Шар сжег или неправильно. Но наказали тебя справедливо. Потому что взялся не за свое дело. И, разумеется, дров наломал. Для каждого дела есть специалисты.
— Ладно, — сказал Андрей. — Счастливо оставаться, прости, что вторгся.
— Погоди, — запнувшись, пробормотал Семен. — Ты бы, знаешь, зашел как-нибудь?..
— Да что я тебя отрывать буду.
— Оторви меня, пожалуйста, — вдруг тихо попросил Семен. — Знаешь, как все… Изо дня в день, изо дня в день. Так ведь до конца. Оторви, а?
— Хорошо, — Андрей улыбнулся, и Семен неуверенно улыбнулся в ответ.
Андрей бросил погасший фон на столик. Все тревожные намеки собрались воедино, и догадка режуще, жгуче хлестнула Андрея.
Солнце!!!
Да нет, не может быть, что за бред! Разве может Шар… Я же видел сам, как он расплавился!
Что я знаю? А если при разрушении оболочки раскрылся подпространственный канал? И теперь отсасывает плазму неведомо куда?! Полный бред… Почему я не подумал об этом тогда? Ведь даже в голову не пришло! Не может быть, слышите? Быть не может!!!
Он позвонил на ближайшую гелиообсерваторию. Директор был в командировке на неопределенный срок. Где? На Меркурии. Позвонил на Гиндукушскую обсерваторию. Трое ведущих ученых, занятых исследованиями Солнца, в командировке на неопределенный срок. Где? На Меркурии.
Он позвонил в космопорт. И через пять минут убедился, что ему ни под каким видом не взять билет до Меркурия. Почти бегом вырвался на набережную.
«Не так! Все не так! «Не так» Шара!.. «Не так» становится злом лишь тогда, когда столкнувшийся с ним не понимает его и либо погибает, либо набрасывается на свое «не так», словно мельница на Дон Кихота. Встреча с «не так» — это и кризис, и проба сил, и выходов только два — гибель или подъем на новую ступень. Но я должен знать!!!»
И Андрей заказал одноместную скоростную яхту.
«Будь все проклято, но ясности я добьюсь. Поднимусь над эклиптикой, а потом сверху разгонюсь. Или зря я столько лет в тех местах корабли гонял? Или зря мне терять нечего?» Он заказал гравилет до космопорта, выключил фон и, бросив его в траву, каблуком втоптал поглубже, а потом пошел купаться.
Он невесомо, беззвучно скользил в прохладной жемчужной дымке — не понять было, где кончается море и начинается небо, все светилось равномерным серебряным сиянием. Он хохотал, пеня воду растопыренными ладонями. Он вспоминал Лолу, и от принятого решения воспоминания вновь стали свежи и болезненны, будто ничего не кончилось, а только прервалось. Что-то плеснуло поодаль…
Его ждали на пляже.
— Привет, — сказал Андрей. — Ты что тут делаешь, Вадик?
— Смотрю, когда ты вылезешь, — сказал сидящий возле его одежды мальчик. — Я видел, как ты залезал. Мама разрешила тебе со мной играть.
— Вадик, прости, — Андрей поспешно натягивал брюки, прикидывая, как давно гравилет стоит на стоянке. — Мне сегодня больше некогда играть. Очень важное дело, я сейчас же улетаю.
— Давай играть! — потребовал мальчик.
— Вадим, дорогой, правда не могу, — виновато сказал Андрей, застегивая рубашку. — Через три часа меня яхта будет ждать на космодроме, какая уж тут игра. Сам посуди.
— Ты плохой! — крикнул мальчик и довольно ощутимо ударил Андрея кулаком по ноге. — Стой здесь, я маму приведу. Она тебе скажет!
Андрей молча покачал головой и двинулся к набережной. Вадим ожесточенно замолотил его по ногам обоими кулачками.
— Дядька-долдон! — закричал он. На них смотрели, делали Андрею неодобрительные мины. — Долдон-блинон! Ты врешь! У тебя нет дел! Папа сказал, тебя в космос не пускают! Играй со мной! Играй со мной!
5
Вначале Андрей не был наказан, но никто не захотел летать под его командованием, экипажи один за другим выносили ему вотумы недоверия. Это его не удивляло, он знал, на что шел, когда запирал в каютах людей.
Месяц спустя состоялось специальное заседание Совета Космологии и Космогации, призванное урегулировать ненормальное положение, в котором из-за своего беспрецедентного и малопонятного поступка оказался великолепный специалист. Дать Совету официальное объяснение своих действий Андрей отказался, когда ему предоставили слово, он сказал лишь: «Я считаю, что поступил честно, следовательно, должным образом. Одна проблема, давно требовавшая решения, наконец решена; то, что на ее месте возникла другая, вполне естественно. Я выполнил свой долг так, как его понимал, и теперь с благодарностью приму любое решение высокого Совета». Его потом долго обвиняли в высокомерии — и в глаза, и за глаза.
Мнения членов Совета разделились; дискуссия быстро зашла — или участвовавшим в ней показалось, что зашла — в тупик. Тогда Совет призвал пилотов ко всеобщему референдуму, в результате которого Андрей довольно значительным большинством голосов был отстранен не только от командования, но и от пилотирования в составе экипажей навечно.
Он шагнул вперед.
Люк еще не успел полностью раскрыться, еще не успокоился воздух в переходной камере, встревоженный выравниванием давлений, а он шагнул вперед, потому что там, по ту сторону распахивающегося панциря, уже видел глаза Соцеро.
За спиной Соцеро были какие-то люди. Андрей видел их смутно, у него все плыло перед глазами.
Так они стояли.
— У тебя рубашка в крови, — произнес наконец Соцеро.
— Пришлось резко тормозить, — сипло ответил Андрей. — Да еще расхождение с этим дурным космоскафом…
В глазах Соцеро стояли слезы. И гордость, и жалость, и только что пережитый страх.
— У тебя отнимут права, — сказал он, подразумевая яхт-права.
— Не привыкать, — ответил Андрей, и Соцеро понял, что Андрей имеет в виду гораздо большее.
— Ты мог крышку ангара пробить.
— Черт с ней.
— Андрей, тебя же немедленно отправят обратно!
— Я обогнал ближайший патруль на полтора часа, — ответил Андрей. — К тому же я, может, еще и нетранспортабелен, — добавил он с вызовом.
У Соцеро задрожали губы. И только тогда он обнял Андрея, а Андрей обнял Соцеро. И повис на нем. Так и не успев расплакаться, Соцеро подхватил Андрея на руки и поволок прочь из залитого ослепительным светом ребристого ангара.
— Это мой друг, — сообщил он стоявшим поодаль людям. Те молча смотрели им вслед; один вдруг бросился вперед и раскрыл перед Соцеро тяжелую дверь.
— Как я летел, — шмыгая носом, сладостно прошептал Андрей, прикрыв глаза. — Это же сказка… поэма… Если бы ты видел, как я летел.
— Я видел кое-что, — ответил Соцеро. — Псих. Бандит. Это мой друг, — сказал он двум шедшим навстречу людям, которые, пропуская их, прижались к стене коридора.
— Ой! Да я ногами! — вдруг опомнился Андрей.
— Ради бога, не гони волну, — ответил Соцеро. — Помолчи, подыши глубоко и умиротворенно. Умеешь?
— Умел когда-то, — улыбаясь, ответил Андрей.
— Здесь я живу, — Соцеро внес Андрея в каюту и бережно уложил на койку. Потом уставился Андрею в глаза, губы у него опять задрожали.
— Андрей… я, правда, не мог ничего сообщить. Если бы просто нарушение режима секретности… Но это же ты… ты… — он недоговорил, помотал головой. — Если не успеем, — его лицо помрачнело, — ты и так обо всем бы скоро узнал. А если успеем — я бы к первому к тебе. Знаешь, даже снилось сколько раз — все уже хорошо, хочу рассказать, порадоваться, но ни слова выдавить не могу, — он надорванно засмеялся, продолжая ищуще заглядывать Андрею в глаза.
— Да ладно тебе, — сказал Андрей. — Давай подышим умиротворенно.
— Тебе не мерзнется? Не укрыть одеялом?
— Да нет, что ты, — Андрею было так уютно и легко, как, наверное, с детства не бывало. — Посиди.
— Слушай, как ты догадался? Откуда?
Андрей заулыбался опять.
— Магическим путем, — сказал он. — Там, на перекрестках астральных путей, соединяющих поля восходящих и нисходящих инкарнаций…
Соцеро облегченно захохотал.
— Может, кофе хочешь? Или чаю? Хочешь чаю с медом, а?
— Погоди. Все в порядке, — сказал Андрей, — сейчас я прочухаюсь. Ты давай-ка излагай, что у вас стряслось.
Андрей Зинчук ТУНДРА ДРЕМУЧАЯ
Игореха вынырнул, разинул рот, как на приеме у зубного врача, два техника засунули ему в бронхи по шлангу и включили насос. Через минуту Игореха выплюнул в подставленное ведро остатки желтого пластика, вдохнул полной грудью воздух и вылез на дебаркадер, где те же техники отстегнули ему за спиной «жабры» и водомет. Скатав с себя изолирующий костюм, акванавт военно-морской базы «Флорида» Игореха Прыгун побежал к начальству с рапортом о том, что видел на дне, где производил поиски ракетоносителя, улетевшего с полигона «Континент» и по данным авиаразведки ночью плюхнувшегося к ним в бухту.
Доложил, что не видел ничего и что по его глубокому убеждению (тут он улыбнулся, сообразив, что получился каламбур) стотонная «железяка» вполне могла закопаться в грунт. Посоветовал воспользоваться услугами авиаразведки, подавшей сведения. В свою очередь, ему посоветовали не соваться не в свое дело и не давать советов. Игореха хотел козырнуть, но, вспомнив, что на нем, кроме плавок, ничего нет, засмеялся и убежал.
Конечно же у него было право иметь свое «глубокое убеждение», после того как он почти неделю шарил по всем секторам бухты. «Железяка» запросто могла закопаться в грунт. Но у Игорехиного капитана в авиаразведке служил свояк, бывший с капитаном на ножах, и именно это, непредусмотренное уставом обстоятельство, сводило к нулю богатейшие возможности авиаразведки. Кроме того, несметное количество железного хлама, за много веков накопившегося на дне бухты, позволяло рассчитывать на успех лишь в случае использования одиночки-пловца.
Игореха всего этого не знал, но злился, что из-за какого-то дурацкого ракетоносителя его сняли с региональных соревнований по глубоководному спуску, где он только-только дошел до полукилометровой глубины. Вот тут-то его и сцапали. И теперь приходилось ему безвылазно томиться в грязной бухте Базы. (Если не считать ежедневных полетов на океан «для поддержания спортивного духа», разрешенных начальством.)
…Он бежал по берегу, разогревая застывшие мышцы, и думал, что его ребята из «Дельфина» сейчас наверняка ходят на новом пластике «Идеал», имеющем рабочий коэффициент три сотых, а ему приходится глотать старый, токсичный, ноль-ноль девятый, на котором и до двухсот метров не дотянуть либо стошнит, либо вообще к черту ребра поломает. Ну ничего, вот только найдет он эту проклятую «железяку»!
Игореха мчался уже по пляжу. У обреза воды лежала на песке стройная загорелая девушка, читала книгу. Игореха притормозил:
— Здорово!
Девушка отложила книгу в сторону и сдвинула на нос темные очки:
— Привет.
— Ты откуда? — спросил Игореха. — Отдыхаешь тут?
— Как видишь. А ты?
— А я тружусь на благо, — сказал Игореха и попрыгал на одной ноге: после такой основательной пробежки устоять на месте было непросто. — Стало быть, загораешь?
— Ага, — ответила девушка и простодушно предложила: — Хочешь, давай вместе?
Игореха в нерешительности потоптался на месте (до сих пор ничего подобного никто так простодушно ему не предлагал), потом опустился на песок и от нерешительности же закидал девушку вопросами:
— Тебя как зовут? Что читаешь? Давно приехала?
Девушка ответила в тон ему:
— Ирина. Мопассана. Вчера.
— А я Игореха, — сказал Игореха. — Прыгун.
— Кто?
— Прыгун. Фамилия такая. А вообще-то я акванавт, — Игореха кивнул в сторону океана.
— По-онятно, — усмехнулась Ирина. — Ну, а я напротив — космонавтка. Слышал про нас?
— Слыхал. Значит, это ваши с «Континента» тут свою железяку утопили?
— Какую именно?
— Вообще-то это военная тайна… Но тебе я могу сказать. — Тут Игореха подавил смех и строго посмотрел на Ирину. — Па-аршивую!
— А!.. — Ирина рассмеялась и махнула рукой. — У них на «Континенте» всегда что-нибудь не так. Нет, я с «Мыса бурь»!
— Никогда не слышал, — чистосердечно признался Игореха. — А про что в книжках пишут?
— Да про разное, — усмехнулась Ирина. — В основном про несчастную любовь.
— Неужели и теперь еще бывает такая? — спросил Игореха. Девушка пожала плечами. Они помолчали.
— Пойдешь купаться? — через некоторое время спросила Ирина.
— Здесь?! — презрительно скривился в сторону океана Игореха. — Ты на сколько можешь нырнуть без пластика?
— Без чего? — не поняла Ирина.
— Я спрашиваю, на сколько метров ты могла бы нырнуть без заполнителя?
— А ты?
— Около ста.
— А я еще ни разу не ныряла, — призналась Ирина.
— Как это? Никогда, что ли?..
— Зачем же мне нырять, если я летаю?!
— Где это ты летаешь? Как?!
— Да ты что, с Луны свалился без парашютки?!
— Чего-чего? Это ты про что? — вытаращился Игореха.
— Штука такая. Слушай, ты какой-то странный… Или мне показалось? Нет?
— И ты какая-то не такая!
— Ага, — кивнула Ирина. — Между прочим, кандидат в мастера!
— Что? Как? — вскричал Игореха. — Не может быть! Вот это да!.. А у меня, ты понимаешь, только первый пока. Часов не набрал. А как их наберешь? Опять с соревнований сняли, железяку вашу проклятую искать!.. — И Игореха с горечью махнул рукой. Заметив предупреждающий взгляд Ирины, он поправился: Ну, не вашу, а эту… вообще.
— Значит, не пойдешь купаться? Стало быть, так хочешь. Что ж, тогда ныряй. Давай ныряй-ныряй, может, что и вынырнешь! — Ирина вновь уткнулась в книгу.
— А ты летай, — сказал Игореха в тон собеседнице. — Давай летай-летай. И не зная, что добавить, вдруг ни к селу ни к городу неуклюже «отвесил»: Как ведьма на помеле!
Девушка внимательно посмотрела на него.
— Да знаешь ли ты, тундра дремучая, какие движки к нам пришли? — Глаза ее при этом полыхнули потрясающим зеленым огнем. — Тундра ты, тундра! Тундра дремучая, непроходимая, бесконечная! — Сказала и вдруг улыбнулась. — А у вас движок как прозвали?
— Бурун, — глухо буркнул Игореха.
— На быстрых? — мягко поинтересовалась Ирина, имея в виду быстрые нейтроны.
— На средних!.. Конечно на быстрых! Две тыщи шестьсотые! — небрежно процедил Игореха.
— Это да!.. — Ирина с видом знатока прищелкнула языком и покачала головой. — Нам такие и не снились. А сколько же» весит твой «на две тыщи шестьсотых»?
— Одиннадцать с компенсатором.
— Как? — от неожиданности Ирина вскрикнула, а потом снисходительно рассмеялась. — Дурачок ты, тундра. Выходит, быстрые твои ничего не стоят!
— Так это же в воде! Да с компенсатором! Что ты вообще понимаешь в быстрых?
— Вобла! — огрызнулась, ничуть не обидевшись, Ирина. — У нас, если хочешь знать, четыре килограмма. — Сказала и отвернулась.
Несколько минут Игореха молчал, не зная, чем вновь привлечь внимание девушки. Наконец придумал:
— Как платят?
— Сносно, — не повернув к нему головы, ответила Ирина.
— И прогресс?
— А как же!
— Интересно у вас… в общем? — осторожно спросил Игореха. Ирина повернула голову. В ее глазах вновь вспыхнул потрясающий зеленый свет.
— Значит, ты купаться сегодня не пойдешь? Ну, тогда я с твоего разрешения… — Ирина не договорила, поднялась и пошла к воде.
Игореха смотрел ей вслед, на ее потрясающую фигуру, видел, как легко переставляет она по песку потрясающе стройные ноги, и чувствовал, что с этой минуты он, похоже, пропал.
…Когда Ирина вернулась, на берегу сидел уже не Игореха Прыгун, а совершенно другой человек, лишь своей внешностью и голосом похожий на недавнего Игореху. Тот прежний Игореха — беззаботный и бесстрашный — исчез. Растворился. Пропал, как он и предполагал. Прежнего Игореху будто испепелила молния: в его тело — с головы до ног — вошел ослепительный золотой столб. Новый Игореха, покрутив в обалдении головой, предложил девушке, вдруг испугавшись возможного отказа и оттого тщательно подбирая слова:
— Хочешь… сходим на Базу? Вертолет возьмем? Я тебе все покажу… Океан и вообще?
— Не-а, — ответила Ирина таким потрясающим тоном, что у Игорехи похолодело сердце. Потом вдруг переменила решение. — Хорошо, пошли.
…Пришли на Базу. У знакомых техников Игореха выпросил вертолет (свой суточный лимит горючего он израсходовал еще утром), залез в кабину, втянул туда Ирину и захлопнул дверцу. Вертолет заурчал, косо пошел в воздух.
В кабине нашлись два комплекта снаряжения и канистра с пластиком. Пока летели, Игореха успел объяснить устройство снаряжения:
— Ласты. Знаешь, наверное? Машут ими по очереди. Костюм. Маска. Плюнь на стекло и разотри, потеть не будет. Да не сейчас, тундра! Перед погружением. А вон под сиденьем «Бурун». Включишь здесь. Хочешь за штурвал подержаться?
— Не-а. Не интересно. Что там дальше?..
— Блок-прибор, — буркнул Игореха.
— Что? — не поняла Ирина.
— Блок, говорю, прибор!
— Комплекс, что ли?
— Ну да, я и говорю: комплекс. Глубиномер, компас, лаг, фонарь, радар, буй УКВ. Повесишь на грудь.
— Тяжелый!.. — прикинула на руке вес прибора Ирина. — Грудь не помнет?
— Никому еще не мял, — искоса глянув на потрясающую грудь девушки, сказал Игореха. — Жабры. Отвинтишь пробку. А потом завинтишь.
— Все? — спросила Ирина. — Или еще что-нибудь?
Игореха молчал.
— Значит, так… Ты что же, хочешь на меня все это повесить? И — на дно? — Ирина с сомнением покачала головой.
Игореха снисходительно улыбнулся, свободной рукой вытащил из-под сиденья два компенсатора:
— А это видала? И вот еще что: распишись-ка в журнале за технику безопасности. Ну, за то, что я тебе ее прочитал!
— А ты что, уже прочитал? Это что, тогда на пляже?
— Ладно!.. — пробормотал сквозь зубы Игореха, чувствуя, что почва (в данном случае пол кабины) уходит у него из-под ног. — Тогда так: не соваться и не зевать. В случае чего — красная кнопка буя УКВ. Приехали! — Игореха дал штурвал от себя.
Вертолет провалился вниз и почти сразу же закачался на поплавках.
Игореха ждал похвалы, но ее не последовало: Ирина копалась в снаряжении и не обратила внимания на мастерскую посадку.
Двигатель вертолета немного поурчал на малых оборотах и смолк. Стало тихо.
— Как шумно! — поморщилась Ирина и потерла уши. — Всегда у вас так или что-нибудь испортилось? — При этом она глянула на Игореху потрясающе невинным взглядом.
— Испортилось! — рявкнул Игореха, натягивая изолирующий костюм, Натянул сам, помог натянуть Ирине. Пристегнул и ей и себе остальное снаряжение. Отвинтил с канистры пробку, протянул канистру Ирине. Та понюхала, поморщилась:
— Это что? Я должна это, значит, проглотить?!
Вместо ответа Игореха пожал плечами: ничего не поделаешь, придется глотать. И еще он вспомнил, что час назад, до огненного столба, все было легко и просто, а теперь напряжение между ним и девушкой растет с каждой минутой, происходит нечто небывалое, огромное, непонятное и таинственное. Отчего упорно хочется делать вид, что тебе на все наплевать, вымучивать у себя равнодушную улыбку, и это именно в тот момент, когда внутри все горит и рвется!..
Игореха тяжело вздохнул и соскользнул в воду. Подождал, пока наполнятся водой жабры, и сделал два больших глотка пластика из канистры.
— Ну как? — поинтересовалась Ирина.
Но Игореха замотал головой и показал на губы: с залитыми пластиком легкими он говорить уже не мог.
— Ладно, — смирилась Ирина. — Сама виновата, теперь поздно отступать… Соскользнула из кабины в воду, зажмурилась и осторожно пригубила из канистры.
Игореха прощупал грудную клетку девушки (потрясающую!) и жестом показал, что нужно глотать пластик еще, не то эта потрясающая грудная клетка прогнется под давлением воды. Ирина запротестовала, попыталась ретироваться назад в вертолет, но Игореха поймал ее за руку и стянул в воду.
Когда с приготовлениями было покончено, он махнул рукой, врубил водомет и скользнул вниз, в бездну. Ирина за ним.
…Они летели по склону шельфа, распугивая по сторонам разноцветную рыбью молодь. Ирина то и дело оборачивалась на длинный, перекрученный след турбуленции, оставшийся после сильных кольцевых магнитов водомета, — едва заметную спираль, теряющуюся в голубой толще воды.
У большого валуна Игореха внезапно остановился, вырубив водомет. Ирина хотела проделать то же самое, но потеряла кнопку управления и налетела на Игореху. Он выловил ее за руку, притянул к себе, помог справиться с движком и покачал головой, мол: «Тундра ты, тундра!» — и постучал пальцем по стеклу маски: «Думать, тундра, надо, что делаешь!»
Из-за валуна они высунулись с другой стороны. Прямо перед ними на дне вращался металлический живой цветок: штук десять изящных рыб неестественно медленно, как в кино при съемке рапидом, выгибались, терлись, касались друг друга плавниками. И было в этом танце нечто небывалое, завораживающее, непонятное и таинственное, оттого и спрятанное от чужих глаз подальше, в толще голубого строительного материала, из которого когда-то родились и сами эти прекрасные создания, ныне продолжающие начатую кем-то титаническую работу созидания.
«Цветок» их заметил и стал медленно удаляться, сверкая между камней.
…Глубже они встретили еще несколько живых цветков. Останавливались, зависали над ними, широко расставив ласты, и завороженно смотрели. Так добрались до кромки.
Игореха уселся на дно, на волнистый, плотный, пронзительно-чистый песок. Откинулся назад, на локти, подняв облачко тонкой мути, и задрал голову вверх: сверху сквозь далекую поверхность воды едва просвечивало солнце пушистое, мягкое, будто скрученное из кусочка желтой ваты. А рядом с Игорехой ползли по своим тайным делам крабы, пролетали стайки рыб. Тут, на дне, под толщей первородного строительного материала было все, что так истово любил Игореха, — тишина и покой, загадочный и прекрасный мир Безмолвия — Начало всех Начал, — бесконечно непохожий на привычный, душный, шумный и уже немного надоевший мир Земли.
Тишина была такой плотной что казалась попросту нереальной. Во все стороны, куда ни глянь, простиралась бездна — потрясающая тайна, тихое голубое облако…
Посидели, помечтали, вдруг незаметно для себя придя к какому-то внутреннему согласию, взялись за руки и, тихо работая ластами, пошли в глубину.
…Пятнадцать метров, двадцать, двадцать пять. Последние обросшие водорослями валуны исчезли, и дно словно провалилось. Игореха врубил водомет.
Теперь полетели быстрее. Ирина чувствовала перед собой тугую пружину воды, старавшуюся ее задержать, остановить и отбросить. Стрелка глубиномера быстро ползла по шкале: тридцать, пятьдесят, восемьдесят метров… Стало темно. Игореха включил фонарь. Теперь Ирина летела за ним словно в узкой бесконечной трубе с черными антрацитовыми стенами. (Так куда-то, по слухам, летят после смерти только что умершие.)
Мчались долго. До тех пор пока луч света, летевший впереди Ирины, не расплылся в пятно…
Ирина сообразила, что они на дне. Сбросила газ и глянула на прибор: сто шестьдесят метров. Она видела, что Игореха так же сверился по приборам, сориентировался и пошел вбок, махнув девушке рукой. И исчез.
Ирина включила прожектор. На малом газу, подрабатывая движком, дошла до того места, где исчез Игореха. Немного не рассчитала и теперь висела над краем гигантского провала: дно в этом месте обрывалось, и дальше вниз шла отвесная стена. И только далеко внизу Ирина разглядела маленькое пятнышко света — Игорехин фонарь. Девушка (как учил Игореха в кабине вертолета) расфокусировала луч прожектора, превратив его в широкий конус, и прибавила мощности: в открывшейся перед ее глазами гигантской пропасти, далеко внизу, она увидела огромную темную тушу корабля, своими очертаниями напомнившую ей иллюстрацию из школьного учебника истории…
На картинке учебника, которую хранила память девушки, был изображен один из монстров ушедшего века: ходили тогда по морю такие уродины, назывались дредноутами. Несли на себе пушки, пулеметы, ракеты. В те давние времена между людьми было много разногласий, отчего, учил учебник, и происходили бесчисленные военные конфликты. (Изжитые, по свидетельству того же учебника, впоследствии.) Тогда же, давным-давно, и произошла последняя битва этих монстров. После чего настала эпоха Осияния, мирные времена. Правда, и сейчас еще многие государства не отказались от своих армий, но держали их скорее из соображений престижа, нежели безопасности. К подобным немногочисленным подразделениям и относились Игорехина и отчасти Иринина службы.
Один из свидетелей невеселого прошлого лежал темной тушей на дне провала. Бок гиганта оказался распоротым от носа до кормы, и на дно вывалились внутренности (так в кино разделывали китов). Отломившаяся при подрыве гигантская труба чудовища валялась рядом.
…Ирина скользнула вниз и теперь лежала ничком на дне провала, неподалеку от мертвого дредноута. Придонное течение толкало ее в бок и старалось перевернуть. Она не сопротивлялась. Краешком глаза она видела, как справа от нее прошло пятно света. Потом исчезло и появилось слева (это Игореха прочесывал дно до тех пор, пока не наткнулся на темное неподвижное тело, блеснувшее металлом — Ирину). Тогда она закрыла глаза.
…Порвалась и заколыхалась за стеклом маски водяная пленка. Над головой вспыхнуло пронзительно-синее небо, как и полагается, с облачком на горизонте. Солнце уже садилось, и его лучи косо скользили по поверхности океана. Неподалеку покачивался поплавок вертолета.
Пока Игореха выкачивал пластик из ее легких, Ирина находилась в состоянии покорного безразличия. Через несколько минут Игореха шлепнул ее ладонью (как новорожденную в роддоме) между лопаток (тоже потрясающих!), заставил вдохнуть пронзительного, ароматного, острого воздуха.
— Что с тобой случилось? — спросил Игореха, продолжая избавлять девушку от тяжелого снаряжения. — Глубинное опьянение? Не знаешь?
Вместо ответа Ирина пригнула Игореху за шею к себе и крепко поцеловала в губы. Но когда Игореха потянулся опять, чтобы поцеловать девушку еще раз, она уклонилась.
— Что? — спросил Игореха.
Ирина покачала головой.
— Хочешь отдохнуть, или полетим домой? — спросил Игореха.
— Давай отдохнем.
…Блестела вода. Мелкие волны лениво били в брюхо вертолета, приподнимали поплавки. Кабина раскачивалась, как большая лодка. Голова Ирины лежала у Игорехи на коленях, и он был счастлив.
— Игореха, тобой начальство интересовалось! — предупредил один из техников, когда они вернулись на Базу и опустились на крышу дебаркадера.
— Чего? — досадливо поморщился Игореха и предложил Ирине: — Я тебя провожу?..
— Сама дойду.
— Может быть, вечером встретимся? — На этот вопрос Игореха ответа не получил. Тогда он махнул рукой и побежал в двухэтажный домик к начальству.
Как он и ожидал, начальство просило форсировать поиски ракетоносителя, дабы не ударить в грязь лицом перед всевидящим оком авиаразведки.
Через два дня (проведенных Игорехой в терзаниях и бесплодных поисках девушки) Ирина лежала на том же самом месте и читала ту же самую книгу (кажется, даже на той же странице!). За время их разлуки кожа девушки покрылась коричневым местным загаром взамен старого — желтого.
Увидев девушку, Игореха несказанно обрадовался. Но вида не показал.
— Небось опять про несчастливую любовь? — спросил он как можно равнодушнее.
— Опять про несчастливую, — так, будто между ними ничего не произошло (а разве между нами что-то было?), улыбнулась Ирина.
…Опять летали на океан. Но Ирина осталась в кабине вертолета; Игореха ходил под воду один, один встречался со своим Безмолвием, своими поржавевшими «сокровищами». Возвратился, зажав в кулаке маленькую яркую рыбку. С водой пустил ее махать плавничками у Ирины в ладонях.
Вечером жгли на пляже костер, варили крабов.
— А ведь я тебя искал, — признался Игореха. — Целых два дня искал!
— Я от тебя специально спряталась!
Целовались.
Ели вкуснейшую уху.
Плавали по лунной дорожке.
А по возвращении Игореху снова вызвало к себе начальство и объявило от лица командования благодарность за усердие, проявленное при исполнении задания.
Игореха покрутил головой, пожал плечами и ушел в недоумении. Позже у техников он узнал, что ракетоноситель — миф. Он хоть и присутствовал, так сказать, в наличии, но грохнулся в воду значительно южнее, в сотне километров от их бухты. В бухту же к ним наслал ракетоноситель капитанский свояк, старлей, очевидно затем, чтобы свести старые счеты с Игорехиным капитаном.
Таким образом Игореха оказался свободен. И теперь мог мчаться догонять своих ребят из «Дельфина», наверстывать упущенные очки и секунды. Но именно этого-то теперь ему и не хотелось: у Ирины кончался короткий отпуск, пора было ей возвращаться домой, на Базу. Вот Игореха и напросился к ней «в гости», мотивируя свою просьбу тем, что еще одна возможность посетить «Мыс Бурь» появится у него не скоро.
…Уже вечером они шагали по бетонной дорожке ракетодрома. Ирина — в серой форменной кофте и в серой же юбке, которые очень шли к ее загорелому телу. Игореха — в голубой форме морского ведомства. Встречные мужчины из летного и вспомогательного состава махали Ирине рукой, упорно, впрочем, при этом не желая замечать Игореху — чувствовалась прохлада в отношениях двух военных ведомств.
Пришли к деревянному одноэтажному зданию. Проще сказать — бараку. В его длинном коридоре жизнь, казалось, умерла, и было непонятно, как же могут стартовать и садиться через каждые регламентированные пятнадцать минут космические корабли? Для чего они с тихим шелестом катятся по бетонной полосе? Для кого?
Комната Ирины оказалась очень маленькой и очень уютной: узенькая кушетка, неяркие занавески на окнах, платяной шкаф, тумбочка, несколько тарелок и алюминиевые ложки в стакане.
— Вот тут я и живу, — сказала Ирина, перехватив восхищенный взгляд Игорехи. — Располагайся. — И вышла.
Игореха услышал, как за стеной в соседней комнате загудели два голоса: звонкий — Ирины, и другой — тоже женский, но хриплый, низкий: прислушавшись, Игореха понял, что Ирина выпрашивает у подруги второй комплект снаряжения.
Вернулась Ирина не одна — ее подруга приволокла нечто напоминавшее метлу. Встала в дверях, представилась басом:
— Тамара. А про вас я уже все знаю. Вы Игореха, да? — Она достала из кармана халата пачку папирос. — Вас дым не раздражает? А то я уйду курить в коридор!
…Пришли ребята, друзья Ирины. Игореха выделялся среди них выправкой и хорошо отутюженным костюмом. Ребята были в щегольски потертых комбинезонах, чувствовали себя как дома. Игореха же сидел прямой до неподвижности, лаконично отвечал на вопросы, из всех сил стараясь поддержать разговор.
…Все вместе ходили смотреть ракетодром. Собственно говоря, смотреть было нечего: просто бетонная полоса, с которой то и дело приходилось сворачивать, чтобы не попасть под колеса мчащейся на них махины корабля. (В голубые здания, маячившие у горизонта, Игореху никто не пригласил!)
Рядом с бетонкой рвали ромашки на необычно длинных стеблях, нарвали целую охапку. Дома втиснули их в трехлитровую банку. После чего ребята ушли.
— Ну вот, — сказала Ирина, грациозно располагаясь на кушетке. — Здесь мне больше показывать тебе нечего. Можем, конечно, сходить в гости к Тамаре, это в соседней комнате. Одним словом, ты мой гость. Делай что хочешь. Что ты хочешь?..
Нестерпимо пахли ромашки, роняли на скатерть желтые тычинки и белые лепестки. В окно вдувался пузырь занавески, когда какой-нибудь корабль выруливал на полосу и с тихим шелестом начинал стлаться над бетонкой.
Корабли взлетали и садились всю ночь.
…Утром Ирина начала собирать завтрак. Сначала завтрак не собирался, так как, кроме сухарей и нескольких кусочков сахара, у нее в тумбочке ничего не оказалось. Ирина разбудила подругу и выпросила в долг заварки и сыру.
— Мы что, куда-то опаздываем? — поинтересовался Игореха, лениво развалясь на узкой Ирининой койке. Ирина на полпути притормозила с кипящим чайником:
— Ты что! В восемь вылет. Разве я тебе вчера не сказала? Нет? Вот тундра!
…К трапу прибежали за минуту до отлета, влетели наверх.
— Ирина. Игореха. — И Ирина назвала пароль, разрешавший находиться на любом корабле Базы в любое время суток.
Корабль с тихим шелестом заскользил по бетонке.
…Вышли на орбиту, обогнули Землю. Как и любой другой новичок, оказавшись впервые в Космосе, Игореха был потрясен тем фактом, что Земля и в самом деле такая же большая и такая же круглая, как на картинке в учебнике по астрономии.
На половине второго витка Ирина по селектору попросила разрешения на выход из корабля — к этому времени оба уже сидели в специальных костюмах. Пол провалился, и Игореха полетел в пустоту.
…Метлу он, конечно, потерял, потому что прослушал инструктаж Ирины и не оплел запястье специальным ремешком. Век бы ему не выбраться с орбиты, но Ирина его выручила: она подлетела с его метлой и еще издалека начала ругаться в шлемофон, что такую тундру дремучую, как он, Игореха, она встречает впервые в жизни, и что такой тундре, что объясняй, что нет — все едино!
Ирина пристегнула нужный ремешок и еще проверила (как у маленького!), надежно ли он пристегнулся. Игореха просунул ствол метлы между ног, уперся, как учили, ногами в подножки и тихонько потянул ползун газа на себя…
Нечеловеческая сила рванулась из-под него, едва не отломив голову с плеч, и понесла вперед… Нет, это только показалось, что сила была нечеловеческой — через несколько секунд она ослабла, и лишь по едва заметному рысканию ствола можно было догадаться, что движок по-прежнему работает и с огромной скоростью он, Игореха Прыгун, несется вперед.
— Для первого раза сойдет, — сказал в шлемофоне голос Ирины. — Только больше газ не рви, не то голову совсем к черту оторвет! Не понимаешь разве? Медленно нужно, с чувством. Ты что, не умеешь с чувством?
— Да разве я рвал? — обиделся Игореха. — Я что, дефективный? Я разве не понимаю? — Он летел вперед, до боли вцепившись в ствол руками, и таращился на набалдашник, которым тот кончался и который в просторечье назывался «парашюткой». Игореха прикидывал, что делать, когда он налетит на набалдашник носом в режиме торможения?..
После первоначального испуга он осмелел и теперь косил глазом вбок: метрах в трех от него летела Ирина, ловко пристроившись на своей метле так, как обычно женщины ездят на лошадях: боком. Словом — ведьма!
— Смелее, не кисни! — крикнула в шлемофон Ирина. — Лучше наверх посмотри!
Игореха поднял голову вверх и едва не вскрикнул: над головой висела голубая Земля. Оказывается, все это время он летел вверх ногами и теперь чувство от этого испытывал гадостное.
— Ну чего пыхтишь? — спросила Ирина. — Случилось что? Игореха молчал, лихорадочно шаря глазами по щитку с приборами. Кажется, об этом тумблере говорила Ирина, будто бы он ориентатор? Игореха щелкнул тумблером. Ничего не произошло. Тогда он щелкнул им еще раз и, поскольку опять ничего не произошло, вернул в первоначальное положение.
— …е отключай связь, тундра!
Игореха плюнул на все эти приборы и тумблеры и впервые за все время путешествия осторожно поболтал ногами. Вакуум. Интересно все-таки, как они делают такие костюмчики? Ведь ни одной дырочки! Пожалуй, почище, чем у нас. У нас в случае чего немного подмокнешь, немного подмерзнешь, в крайнем случае отделаешься насморком. А тут?.. Тут насморком не отделаешься! Состояние невесомости, в общем, знакомое. А вот как у них с кислородом? С кислородом как?! Игореха посмотрел на правое плечо, на счетчик: двадцать четыре часа. Однако не хочется ему болтаться в космосе двадцать четыре часа! И даже меньше болтаться не хочется! А хочется ему вот что: домой ему хочется! Хорошо бы немножко для приличия полетать, а потом как-нибудь смыться. У нас с этим проще: развернулся и… и через пару минут тебя вынесет. А тут? Тут, пожалуй, не вынесет!.. — думал он малодушно. Потом он решил об этом больше малодушно не думать.
Облетели Землю. Ирина предложила слетать на астероид. Игореха скрепя сердце согласился.
…Для начала выписали огромную дугу — развернулись.
— Давай! — скомандовала Ирина.
Игореха дал. То есть с опаской тихонько потянул ползун газа на себя… Нечеловеческая сила опять поддала ему под зад, запрокинула голову и понесла. Ирина хохотала в шлемофон.
…Поверхность астероида надвигалась на них, ноздреватая, как сыр. Были видны болячки мелких кратеров. А астероид все надвигался и надвигался. Заслонил четверть неба, потом половину неба, потом все небо целиком. Ирина предложила сначала облететь его по окружности, для чего заложила крутой вираж. Игореха попробовал повторить этот маневр, но едва не слетел со ствола. Тогда он развернулся «по старинке» — затормозил, остановился и хотел было слезть с «метлы», но сообразил, что слезать-то, собственно говоря, некуда.
Ирина к этому времени встала на границе света и тени. Игореха, как ему и полагалось, разогнался и проскочил мимо, в самую тень — впереди была неизвестность, а сзади вместо астероида зияла огромная дыра, куда не заглядывали звезды. От страха Игореха даже крякнул что-то в микрофон.
— Вижу. Трусишь! — тут же сказал голос Ирины. — Разворачивайся и шуруй назад. Будем садиться.
Игореха на малом газу подработал к девушке.
— Теперь будешь знать, как таскать девушек на глубину! — заглянув к нему под шлем, сказала Ирина дружелюбно.
— Буду, — промямлил Игореха.
— Что-то я не поняла: будешь таскать или нет?
— Не буду.
— А что будешь?
— Буду знать, как таскать! — Игореха висел над астероидом, вцепившись в руку девушки (теперь потрясавшую его особенно, до глубины души), и ему казалось: отпусти он ее — тут же грохнется на все эти воронки и кратеры и наверняка попортит свой потрясающий костюмчик!
— Так, отдохнули, — сказала Ирина. — Начинаем посадку. По моей команде включишь режим торможения. Нос постарайся сохранить целым. Она высвободила руку и боком скользнула к астероиду. Игореха за ней. …Поверхность приближалась, наваливалась на левое плечо. Игореха следил за ней со страхом и думал о том, что будет, если он прозевает команду?..
— Упрись руками в щит управления! — приказала Ирина. (Он уже давно уперся.)
После этого Ирина начала отсчет:
— Пятьдесят. Сорок девять. Сорок восемь. Сорок семь…
— Быстрее давай! — попросил Игореха, вслушиваясь в монотонный голос девушки. Поверхность астероида была уже совсем близко.
— Отвяжись! — попросила та. — Тридцать девять. Тридцать восемь. Тридцать семь…
— Разобьемся! — предупредил Игореха.
— Тридцать три. Тридцать два. Не разобьемся, еще никто не разбивался. Тридцать один…
Игореха похолодел — до ближайшей воронки было рукой подать. Поэтому он подсказал, стараясь попасть в ритм счета:
— Пятнадцать!
— Двадцать девять. Не мешай. Двадцать восемь. Двадцать семь… Теперь воронка кратера уже не надвигалась, а буквально летела на Игореху. Отчетливо проступали отдельные острые камни…
— Девятнадцать. Восемнадцать. Семнадцать. Шестнадцать…
— Ноль!!! — завопил Игореха, однако торможение включить все же не рискнул, и с ужасом услышал:
— Четырнадцать. Тринадцать. Двенадцать…
Тогда он закрыл глаза: будь что будет. Под шлемом гудело монотонное:
— Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Пли!!!
Игорехины руки что есть мочи рванули рычаг торможения. Приборный щиток со страшной силой ударил Игореху по рукам. Впереди что-то полыхнуло, выстрелило, окуталось пылью. После чего Игореха мягко шлепнулся на поверхность астероида и завалился на бок.
— Игореха?! — заорало под шлемом.
Игореха лежал с закрытыми глазами и ничего не желал слышать. Он только удивлялся, что все еще жив.
— Эй! Ты где?! Тут же пыль, ни черта не видно!
Игореха открыл глаза — ив самом деле не было видно ни черта.
— Живой? — опять заорал голос Ирины.
— Живой, — вздохнул Игореха и начал медленно подниматься. К его удивлению, это получилось у него очень просто.
— Ага! — закричала Ирина. — Вот теперь я тебя вижу!
— Убери громкость, — поморщился Игореха.
— Что?! — закричала Ирина. — Говори громче, я тебя почти не слышу!
— А у меня сейчас уши лопнут! — сказал Игореха.
— Не понимаю!
— Уши лопнут, — как можно тише сказал Игореха, чувствуя, что начатая на пляже игра продолжается и тут.
— Я тебя поняла, — Ирина сбросила усиление. — Так лучше?
— Так нормально.
Пыль медленно оседала, покрывая серым налетом голову и плечи. Наконец Игореха разглядел и Ирину: та прыгала к нему, держа за ручку свою «метлу».
— Ну ты и шандарахнулся! — сказала она, припрыгав. — Прямо в воронку! Не будь тут пыли, я даже не знаю, что бы с тобой было!
— Полетела бы домой одна — и все дела, а больше бы, наверное, ничего не было, — сказал Игореха.
— Не выдумывай. В крайнем случае сработал бы аварийный режим. Только удар был бы посильнее.
— Куда уж сильнее? — буркнул Игореха.
— Ну, а теперь я хочу тебе кое-что показать… — Ирина обернулась. Насколько я понимаю, это недалеко…
Насколько это заметил Игореха, прыгать пришлось неблизко.
— Глянь, какой камушек! — Ирина подняла с поверхности камень. Понимаешь, нужно что-нибудь привезти с собой. А то потом скажут, что зря летала, только топливо жгла… Ты тоже что-нибудь присмотри…
— Такое? — спросил Игореха и нагнулся за камнем.
— Нет, — сказала Ирина, едва бросив взгляд в сторону Игорехи. — Ты что-нибудь ценное поищи.
— Золото?
— Нет тут никакого золота! — сказала Ирина. — За золотом мы с тобой слетаем в другое место. И серебра прихватим.
И Ирина процитировала слова старой сказки:
— «Собачка-собачка, принеси мне, пожалуйста, серебряных денежек!.. У одной глаза как блюдца, у другой как мельничные колеса, у третьей величиной с домну!»
— «С дюзу»! — поправил Игореха.
…Свесив ноги, они сидели на обломке скалы и смотрели на Землю. Перед их глазами было все то, что так страстно любила Ирина, — загадочный и прекрасный мир Космоса, так сильно отличающийся от привычного и уже немного надоевшего мира Земли.
Тишина была такой полной, что казалась попросту невозможной. Но это было не Безмолвие — во все стороны, куда ни глянь, простирался Космос: умопомрачительная бесконечность строительного материала, сверкающего и живого. Звезды были очень далеко. Даже нельзя было сказать, как они были далеко! Самое подходящее для этого — заменить бессмысленное в данном случае слово «далеко» на удивительное слово НИГДЕ. И удивительное слово ВСЮДУ.
В этих словах заключалась огромная сила — они действовали: после их произнесения становилось если и не понятнее, то значительно легче. Но самое удивительное было в том, что, приглядевшись, можно было разглядеть между НИГДЕ и ВСЮДУ — звезды, которые были еще дальше (дальше этих слов)! Но и за ними, в свою очередь, также были звезды… И даже там, куда не мог достать ни взгляд, ни самый совершенный прибор, ни даже самое исчерпывающее слово, были звезды. И за ними, там, куда не доставало ни самое исчерпывающее слово, ни даже самая остроумная МЫСЛЬ, — также были звезды. И даже там, так далеко, где в принципе, вообще ничего не должно было бы уже быть: ни слова, ни мысли — тоже были звезды… и за ними были звезды также. ВСЮДУ и НИГДЕ!
Вроде бы пустая вещь — слово. Но если бы в начале было не Слово, а Безмолвие, то что было бы потом? Скорее всего из Безмолвия не вышло бы ничего. Получалось, что Слово было главнее. Получалось, что оно и было в начале, тогда, когда еще Ничего не было, раньше Безмолвия. А Безмолвие появилось после Слова. Иначе откуда бы узнали, что оно Безмолвие? Безмолвие — это значит без того, что было в начале.
…Позже, когда оказалось, что смотреть больше не на что, Ирина сунула метлу между ног, откинулась назад и уперлась в поверхность ногами.
— Делай, как я! — сказала она.
Качнулась вперед, одновременно с этим движением врубила движок и как ракета выстрелила вверх.
Игореха выждал, пока осядет пыль, тоже уперся в поверхность ногами и качнулся вперед…
Оплошал он и на этот раз — «метла» улетела без него. Набалдашник сопла больно ударил Игореху по ноге, а выхлопом закоптило стекло шлема. Игореха уселся на камень, и, набрав пригоршню пыли, принялся сдирать со стекла противно скрипящую копоть. Рядом опустилась Ирина. Теперь Игореха сумел разглядеть, как это делается: на скорости девушка свалилась сверху и перед самой поверхностью пальнула «парашюткой».
…Четыре раза стартовал Игореха — и все четыре раза неудачно. Ирина каждый раз поджидала его на орбите и охотилась за «метлой».
— Всё, — признался Игореха после четвертого раза. — Больше не могу.
Пришлось Ирине сажать Игореху к себе. К этому времени у него разболелась голова и он окончательно расклеился.
Нагруженная двойной тяжестью «метла» не выстрелила, а медленно поднялась вверх.
Вышли на орбиту. По традиции заложили дугу, после чего полетели к Земле. Подождали. В отдалении мелькнули огни корабля, начавшего посадку. Полетели ему наперерез.
…Сильные руки втащили Игореху в люк. Помогли ему снять шлем.
— Больной? Катастрофа? Медицинская помощь? — сразу же осведомился приятный женский голос.
— Воды, — простонал Игореха.
— Оттащите его в бассейн, — сказала, засмеявшись, Ирина. — Есть у вас на корабле бассейн?
…Игореха плавал в бассейне, приходил в себя. Рядом на краю бассейна сидела Ирина.
— Я попросила задержать посадку, пока ты не очухаешься, — говорила она. Попадет мне за тебя. График сорвался.
— Это ничего, — отвечал Игореха, описывая круг. — Человеческая жизнь дороже!
…Корабль кружил по орбите до тех пор, пока вода из бассейна не перекачалась в баки, затем он вошел в атмосферу, совершил посадку и заскользил по бетонной полосе…
Когда Ирина и Игореха выбрались из корабля, у Игорехи еще не просохли волосы — ветер приятно касался их и холодил голову… А на краю бетонки все так же росли ромашки на неестественно длинных стеблях и не в такт покачивали головками.
…Так же как и вчера, садились и взлетали корабли, мягко шелестя по бетонной полосе. При каждом взлете, так же, как и вчера, вдувался в окно пузырь занавески. Те же ромашки стояли на столе и роняли вниз, на скатерть, желтые тычинки…
Внешне все было так же, как и вчера. Ирина спала на кушетке, подоткнув кулачок под щеку. Игореха сидел рядом на табурете. Света он не зажигал боялся, что слетятся Иринины друзья.
Спускались голубые сумерки. Корабли по-прежнему скользили по бетону с желтыми и зелеными габаритными огнями на стабилизаторах. Туда — слева зеленый, справа — желтый. Обратно — наоборот. Игореха уже усвоил эту нехитрую арифметику. Корабли садились и взлетали, взлетали и садились каждые регламентированные пятнадцать минут. Рядом с ромашками стоял будильник и нарочно громко тикал. От этого настойчивого «тик-так» находиться в маленькой комнате было не очень-то уютно. Игореха встал и вышел в коридор.
Около двери Тамары сильно пахло табачным дымом и в щели был виден свет. Игореха прошел по коридору раз, прошел два. И оба раза ему казалось, что дверь вот-вот откроется. Но этого не произошло.
Игореха знал, что рано или поздно все равно окажется в комнате Тамары, и только ждал, когда появится решимость, которая толкнет его на этот неловкий шаг.
Решимость так и не появилась. Даже после того, как Игореха несколько раз прошел по коридору. Тогда он просто стукнул в дверь.
— Да? — спросил за дверью грубый голос. — Кто там? Войдите.
Игореха толкнул дверь.
Тамара сидела на кушетке и вязала.
— Извините, — сказал Игореха. — Я ходил мимо вашей двери и не решался постучать.
— А я и не знала, что это вы там ходите, — сказала Тамара и положила вязанье на тумбочку.
Потянулась неловкая минута. Игореха не знал, зачем пришел. Тамара тоже этого не знала.
— Заходите, не стойте в дверях! — сказала она. А Игорехе послышалось в этом вежливое и шаблонное: «Ну, входите». Ну он и вошел.
— Ира заснула, — зачем-то признался он.
— Это бывает, — сказала Тамара. — Там новая пачка на шкафу, подайте, пожалуйста. Эта кончилась. — Она смяла в кулаке пустую пачку папирос и кинула ее в угол.
…Сидели, разговаривали о жизни, потом долго пили чай.
— Вы в карты играете? — спросила Тамара.
Игореха вспомнил, что когда-то играл. Поиграли в карты.
— Еще чаю? — спросила Тамара.
Игореха ответил, что чаю, пожалуй, он выпьет еще.
Опять пили чай. Игореха сидел и мучался оттого, что не знал, зачем пришел. Тамара также этого не знала.
За окнами совсем стемнело. Игореха слышал, как в комнате Ирины стучит будильник. Наконец там что-то звякнуло.
— Ира проснулась, — сказала Тамара.
Игореха поставил на табуретку недопитый стакан с чаем, расправил форменку, встал посередине комнаты, оглянулся на Тамару (та уже вязала) и ушел.
Больше в этот день ничего не произошло.
…Они с Ириной шагали по длинной бетонной полосе. За утро полоса успела нагреться, отчего асфальтовые стыки плит расплавились, к ним мягко прилипали носки Игорехиных ботинок. Дул ветерок, заносил с поля на полосу прозрачных стрекоз.
Из-за бугра выглянула проходная.
— Ну вот мы и пришли, — сказала Ирина, останавливаясь. — Ты куда дальше, в свой «Дельфин»?
— Еще не знаю, — ответил Игореха. — Не придумал. Они помолчали. Опасные слова (ВСЮДУ, НИГДЕ, НИКОГДА, НАВСЕГДА) лезли в голову настойчиво, сами собой.
— До свиданья! — как-то неожиданно громко сказала Ирина и протянула руку для прощания.
— До свиданья! — как эхо повторил Игореха и попытался чуть-чуть задержать в своей руке эту маленькую (ПОТРЯСАЮЩУЮ) загорелую ручку.
— Не надо, Игореха, — сказала Ирина. — Ты ведь все понимаешь.
Игореха кивнул. (Он не понимал ничего!)
Он видел, что девушка томится его присутствием, смотрит не на него, а куда-то вбок, но тем не менее он решил предпринять последнюю отчаянную попытку…
— Давай немного посидим?.. — предложил он.
…Они сидели рядом с бетонкой, и возле лица, колышимые несильным ветром, качались ромашки. Игореха думал о том, что что-то НАВСЕГДА кончается в его жизни, ЕДВА начавшись, обрывается самым непостижимым и странным образом. Между ним и сидевшей рядом девушкой легла бездна, Вселенная, тундра дремучая, которую не перелететь, не переплыть, не преодолеть. Думал о том, что с того самого момента, как он заметил ее — эту девушку — на пустом пляже, жизнь его перевернулась с головокружительной быстротой — теперь ему совершенно НЕЗАЧЕМ ехать в «Дельфин», куда недавно он так страстно хотел вернуться. А хочется ВСЕГДА сидеть рядом с ней, вдыхать этот степной горячий воздух…
— Ира… — позвал Игореха. Девушка не ответила, видимо думала о чем-то своем. Потом она повернула голову, и Игореха встретился с ее отсутствующим и не принадлежащим ему более взглядом.
«Бездна, — подумал он. — Вселенная. Тундра бесконечная, дремучая. НИГДЕ и ВСЮДУ!» Поднялся и, более не оборачиваясь, зашагал к проходной, поддавая ногой по бетонке неизвестно каким ветром занесенную сюда еловую шишку.
Через десять дней (в самый разгар второго тура соревнований) Игореха получил от Ирины телеграмму, где все произошедшее между ними в конце их знакомства (видимо, она имела в виду безмолвную сцену в ромашках) называлось трагической ошибкой, и она очень просила Игореху не обращать внимания на эти глупости и как можно быстрее, ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ (эти слова были выделены), вернуться на ракетодром, чтобы поговорить. Она так и написала «поговорить».
«Никогда!» — решил Игореха.
…И уже через час вышагивал по пляжу со спортивной сумкой через плечо, торопясь на автобус в аэропорт.
Был потрясающий летний вечер. Из тех, которые не часто и не каждому выпадают в жизни: задувал теплый бриз, мелкие волны лениво набегали на песок пляжа и оставляли на нем белые пивные кружева; а по горизонту медленно и неохотно, как в тире, передвигался кораблик.
Впереди была встреча с любимой девушкой.
Было то, что люди называют привычным словом «счастье». И что теперь Игореха мог бы назвать по-другому: сверкающим ВСЮДУ и сверкающим НИГДЕ.
Сергей Казменко ОЖИВЛЕННОЕ МЕСТО
— Ну, старик, нас можно поздравить, — сказал Тинг, оглядевшись. Здесь, по-моему, совсем неплохо: лес, ручей, лесок неподалеку. А эта лужайка, на который мы приземлились… Ты только посмотри, сколько вокруг цветов!
Арни поднял на секунду свое смуглое, со следами копоти на лбу лицо, мельком оглядел окрестности и, пробурчав в ответ что-то нечленораздельное, снова уткнулся в развороченные потроха навигационного блока. За годы, проведенные вместе, он настолько привык к болтовне Тинга, что в случае необходимости отключался и воспринимал ее как обыкновенный шум. В данный момент необходимость отключиться была налицо: ремонт навигационного блока — дело тонкое. А Тинг между тем не унимался:
— Я бы, конечно, с удовольствием помог тебе, но, сам понимаешь, пользы от этого никакой. Один лишь вред — каждому свое, как говорится. Так что мы с Муркой просто постараемся тебе не мешать. Правда, Мурка? спросил он у сидевшей в углу рубки кошки. Та вдруг перестала вылизывать лапу и застыла, уставившись на обзорный экран. Хвост ее напрягся, и кончик начал подрагивать.
— Ба, а вот и первые гости пожаловали, — проследив за направлением кошачьего взгляда, радостно воскликнул Тинг. — Глянь-ка, Арни, какая прелесть! Да у него же не меньше десяти лап! А вон там еще один, с хоботом. А левее — ну посмотри же скорей! — ну прямо как медвежонок. Смотри, смотри, играть начали. Честное слово, мне здесь нравится. Того и гляди из чащи выйдут смуглые туземки, увешанные гирляндами цветов.
— Или крокодилы, — не поднимая головы, буркнул Арни. — Ты чем болтать без толку, проверил бы лучше результаты анализов.
— Вот чего я в тебе не переношу, Арни, так этого твоего занудства, все тем же беспечным тоном произнес Тинг. Он совсем не обиделся. Смешно было бы обижаться на Арни. Да и тот никогда не обижался на болтовню Тинга. Они слишком привыкли один к другому за долгие годы полетов. И сдружились так, что — возникни в том необходимость — не раздумывая пожертвовали бы жизнью для спасения товарища. Что, впрочем, не мешало им временами ссориться из-за мелочей.
Арни, пилот-механик их старого, неведомо как еще летающего звездолета, был высок, худощав и смуглолиц. Тинг рядом с ним казался упитанным коротышкой, хотя на самом деле сложен он был вполне пропорционально. Обычно он выполнял обязанности контактера, а заодно ведал всей аналитической аппаратурой. Конечно, в случае необходимости и он смог бы занять пилотское кресло — не такая уж это трудная работа — но вот копаться в потрохах постоянно выходящих из строя блоков… Тинг не для того в шестнадцать лет отправился странствовать по космосу, убежав от своей не в меру заботливой мамочки, чтобы, попав на очередную привлекательную планету, возиться с утра до ночи со всякими железками. Каждому свое. Арни тоже ни за что не поменялся бы с Тингом местами. Его давно уже не привлекали все эти инопланетные диковины, от одного упоминания о которых у нормального человека кровь стынет в жилах. Желеобразные обитатели Кукубиры, как бы охватывающие тебя взглядом со всех сторон, всякая там говорящая плесень или же разумные сообщества препротивных на вид и пребольно кусающихся блошек… Нет уж, увольте. Арни предпочитал поменьше сталкиваться с подобной гадостью и охотно перепоручал все контакты Тингу. А сам, бывало, во время стоянки в очередном космопорте или же на оборудованной наспех площадке у какой-нибудь туземной деревушки занимался только и исключительно подкручиванием и подвинчиванием своего сложного пилотского хозяйства, ни разу не удосужившись выйти из рубки на свежий воздух. Тинг частенько смеялся над ним, намекая на какую-то любовную связь со всей этой механикой, а когда их заносило в очередной заселенный роботами мир — таких, как вы знаете, немало — неизменно пытался познакомить друга с какой-нибудь из местных красавиц. Но Арни давным-давно привык к шуткам Тинга и старался не обращать на них внимания. Он любил всю эту механику, начинявшую нутро их драндулета, постоянно заботился о ней и был доволен своим положением. Звездолет отвечал на его заботы взаимностью, и друзья умудрились налетать на нем уже в пять раз больше положенного по гарантии количества килопарсеков.
Но всякой удаче рано или поздно приходит конец. И надо же было такому случиться, что навигационный блок звездолета отказал как раз накануне замены, запланированной на следующей стоянке. Будь Арни фетишистом — а Тинг постоянно обвинял его в машинном фетишизме — он несомненно решил бы, что аппаратура намеренно вышла из строя, заранее мстя за планирующееся предательство. Но Арни фетишистом не был. Машина есть машина, а случайность есть случайность, и все рано или поздно ломается. Хорошо еще, что авария оказалась не слишком серьезной, и, постаравшись, поломку вполне можно исправить. Только вот даст ли им эта планета достаточно времени?
В отличие от Тинга Арни не испытывал особого восторга, глядя на окружавшее их великолепие. Он прекрасно знал, что в Галактике наиболее опасны как раз такие миры — живые, цветущие, так и излучающие гостеприимство. Природа экономна, она не станет просто так делать планету столь привлекательной. А значит, вся эта окружающая красота скорее всего таит какую-нибудь ловушку. Арни с радостью оказался бы сейчас на поверхности суровой, безжизненной, враждебной планеты. И пусть снаружи бушевали бы ураганные ветры, пусть бесчисленные молнии из низко летящих туч ударяли бы в корпус их звездолета в тщетной надежде найти брешь в универсальной защите, пусть вокруг извергались бы многочисленные вулканы, а со склонов растущих прямо на глазах гор с грохотом низвергались бы камнепады. Тогда, по крайней мере, не пришлось бы тревожиться за Тинга, которому непременно требовалось влезть в очередное приключение, вступить в контакт с кем угодно, только бы не торчать внутри звездолета под надежной защитой его силового поля. Знай Арни заранее, как радушно встретит их эта планета, он ни за что не решился бы совершить посадку.
Но исправлять что-либо было уже поздно. Когда после аварии навигационного блока их выбросило из надпространства, планета оказалась совсем рядом. Арни не оставалось ничего другого, как совершить вынужденную посадку — не сделай он этого, Тинг перепилил бы ему шею своими упреками. Из двух зол Арни выбрал меньшее — так ему тогда показалось.
И только после посадки понял, что сильно ошибался.
Теперь единственное, на что он надеялся — это на результаты анализов. Авось приборы покажут наличие в атмосфере какой-либо ядовитой примеси. Или — говорят, бывает и такое — обнаружится наличие в окружающей среде сверхболезнетворного вируса, против которого бессильна даже унивакцина. Или, наконец, раздвинутся кусты, окружающие место посадки, и оттуда покажется страшная зубастая пасть какого-нибудь чудовища, один вид которой накрепко отобьет у Тинга желание покидать звездолет. Правда, на это было лучше не надеяться — Арни по опыту знал, что, несмотря на свою отнюдь не героическую внешность, Тинг вряд ли испугается очередного монстра. Скорее наоборот — появление подобной твари заставит его выскочить из звездолета и броситься вдогонку. Именно вдогонку, потому что энтузиазм, с которым Тинг бросался на изучение всего нового, способен был обратить в бегство даже саблезубого тигра.
Но надеждам Арни не суждено было сбыться. Атмосфера планеты оказалась вполне пригодной для дыхания, анализаторы не выявили в ней ни малейших следов хоть сколько-нибудь болезнетворных микроорганизмов — признак, надо сказать, весьма тревожный, поскольку подобное возможно лишь на обитаемых планетах с полностью контролируемой биосферой — а появлявшиеся на лужайке перед звездолетом существа не вызвали бы тревоги даже у воспитателя детского сада. В общем ситуация — хуже не придумаешь. И уже через пять минут после завершения всех анализов Тинг, облачившись, правда, для первого раза в скафандр, скрылся в шлюзовой камере. Делать было нечего, аппаратура требовала ремонта, и Арни, упрятав свою тревогу как можно глубже, принялся за работу.
Тинг вернулся к вечеру весь сияющий. Он выполз из скафандра, ввалился в рубку и набросился на еду, не переставая при этом трещать без умолку. Попробовал бы пресловутый Демосфен заменить свои камешки во рту добрым ломтем хлеба с ветчиной, да еще запить все это кружкой венерианского пива — лучшего средства для утоления жажды в обжитой части Вселенной. Демосфену, наверное, пришлось бы на какое-то время замолчать — Тинг говорил без умолку.
— Слушай, старик, это нечто! Это, я тебе скажу, такая планета! Обалдеть! — он запихнул в рот остатки ветчины и потянулся к кухонному автомату за следующим куском. — Я еще не видел ничего подобного. Не-ет, ты у меня не усидишь в кабине, я обязательно вытяну тебя наружу. А какие здесь птицы, а как они поют! Представляешь, этот лес так и кишит всякой живностью! Столько тут разных зверюшек, что хоть год смотри на них — не устанешь. И все разные. Представь, старик, я за целый день не встретил и двух одинаковых. А какие здесь деревья! Ты помнишь Эгибинак? Так вот здесь еще красивее!
Арни помнил Эгибинак. Одно воспоминание об этом мире, где он чудом успел выкупить Тинга у местных жителей — полосатых моногалусов собиравшихся им позавтракать, до сих пор заставляло Арни содрогаться. Но Тингу такие воспоминания жизни никогда не портили. Все неприятности скатывались с него, как с гуся вода, и Арни не раз задавался вопросом: что было причиной, а что следствием в поразительной жизнестойкости Тинга? То ли причина в невероятном везении, то ли в отношении ко всем невзгодам, в убежденности, что, раз худшее миновало его в очередной раз, значит по-иному и быть не могло, а раз так, то стоит ли тревожится?
— Ты мне лучше объясни, почему ты ушел так далеко? — мрачно спросил Арни, останавливая поток восторгов, лившийся из Тинга не менее щедрой струей, чем лилось венерианское пиво в его ненасытную утробу. — Если бы с тобой что-нибудь случилось, то как, по-твоему, я смог бы тебе помочь?
— А что со мной могло случиться? — искренне удивился Тинг. — Пойми ты, чудак, что этот мир создан для того, чтобы им наслаждаться. Разве это не ясно? Разве ты не видишь, как все вокруг прекрасно? Ты протри глаза да оглядись как следует. Ну где еще видел ты сразу столько восхитительных цветов? Где еще так ласково дует ветерок, так чудесно журчит вода в ручье, так манит поваляться на себе трава? А местные зверюшки — они же совсем безобидны. Представь, тут летает тьма-тьмущая всякой мошкары, но за весь день меня ни одна тварь даже не пыталась укусить — они просто порхают с цветка на цветок и пьют нектар. Честное слово, я даже чувствовал себя каким-то отверженным. Мне казалось, что они видят во мне чужака, кровь которого смертельно ядовита, пока я не понял, что и местных зверюшек тоже никто не кусает.
— Что?! — Арни не находил слов от возмущения. — Ты совсем рехнулся? Кто разрешил тебе снимать скафандр?
— Ну вот так и знал, что ты рассердишься, — вид у Тинга на мгновение стал виноватым. Но только на мгновение — ведь с ним же не случилось ничего страшного. А значит, и не могло случиться. Так стоит ли тогда поднимать шум?
— Теперь мне понятно, отчего пропадала связь, — желчно сказал Арни и, отвернувшись, снова залез в потроха полуразобранного навигационного блока. Пора бы уже привыкнуть, думал он. Ведь столько лет вместе летаем. И все же никак, ну никак не мог он привыкнуть к диким, на его взгляд, выходкам Тинга.
— Да пойми же ты, старик, — Тинг снова говорил как ни в чем не бывало, — что эта планета — сущий рай для всех живых тварей. А значит и для нас с тобой тоже. Я не увидел здесь ни одного хищника, а все зверюшки так ласковы, словно их специально приручали. Они же никого не боятся — ни друг друга, ни меня. Представляешь, птицы садились мне на шлем и пели песни, пока я шагал через лес! А за холмом, у самого озера, прямо у меня из-под ног выполз из норы какой-то змей со смешными глазами и принялся щипать травку. Это же просто здорово, что планета не значится в курортных каталогах. Иначе бездельники со всех концов Галактики давным-давно вытоптали бы тут всю траву, распугали бы птиц и зверюшек, замутили воду в ручьях и пообломали бы все ветки с цветами. Ну да ты сам знаешь эту публику.
— Не вижу в этом ничего хорошего. Планета не значится в курортных каталогах — именно это и кажется мне самым подозрительным, — помимо своей воли снова втянулся в разговор Арни.
Поначалу он хотел вообще перестать разговаривать с Тингом, но продержался не больше пяти минут — как всегда, когда пытался таким вот способом вразумить друга. Даже в тех редких случаях, когда Арни умудрялся продержаться дольше, Тинг не проявлял ни малейших признаков раскаяния и желания исправиться в будущем. Нет, человека приходится принимать таким, каков он есть, и наивно даже пробовать переделать его под собственный стандарт.
— Не мы первые, наверное, здесь оказались, — сказал он. — И не мы первые можем поплатиться за свое ротозейство. Эта планета слишком похожа на ловушку для простаков вроде тебя. Но я — почему я должен страдать? Ты хотя бы над этим попробуй задуматься.
— Так и не надо страдать, Арни, — Тинг говорил так, будто совершенно не понял смысла последнего восклицания. — Брось ты возиться с этими железками, подождут они. Мы же никуда не спешим и все равно собирались отдохнуть пару недель на каком-нибудь курорте. Так давай отдохнем здесь. Это гораздо лучше, чем загорать где-нибудь на пляже среди тысяч тебе подобных и глохнуть от постоянного гомона. Решено — бросай работу и идем купаться. Вода в озере — это, я тебе скажу, нечто!
Арни посмотрел на Тинга как на идиота. Слов у него не было.
— Ну да, я там искупался, — нисколько не смутился Тинг. — Ты бы и сам не удержался. Это же такое блаженство, особенно после двух недель полета, что не передать. И вода — как парное молоко. Кстати, и солнце садится. В таких озерах лучше всего купаться в темноте, при звездах. Тем более, что у нас все равно нет с собой плавок, а ты, я знаю, стеснительный.
— Нет, Тинг, — Арни тяжело вздохнул. — Тебя ничего не исправит. Даже если бы в озере резвилась стая кровожадных акул, ни одна из них не решилась бы тебя тронуть. С такими, как ты, лучше не связываться. Но когда-нибудь ты дождешься. Когда-нибудь я сам тебя разорву на куски.
— Так, значит, мы не пойдем купаться? — немного помолчав, разочарованно спросил Тинг. Это было все, что он сумел понять.
— Приготовь приборы, — вздохнув, ответил Арни. — Ночь будет ясная. Попробуем сориентироваться по звездам. Может, поймем, куда нас занесло. И покорми Мурку, — добавил он уже из недр навигационного блока.
Темнота наступила неожиданно быстро, и все небо покрылось яркими звездами. Будь земное небо столь богато красивыми созвездиями, думал, глядя на экран, Арни, люди гораздо раньше стали бы поднимать голову и задумываться над вопросом, что же таится за хрустальным небесным сводом. Судя по всему, их выбросило из надпространства где-то вблизи центра Галактики. Само небо здесь казалось белесым от света бесчисленных звезд, уже неразличимых простым глазом — так выглядит с Земли знаменитый Млечный Путь. Лишь кое-где чернели зловещими дырами кляксы пылевых туманностей. Не меньше часа провозились с приборами и звездными атласами друзья, пытаясь установить хотя бы приблизительно свое местоположение, но все оказалось тщетно. Будь координатор исправен… Но что толку сетовать на неизбежное. Надо было починить прибор, а пока приходилось довольствоваться сомнительным предположением об отсутствии этой планеты в справочниках.
Тинг перед сном даже пролистал стоящий на полке путеводитель по галактическим курортам, и, не обнаружив ничего похожего на планету, куда их занесло, с удовлетворением водворил книгу на место. Ему мнилась слава первооткрывателя, и потому хотелось — прежде чем неизбежно придется убедиться, что планета эта, конечно же, давным-давно открыта и занесена в галактические лоции — какое-то время пожить в этом состоянии. Тинг вообще был любителем пожить в самом широком смысле этого слова, и искренне не понимал, почему он должен в чем-то себя ограничивать, если его действия никому не приносят вреда. Что же касается его любящей мамочки, до сих пор мечтавшей вернуть свое любимое чадо под родительское крылышко, а также нескольких десятков красавиц, терпеливо дожидавшихся — или нетерпеливо разыскивавших — его во всех концах нашей излишне населенной Галактики, то он при всем своем добродушии и доброжелательности к людям просто не мог понять, что делает кого-то несчастным своими поступками. Он сам был почти постоянно счастлив и совершенно искренне желал счастья почти всем, с кем его сводила судьба, обычно весьма благосклонная к подобным людям.
Ночью прошел дождь, но перед рассветом небо очистилось, и взошедшее солнце расцветило мир во все цвета радуги. Арни проснулся мрачный и злой. Всю ночь его мучили кошмары, всю ночь Тинга прямо у него на глазах то рвало на части и пожирало неведомо как появившееся на лужайке пятнистое чудище, то затягивали под воду страшные щупальца обитавшего в глубинах озера спрута, то кусали ядовитые змеи, забравшиеся в скафандр, пока Тинг плескался в воде. Тинг же, напротив, спал безмятежно, как младенец, с какой-то затаенной улыбкой на губах, так что у проснувшегося первым Арни, уже решившего было выдумать благовидный предлог, чтобы запретить другу покидать звездолет, не хватило духу даже заикнуться об этом. Он в который уже раз убедился, что многие годы подряд делит все радости и опасности космических странствий со взрослым ребенком — а у кого же хватит духу отобрать у ребенка только что подаренную игрушку?
После завтрака Арни вновь забрался с головой в навигационный блок, а Тинг, отчаявшись выманить друга из звездолета, стал собираться на прогулку. По настоянию Арни он надел на спину ранец с генератором защитного поля — хоть какая-то защита, раз уж он не надевает скафандра привесил к поясу излучатель и походную аптечку с универсальным противоядием и обещал вести себя очень осмотрительно. Арни знал цену подобным обещаниям — но что он мог поделать?
— Зря ты все-таки не хочешь прогуляться, — сказал Тинг, собравшись. Глядишь, и работа пошла бы веселее. Ну да тебя уговаривать бесполезно… Возьму с собой хоть Мурку, что ли. Мурка, пойдешь со мной гулять?
— Оставь животное в покое, — сказал Арни, едва успев подхватить радостно метнувшуюся к выходу кошку. — Хватит в нашем экипаже и одного самоубийцы.
— Эх, Мурка, ну и унылый же человек твой хозяин, — вздохнув, сказал Тинг, открывая входной люк.
Он бродил по окрестностям до самого обеда и вернулся, как и накануне, в полном восторге. Планета, на которой они оказались, действительно была прекрасной игрушкой, и то, что он успел увидеть, наверняка было лишь малой долей хранимых ею чудес.
— А какие же тут бабочки, Арни! — захлебываясь от восторга, говорил он. — Крылья — во! Честное слово! И все разные. И тоже ни капельки меня не боялись, даже смешно. Я видел, как птица и бабочка сидели рядом на одной ветке и пили нектар из одного цветка.
— Наверное, эти бабочки просто ядовиты. Да и все остальные зверюшки тоже — вот почему здесь нет хищников. Узнать бы только, куда же здесь деваются слабые да больные?
— Да какая нам разница? Я, например, таких ни разу не видел. Может, в этом мире попросту не бывает болезней. Может, они все тут бессмертны. Ведь в таком раю и умирать незачем. Тут даже пчелы не жалят! Честное слово, я нашел дупло и попробовал меда — и ни одна меня не ужалила.
— Фул пруф, — сказал Арни.
— Что?
— Защита от дурака. Планета, наверное, специально создана как раз для таких, как ты. Придется оставить тебя здесь, чтобы не переживать за твою безопасность. А то мне постоянно страшно подумать, что я буду говорить твоей мамочке, когда вернусь из очередного рейса в одиночестве. — Арни отвернулся и стал копаться в ящике с инструментами.
— А ты знаешь, неплохая идея, — ответил Тинг. — Мне здесь нравится. Я бы и вправду здесь остался. Нет, кроме шуток. Это же райское место, здесь можно прожить лет десять подряд, и не надоест. Тут же столько интересного! Представляешь, за два дня я не нашел в этом лесу даже двух одинаковых деревьев, не видел двух одинаковых животных. О чем, по-твоему, это может говорить?
Какое-то смутное воспоминание, намек на воспоминание шевельнулось в мозгу у Арни. Но нет, ни о чем это ему не говорило. И все же на душе у него вновь стало тревожно.
— Впрочем, — сказал Тинг, немного подумав, — нет. Десять лет я здесь не протянул бы. Даже и десяти недель, пожалуй, было бы многовато. Вот если бы и в самом деле повстречать смуглокожих аборигенок…
— …нагих и увешанных гирляндами цветов, — закончил за него Арни. Ну-ну. Я уж было подумал, что ты уже повстречал парочку.
— Увы, чего не было, того не было. Наверное, этот мир необитаем. А жаль. Впрочем, все это поправимо. Зато я видел такое, — Тинг снова оживился. — Ты и вообразить подобного не можешь. Представь — иду я по тропинке к озеру. И вдруг вижу, как с дерева прямо мне под ноги падает мышонок и шмыг в траву. Тогда я поднимаю голову — а там прямо надо мной ветка качается вот такущими грушами увешанная. На вид — ну самые первосортные груши.
— Вкусные?
— Не знаю, я не успел попробовать.
Тинг, конечно, не услышал сарказма в голосе Арни. Он, конечно, попробовал бы эти груши, если бы что-то ему не помешало. И они, несомненно, оказались бы не просто съедобными — нет, они наверняка были бы потрясающе вкусны. Все, с чем Тинг соприкасался в жизни, неизменно оказывалось удобным и безопасным, даже если здравый смысл восставал против подобного положения вещей. Впервые, наверное, за все годы их дружбы Арни подумал, что, создавая его друга, Вселенная решила пошутить, поменяв местами причину со следствием. И потому планеты, на которые высаживался Тинг, оказывались приятными для жизни и вполне безопасными, экзотические плоды, которые он пробовал, не содержали яда, а аборигены, с которыми Тингу как контактеру постоянно приходилось общаться, почти всегда оказывались мирными и добродушно настроенными. И в то же время Арни не сомневался, что, доведись ему первым попробовать эту грушу, и он еще легко бы отделался, если бы универсальное противоядие вытащило его с того света, а планеты, на которые ему пришлось бы высаживаться в одиночку, оказывались бы либо совершенно непригодными для жизни, либо населенными злобными, жаждущими крови туземцами. По сути дела, вдруг подумалось Арни, все эти годы он, обычный, в общем-то, человек, хотя и пилот-механик экстра-класса, грелся в отраженных лучах потрясающего счастья, отпущенного Вселенной на долю Тинга. Ну чем, кроме как невероятным везением, можно было бы объяснить их многолетние безаварийные полеты на едва живой от старости колымаге? А произошедшая, наконец, авария — быть может, просто очередное везение, и Арни просто не в состоянии пока понять этого? А потому лучше не пугаться весьма проблематичных опасностей, нужно постараться воспринимать везение как нечто само собой разумеющееся и постараться получать от этого максимум удовольствия. Так, как это делает Тинг.
И потому Арни спросил — уже просто с любопытством, уже без тени сарказма:
— А что же тебе помешало попробовать?
— Да побрезговал я. Понимаешь, мышка-то эта, оказывается, оттуда, из одной из этих самых груш выскочила.
— Она, значит, эти груши раньше тебя оценила?
— Я тоже сперва так подумал, как дыру-то увидел. Да там что-то другое. Понимаешь, сорвал я соседнюю-то грушу, чтобы попробовать, да сперва ее разрезал. Вдруг, думаю, червивая?
— Ну и что?
— А то, что там внутри тоже мышка сидела. Такая же. Только она эту грушу не ела.
— Почему?
— Потому что она еще не родилась.
— Что? — Арни сперва подумал, что ослышался.
— А вот то. Они, мышки эти, вместо семян внутри груш созревали. Лежала она в самой середке, а пуповина к черенку шла. Я так понимаю, что, как приходит ей время родится, пуповина отпадает, мышка прогрызает ход наружу — и все. Как тебе это нравится?
— Чушь какая-то.
— Это проще всего так сказать. Тем более тебе, который ни разу так и не вышел наружу. А по моему мнению, тут все живые организмы родственными узами связаны и все друг для друга живут. Я же не только это чудо видел. Как тебе, например, понравится птица, высиживающая в гнезде большущие такие семена вместо яиц? Самые настоящие семена, с персиковую косточку размером.
— Может, у них яйца такие, — неуверенно сказал Арни.
— Ага, яйца. И два яйца уже проросло. Я же не слепой, я же видел, как она проросшее семечко понесла в землю закапывать. Тут нам наверняка еще такое увидеть предстоит… Но что бы ни случилось, одно несомненно — нам с тобой ничего здесь не грозит. Раз уж местная жизнь течет в такой гармонии…
— Гармония, конечно, штука хорошая. Но чем они тогда питаются?
— Травой, нектаром, плодами всякими. Я видел, как какую-то козочку тут целый выводок самых разных малышей сосал. Не-е-ет, эту планету надо исследовать и исследовать, чтобы разобраться, в чем тут дело. Но одно ясно — если и есть в мире рай, то именно здесь.
— Ну тогда исследуй, — ответил Арни с каким-то сомнением в голосе. Он снова ощутил внутри непонятную тревогу, но не мог осознать ее причины, и потому сказал первое, что пришло в голову: — Я только вот чего опасаюсь. Вдруг здешний мир развивается циклически, и уже назавтра от этой идиллии не останется и следа? Или в тебе он еще не опознал потенциально опасного чужака. А назавтра выйдут из кустов эдакие милые зверюшки и укажут кому надо на тебя лапкой. Вот, мол, враг, рвите его на части. Как тебе нравится такая перспектива?
— Да брось ты меня пугать, — на Тинга, судя по всему, слова эти впечатления не произвели. — Что я, ничего, по-твоему, не соображаю? Ты же сам говорил, что у меня особое чутье, что я всегда чувствую, когда пора сматывать.
Арни действительно так говорил. И не однажды. Но относились эти слова только и исключительно к любовным похождениям Тинга. Там чутье на опасность у него было феноменальным. А здесь… Что ж, оставалось только надеяться, что чутье и здесь сработает. Ведь все равно не имело смысла стартовать, не зная своего точного местоположения, а убедить Тинга быть поосмотрительней Арни давно уже потерял надежду.
После обеда Тинг полчасика вздремнул, а потом снова собрался погулять — он хотел осмотреть местность выше по течению ручья. Вернулся он, когда уже смеркалось, и глаза его так знакомо поблескивали, что Арни понял все без слов. Слишком хорошо знал он повадки своего друга, чтобы хоть на мгновение усомниться. Слишком хорошо знал он также, что теперь неизбежно последует.
— Ну? — флегматично спросил Арни, заранее готовясь к худшему.
— Ты не поверишь, — ответил Тинг, развалясь в пилотском кресле и закинув ногу на ногу.
— Да говори уж, — Арни тяжело вздохнул. Сиди на месте Тинга кто-нибудь другой, он и в самом деле не поверил бы. Но не поверить в таком деле Тингу он не мог.
— Я и сам бы не поверил, Арни. Ну не может же нам везти до такой степени! Но я их действительно видел. Своими собственными глазами.
Только тут Арни понял, что друг его действительно удивлен происшедшим. А это что-нибудь да значило — немногое могло удивить Тинга, привыкшего воспринимать везение как должное. Это значило хотя бы то, что везение зашло на сей раз слишком далеко.
— И сколько же их было?
— Пять. По-моему, пять. Правда, они быстро скрылись в чаще, и, пока я туда добрался, их и след простыл. Но ручаюсь, мне не померещилось. У меня же глаз — ты сам знаешь. Ну такие формы, скажу я тебе. Само совершенство! Вот здесь, правда, многовато, да к тому же две были явно в положении, но в остальном…
— Ты успел все это разглядеть издали?
— А что тут такого? — Тинг пожал плечами. — Говорю же тебе, у меня глаз наметанный.
— А вот интересно, как на это дело смотрят туземцы? Может, им совсем не кажется, что вот здесь многовато — ты не спрашивал?
— Да отстань ты со своими туземцами! Не видел я никаких туземцев! Что ты всегда пристаешь ко мне с такими вопросами? Какое мне до них дело?
Мужское население действительно Тинга никогда не беспокоило. Каким-то удивительным образом ему всегда удавалось избежать неприятностей. Ну а того, что значительная часть предназначенных на его долю неприятностей доставалась при этом Арни — просто потому, что они путешествовали всегда вместе — Тинг попросту не помнил.
— Я вообще вот что подумал, — как ни в чем не бывало продолжил он. Это же наверняка девственная планета. В полном смысле этого слова девственная, понимаешь? Тут, по-моему, вообще не было в биосфере мужского начала — потому они здесь и уживаются друг с другом безо всяких конфликтов.
— Хм… Чтобы женщины да уживались друг с другом, да еще в масштабах целой планеты…
— Да пойми же ты, что в этом мире просто изначально им нечего было делить. И не к чему стремиться, кроме одного — дарить жизнь. Именно потому и возник здесь рай. А мы с тобой — наверняка первые мужчины, его посетившие.
— Ты так полагаешь? Ну тогда мне придется немедленно запереть тебя в трюме, пока ты не нарушил эту идиллию.
— Да ну тебя! Я тут пытаюсь развить новую теорию…
— Ты бы лучше занялся исследованиями по плану высадки, а не гонялся по лесу за аборигенками. Тогда многое бы стало понятно и без заумных измышлений.
— Да подождут твои исследования! Как будто приборы покажут больше, чем мое чутье! Я же, как-никак, контактер, я свою работу знаю. И раз эта планета населена, то моя первоочередная задача не исследовать ее приборами, а установить контакт с аборигенами.
— Об аборигенах, насколько я понял, речи пока не было. Ты пока что видел одних лишь аборигенок. И я бы лично предпочел — ты уж извини, что я осмеливаюсь вмешиваться в твою область — я бы предпочел, чтобы с ними ты контакта не устанавливал. В последний раз, когда ты это сделал, мне, помнится, изрядно намяли бока, выясняя, где ты можешь прятаться. К сожалению, я не мог удовлетворить их любопытства, и некоторые синяки болят до сих пор. Это уже стало в нашем экипаже традицией, и такая традиция мне лично совсем не нравится.
— Вот уж не предполагал, что ты станешь меня упрекать, — искренне обиделся Тинг. — А еще друг называется. Если бы я оказался на твоем месте, я бы тебя ни за что не выдал. Или ты думаешь по-другому?
— Нет, Тинг, по-другому я не думаю. Беда только в том, что на этом месте почему-то неизменно оказываюсь именно я. Ты только и делаешь, что развлекаешься, я же за твои развлечения расплачиваюсь.
— Вот она, людская благодарность, — Тинг тяжело вздохнул. — И это говорит человек, которого силой не вытащишь из звездолета. Вспомни, неблагодарный, сколько раз я звал тебя с собой! Так вот учти — завтра же я приведу сюда самую прекрасную из аборигенок, а сам буду держать оборону у наружного люка. И пусть тебе станет стыдно, когда я погибну, пронзенный отравленными стрелами.
Арни ничего не оставалось, кроме как вздохнуть. На продолжение спора сил у него не было.
Наутро, наскоро позавтракав, Тинг собрался уходить. Арни молча наблюдал, как он достал из бокса свой самый лучший тропический костюм, тщательно побрился, оделся перед зеркалом и, насвистывая какую-то веселую мелодию, принялся укладывать в ранец какие-то приборы. Наконец, не выдержав, Арни спросил:
— Зачем тебе сегодня приборы-то брать? Неужели ты еще и работать собираешься?
— Разумеется нет. Просто я хочу пустить аборигенам пыль в глаза. Ну да ты все равно не поймешь, специфика работы контактера тебе недоступна.
— Да где уж мне. Понять бы только, зачем тебе вдруг понадобился генератор кода? — кивнул он в сторону плоской белой пластины, которую Тинг вытащил из гнезда на пульте.
— Хочу по пути забраться в диспетчерский корпус. Может, аппаратура там еще исправна.
— Забраться куда?!
— А я разве не говорил? Я же вчера на него наткнулся, как раз хотел внутрь залезть, а тут эти красотки… Да не смотри ты на меня так! Ну вылетело из головы. Велика важность! Там же все давным-давно поросло лесом — и площадка посадочная, и строения. Пошли вместе, покажу, если тебе так интересно…
Но Арни его уже не слушал. Он кинулся к полке и схватил с нее справочник по обитаемым мирам. Подробностей он не помнил, но теперь понял, откуда же взялось в душе то нехорошее предчувствие, что не оставляло его с самого первого выхода Тинга наружу. Если бы знать заранее, в каком разделе справочника искать сведения об этом мире, если бы Тинг, этот олух царя небесного, хоть немного интересовался лоциями!..
Нужную страницу он нашел почти наугад. Это было нетрудно — немного в Галактике районов, строго закрытых для посещения! Все совпадало — звезды, по которым они пытались определиться позавчера вечером, не оставляли места сомнениям. Они были на Хиелоре — планете, к которой запрещено приближаться на расстояния, меньшие пяти световых лет. И сразу же все увиденное здесь получало объяснение.
Арни положил справочник на пульт и вытер рукавом вспотевший лоб. Все было кончено.
— Ну так я пойду, — тихо сказал за его спиной Тинг, бочком пробираясь к выходу.
— Я тебе пойду! — заорал Арни и, обернувшись, схватил Тинга за шкирку и бросил его в кресло перед пультом. — Я тебе пойду! Идиот несчастный! Стартуем через пять минут! — и, не обращая внимания на слабые, недоуменные протесты Тинга, начал подготовку к старту.
Теперь можно было лететь и с неисправным навигационным блоком, теперь, когда местоположение стало известно совершенно точно, навигационный блок был не очень и нужен. Вход в ближайший надпространственный тоннель находился совсем рядом, Арни нашел бы его теперь и с закрытыми глазами. Да что в этом толку, если у входа будет уже ожидать их патруль межзвездной полиции с аннигиляторами на взводе? В лучшем случае им грозил карантин на долгие месяцы, если не на годы. А в худшем…
Когда через несколько минут после старта притихший было Тинг осмелел и принялся расспрашивать, в чем, собственно, дело, и что, черт подери, все это означает, Арни, передав управление автопилоту, поднял с пола справочник и, раскрыв его на нужной странице, сунул Тингу под нос.
— На! — сказал он. — Читай!
— Хиелора? Хм, впервые слышу это название.
— Немудрено, — сквозь зубы ответил Арни. — Зато ты знаешь все забегаловки по обе стороны Млечного Пути. А я как последний идиот поверил в твою удачливость и разрешил выходить без скафандра!
— Ну и что? Ведь анализы же показали, что опасности там не было.
— Да, не было. Твоей жизни на Хиелоре действительно ничего не угрожало. И моей тоже. И жителям этой Хиелоры, которые ее когда-то населяли, тоже не угрожало ровным счетом ничего. Две сотни лет назад хиелорцы владели едва ли не самой совершенной в Галактике биотехнологией, и они сумели превратить планету в цветущий сад. Да только сдуру как-то изобрели вирус, поражавший клетки репродуктивных органов всех живых существ планеты. Он эти клетки не убивал — просто, покидая их, захватывал с собой копии части генома. А потом встраивал эти копии в новые зараженные клетки и побуждал их к делению. Понимаешь ты, что произошло, когда вирус этот распространился по всей планете?
— Ты же знаешь, Арни, в теории я не силен. Объясни ты по-человечески, — жалобным тоном ответил Тинг.
— Ну да, в этой области ты силен только в практических вопросах, прорычал Арни. Но что толку теперь злиться? Тинг он и есть Тинг, и переделать его невозможно. И Арни продолжил уже спокойнее: — Надеюсь, ты понимаешь, что это такое — вид живого существа?
— В общих чертах понимаю, — кивнул Тинг.
— Так вот, этот вирус, который они выпустили на Хиелоре, уничтожил само понятие вида. Вот почему ты здесь не встретил и двух одинаковых растений или животных. Каждое из них имеет собственную генетическую структуру, отличную ото всех остальных. И каждое из-за дьявольского коварства этого вируса умудряется производить на свет вполне жизнеспособное потомство, в корне отличающееся от своих родителей. Причем мать никогда не знает, не может знать, чьи гены принес с собой оплодотворивший ее вирус.
— А разве это так уж плохо, Арни? Ведь он же никого не убивает.
— Уж лучше бы он убивал. А так… Подумай сам, каково это для женщины — не знать, кто у нее родится: помесь человека со слоном или с баобабом? Или вообще с каким-нибудь клещом. Жители Хиелоры слишком поздно поняли, какую глупость они совершили, и справиться с вирусом уже не смогли. Потому что разум оказался рецессивным признаком и практически никогда не наследовался. Они все вымерли от старости, а их потомство… Те аборигенки, которых ты видел — не более, чем зверюшки, несущие в себе часть человеческого генома.
Некоторое время Тинг подавленно молчал. Но потом природная жизнерадостность взяла верх.
— Ну хорошо, Арни, но нам-то с тобой какое до этого дело? Ты же сам говоришь, что этот вирус не угрожает жизни. А рожать детей мы, по-моему, и так не собирались.
— Мы-то не собирались. А где гарантии, что мы не занесем этот вирус в другие миры?
— Ну не знаю… Карантин пройдем. Полечимся, наконец.
— Карантин… Только на карантин и надежда, — с сомнением в голосе сказал Арни.
До обеда они больше не разговаривали. Арни занимался навигационным блоком, а Тинг усердно читал в справочнике статью о Хиелоре. Наконец, когда подошло время обедать, он отложил справочник в сторону и сказал:
— Так я правильно понял, что теперь к общему, так сказать, генофонду Хиелоры добавились и мои гены?
— Правильно, Тинг, правильно, — поджав губы, ответил Арни.
И тут Тинг захохотал. Он смеялся так долго и заразительно, что в конце концов и Арни не выдержал и тоже засмеялся. Лишь минут через пять, с трудом подавив приступ хохота, он выдавил:
— Т-ты ч-чего смеешься?
— Да я п-подумал, — вытирая слезы, через силу сказал Тинг. — Как смешно это будет. П-представляешь, разрезают арбуз, а из него вылезает м-маленький человечек — точь-в-точь как я, — и он снова захохотал.
Когда через три месяца Мурка принесла четырех детенышей — розовых, с длинными хвостиками и острыми кошачьими ушками, но во всем остальном удивительно похожих на Тинга — им обоим стало не до смеха.
Галина Усова ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
— Жером Жестен! Шеф ждет вас.
Жером вскочил с кресла, встал навытяжку и низко наклонил голову.
— Благодарю вас, мадемуазель, — звонко обратился он к пустому пространству. Ничего другого не оставалось, ибо пригласивший его женский голос дошел до него всего только через микрофон, обладательница же его, судя по тембру, молодая и с приятной внешностью, находилась вне пределов видимости. Во всяком случае, в приемной Жером сидел в одиночестве, а дверь оттуда, как выяснилось, вела прямо в кабинет шефа — никакого закутка с телефоном, где могла бы помещаться секретарша с мелодичным голосом. Но вежливость прежде всего, особенно с дамами. И Жером от души поблагодарил голос, стащив с темных кудрей ослепительно новую фуражку со светло-синим околышем, на котором красовалось изображение золотого солнца, на отходящих вверх лучах полукругом расположились буквы ФДКП — Флот Дальних Космических Перевозок. Устав Флота допускал относительную свободу и не требовал обнажать голову перед начальством, но Жером не мог не снять фуражку перед дамой, даже если ее не видно. Кто знает, а вдруг она видит его на своем экране?
Адмирал Делабре окинул Жерома с головы до ног, как ему показалось, неприязненным взглядом. «Так и есть, Анни уже успела нажаловаться», подумал Жером с тревогой. Не надо было с ней связываться. Чувствовал ведь, что она из тех, кто потом жалуется на тебя начальству. Теперь дела не поправишь.
Взгляд адмирала сделался открытым и доброжелательным. Видимо, произведенный осмотр чем-то удовлетворил Делабре.
— Лейтенант Жером Жестен?
— Да, мой адмирал! — Жером нахлобучил фуражку, лихо выпустил из-под козырька темную прядь — пусть полюбуется старик на неотразимого лейтенанта, пусть посмотрит, какие красавцы служат у него в космическом флоте!
— Командование флота оказывает вам большую честь, лейтенант, — голос Делабре звучал сурово, но в душе у Жерома все запело: не знает, не знает! Он еле сдержался, чтобы не перекувырнуться прямо на старом вытертом ковре.
— Слушаю, мой адмирал, — отчеканил он, засияв самой ослепительной улыбкой, на какую только был способен.
— Вам доверяют секретное поручение чрезвычайной важности. От его выполнения в значительной степени будет зависеть дальнейший прогресс человечества.
— Готов служить человечеству, шеф! — горячо сказал Жером.
— Это поручение ГУКа, — Делабре смотрел на него испытующе.
— То есть Главного Управления Колонизацией? — не задумываясь откликнулся Жером.
— Хорошо, лейтенант, — Делабре улыбнулся. — Я вижу, мы с вами деловые люди и нам будет легко сговориться.
Жером просиял в ответ начальственной улыбке. Пусть знают в Управлении лейтенант Жестен не только красив, но умен и образован! Не всякий летчик Космического Флота регулярно читает газеты и знает призывы ГУКа — начать готовить колонизацию других планет сейчас, пока старушка Земля не исчерпала еще окончательно своих природных ресурсов.
— Неужели уже есть реальный проект? — заволновался Жером.
— Именно, — адмирал подошел к объемной звездной карте, щелкнул выключателем — и карта ожила. Всю стену кабинета заняло звездное небо. — Вот ваш маршрут. — Делабре заскользил полированной указкой между звездами. — К этой планете, видите? Мы назвали ее Темпора Нова.
«Что-то больно далеко, — невольно поежился Жером, следя за указкой. — А может, так оно и лучше. Как некрасиво скривились губы Анни, когда она закричала ему: «Ты еще пожалеешь!» Нет, определенно так лучше».
— Прежде чем на Темпора Нова высадится первая партия людей, там поработает колония биороботов, изготовленных специально для освоения этой планеты. — Адмирал выключил звездную карту. — Вам поручается доставить биороботов, вернее… — Он загородил широкой спиной дверцу сейфа, мгновенно набрал шифр. Дверца мелодично распахнулась, шеф извлек из сейфа изящный желтый портфель на «молнии». — Вы слышали об организации РОК? — Адмирал испытующе смотрел на Жерома, крепко сжимая ручку портфеля и не торопясь его отдавать.
— Решительная Оппозиция Колонизации!
— Браво, я окончательно убедился, что мы не ошиблись в выборе, Жестен. Вы человек образованный. И понимаете, что, как ни строго засекречена порученная вам операция, шпионы РОКа…
— Будьте спокойны, мой адмирал! Я сумею ускользнуть от любого шпиона и лазутчика.
— Тогда берите. Удачи вам.
Жером взял у него из рук желтый портфель и теперь медлил, ожидая, не дадут ли ему еще что-нибудь.
— Это всё? — спросил он наконец, видя, что адмирал молчит.
— Да, всё, — адмирал улыбнулся. — Тут зародыши биороботов — они легче транспортируются, да и места занимают меньше. Они запрограммированы таким образом, что, попав на почву Темпора Нова, в несколько минут разовьются во взрослых особей и начнут трудиться. После посадки вам надлежит сразу открыть портфель и вытряхнуть его содержимое в траву. На этом задачу считайте выполненной. Понятно?
— Понятно. Приступаю к исполнению.
Крепко сжимая желтый портфель, Жером шагнул к двери, но Делабре остановил его:
— Еще не всё. Ввиду того, что экспедиция может оказаться опасной… Ваш пистолет в порядке?
— Конечно, мой адмирал.
— Будьте начеку. Надеюсь, в случае… Вы понимаете, как должен поступить настоящий мужчина?
— Но, мой адмирал, провал исключается.
— Разумеется. Но я на всякий случай позволю себе напомнить вам о вашем долге как работника ФДКП.
— Я всегда о нем помню. Но прибегать к этому не придется — я уверен, что довезу их в полной исправности. Разрешите идти?
— Идите. Да, Жестен, — адмирал вроде бы в последний момент припомнил нечто важное. — Обработку на невесомость в этот раз пройдете в пятой камере.
— Как в пятой? Я прохожу в первой. Мои параметры…
— Потому я вас и предупреждаю. Вот ведь чуть не забыл! Там у них какая-то перенастройка, так что меня просили вам сообщить, что сегодня ваша камера пятая.
«Пятая так пятая, — с какой-то смутной тревогой думал Жером, шагая по коридору в сектор биообработки. — К чему бы вдруг перенастройка? Непонятно».
В биосекторе имелось около десятка камер. Обработка делала человека на время нечувствительным к невесомости и усиливала сопротивляемость инфекции. Полагалось проходить обработку только в своей камере, настроенной на соответствующие психологические параметры. Перенастройка требовала слишком много энергии и возни, к чему бы ее затеяли, недоумевал Жером. Да ладно, не все ли равно. Главное, что Анни пока не выполнила свою угрозу и не написала адмиралу кляузу. А не то хлопот бы не обобраться! Уж тогда ему не доверили бы такого ответственного поручения, это точно.
Жером не видел лица адмирала, который с довольной усмешкой глядел ему вслед.
Вылет предстоял назавтра к вечеру. А сегодня Жером, повеселевший оттого, что ожидаемая гроза не состоялась, посвежевший после биообработки, зашел в «Космос» — любимое кафе звездолетчиков, где было принято назначать встречи с друзьями, праздновать удачные полеты и новые назначения. Жером был счастлив и беззаботен, точно вчерашний школьник, только что получивший новенький аттестат. Тесный прокуренный зал был переполнен, но Жером подмигнул знакомому официанту, и тот устроил его за служебный столик. Желтый портфель Жером положил на колени.
— Простите, мсье, возле вас свободно?
Жером поднял глаза на говорившую — и прямо обалдел. За свою жизнь он перевидал множество красивых девушек, но эта! Он даже лишился дара речи на несколько секунд — ну разве можно было представить себе, что подобные существа в наше время ходят по земле и даже могут с тобой заговорить! А девушка в отчаянии продолжала, видимо, принимая его молчание за отказ:
— Понимаете, я пришла сюда встретиться с братом, через час он прибывает с Венеры. А все места заняты. Нельзя ли возле вас присесть, хотя бы дождаться его, а то мы разминемся?
— О да, разумеется, мадемуазель! — Жером вскочил на ноги, предусмотрительно подхватив желтый портфель под мышку. — Пожалуйста, садитесь. Жером Жестен к вашим услугам.
— Благодарю вас. Меня зовут Мадлен Надье. Не знаете ли вы случайно моего брата, Жака Надье? Он лейтенант ФДКП, как и вы.
— Не знаком, но слышал это имя, — радостно ответил Жером. — Вообще этот столик служебный, — гордо пояснил он, — но для меня и для моих друзей…
— Благодарю. Для моих друзей — тем более, — Мадлен сказала это с таинственной многозначительностью.
— Я просто хотел… — смутился Жером. — Я счастлив, что вы разделите мое одиночество на сегодняшний вечер. Ведь завтра мне предстоит далекая и, не стану скрывать, опасная экспедиция. Когда вернусь — бог весть. Если вообще вернусь.
— Далеко ли вы летите? — вежливо поинтересовалась девушка.
— О да! Ваш брат раз пятьдесят успел бы слетать на Венеру и столько же раз вернуться, пока я доберусь лишь туда!
— Интересно, где же это?
— Видите ли, служба! — Жером невольно скосил глаза на желтый портфель, притаившийся у него на коленях. — Знаете, как в одной старинной песне поется: «Наша судьба — то гульба, то пальба».
— Не смею настаивать, служба есть служба, — согласилась Мадлен. — А я ни разу в жизни не была в космосе. Это и в самом деле так грандиозно, как рассказывают?
— Еще грандиознее, мадемуазель! — пылко воскликнул Жером.
В тот вечер брат Мадлен так и не прилетел. Когда они обратились за справкой, диспетчер космодрома заявил, что корабль задерживается из-за карантина, в который попал на Луне. Но ни Жером, ни Мадлен об этом не пожалели.
Корабль приближался к месту своего назначения. Жером в пилотском кресле в сладкой полудреме поглаживал желтый портфель, лежавший у него на коленях. Кажется, все складывается удачно. Никаких приключений в пути, ни малейших задержек. Жером мысленно видел, как он ступает на твердую почву Темпора Нова, отдергивает молнию на желтом портфеле и переворачивает портфель над ласковой зеленой лужайкой, совсем такой, как земная. И из травы появляются роботы, они растут и принимаются за дела, готовя планету к появлению первых земных колонистов. Возможно, когда-нибудь на Темпора Нова поставят памятник скромному звездолетчику Жерому Жестену. А пока — он убедится, что всё в полном порядке, и поведет корабль на Землю… Интересно, помнит ли его Мадлен? Ждет ли, как обещала?
И тут он вздрогнул, различив негромкий сигнал бедствия. Кого занесло в эти забытые богом края? И что приключилось с неведомым авантюристом? Продолжая левой рукой придерживать портфель, он потянулся правой рукой к пульту, включил экран обзора. Сигнал взвыл громко. Ага, вот. Совсем близко одноместная туристская ракета неподвижно повисла среди звезд. Какого дьявола понадобилось этому чертову любителю забираться в дебри вселенной? Катался бы по земле на велосипеде, пижон несчастный. Ясно — автоматика отказала, а сам справиться не может. Жером крутанул ручку до упора, переводя изображение на крупный план, — с экрана смотрело на него знакомое лицо, перекошенное отчаянием.
— Мадлен!
— Ох, Жером, — простонала она сквозь слезы. — Я так боюсь, у меня с ракетой что-то случилось. Возьми меня к себе, скорее! Ну! Я так боюсь одна, Жером!
Через несколько минут Мадлен была в каюте Жерома. Она благодарно повисла на шее у своего спасителя.
— Постой, я все-таки не понял: как ты здесь очутилась?
— Очень просто, дорогой. Жак прилетел, снова улетел, тут мне неожиданно дали отпуск, и я решила провести его с тобой. Села в ракету и полетела вдогонку.
— Но как же… Откуда ты узнала, где меня искать?
— О, при моих знакомствах в космопорте это несложно! Я хотела обогнать тебя и сделать сюрприз на Темпора Нова, да вот застряла… Ох, Жером, если бы ты не оказался рядом, я бы погибла! — Девушка содрогнулась.
— Успокойся, опасность позади. Ты здесь, со мной.
— Жером, ты долго пробудешь на Темпора?
— Нет, только выполню одно пустяковое поручение. До чего же я рад, что обратно мы полетим вместе!
— И я рада, Жером! Для того я и отправилась за тобой.
Его разбудил резкий толчок. В ногах постели загорелась зеленая сигнальная лампочка — корабль благополучно сел по заданной программе. Но почему он один? Где Мадлен? Неужели она только приснилась? Жером протер глаза и сел:
— Мадлен!
Никакого ответа.
— Мадлен!
Что за чертовщина! Он же здоров как бык, никогда не был подвержен галлюцинациям. Вообще-то приходилось слышать, что с парнями, которые подолгу болтаются в космосе, бывает всякое, но чтобы с ним… Стоп, а где желтый портфель? На полу в углу каюты, куда он поставил его вчера, чтобы освободить руки, было пусто. Если это бред, если Мадлен вчера тут не было, так он и портфель туда не ставил. Где же он? В кабине управления? Жером бросился туда, но портфеля и там не оказалось. В кресле белела какая-то бумажка. Жером прочел: «Не сердись, Жером, пришлось немного тебя разыграть. Служба! Наша судьба — то гульба, то пальба. Надеюсь, ты простишь, что я взяла спасательную шлюпку, иначе мне не добраться до моей ракеты — она ведь в полной исправности, а ты не проверил! Что касается портфеля, он интересует мое начальство. Целую. Твоя М.».
Жером взвыл. В глазах у него помутилось. Он выскочил из корабля, даже не осознав торжественности того мгновения, когда нога его впервые ступила на предназначенную для массовой колонизации планету, порвал записку на мелкие клочки — их тотчас подхватил свежий ветер.
— Господи, какой дурак! — громко простонал он, сжимая кулаки. — Знал ведь, что нельзя связываться с бабами во время исполнения задания. И вот поди ты… Что же делать?
С ярко-синего небосвода вовсю шпарило солнце — совсем как на Земле. Ярко-изумрудная трава, пожалуй, еще ярче, чем земная. Высыпал бы сейчас содержимое желтого портфеля… О, как хорошо все могло быть, если бы не его глупость! Он снова застонал.
Вздохнул, вытащил пистолет и приложил к виску.
— Жером Жестен! Шеф ждет вас.
Жером вскочил с кресла, встал навытяжку и низко наклонил голову.
— Благодарю вас, мадемуазель! — звонко обратился он к пустому пространству. Сдернул фуражку, тряхнул кудрями и шагнул к кабинету адмирала.
Делабре вышел из-за массивного стола, улыбнулся и протянул на ладони что-то блестящее:
— Поздравляю, капитан! Позвольте прикрепить вам эту награду! Орден Покорителя Космоса!
Сердце Жерома так колотилось, что лацкан форменного кителя ходуном ходил, адмирал долго прилаживал орден. Наконец он отступил на шаг, полюбовался орденом и удовлетворенно улыбнулся:
— Капитан Жестен! Вы полностью оправдали возложенные на вас надежды. Командование не забудет ваши заслуги в деле колонизации!
— Что вы, — неловко пробормотал Жером. — Любой бы на моем месте…
— Нет, не любой, капитан! Мы выбрали именно вас! И заметьте, не ошиблись! Думаете, мы пальцем в вас ткнули? Нет, мы долго изучали личные дела звездолетчиков, с психологами советовались!
Жерому вспомнилось, как он очнулся после «самоубийства» на Темпора Нова и долго не мог понять, что происходит. Кругом ходили, переговаривались, трудились какие-то люди. Смутно виделось в их облике нечто странное, наконец, Жером понял — это ведь не люди, а роботы! Где же он? Кажется, он застрелился согласно инструкции — в случае провала…
— Вставайте, лейтенант, — склонился над ним робот. — Собирайтесь в обратный путь, теперь мы управимся сами. Вы оказались превосходным сейфом.
— Я — сейфом? Как так…
— Мы транспортировались в вашей черепной коробке, а вовсе не в желтом портфеле, вам его дали для отвода глаз. Мы могли перенести столь дальнюю дорогу только внутри живого организма. Своим выстрелом вы нас освободили, так было предусмотрено. Разрешите! — Робот молниеносно залепил пластырем дыру на виске Жерома. — Завтра снимете, никаких следов выхода не останется…
— Вы молодец, Жером, — снова услышал он голос адмирала. — Не всякий перенес бы операцию по вмонтированию в черепную коробку зародышей биороботов. Ее проделали с вами в кабине номер пять, пока вы лежали без сознания. Кстати, возвращаю, — он порылся в верхнем ящике стола и протянул Жерому пистолет. — Ваше личное оружие. Его подменили в пятой камере. А тот пистолет, из которого вы «застрелились» на Темпора Нова, отдайте мне, он вам больше не понадобится. Вы свободны, капитан Жестен!
— Но всё же… — Жером помедлил. — Может быть, вы объясните. Почему именно на мне остановили выбор психологи?
— Конечно, объясню. За два дня до вашего вылета мы получили письмо от некой Анни Бекар с жалобой на вас. Тогда-то мы и поняли, что вы и есть тот человек, который нам нужен.
Андрей Карапетян САД
Во фляге, что стояла у сарая, воды не было. Тим почесал пальцем подбородок, пропел: «Па-ра-ра-ам…» Жарко было, черт, неохота было до смерти идти к дому за кружкой воды. «Ведь хотел же провести питьевую воду по всему саду, ведь хотел, да лень-матушка впереди нас успела!» — обозлился Тим. Он покачал еще флягу и свистнул киберу-инструментальщику. «Бог с ним, расплещет половину — чего-нибудь да принесет». Подошедший неторопливо кибер выслушал, мигнул рассудительно электрическим глазом и потопал по тропинке, переставляя решетчатые никелированные лапы. Насекомые крутились возле цилиндрического корпуса в медных пуговках и вороненых щитках, солнце било сквозь листву во все дыры, какие только были в саду, и под лапами кибера чиркали и похрустывали мелкие камушки. Сад пропадал в пятнах и солнечных зайчиках, кибер вскоре пропал тоже, лишь изредка искрились его шарниры и сочленения сквозь опущенные ветви крыжовника.
Тим присел на ящик, еще раз, только вполголоса, пропел: «Па-ра-рам-па-пам…» Пить хочется.
Над сараем скандально заверещала птица. Тонко и нежно запел комар — и пропал. Сад давно отцвел — гуденья пчел не слышно теперь. Сейчас зудят, повиснув, мухи, да ноют узкие красноперые жуки и суетливые, мелкие осы. А пчелы пропали куда-то. «Вообще-то сейчас, — мыслит Тим лениво и безотносительно, — акации цветут по краю, мда-с…»
Так он и не нашел места, где жили пчелы, хотя и пытался найти. Просто ради любопытства, из голого, честно говоря, упрямства — искал и не нашел. А ведь сад до последнего кустика сам посадил, вдоль и поперек его знает, казалось бы… А вот выходит — не знает вовсе. Так, что ли?
Мелькнув, села на ствол яблони синица, побежала вверх по коре, а в ветвях закопошилась другая и вдруг пропиликала свою торопливую мелодию. Ствол яблони выгнут, ветви распущены — насмешливое дерево, эвон отмахивается листиками… Вторая синица побежала вслед за первой и тоже желто-голубая, в черной купальной шапочке. Мельтешит листва, солнце бьет вспышками… и жарко. Птиц уже не видно, повторилась только песенка, да и пропала в свистах и чириканье… А вот — слышь! — быстро-быстро тиканье ходиков и раз зажужжала и щелкнула пружинка — тоже ведь птица спела… Ишь ты, мудреная какая птаха!
Вот так, вот так… Па-ра-рам… Осталось Тиму только сухие листья сжечь да прорыхлить кое-где, вот и вся работа на сегодня. Сощурился он на листву, улыбнулся и почесал подбородок. Сегодня утром, только проснулся — как вдруг и решил: все! Хватит! Он, Тим, летит на Землю. Он просто-напросто лезет в свою ракету и летит обратно на Землю. И — все! И — полный порядок!
Тим сморщился и дернул шеей. Что-то шевельнулось у него за воротом. Хлопнул себя по загривку — фу, дьявол! — ветка, и на ней два выпуклых листика в пыли. Сад зашумел, придвинулся к нему.
«Смеется, — убежденно подумал Тим. — Издевается».
Но Тим не злился — он ведь уезжал, это было абсолютно ясно, и поэтому он не злился. Облегчение, во-первых, вот что было у него на душе, а во-вторых, некоторая расстроенность в мыслях и поступках, некоторая даже растерянность. Он еще ничего не сказал вслух. Ну, а с другой-то стороны, почему он, собственно, должен что-то говорить: захотел — и улетел! Сам себе хозяин. «Мое дело, — подумал он. — Сколько можно?»
Ветка, которую он поймал за шиворотом, качалась теперь сбоку и вопросительно посматривала на него, два листа дрожали и останавливались и начинали вновь покачиваться.
«Сугубо мое дело!» — еще раз повторил он про себя.
На тропинке показался наконец инструментальщик, искрились его лапы сквозь траву и кустарник, и моталась кружка в носовом манипуляторе, щедро расплескивая воду.
— Горе ты мое! — высказал ему Тим свои чувства, а кибер дал два зуммера и, дернувшись, вытянул манипулятор — пей на здоровье, дорогой! Тим поднял брови, вздохнул философски — ну что ты с ним сделаешь! — и поднял кружку. Много пить вредно, и рубашка взмокнет, — так что все к лучшему, будь здоров, механизм! И выплеснул себе в рот то, что болталось в эмалированной облупленной посудине.
Копилось у Тима в душе весь день, с самого утра копилось невнятное огорчение, так что приходилось ему иной раз глубоко выдохнуть, освобождаясь от него, — но помогало слабо, жалко было бросать всё, сад уж больно хорош вымахал!
А бросать надо — иначе он тут на веки вечные застрянет, говорить разучится! Нельзя же всю жизнь за одним садом глядеть, ну в самом деле? Сад тем более да-авно уже не нуждается в этом. И киберы шныряют всюду — что надо, сделают всегда.
Ну чего мне здесь сидеть?
— Нечего! — вслух сказал он. И повторил: — Абсолютно нечего!
Над неподвижным инструментальщиком суетились осы и мухи — мелочь всякая. «Прямо как медом намазан!» — думалось Тиму по жаре и лени. Ну вот чего вся эта шелупонь мизерная толчется над машинами? Хотя, конечно, могут быть какие-нибудь волны электромагнитные, всякие, скажем, излучения… малых, предположим, амплитуд… Впрочем — чепуха. Наверно, нагреваются на солнце машины, а те и летят на тепло… Да, наверное…
Тим отмахнулся от давешней ветки, которая совсем уже подлезла целоваться, — ветка шарахнулась, и сухонький серый кузнечик прошуршал в воздухе. И вновь заверещали, запиликали птицы, кубарем покатилось за воздушной волной солнечное и лиственное месиво, и вновь забрался под рубаху, под мышки теплый воздух.
А кузнечик — вот он, сидит на брючине, кривых очертаний тень качается и то накроет его, то отскочит, и кузнечик поползает, пошевелит лапками, озаренный и прозрачный, и тускло заблестят его выпученные слепые глаза. «Вот механика, мама родная! — думалось Тиму. — Прозрачные прям коленки! Вот это механика! Вот это я уважаю — какое чудо, а!» Тим покачал головой:
«Ай-я-я-ай… А этот остолоп бронзовый, это же — глядеть невозможно, дурной тон!.. Так бы вот научиться делать, елки-палки! А то — тоже мне, создание ума человеческого!»
— Па-ашел! — махнул Тим на кузнечика, и тот, фыркнув, отлетел, и Тим разглядел, как в кружеве лежалых гнилых листьев на земле семенит часовым механизмом паук-сенокосец, и еще раз покачал головой: «Механика!..»
Наконец он собрался с духом и встал — хорошо было сидеть в тени, рассиделся, понимаешь, разнежился!.. Кружку вложил обратно в манипулятор инструментальщика и вздохнул:
— Пойду, пожалуй… — И добавил, подумавши: — А ты шагай, милейший, кружечку на место поставь! А после притащи на кострище маленький топор, понял?
Кибер ожил, мигнул удовлетворенно, поворотился и почесал с кружкой по тропе, заискрился сквозь листья своими многосложными конструкциями. А Тим поглядел ему вслед и пошел в обратную сторону вдоль стены сарая, где было душно и тесно, и круглые кусты крыжовника прижимались к двум сонным окошкам. За сараем шелестели яблони, а в прорехе темной их листвы, вдалеке, в пустынной знойности воздуха мелко и многочисленно шевелились гигантские клены. Они смотрели поверх сада, поверх яблонь, видели пустыню, им в лицо выдыхала она свой жар, — они смотрели вдаль.
Угол одного окошка был небрежно заклеен паутиной, и в самой тени и пыли на мускулистых ногах притих бархатный крестовик — это успел заметить Тим, проходя. И, как обычно, самый нахальный, растопорщенный куст цапнул его за рубаху, а Тим привычно ругнулся:
— А… а, сатана!..
И опять в яблонях заворочался ветер, листва зашушукалась, хихикнули и сместились сияющие мухи перед лицом, а куст махнул на него веткой и нагло прижмурился.
Освобождение! Туман в голове! Господи, да неужто он просто так, гуляя, будет выходить из вымытого зеркального здания и будет идти затем по твердому и чистому тротуару? А? Да еще в новых серых ботинках, только что купленных и дивно пахнущих кожей!
«К черту! — думал Тим. — Именно, к черту! Сколько можно?.. Я хочу к людям! Ну в самом деле!»
Заметались и пропали махонькие золотоглазые насекомые.
«Надо же — одни глаза да крылья. В чем там душа жива?»
Но загадка оставалась. Откуда они здесь, черти окаянные? Он привез только семена. Только. Киберы и контейнеры, сброшенные с орбиты, были первоначально и непорочно стерильны!
Откуда же здесь живность? — возникает вопрос, законный вопрос. И птицы, заметьте себе! Совершенно уж неясно. Вон одна — завозилась, сломала сучок и поскакала под куст. И не разглядел, что за птица, как пропала она в зелени сада.
«Но… — перебил сам себя Тим, — вернемся к нашим барашкам. Я ведь лечу на Землю, к людям. Так, по-моему. Автоматам и киберам управиться здесь самим ничего не стоит, и все будет чудненько…»
Сад слабо шевелился под ветром, поблескивал летучей тенью. Было знойно, деревья стояли плотно и неделимо, только кое-где вопросительно гнулся толстый сук или кусочек ствола неподвижно глядел корой сквозь сомкнувшиеся листья, и яблони пропадали друг за другом, и пропасть горячего сизого воздуха отделяла от них высоко и пустынно стоящие клены.
«А делаем очень просто, — Тим подошел к воткнутой в землю и оставленной так лопате, — ракета у меня на ходу? На ходу! Вещей мне, собственно, и не надо никаких. Сегодня же вечером, нет… нет — завтра утречком и — в добрый путь! А? Правильно я говорю? Правильно!»
Он шагал дальше, втыкая и выдергивая прихваченную лопату и кивая своим мыслям. Лопата звучно входила в землю, рассекая листья одуванчиков и осота.
«…Только прорыхлить надо кое-где да сучья пожечь у ангара… Хотя киберы сами могли бы! Чего им делать еще, лоботрясам?» И он опять выдыхал из легких лишний воздух.
Лица его коснулась паутинка. Он смахнул ее, моргнувши. Шелест усилился; вдали звучно зацокала, свистнула и пропала неизвестная ему птица, а по земле, поднимая и шевеля траву, полз черепахой кибер-ороситель. Он волочил тонкий шланг и явственно сопел, и насекомые мелькали над ним и вспыхивали вдруг отчаянно искрами.
Восемь лет Тим в одиночку, разговаривая сам с собой, с деревьями, с мухами и автоматами, торчал на этой планете. Очень немало, кажется. Но и сад был хорош! На заброшенной, дрянной и высохшей планете поднялся сад, выросший за эти восемь лет, как не вырастает на Земле и за пятьдесят. Естественно, скучать было некогда. Ха-ха, еще бы! Это сейчас пустыня, увязнув в колючках и карагачах, в акациях и в жестких травах, не может дотянуться до пограничных кленов и только палит их листву ветром с каменных своих равнин, да слабыми пыльными вихрями бродит вдоль границы сада. А поначалу было весело. Планета задавала перцу, сад был вынянчен — не шутки! Год потом не мог отоспаться. Но теперь сад прижился и вымахал. Теперь здесь есть куда прийти людям. Теперь Тим свободен, елки-палки, кто б понимал, что это значит!
Весь день он провозился в саду. Жег сучья на кострище у ангара, и пламя сновало по пеплу и углям, и дышало на него пустыней и ненавистью, и трещало сумрачно, и едко захлестывало дымом. А за ангаром корявая и живописная акация кивала ему и мельчила редкой, бисерной листвой. Там, в акации, жгучие как огонь, но невидимые издали пчелы курились разреженным газом над желтыми горстками цветов, вздувшихся на многосложных сучьях и шипах дерева. А после Тим просто так бродил от дерева к дереву, и киберы-садовники хладнокровно топали следом, рыхлили землю там, где он указывал, а иной раз и сам принимался за работу, обругав их бестолочами.
Неявно и безмятежно поднялись с земли сумерки, над кленами рассыпались стрижи, запетляли, завертелись в небе. И пока было светло, Тим бродил по саду, дожидался, когда автоматы включат полив, и тщательно обходил упругие, аккуратные паутины, тарелочками качавшиеся между ветвей. На каждой сияли секторами желтые и розовые нити, и в середине каждой зрачком сидел маленький паучок, золотой и неподвижный.
А ночью в саду было неспокойно. Шуршало вдоль стен; клонилась и перемещалась, теряясь, листва; чьи-то сигналы и возгласы носились по саду… В траве пробегал кто-то крохотный и мягкий и пропадал в растерянных зарослях и травах. И только в сарае, в полной темноте молча и невозмутимо стояли киберы: изредка только у крайнего в мертвом стеклянном глазке проплывала крохотная зеленая искра, словно где-то далеко на ходу зажигалась спичка и гасла не сразу.
Очень рано в ангаре пальнула и ахнула стартовая площадка — на страшной высоте забурлил, ввинчиваясь в воздух, плотный след улетевшей ракеты, и долго стоял в спящем темно-голубом небе охрипший и взвинченный звук. Долго хлопали в ангаре секции и рамы, собираясь опять в свои гнезда и проемы. Изумленный со сна сад молчал, весь в тяжелой, колодезной росе. Из-за карниза дома выпала и затанцевала в воздухе воробьиха, в стороне где-то раздалось многоколенное чириканье, с взвизгиванием и перебоями. А когда солнце вышло и немножко отогрело сад, в сарае открылась, крякнув, дверь и заковылял по тропинке кибер-мусорщик. Над ним неровно дергались крохотные золотоглазые насекомые, и вдруг выскочил из-за кустов тяжелый и круглый, как гиря, шмель и, пробасив тревожно и требовательно, свалился за крышу сарая. Тогда пропали золотоглазые насекомые, кибер начал замедлять свои шаги, все неестественней и ломаней становились перемещения его сложных ног, — и вот, споткнувшись, он упал на подогнувшуюся ногу, замер криво и странно на тропинке. Успевшие выползти следом остановились и умерли два поливальщика… Порыв ветра вывернул, стряхнул листву — бросил, растрепав. Кривая серо-зеленая стрекоза метнулась в опустевшем саду и исчезла, а на высокие клены дохнуло огнем и ненавистью, и еще раз дохнуло… и где-то далеко закрутились волчками, понеслись в сторону сада маленькие пыльные вихри, исчезая и сливаясь с пустыней и поднимаясь вновь.
Лев Куклин РАССКАЗЫ НЕПЛАТЕЛЬЩИК
…Правительственный чиновник возник перед посетителем внезапно, словно неожиданно материализовался из неизвестного тому поля.
— Я — Старший Надзиратель Отдела Энергетики… — голосом, лишенным всяких модуляций, объявил он.
— Да… — сказал посетитель. — Я знаю…
— Изложите вашу просьбу в общепринятых и удобных для механической обработки параметрах…
— Видите ли… — запнулся посетитель. — Мне кажется, произошло недоразумение…
— В той разумной и конструктивной Системе, представителем которой я являюсь, не может быть недоразумений! — отрезал Чиновник.
— Тем не менее…
— Напоминаю: просьба должна быть изложена в общепринятых терминах.
— Я работник внеземной станции «Гамма-6187» в планетной системе MQZ-0635. Специалист по силовым установкам высшего разряда.
— Так, — сказал Чиновник. — Зона максимального удаления от Земли… Полное освобождение от налогов ввиду особой важности работы.
— Да, — сказал Внеземник. — Вот именно…
— Предъявите ваше удостоверение личности.
— Роботы угрожают потащить меня к Федеральному Судье за неуплату по счетам вашего Отдела, — сообщил Внеземник, протягивая Чиновнику жетон оригинальной формы. — Они даже не пустили меня в дом… Мой собственный дом!
— Контролеры поступили согласно действующим инструкциям.
— Я десять лет проработал в Дальнем Космосе! Вышел на пенсию — и вот…
— Наличие отсутствия ответственного налогоплательщика на сколь угодно длительный срок не отменяет платы за пользование энергоприборами… — сухо информировал Чиновник.
— В доме никто не жил… — смущенно сказал посетитель. — Я одинок.
— Я имею возможность визуально установить ваше присутствие в единственном экземпляре.
— Не совсем в том смысле… Арендная плата за дом переводилась регулярно. Претензии только у Отдела Энергетики! Просто не знаю, что делать…
— Плата за пользование бытовыми приборами, как то… — быстро стал перечислять Чиновник, — образуется элементарным перемножением цены одного киловатта энергии на общий показатель затраченной энергии в киловатт-часах…
— Да, — сказал посетитель. — Это мне понятно.
— Так выполняйте инструкцию. Перемножьте данные и внесите их в вашу карточку-счет.
— Дом законсервирован! Все приборы в нем отключены! Там не может быть никаких показателей!
— Если в доме имеются приборы — должны иметься и показатели.
— Но на счетчиках ничего нет! Там сплошные нули! Вот счет… — и Внеземник протянул Чиновнику прямоугольную карточку.
— Вы должны заплатить согласно имеющимся показателям!
— Но я же не могу перемножать нули!
— Отказ от платы влечет за собой преследование по закону, — напомнил Чиновник.
— Это же бессмысленно! Ни один прибор не работал десять лет!
— Ваши приборы в полном порядке. — Голос Чиновника не прерывался даже на долю секунды. — Я получил соответствующее подтверждение… Ваша претензия отклоняется, как недостаточно обоснованная. Я подтверждаю, что наша аппаратура работает исправ…но.
— Тоже мне работнички! — сердито сказал Внеземник. — А, черт с вами, пойду к судье. В конце концов, судья, что — не человек, что ли?!
Чиновник вдруг вздрогнул, внутри него что-то явственно щелкнуло, и его бесстрастное лицо стало медленно багроветь…
«Неужели рассердился? Или это у него от умственного перенапряжения? забеспокоился бывший Внеземник, новоиспеченный житель Земли. — Как бы не перегорел!»
А Чиновник уже светился красным светом, подобно раскаленной спирали электроплитки! Но голос его продолжал звучать так же монотонно:
— Аппаратура работает исправ… Аппаратура работает исправ… Аппаратура работает исправ…
В мозгу посетителя шевельнулось смутное воспоминание далекого земного детства… Ну, конечно же! Это напоминало ему звучание с сорванной ниткой ни антикварных музыкальных дисках, которые ставил ему на допотопный проигрыватель дедушка-меломан…
Посетитель бросился к Чиновнику, желая помочь…
«Дорогая модель… — привычно подумал он. — Где тут у него блок предохранителей?»
Он расстегнул рубашку на груди Чиновника, нашел обозначение завода-изготовителя, номер серии и шифросхему. Потом подцепил ногтем щиток на спине чиновника, но Правительственные Роботы подобного типа поступили в производство уже после его отлета, и он не смог разобраться в конструкции.
— Ничего… должно быть, самоналаживающийся… — успокаивал себя Человек. — Превысит норму перегрева и отключится. Вот вам и общепринятые физические параметры… Довел беднягу до ручки… — усмехнулся он, выходя из кабинета.
А сзади него продолжал звучать голос Правительственного Чиновника:
— Аппаратура работает исправ… Аппаратура работает исправ… Аппаратура работает исправ…
— Стоп! — вдруг сказал Человек самому себе и в самом деле остановился. Он хлопнул ладонью по лбу — застарелая и вульгарная курсантская привычка, от которой не смогло избавить даже долгое ношение скафандра. — Да, отвык ты от Земли, братец… Бюрократы… Механизированное управление… Автоматическое мышление!
Он захохотал, вытащил плотную прямоугольную карточку и несмывающейся стандартной пастой аккуратно заполнил требуемые клеточки:
«За время с … по … согласно показателей израсходовано 00.00 киловатт-часов электроэнергии… По общепланетным расценкам… Итого к оплате: 00 долларов 00 центов… переводом на счет Отдела Энергетики».
Поплевав на штемпельную подушечку, он поставил под итогом обязательные отпечатки пальцев…
После чего, весело насвистывая, сунул карточку в ближайшую щель для видеорасчетов.
Подходя к своему дому, он с удовлетворением отметил, что красные сигнальные огоньки у входной двери погасли…
ВЕЧНОЕ ПЕРО
Уолтер сорвал с головы шлем-мыслесъемник и мрачно чертыхнулся. Электричество вырубилось. Экран его персонального рабочего дисплея был слеп, как крот в своей подземной дыре, да еще густой кентуккийской ночью…
Видимо, вчерашняя гроза сделала-таки свое черное дело. Механики из Управления погодой пропустили ее в малонаселенные предгорья Аппалачей, где жил и работал летом Уолтер, ища самой недоступной роскоши XXII века уединения. Это стоило дорого, очень дорого, но Уолтер мог позволить себе дом из двух комнат с автоматизированным погребом и кухней, и дом этот отстоял на целых сто ярдов от ближайшего соседа! Конечно, он платил и за звуковую защиту… А то ведь сдохнуть можно от реактивного рева всякой летающей прямо над головой нечисти!
Дело в том, что Джеймс Уолтер принадлежал к тем разрядам высокооплачиваемых технарей, которых налоговые контролеры на своем лихом жаргоне втайне именовали: «творюги»…
Среди них выделялись в первую очередь, конечно, «кормачи», или гастроаранжировщики — сочинители пищевых сочетаний из хлореллы и других белковых заменителей; специалисты — исполнители запаховых и вкусовых гамм; «лечилы» — настройщики и эксплуатационники диагностических и врачевательных установок; «играчи» — программисты шахматных матчей в трехмерном пространстве, визорохоккейных встреч и иных электронных игр; «одевалы» изобретатели модных покроев и цветокомбинаторы, диктующие окраску флаеров, домов и одеяний… Короче — все те, чьи тела и души словно бы срослись с электронно-вычислительными машинами восемнадцатого поколения.
В своей налоговой декларации Дж. Уолтер против графы «специальность» привычно писал: литермен. Приблизительно для широкой публики это можно было истолковать, как «буквоед», но чаще его называли короче и выразительнее: «буквач»…
А по сути, по глубинному смыслу своего рода занятий Джеймс Уолтер был словесным композитором.
Но не думайте, что если у вас есть мыслительный шлем, доступ к энциклопедическим знаниям и персональный редакционный дисплей, то это совсем простое дело!
Далеко не каждому удается вырваться из безвестности. И из нескольких сотен буквачей очень немногие умеют создавать оригинальные и приятные для глаза узоры из замысловато расположенных слов на экранах домашних визоров. Но чтобы вдобавок у некоторых слов и на вид и на слух изящно совпадали окончания — для этого требовалось подлинное искусство! Талант, если хотите…
Джеймс Уолтер не раз добивался настоящих творческих удач.
Известность пришла к нему после создания словесной композиции, которая получила единодушное одобрение зрителей и — соответственно интернациональную премию по VII каналу связи. Она была семицветной — не премия конечно, а композиция — по числу языков, использованных в ней. А по очертаниям она напоминала морские волны?! Пожалуй, ближе всего этот рисунок подходил к синусоиде. Да… Два лиловых максимума и один оранжевый минимум! Видимо, за сходство с древним вымершим сухопутным животным визионщики метко окрестили его творение: «горбуша»…
Они вообще были занозистые и остроумные ребята.
Но самым знаменитым его сочинением была и оставалась «Улыбка». Время от времени — по многочисленным заявкам зрителей визионов — ее повторяли. Она подкупала не только неповторимым рисунком и расположением цветных слоев в пространстве, но и весьма оригинальным смыслом:
Улыбайтесь, улыбайтесь
И ни в чем не сомневайтесь!
Что ни говорите, а это нравилось. И это можно было повторять еще и еще несчетное число раз!
…Многоцветные глаголы выплывали из глубины экрана, приближались, укрупнялись, вспыхивали радужным сиянием, сплетались друг с другом…
«Улыбка» была не окостеневшей неподвижной конструкцией, не застывшим набором фраз, но сильным динамическим сочинением, переливающейся, ускользающей и возвращающейся композицией, одновременно меняющейся и манящей…
Да, это было величайшей победой! Высшим достижением, но Джеймс Уолтер стойко переносил бремя своей заслуженной славы…
Ах, проклятая гроза! Выбила его из привычного творческого ритма! Теперь на некоторое время надо расслабиться, чтобы прийти в себя. Нужны творческие импульсы…
Уолтер не любил современную музыку. Он знал, что ее делают «звукачи» звукооператоры, обслуживающие синтезаторы: в них можно было заложить любую программу, и машины выдавали танцевальные шоу, лирические шлягеры и даже ленты для сопровождения торжественных государственных церемоний.
Смешно сказать! Нет, не зря он считал работу звукооператоров примитивнейшим занятием!
Джеймс гордился тем, что он разбирался в старой электронной музыке: у него было несколько сотен микрокристаллов с записями электронных композиций первой четверти XXI века, которую — подумать только! — тогдашние звукооператоры сочиняли вручную! А звуки для записи на магнитные ленты извлекали из старинных громоздких инструментов… Некоторые, как ему помнилось, делались даже из дерева! Как они назывались?
Палец Уолтера привычно ткнулся в клавишу: «Банк данных», но… Послышался только сухой щелчок. Да… Форте? Пиано? Виола? Цитра или эта… как ее… ситара? Надо бы уточнить… Но нельзя же все держать в памяти!
А время идет… Время, предназначенное для сочинения новых словесных композиций.
Когда до их изолированного сельбища доберутся ремонтники? Нужно ведь еще послать запрос и добиваться разрешения на временное отключение силового защитного купола…
Бюрократы занюханные! Сидят там у пультов своих контрольно-руководящих машин и кнопку им лишний раз нажать неохота!
А сочинять надо. Просто необходимо! Ни дня без строчки… Строчки — это доллары. Изобретать, сочинять, писать… Но вот на чем? Вилами по воде писано… Что такое вилы? Ах да… Банк данных отключен. Весь справочный материал заключен теперь — увы! — в ограниченном объеме черепной коробки…
Уолтер, конечно, хорошо знает, что печатные книги давно исчезли из повседневного обращения. Их заменили микрофильмы с картинками — для маленьких и микрокристаллы — для взрослых. Вставил такой себе в ухо — и можешь слушать любую детективную историю хоть целый час, пока едешь в подземке или наоборот — на воздушке… Глаза закрыл — и вагонные визоры не мешают.
Но Джеймс Уолтер был образованным человеком и помнил, что еще каких-нибудь 200–250 лет назад книги — буква за буквой — печатались на бумаге. Каторжный труд! В его доме сохранилась, как семейная реликвия, древняя библия. Ей было заведомо больше трехсот лет! Его старомодные родители были не только истинными верующими, но и сентиментальными.
Бумага! Белая прямоугольная плоскость бумажного листа! Вот что может на какое-то время заменить экран дисплея! В крайнем случае, — он усмехнулся, сгодится рулон пипифакса…
Но чем… чем оставить на этом самом продукте переработки исходной целлюлозы смысловые обозначения? Пальцем? Уолтер с сомнением посмотрел на свой указательный палец, пошевелил им и горестно вздохнул…
Черт побери! Чем же обходились предки? Типографская машина — это было бы прекрасно, но слишком громоздко. И потом — где ее теперь взять? Пишущие машинки давно вымерли… Как киты, слоны и эти… как их? Ага, динозавры. Стоп! В цепкой памяти Джеймса Уолтера словно в своеобразном банке данных хранились самые невероятные сведения: недаром же он был знаменитым словесным композитором!
Он вспомнил! Вспомнил одно загадочное выражение, имеющее в древности, несомненно, конструктивный технический смысл. Применительно к какому-то довольно известному литермену в туманной дали времен… как же звучала его фамилия? Кажется Бальзак… впрочем, нет, не уверен… или Шекспир? Неважно… Так вот — говорили, что у них — хорошее перо… Острое перо! А? Идея! Вечное перо — вот что ему сейчас нужно!
Пе-ро… Перья… Ну да — конечно!
Он выскочил во дворик своего дома. Возле небольшой хозяйственной пристройки прогуливалась семейная пара — гусак с гусыней, которые содержались не столько для яиц, сколько для престижа. Они важно переваливались с боку на бок, покачивая белыми перьями хвостов.
Вечное перо! Именно то, что ему нужно! Острое перо! Хорошее перо!
В позе первобытного охотника, подкрадывающегося к добыче, Джеймс Уолтер, знаменитый словесный композитор, стал осторожно приближаться к гусаку со стороны хвоста… Бросок! И вот в его руках — два превосходных пера…
Дело теперь было только за чернилами!
Знаменитый литермен — представитель цивилизации XXII века — яростно огляделся вокруг…
ПАТЕНТ
В окошечко регистрации Бюро Патентов просунулась рука, выглядывающая из белоснежной манжеты, застегнутой агатовой запонкой.
«Что за старомодное ископаемое?» — подумал инженер отдела и начал быстро читать заявку, делая привычные пометки.
Вдруг он запнулся и попытался протиснуть голову в узкое окошечко.
— Что за чушь вы принесли? — прошипел он почти в лицо заявителю. — Да вы с ума сошли!
— Я предвидел вашу реакцию… — тусклым невыразительным голосом, лишенным всяких модуляций, ответил странный посетитель. — Вот муниципальное заключение о моей полной вменяемости… — И он положил перед растерянным сотрудником стандартный бланк с внушительной гербовой печатью. — Вы не имеете права отказать мне в регистрации моего патента, — все тем же, словно бы серого оттенка, голосом напомнил он. — Согласно федеральным законам, любое изобретение, вносимое на регистрацию законопослушным и находящимся в здравом уме гражданином нашей страны и не представляющее опасности для ее благополучия и безопасности…
— Я не хуже вашего знаю закон! — прервал его инженер, но реплика его прозвучала словно бы в безвоздушном пространстве.
— …оплаченное по действующим расценкам чеками или наличными в установленном порядке… — продолжал, как заведенный, посетитель.
Инженер Патентного Бюро в отчаянье махнул рукой и снова уставился в схему и описание изобретения, претендующего на внесение в патентный перечень. Ничего не скажешь — замок и в самом деле был хитроумным. Двойная система запоров, окруженная мощным силовым полем от квазиядерного микроконденсатора! Самым квалифицированным медвежатникам и домушникам с лазерными отмычками открыть такой замочек не под силу — при всей их возросшей квалификации!
— Я плачу наличными… — не то действительно сказал, не то прошелестел пачкой «зелененьких» настойчивый посетитель. — И прошу вас проверить в картотеке, нет ли аналогичного патента. Я не хочу ни с кем делить будущие дивиденды…
— Дивиденды?! — задохнулся в крике Инженер Патентного Бюро. — Вы еще рассчитываете… рассчитываете, что ваше изобретение будет реализовано?!
— Почему бы и нет? Подобная вероятность весьма отлична от нуля…
— Отлична? Скажите лучше, она значительно меньше, чем нуль! Вот! Полюбуйтесь! — он вывел на дисплей и мстительно сунул под нос посетителю соответствующую страницу с индексом. — Подобных изобретений, слава богу, нет, не было, и быть не может!
— Весьма польщен… — сухо прокомментировал это сообщение старомодный джентльмен, и рука его в белоснежной манжете протянулась за свидетельством о регистрации.
— Плакали ваши денежки! — с нарастающим злорадством выкрикнул Инженер. Ну прикиньте — кому на нашей грешной планетке потребуется ваше изобретение? Это же надо… В кошмарном сне только и придумать такое: гроб, запирающийся изнутри!
— В патентной заявке не сказано «гроб», — деревянным тоном поправил его посетитель. — Там сформулировано: «контейнер или иная произвольная емкость, предназначенная…»
— Вот-вот: предназначенная для мертвеца!
— И это ваше дилетантское определение некорректно… — ничуть не изменил своего невозмутимого тона изобретатель. — Сказано: «любой биологический объект, юридически считающийся временно лишенным жизненных функций на срок, равный вечности…»
— «На срок, равный вечности»! — фыркнул Инженер, на которого после непонятной раздражительности напал такой же непонятный и неожиданный приступ смеха. — Так и скажите: труп, мертвяк, жмурик… Интересно, каким образом ваши «биологические объекты»… — он не удержавшись, захохотал во все горло, — ваши «лишенные жизненных функций» клиенты смогут закрыт себя в гробу, а?
— По доброй воле, — загадочно ответил посетитель. — Разумеется — только по доброй воле.
— Добровольно… умереть?! — рот у Инженера приоткрылся, как узкая щель детской копилки.
— Думаете, главное состоит в том, чтобы закрыть, как вы изволили выразиться, гроб изнутри? — странным, весьма странным, более чем странным тоном спросил невозмутимый заявитель на изобретение. — Главная проблема будет состоять в том, чтобы его нельзя было открыть снаружи…
И его рука четко, словно щупальца манипулятора, не делая лишних движений, схватила заверенное Инженером свидетельство о регистрации.
— Благодарю вас… — и словно бы не сам изобретатель, а его кисть в манжете отвесила чопорный прощальный поклон.
Прошло много лет.
Инженер Патентного Бюро — давно уже бывший — незаметно состарился, вышел на пенсию и тихо и благополучно доживал свой век в маленьком домике с маленьким садиком. Он не признавал никаких патентованных приспособлений и обрезал ветки кустов старыми дедовскими ножницами. В маленьком сарайчике он ухитрялся выращивать декоративных кур. Яйца, впрочем, они несли нормальные. И хотя дом его не запирался, внуки навещали Инженера редко.
Он так и не смог привыкнуть к домашнему принтеру и продолжал подписываться на газету, набираемую старинным способом, — только отпечатанную теперь не на бумаге, а на тонком пластике…
Однажды, лениво процеживая сквозь уставшие глаза привычную криминальную хронику, он наткнулся на сенсационное сообщение, поразившее его своей технологической подоплекой:
«Попытка неизвестных злоумышленников взломать несколько контейнеров в специальном подземном хранилище известной фирмы «Привет из Вечности» не увенчалась успехом. Расследованием установлено, что преступники были наняты наследниками некоторых уважаемых бизнесменов, потерявшими надежду дождаться наследства. Как известно, узаконенный добровольный уход в вечность на неопределенный срок не лишает спящих процентов на принадлежащий им капитал. Наши миллионеры, уходящие в будущее в криогенных контейнерах, могут быть твердо уверены, что их пребывание в спокойном вечном сне не будет никем насильственно прервано до наступления зашифрованного самим заказчиком срока. Любым попыткам взломать их убежища уединения надежно противостоят патентованные запоры Джона Коллинза Хитроу».
«Хитроу… Хитроу… — пытался зацепиться за какой-то хвостик воспоминаний бывший Инженер Патентного Бюро. — Ну да — старинный аэропорт под Лондоном, нынешний музей летательных аппаратов… Постой! Да это же фамилия того самого чокнутого, который… Вот и дождался он своих доходов! «Массовый добровольный уход в будущее на срок, равный вечности», усмехнулся он, вспомнив чудаковатую патентную формулировку. — Неужели же в долгом ожидании прихода лучших времен человечеству придется использовать гроб, запирающийся изнутри?!»
Андрей Измайлов ХАКИ
И прищур у одного из этих парней был узким, холодным, острым, поблескивал сталью. Бритва в его руках тоже поблескивала — узкая, холодная, острая. И держал он ее профессионально — чуть на отлете, вращая кистью. Другой из них тоже профессионал — донышко бутылки отлетело у него почти бесшумно, без стеклянных брызг: хруп! И зеленые, мутно-прозрачные клыки теперь целили прямо в лицо.
Они вообще были парни не без выучки. И тот, который оглаживал в ладони мячик, мягко оглаживал, чтобы, упаси Господь, кислота не капнула на комбинезон, а выстрелила дюжиной упругих фонтанчиков — стоит чуть сжать мячик.
И четвертый тоже — у него в руках ничего не было, да и руки болтались, как тростниковая занавеска. Но Хаки помнил эту натренированную безвольность у Беременного, который полгода мордовал роту перед заброской на Плато. Хаки помнил, чем взрывалась эта безвольность у Беременного, — и пропадало знаменитое на весь Корпус брюхо, набитое пивом и пайковым десантским шоколадом. И был это уже не сержант, не Беременный, а винтокрыл на предельных оборотах — и рубил в капусту.
Так что Хаки быстро сообразил, что последний из этой четверки, взявшей его в кольцо — самый опасный. Начинать надо с него, с Безвольного. Тем более. Безвольный стоит вне блока — явно не подозревает, что Хаки знает «винтокрыл». И хотя притяжение на Плато в полтора раза больше, и со времен Умиротворения прошло без малого десять лет, и у Хаки отросло брюхо, как у Гризли, не меньше — но на «винтокрыл» его еще хватит. Тем более, Безвольный медлит. Вообще, все четверо почему-то медлят.
Хаки не стал решать — почему. Медлят-то медлят… Но дистанция между Бритвой, Клыками, Мячиком, Безвольным и Хаки сократилась до ярда…
И Хаки включился. На средние обороты. У него уважаемое заведение. Патруль заглядывает к нему только пропустить стаканчик. Других дел у Патруля к Хаки нет. И трупы в его уважаемом заведении не нужны…
И Безвольный завязался в узел, не успев войти в блок. И Мячик пробил стойку головой. Клык, подрубленный под щиколотки, махнул руками, ища точку опоры, и на этот раз уже непрофессионально шарахнул бутылкой о край стола, свалился лицом в осколки. Бритва мазнул лезвием по воздуху и приложился затылком к рифленой ступеньке.
Хаки сбавил обороты на нет, вылил неразбавленного на полотенце и вытер лицо, шею — все-таки тяжеловат стал для «винтокрыла». Потом плеснул в стакан на два пальца, разбавил до четырех, швырнул содержимое себе в рот и, запрокинув голову, сделал «гл-гл-гл».
…Когда сознание к нему вернулось, заколотил кашель. Хаки перхал, проламывая внезапную перегородку в гортани. Несуществующую перегородку, которая возникает после удара по горлу…
Крепкие парни! Правильно угадал Хаки. Профессионалы! После «винтокрыла» очухаться, сориентироваться и достать! И еще как достать! Кто же это? Безвольный вроде в дальнем углу валялся — не мог он достать. Да, любой из остальных мог достать. Теперь, когда балаган с бритвами, бутылками, мячиками кончился, они стояли все четверо, и руки у них болтались, как тростниковая занавеска, и каждый был в блоке. Так… Значит, просто брали на испуг. У Хаки отлегло…
Но прокашляв перегородку в гортани, он понял, что отлегло рановато. Сам-то он. Хаки, был аккуратно и плотно втиснут в угол, и ноги его задраны выше головы. Не оттолкнуться. А если бы и оттолкнуться, если бы найти точку опоры и оттолкнуться, то… Против четверых «винтокрылов»-один?! Первый раунд он выиграл, да. Но они не знали, что Хаки отбарабанил свое в Корпусе Умиротворения на Плато. Теперь же — начеку. И подогретые.
Хотя они уже ввалились подогретые. И заорали, что, хозяин, четыре двойных, что Док хорошо бежит, что Док даст сто очков вперед Милашке, что Милашка уже выдохся и просто-напросто не добежит, что вся Милашкина команда в подметки не годится команде Дока, что жирные коты Милашке не помогут, что у Дока коты пожирнее, что, хозяин, еще четыре двойных и один для себя, что за победу Дока надо выпить, что нельзя не выпить за победу Дока, что еще не первый вторник после первого понедельника, но уже ноябрь, что Док, можно сказать, добежал, а Милашка все еще бежит, но плохо бежит, и шансов у Милашки никаких, что за это тоже надо выпить, что нельзя не выпить за провал Милашки!
Только они не такие подогретые были, как хотели казаться. И Хаки, не любивший, чтобы его держали за идиота, прикинулся идиотом и спросил:
— А что, ребята, стипль-чез — штука коварная. Попадет ваш стиплер копытом в ямку — и ну как вашего Дока Милашка и обойдет?
Хотя он не был идиотом. И знал, что Док и Милашка — не мерин с кобылой, а кандидат и кандидат. И бега — выборы. И финиш, до которого оба бегут, тот самый первый вторник после первого понедельника ноября. И повелось так в их благословенной стране давно, с самого начала, триста лет как.
И Хаки был далек от политики. Была у него мечта — скопить монет и открыть свое дело. И он сам ее, мечту, осуществил. Без всякой политики. Без Дока, без Милашки. И хотя исполнилось ему сегодня сорок, то есть получил он право голоса, — его это не щекочет. Он бы вообще из-за стойки не шелохнулся, если бы не Закон, который ввели еще до его. Хаки, появления на свет. Лет полета назад. Когда в первый вторник после первого понедельника ноября вообще никто не проголосовал. Начхать было избирателям, кто на них верхом сядет. Что тот, что другой. Вот тогда и Закон провели — избиратель обязан отдать свой голос либо за одного, либо за другого. Иначе…
Хаки — что? Хаки Закон уважает. Хаки пойдет и проголосует. Хаки все равно, за кого голосовать.
Только парни, подогретые, шумно себя вели, суетились. По плечу Хаки стали хлопать, гоготать. Мол, ну ты, хозяин, сказал. Дока мерином назвать, ну ты даешь, нового хозяина Холма, Дока нашего не знать, Дока, который тебе рай на земле устроит, не знать. Дока нашего, который о твоем процветании заботится и о процветании каждого, не знать, ну ты, хозяин, даешь!..
Тут Хаки им и дал! Назло. Что видел он их Дока кое в каком месте, что без всякого Дока он сорок лет прожил, что без всякого Дока процветает, что он, Хаки, еще поглядит, как Милашка их Дока обойдет, что он. Хаки, пойдет в первый вторник после первого понедельника и отдаст голос за Милашку.
И парни его еще похлопали по плечу, еще погоготали. Потом сказали, что ладно, хозяин, с тобой не соскучишься, что ладно, хозяин, мы шутки понимаем и вместе посмеемся, что ладно, хозяин, посмеялись и будет…
Но Хаки был упрям. И кончилось это для него так, что втиснут он в угол собственного заведения, и ноги торчат выше головы.
А Безвольный сонно смотрит на него и говорит:
— Сейчас, хозяин, тебе будет больно. Сейчас я и эти ребята будем делать тебе очень больно. А потом ты пойдешь в первый вторник после первого понедельника и отдашь свой голос за Дока. А если ты взбрыкнешь и сваляешь дурака в пользу Милашки, тогда тебе всегда будет очень больно, пока мы будем ходить к тебе в гости. А нам у тебя, хозяин, понравилось. Уютное заведение. Мы каждый день будем приходить в гости…
Хаки не смотрел на этих четверых. Он смотрел на тростниковую занавеску за их спинами. Время Патруля. Пошло время Патруля. Патруль нуждается в опрокидывании стаканчика. Каждый день в это время Патруль нуждается в стаканчике доброго крепкого пойла…
Занавеска рассеклась надвое. Не Патруль. Еще четверо. Тоже крепкие парни. Удавка у одного, цепь у другого, еще кастет с шипами. И четвертый опять с пустыми руками, как у Безвольного.
«Да, — подумал Хаки. — Да, сейчас мне будут делать больно, — подумал Хаки. — Хотя для того, чтобы сделать очень-очень больно, хватило бы и четверых, — подумал Хаки. Еще он подумал: — Может, они друг друга будут сменять?»
Но они не стали друг друга сменять. Безвольный поймал взгляд Хаки и обернулся. Остальные трое тоже обернулись. И те четверо застыли. И эти четверо тоже. Молча. И все разом взорвались «винтокрылом» на предельных оборотах. Это была рубка. Бесшумная, сосредоточенная.
Хаки выбрался из угла, ртутной змейкой скользнул в клозет и сел там. Ноги затекли и не слушались, голова затекла и не слушалась.
Хаки отсиделся. Головой сообразил, что рубка кончилась, что рубка «винтокрылом» даже в блоке — самое большее минута. Ногами пошел. Глазами увидел семь трупов — в капусту, а восьмого, тоже иссеченного, на излете в воздухе. Руками инстинктивно заблокировался, поймал этого восьмого за ребро, превратив в труп. Ушами услышал:
— Ого!!! Хаки!!! Парень! Ты что же?..
Патруль. Патруль всегда в это время нуждается в опрокидывании стаканчика.
Ничего себе — день рождения! День рождения что надо! Да-а-а…
* * *
…И Док призвал нацию смотреть вперед, для чего — оглянуться назад. Да, назад! Кто десять лет назад внес законопроект о признании за синюшниками всех гражданских прав и свобод?! Да, друзья, соратники, собратья, он. Док, слышит ваши благодарные аплодисменты.
Вспомним, друзья, соратники, собратья, когда каждый из вас приютил по дюжине синюшников, дав им крышу над головой, хлеб насущный, успокоение в вере. Вспомним и представим, что законопроект не прошел! Кто бы сейчас вспахивал поля, чтобы вы имели кусок яблочного пирога, которым готовы поделиться со страждущим?! Кто бы сейчас буравил породу в урановых шахтах и рудниках, чтобы вы имели свой очаг, к которому готовы пригласить страждущего?! Кто бы сейчас месил термосмолы, без которых все вы ходили бы в чем мать родила, и никто не смог бы поделиться со страждущим последней рубахой. Не говоря уж о штанах. Или других более интимных деталях туалета.
Да, друзья, соратники, собратья, я слышу ваш смех. Это смех здоровой, процветающей, неунывающей страны бога и моей. Страны равных возможностей и прав!
Синюшники, десять лет назад обнаруженные на Плато, беспрекословно прошедшие Умиротворение доблестными парнями нашего славного Корпуса и доставленные на Землю, по сей день оставались бы экзотичными недоносками, которых Господь в своей безудержной щедрости наделил разумом. Ибо враги нашей свободной демократии заявили, что использование синюшников на вредных, тяжелых работах — есть рабство! Рабство, друзья, соратники, собратья! Позорное пятно в нашей истории. Пятно, которое удалось смыть прапрапрадедам нашим. И нам ли не помнить, кто препятствовал этому?! Прапрапрадеды Милашки и всей его шарашки… Смейтесь, друзья, соратники, собратья! Смейтесь, ибо история повторилась! Кто десять лет назад протестовал против моего законопроекта?! Прапраправнуки прапрапрадедов, апологеты рабства — Милашка со своей командой!!!
Синюшники выносливей людей в два раза, практически не нуждаются в еде и жилье, а тяжелая, изнурительная работа синюшниками используется как необходимое средство для поддержания своей жизнедеятельности. Сила тяжести на Плато в полтора раза больше земной, это мы все помним.
Могли мы отказаться от подарка, который нам преподнесла судьба, всегда благоволившая к нашему избранному богом народу?! Могли мы вернуться к позору нашему — рабовладению?! Нет и нет! Мы сделали синюшников полноправными гражданами!.. О каком рабстве может идти речь?! Мы обеспечили синюшников необходимым — работой. И теперь каждый из вас имеет дюжину, а то и две синюшников для личных нужд! Дюжину, а то и две друзей, соратников, собратьев. Если же наши друзья, соратники, собратья предпочитают всем благам нашей цивилизации долбление породы в рудниках это их право! Право каждого свободного гражданина выбирать себе дело по душе! И право это синюшники получили десять лет назад вместе с одобрением моего законопроекта, да! Оглянитесь назад, друзья, соратники, собратья. Теперь киньте взор вперед! Теперь посмотрите мне в лицо! Это лицо человека, который десять лет назад начал свой путь политика, взяв нацию за руку и поведя ее к Мечте! И я приведу вас к Мечте! Да! Четыре года небольшой срок, но четыре года на Холме стоят двадцати! И я. Док, это докажу! Оказавшись на Холме! Ваш Док, друзья, соратники, собратья! До Мечты рукой подать — один день до первого вторника после первого понедельника и еще четыре года! Не так ли?! Правильно — ура!
* * *
…И Милашка призвал нацию прислушаться к Доку и по призыву Дока посмотреть Доку в лицо. И потом в это лицо плюнуть! Да, плюнуть! Десять лет назад эта синюшная рожа провела свой вшивый законопроект! И синемордые живут с нами в одних домах, ездят в одних мобилях, летают в одних шлюпах! Стоило решить трехсотлетнюю загвоздку с негритосами, как шайка Дока свалила нам на голову синюшников!..
Тут этот малый назвал их подарком! Милашка в свое время предлагал оставить этот подарочек на Плато под контролем Корпуса Умиротворения. На Плато! На Плато откопали и уран, и термосмолы! И вс? что делают синемордые у нас на Земле, они могли бы делать там, у себя! Док и его шайка накручивают вам на мозги, что на нашей Земле тяжелый труд для синюшников необходимость, и морочат головы какой-то силой тяжести. А я вам скажу, что сила тяжести нашей монеты перевесила бы! Да! Эти синемордые вкалывали бы за нашу монету на своем Плато! А парни из Корпуса Умиротворения следили бы, чтобы они, не дай Господь, не переутомились! И мы бы не имели то, что мы имеем!..
Разве синюшники могли бы вякнуть, если бы не вшивый законопроект, которым так гордится Док и его придурки! Да, гордится! Я так думаю, что нелишне у всех у них проверить голову!.. И если бы не мой законопроект о праве на голосование с сороковника, кто поставит хоть одну монету против того, что сейчас мы имели бы в кандидатах кого-то из синемордых! Хотели бы вы, добрые граждане, чтобы на Холм взобралась синюшная тварь?! Спокойствие, добрые граждане! Спокойствие!!! Этого не будет! Пока я стою на защите ваших интересов! Ваши интересы — мои интересы! Самый долгоживущий синюшник дотягивает до тридцати пяти наших земных лет! Это благодаря мне ни один синемордый не подойдет к урне!
Док, подрывающий нашу страну изнутри чокнутыми идеями о равноправии синих рож, может сожрать бумажки со своим законопроектом. И я вам говорю, что он тут же подавится! Потому как переварить это нельзя! Нельзя допустить, чтобы к Мечте вела какая-то подозрительная синюшная рожа! И мы не допустим этого! Не так ли, добрые граждане?!! Четыре года, которые мне предстоит провести на Холме, каждый из вас может быть спокоен — синюшники будут знать свое место! И Док со своей шайкой тоже будет знать свое место!..
Спокойствие, добрые граждане! Я понимаю ваши чувства! Я разделяю их! Спокойствие! Завтра! Завтра, в первый вторник после первого понедельника, мы по-другому будем говорить со всей этой сворой синемордых!!!
* * *
Док продвигался медленно. От Постамента до открытого мобиля без верха была сотня ярдов. Но эту сотню ярдов надо было пройти не спеша, не торопясь. Улыбка, рукопожатие, улыбка, рукопожатие, еще улыбка. Ему нечего опасаться. Ему, Доку, который приведет свой народ к Мечте. Народ, его народ, любит его, ему нечего опасаться. Он даже последнюю речь произнес с открытого Постамента! И мобиль у него обычной модели, без верха. Каждый, кто завтра придет на избирательный участок, видел сегодня бесстрашие Дока, бесстрашие будущего хозяина Холма! С таким парнем, как Док, можно не опасаться за будущее! Это вам не Милашка, который прячется на Постаменте под Колпак! Это вам не Милашка, который свои сто ярдов до своего пуле-бомбо-плазмозащитного мобиля идет по бронекоридору!
Это вам не Милашка, который дрожит за свою безмозглую башку — как бы ее не продырявили. Это вам Док, которому некого и нечего бояться! Это вам Док, уверенный, что вокруг него друзья!
И хотя Док продвигался медленно, поймать его на мушку было трудно. В прицеле снайперского линзера мелькали спины тех, кто жаждал пожать руку будущему хозяину Холма. И Док раздавал рукопожатия и улыбки до мобиля, покрытого Силовой Защитой, которую не пробьет никакой линзер. Как, впрочем, и Силовую Защиту над Постаментом, откуда Док вещал. Силовая Защита — отличная штука! И главное — невидимая! Но сто ярдов Док должен пройти без прикрытия. Сквозь Силовую Защиту руки не подашь…
Док добрался до мобиля и взялся за ручку дверцы. Пространство между ним и линзером на миг очистилось от спин. Док открыл дверцу мобиля и, обернувшись к толпе, дудящей в рожки, машущей флажками, посыпающей головы конфетти… Ну! Обернувшись к толпе друзей, соратников, собратьев, воздел руку в прощальном приветствии. Линзер с коротким жужжанием выпустил заряд.
Док схватился за плечо, улыбка на лице остановилась. Белый комбинезон безнадежно изгажен ярко-красной кляксой, которая лениво расплывалась под рукой. Док отнял руку от плеча, посмотрел на липкую, мокрую ладонь, крутанулся на каблуках и мягко свалился внутрь мобиля на сиденье…
Команда Дока — те-кто-мозгует-запершись-в-прокуренной-комнате, — видела вс?. Визион показал: как парни Дока в мгновение сориентировались, сделали Стену между мобилем и толпой… как мобиль рванул с места… как один из друзей, соратников, собратьев тыкал флажком с эмблемой Дока в шлюп, повисший над головами… как парни Дока с бедра зажужжали линзерами по шлюпу парализующими зарядами, — стрелявший нужен был живым… как шлюп взмыл вверх… как шлюп неожиданно завис… как шлюп стал описывать круги, и каждый круг был меньше радиусом… как шлюп стал опускаться все ниже и ниже… как толпа взревела: «Есть!!!» Как шлюп спланировал и проскрежетал на брюхе… как друзья, соратники, собратья орали и бежали к шлюпу… как парни Дока опередили всех и успели сделать Стену вокруг шлюпа… как из внутренностей шлюпа вывернули наружу лысого человечка со линзером в руке и типовой эмблемой Милашки на комбинезоне… как один из парней Дока взялся пятерней за лицо лысого человечка и скомкал это лицо, а другой рукой сорвал с комбинезона лысого эмблему Милашки и стал размахивать ею над головой, а потом бросил в толпу… как толпа заорала, изорвала и затоптала эмблему Милашки и продолжала орать, размахивая кулаками…
— Это хороший Инцидент! — сказал первый из команды Дока. — Он нам даст по голосу с тысячи. Особенно после того, как все услышат слова Лысого.
— Да, это хороший Инцидент, — сказал второй. — Хозяин Холма, которого пытались подстрелить враги нации и народа, — это символ. Вспомните нашу историю. А хозяин Холма, который после линзерного ранения уже на следующий день приветствует избирателей, — тем более. Сильная фигура — вот что нужно стране! И сильная фигура не тот, кто надрывается из-под Колпака, поливая непристойностями, а потом подсылает наемника!
— Да, Инцидент сделал из Дока сильную фигуру, — сказал третий. — Но вы посмотрите, что вытворяют Милашка и его парни!
— Да, это тоже хороший Инцидент! — сказал четвертый. — Но они опоздали…
В параллельном визионе, чередующем крупный план Милашки под прозрачным Колпаком с общим планом его добрых граждан, происходил Инцидент-2.
Визион показал лохматого парня, выбросившего вверх не просто два победно разведенных пальца, как все. Лохматый парень выбросил вверх Что-то. Что-то блеснуло в луче, направленном на Милашку, перелетело через Стену, сделанную командой Милашки.
Визион показал крупный план Милашки под Колпаком. Визион показал, как это Что-то ударилось о Колпак и скатилось по его стенке. Как Милашка увидел это Что-то и проводил его взглядом. И как это Что-то бабахнуло у основания Колпака. И Колпак стал крениться набок. И еще больше накренился. И перевернулся вверх дном, прихватив ободом Милашку. И Милашка, будто с Горок, скатился на самое дно Колпака.
Визион снова показал ораву и лохматого парня, который оттолкнулся от пола и подскочил над всеми и над Колпаком с Милашкой. Визион показал ноги Лохматого, обутые в «бетменки» последней модели «Джамп» с дюзами на каблуках.
Еще визион дал всеобщий план: Лохматый швыряет сверху в перевернутый Колпак что-то, снова бабахает… Лохматый приземляется в пятидесяти ярдах, снова отталкивается, снова подскакивает… Милашка тяжело ворочается в луже красного на дне Колпака. Милашка встает на одно колено… Команда Милашки палит из линзеров по Лохматому… Лохматый срезан на взлете… Лохматый пикирует… Лохматый пикирует в Колпак… Милашка уже стоит, чуть сгорбившись и покачиваясь… Милашка встречает Лохматого прямым блоком, ухватывает за ворот комбинезона и резко рвет вниз… Из прорехи сыплются эмблемы Дока, они сыплются в лужу красного у щиколоток Милашки…
Орава ревет…
— Умойся моей кровью, падаль! — ревет Милашка. Зачерпывает горсть из лужи красного и выплескивает в лицо Лохматому. — На нем моя кровь! — ревет Милашка.
Потом двумя пальцами берет набрякшую эмблему Дока из той же лужи.
— На ней кровь! — ревет Милашка. — Да падет эта кровь на головы тех, кто ее пролил! Орава ревет.
* * *
Команда Милашки — те-кто-мозгует-запершись-в-прокуренной-комнате, — видела вс?.
— Мы им вставили! — сказал первый из команды Милашки. — Парни Дока опередили нас всего на пару минут, зато Милашка взял Лохматого сам, своими руками.
— Да, мы им вставили, — сказал второй. — Но парни Дока все-таки нас опередили. И будут говорить о праведном гневе, вызванном покушением на Дока. Мол, гнев нации неудержим, и Лохматый — лишь ответ на Лысого.
— Но мы им все равно вставили, — сказал третий. — Что бы ни болтали парни Дока о праведном гневе. Лохматый скажет все, что нужно, чтобы они заткнулись.
— Да, — сказал четвертый. — Лохматый скажет. И они заткнутся. Но у них Лысый. Лысый скажет. И заткнемся мы. Мы отработали, что скажет наш Лохматый с эмблемой Дока. Но и они отработали, что скажет их Лысый с нашей эмблемой.
— Да, — сказал первый. — Инцидент нам голосов не прибавит. У команды Дока головы тоже варят.
— Да, — сказал второй. — Но их Инцидент не прибавит им голосов тоже. Думаю, они не выпустят Лысого на сцену и свалят все на красных. Лысый агент красных.
— Да, — сказал третий. — Тогда наш Лохматый — тоже красный… Тогда враги нашей демократии решили покончить сразу и с Доком, и с Милашкой. И воспользоваться возникшими беспорядками.
— Да, — сказал четвертый. — Каждый остается при своих. И Милашка, и Док очухаются к завтрашнему утру. После сегодняшнего — завтра оба должны быть в форме. Отмоются от кетчупной крови и сделают заявление о коварных красных. И избиратели еще тесней сплотятся.
— Вокруг кого? — сказал первый. — Вокруг Милашки?.. А если нет?.. Так что наш последний шанс — этот… как его?.. Хаки!.. И времени у нас меньше суток…
* * *
— …И времени у нас меньше суток, — сказал первый из команды Дока. Думаю, Милашкина шарашка уже просчитала все варианты. Так что наш последний шанс — Хаки.
* * *
Хаки подумал, что неплохо бы снова устроить всем этим «винтокрыл». Всем этим в одинаковых белых комбинезонах, только с разными эмблемами.
Потому что у него уважаемое заведение, куда каждый может зайти опрокинуть стаканчик, поглазеть визион, сделать ставку, даже набить неприятелю физиономию. Но каждый должен чувствовать, что хозяин здесь Хаки. Даже те четверо и четверо, которые вчера устроили рубку, чувствовали, что хозяин здесь Хаки. И двойка Патруля, утрамбовавшая все восемь трупов в дежурный мобиль, приняла порцию за счет Хаки и по-свойски похлопала по плечу. Потому что Хаки защищал свое имущество, не говоря уж о жизни. И Хаки даже не стал говорить, что эти две четверки поубивали друг друга без его вмешательства. Потому что это никого не касается. Зато каждый теперь убедился, что хозяин здесь Хаки. И он, Хаки, может это доказать не одному, не двум, а целой банде молодчиков с кастетами, цепями, бритвами…
Но все эти в белых комбинезонах, нагрянувшие с утра, отнюдь не оспаривали его положение хозяина. Наоборот! Они хорошими, громкими голосами вещали в свои микрофоны, что именно он, Хаки, настоящий парень. Но Хаки не чувствовал себя настоящим парнем и хозяином как раз с тех пор, как все эти в белых комбинезонах притащились сюда в шлюпах и мобилях, расставили вокруг его заведения Ящики и устроили Аквариум. Потому что хозяин не тот, кто живет в аквариуме, а тот, кто следит, как в этом аквариуме живется. И штука эта запросто может довести до психушки, а то и еще до чего похуже.
И Хаки вспомнил про Гризли. Про лучшего центрового с тех времен, как спейсбол получил «вид на жительство» и даже обзавелся своей федерацией. И Хаки те три недели было не оторвать от визиона, хотя Финалы кончились и показывал визион не Большой Полигон, где парни ведут Финалы. Где Завр показывал, на что он способен и на что не способен больше никто. А показывал визион Бункер Завра, где тот жил — ел, пил, спал. В общем, то, на что способен каждый. Но это был Завр! И поэтому Хаки было не оторваться от визиона. И не только ему, но и каждому владельцу визиона.
Завр был первым, кому устроили Аквариум. Поэтому он не обратил внимания на Ящики, взявшие его Бункер в плотный круг. Поэтому вел себя так, как считал нужным. Но это был Завр!
Понятно, что все остальные каналы визиона на эти три недели объявили каникулы. И включились только после… После того, как Завр… Кто не помнит, что сделал Завр, когда сообразил про Аквариум?! Каждый владелец визиона надолго запомнил. И Хаки запомнил: как у него, у Хаки, началась трясучка, застучали зубы, и стало мокро и холодно лбу, плечам, животу. Но взгляда от визиона Хаки не отвел. И теперь помнил последний крупный план Завра, когда тот ухватил спейсбольный Шар и…
А ведь Завр был парнем что надо! Шесть с половиной футов, двести сорок фунтов, реакция — семнадцать в секунду, спейсбольный актив — сто сорок два безнадежных. И все-таки Завр не выдержал… И тогда же те-кто-на-Холме, ввели поправку, запрещающую Аквариум. И тогда же, сразу после поправки, каждый владелец принес к Холму свой визион в знак протеста. И получилась пирамида выше Холма. И те-кто-на-Холме, ввели поправку, отменяющую поправку, запрещающую Аквариум.
Так все это было. И Система Мрак была, CM-противоаквариумная. И обошлась она в большую монету тем, кто опасался Аквариума. Правда, выложить большую монету для тех, кем интересуются на уровне Аквариума, не проблема.
У Хаки такой большой монеты не наскреблось бы, хотя заведение у него уважаемое и доходное. Но недельная выручка втрое меньше, чем сумма того же Завра за один Финал на Большом Полигоне. Короче, на личную СМ Хаки не потянул бы. И не нужна ему личная СМ. Устраивать Аквариум из обычного заведения, пусть уважаемого и доходного, — дело, не стоящее и одного Ящика. Хаки — не Завр. Хотя тот же Беременный перед заброской на Плато стравливал роту Хаки с соседней ротой на Полигоне. Беременный считал, что хороший спейсбол — лучшая разминка перед Умиротворением. И Хаки неплохо провел Игру, и в его спейсбольном активе был один безнадежный. Но по сравнению с тем же Завром Хаки — сопля в полете.
Тем не менее, в спейсболе Хаки разбирался неплохо. И каждый Финал смотрел по визиону, и всегда ставил на команду Завра. Он ставил на команду Завра потому, что этих парней в каждой Фазе устраивал только «один-ноль». В крайнем случае — «ноль-ноль». Ведь при «ноль-ноль» рано или поздно можно добиться «один-ноль». Тем более имея на своей стороне Завра. А Завр ни разу не допустил «ноль-один».
А теперь Хаки не знал, на кого ставить… Ему исполнилось сорок, и по Закону он обязан отдать свой голос, иначе… И он бы его отдал. И когда кончилась рубка в его уважаемом заведении, ему было все равно, на кого ставить. Потому что у первой четверки была эмблема Дока, но у второй четверки была эмблема Милашки. И Вислоусый из Двойки Патруля расстегнул комбинезон с эмблемой Дока на одном из трупов, и на изнанке проступила эмблема Милашки. И Вислоусый хмыкнул: «Подставные!» А Нафабренный из Двойки Патруля расстегнул комбинезон с эмблемой Милашки на одном из трупов, и на изнанке проступила эмблема Дока. Нафабренный тоже хмыкнул. И сказал: «Да, подставные!» И теперь Хаки не знал, на кого ставить. У Вислоусого на фуражке вместо кокарды была эмблема Дока. У Нафабренного — эмблема Милашки. И они приняли порцию за счет Хаки, по-свойски похлопали по плечу…
И Хаки проворочался в постели всю ночь. В ночь с первого понедельника на первый вторник. Он знал, что завтра должен отдать свой голос. Он только не знал, на кого ставить. Он видел по визиону Инцидент с Доком, он видел Инцидент с Милашкой. Он был далек от политики и думал, что ему все равно, на кого ставить. Но четверо и четверо с разными эмблемами его насторожили. Но Двойка Патруля с разными эмблемами его насторожила. И Хаки проворочался в постели всю ночь. До тех пор, пока окно из черного не стало серым.
И Хаки готов был поставить все свое уважаемое заведение против одной монеты — он не заснул ни на секунду. И когда окно стало серым. Хаки увидел на фоне этого окна силуэт.
Хаки слышал скрипение матраса, когда перекладывался с боку на бок. Хаки слышал свое перханье — память о вчерашнем ударе по горлу. Хаки слышал бульканье и звяканье стекла о стекло, когда наливал себе неразбавленного, чтобы унять перханье и наконец заснуть. А больше Хаки ничего не слышал, ни шороха. И тем не менее между его постелью и окном был силуэт человека.
Хаки инстинктивно сделал блок, включился на полные оборо…
Человек сделал ему больно. Человек даже не двинулся с места, но сделал Хаки очень больно, начхав на блок и на полные обороты. Потом человек отдернул рукав комбинезона, и Хаки увидел на его запястье татуировку знак Службы Безмятежности.
«Что-то за последнее время слишком часто мне стали делать больно», подумал Хаки. Еще он подумал, что теперь понятно, почему он ничего не слышал, почему не сработал блок и полные обороты. Служба Безмятежности это серьезно. И Хаки насторожился еще больше. Надо же! Служба Безмятежности! Что может понадобиться Службе Безмятежности от хозяина уважаемого заведения?!
И человек ему объяснил. И все оказалось просто. Оказалось, что интересы Национальной Безмятежности требуют от хозяина уважаемого заведения завтра… уже сегодня, в первый вторник после первого понедельника, пойти и отдать свой голос за кандидата. И кандидат этот — Док. Оказалось, что Общий Компьютер выплюнул накануне данные о соотношении голосов. И соотношение это — «ноль-ноль». А Общий Компьютер никогда ни в чем не ошибается и учитывает вс?. Итак, в первый вторник после первого понедельника должно решиться, кто проведет четыре года на Холме. И голоса разделились поровну. «Ноль-ноль». А Хаки сегодня… вчера исполнилось сорок. И Хаки по Закону должен отдать свой голос. Хаки отдаст свой голос за Дока. Этого требуют интересы Национальной Безмятежности… Татуировка на запястье — не эмблема на комбинезоне.
Татуировка не проступит с изнанки своей противоположностью. Так что Хаки отдаст свой голос Доку и за особые заслуги перед Службой Безмятежности получит кучу монет. Или Хаки не отдаст свой голос Доку. Тогда другое дело. Тогда он не отдаст свой голос и Милашке. Так как его, Хаки, просто дематериализуют. Он, Хаки, понимает, что означает этот термин? Отлично! Он, Хаки, давно обратил на себя внимание Службы Безмятежности своей сообразительностью…
Так что все оказалось просто. От него. Хаки, которому вчера исполнилось сорок лет, зависело, кто взберется на Холм.
Так что все оказалось сложно. Потому что, когда человек Службы Безмятежности кончил объяснения, раздался другой голос: «Любопытный ход!» И на фоне противоположного окна прорисовался еще один силуэт. Силуэт тоже отдернул рукав комбинезона, и Хаки увидел точно такую же татуировку.
— Все верно! — сказал второй. — Только наоборот. Голос не Доку, а Милашке. В остальном — без ошибок. И про интересы Национальной Безмятежности, и про дематериализацию, и … про кучу монет.
И Хаки не знал, на кого ставить. Эти двое не кинутся друг на друга, как те четверо и четверо. Каждый сотрудник Службы Безмятежности практически неуязвим. Но он. Хаки, уязвим Службой Безмятежности. И еще как уязвим… И он. Хаки, сам бы отдал кучу монет, чтобы не стоять сейчас между этими двумя. По ногам ему сквозило, но мурашки по телу расползались не от этого. Хаки подумал: похоже на Финал спейсбола. «Один-ноль» устраивает. «Ноль-ноль» — куда ни шло. Но не «ноль-один»…
Хаки всегда ставил на команду Завра и всегда был в выигрыше. А сейчас Хаки не знал, на кого ставить. «Один-ноль» для одних означало «ноль-один» для других. И любая из сторон предпочтет «ноль-ноль», стоит только Хаки решить в чью-то пользу.
И по ногам ему сквозило. И окна из серых стали белыми. И первый вторник после первого понедельника вступил в свои права…
* * *
— Хаки — настоящий парень!!! — орали все эти в белых комбинезонах в свои микрофоны.
— Хаки знает, кому надо отдать свой голос!!! — орали все эти в белых комбинезонах в свои микрофоны.
— Хаки не из тех, кто отдает свой голос кому попало! — орали все эти в белых комбинезонах в свои микрофоны.
Еще они орали, что Хаки — это вам не хлюпик Завр, заставивший содрогнуться в ужасе всю нашу благословенную страну. Что Завр — слабак! А вот Хаки — это Хаки! Он, Хаки, знает, что ему устроили Аквариум! Знает, что за каждым его движением следят сотни и сотни тысяч добрых граждан, соратников, собратьев! Хаки понимает, какая на нем ответственность! Можно только восхищаться мужеством, с которым он. Хаки, несет бремя этой ответственности! Хаки все нипочем, да!
— Друг мой! — позвал Док. — Друг мой! Хаки! Еще порцию колы! — Док после вчерашнего Инцидента держал руку на перевязи и был бледнее обычного.
— Плюнь на эту синюшную рожу, Хаки! Старина! Он корчит из себя трезвенника, а сам качается после вчерашнего запоя! А мне скрывать нечего! Я с вами, я такой же, как вы, добрые граждане! И налей-ка ты мне, старина, порцию с содовой! И себе налей! — Милашка после Инцидента даже не переоделся и опирался на мощную трость.
У Хаки свербело в носу из-за утреннего сквозняка по ногам. Свербело в глазах из-за ночного бдения. И еще кое-где свербело из-за того, что Хаки после всего вчерашнего наглотался содовой. А все эти в белых комбинезонах помимо Аквариума устроили Стену, и ему, Хаки, было некуда деться.
Ничего, он потерпит! И даже нальет себе порцию с содовой. И даже нальет себе колы. И выпьет с Милашкой. И с Доком тоже выпьет. Хотя кое-где свербело все сильней. Лишь бы Они не подумали, что он, Хаки, решил, кому отдаст свой голос. Лишь бы Они его не дематре… Ну, вот то самое…
И они могут сделать то самое с ним в любой момент. Они могли сделать с ним то самое еще утром, когда двое из Службы Безмятежности посетили его. Но тогда для всех них было бы «ноль-ноль». И Они правильно решили, что «ноль-ноль» от них никуда не денется. И сейчас все Они устроили для Хаки Аквариум, с тем, чтобы весь избранный богом народ мог видеть его, Хаки, каждую секунду. И не упустить момента Решения. И не упустить реакцию другой стороны на Решение. А реакция возможна только одна. И тогда «ноль-ноль». Но тогда одна сторона будет козырять своей гуманностью против зверской реакции другой стороны. И выиграет. Но где какая сторона — ему, Хаки, будет уже все равно. Он будет демарте… ну, то самое.
«Лучше бы они ухлопали кого-нибудь, и соотношение бы нарушилось», подумал Хаки. Но потом вспомнил четверых и четверых, вспомнил Двойку Патруля, вспомнил Службу Безмятежности и сообразил, что Они предусмотрели такие варианты. И сколько трупов положит одна сторона, столько же положит другая. Так что решать только ему. И как бы он ни решил…
Так что у Хаки свербело в носу, в глазах, еще кое-где. Но больше всего свербело на душе.
Док, едва оклемавшись после Инцидента, продел руку в черную перевязь и с утра облюбовал уважаемое заведение Хаки, посасывая колу и показывая всем друзьям, соратникам, собратьям, какой он. Док, демократичный.
Милашка тоже прихромал после Инцидента сюда же и глотал порции с содовой, показывая добрым гражданам, какой он. Милашка, демократичный.
И оба они не говорили о политике, о красной и синей опасности, о законопроектах и поправках. Они просто демонстрировали, какие они отличные ребята.
И они на самом деле выглядели отличными ребятами, черт побери! А все эти в белых комбинезонах орали в свои микрофоны, что он. Хаки, отличный парень! И почему бы этим отличным ребятам не поладить между собой?!
И Хаки рад был поладить, но не знал, на кого ставить. Вернее, знал: на кого бы он ни поставил, его дермате… ну, то самое.
Так что больше всего у Хаки свербело на душе. И засвербело еще больше, когда в голове сверкнуло про Пигалицу. Слава богу, все Они ничего не знают про Пигалицу. Слава богу, что Пигалица далеко! Слава богу, что Пигалица осталась на Плато! Слава богу!..
* * *
Команда Дока — те-кто-мозгует-запершись-в-прокуренной-комнате, — следила за Общим Компьютером. Голоса распределялись «ноль-ноль». Команда Дока следила за Датчиком Аквариума — Датчик показывал стойкое равновесие.
— Ни черта он не решит! — сказал первый.
— Решит! — сказал второй. — Он должен отдать голос, или по Закону его дематериализуют!
— Кому бы он ни отдал голос… — начал третий.
— Вот именно! Но лучше бы — за Дока… — сказал четвертый.
* * *
— Вот именно! Но лучше бы — за Милашку… — сказал четвертый из команды Милашки.
— Копать надо! — сказал первый. — Копать, пока есть время. Должно быть у этого ублюдка что-то. Не может не быть!
— Времени между тем не так много… — сказал второй.
* * *
— Времени между тем не так много! — сказал первый из команды Дока.
— Поэтому и копать надо побыстрей!..
* * *
Они устали. Милашка стал терять контроль над собой и прихрамывал на другую ногу, демократично курсируя от столика к стойке за порцией с содовой и обратно. Док стал терять контроль над собой и хватал стакан с колой той рукой, что на перевязи, демократично провозглашая тост за здоровье хозяина и процветание уважаемого заведения.
Но на них вряд ли обращали внимание владельцы визионов, прилипшие к экранам. Хаки! Вот сейчас фигура номер один!
Фигура номер один традиционно вертела в руках стакан, накручивая его на салфетку. Хаки занимался делом. Дел у Хаки в этот день было много. Например, приготовить Милашке очередную порцию.
— Сейчас он покончит с этим делом и скажет!!! — надрывались микрофоны.
Например, откупорить Доку очередную колу.
— Сейчас он покончит с этим делом и скажет!!! — надрывались микрофоны. Например, протереть стойку… — Сейчас он покончит с этим делом и скажет!!!
…Накручивать стакан на салфетку Хаки мог долго. Работа у Хаки такая. Накручивать стакан на салфетку, пока сил хватит.
Визионы крупно показывали его руки, микрофоны надрывались, что в этих крепких руках не только стакан и салфетка, но судьба Холма на четыре года вперед.
У Хаки заложило уши от микрофонов, глаза воспалились от направленных пучков, кое-где уже не свербело, а пинало снизу в живот — тупо и мучительно.
«Да, Хаки, в твоих руках судьба Холма на четыре года вперед, — думал Хаки. — Только твоя собственная судьба в руках других. И не на четыре года вперед, а на все время, оставшееся до встречи с Всевышним, — думал Хаки. И время это — не четыре года, а очень может быть — четыре часа. Если ничего не изменится…»
Но что может измениться?! Хаки отдает голос Доку — с Хаки покончено. Хаки отдает голос Милашке — с Хаки покончено. Хаки никому не отдает голос — с Хаки покончено. По Закону.
Хаки снова вспомнил про Завра…
* * *
— Что такое Пигалица? — спросил первый из команды Дока.
— Синюшник, — сказал второй.
— А я думал — леди! — рявкнул первый. — Что такое Пигалица?!
— Сейчас… — сказал третий. — Пигалица — кличка, присвоенная умиротворителем роты Корпуса. Умиротворитель — Хаки. Эмоциональный контакт «Пигалица — Хаки» категории А. Периодизация контакта — десять лет.
— Значит, — сказал четвертый, — ему стукнуло сорок, а минус десять — он входил тогда в Корпус на Плато. Этой… Пигалице было десять наших земных. И сейчас как раз…
* * *
— И сейчас как раз эмоциональный контакт категории А! — сказал первый из команды Милашки. — Это ход!!!
— Она знает только свой язык, — сказал второй. — В отличие от синюшников, осевших на Земле.
— Тем лучше! — сказал третий. — Хаки знает ее язык, язык синюшников. Кто еще знает этот их синюшный стрекот? Сколько их, этих знатоков? Ставлю десять против одного — их можно пересчитать по пальцам!
— Пересчитать надо, — сказал четвертый. — Только не по пальцам. Надо подключить Общий Компьютер. Данные получим через минуту. И сразу глушить канал визиона тем, кто поймет стрекот Пигалицы.
* * *
— Тогда Хаки будет единственным. Соображающим, что она ему говорит, сказал первый из команды Дока.
— Остальные, все остальные будут слушать переводчика, нашего переводчика, — сказал второй. — Переводчик у нас высокой квалификации. Проверено.
— И еще!.. — сказал третий. — Канал с визионом Хаки — без обратной связи. А то он такое прострекочет!
— Да-а-а… — сказал четвертый. — Эмоциональный контакт категории А.
* * *
— Категория А — это выстрел в десятку! — сказал первый из команды Милашки.
— Канал! — сказал второй. — Пора! Времени всего час.
* * *
— Хаки — настоящий друг, соратник, собрат нашим младшим братьям! — ревели микрофоны. — Хаки еще десять лет назад был наш! Еще десять лет назад он признал за синюшниками все гражданские права, решившись на эмоциональный контакт категории А! Одновременно с принятием законопроекта нашего Дока! Будущего хозяина Холма! Вглядитесь в визионы, друзья, соратники, собратья! Встреча сквозь годы! Десять земных и еще больше световых! Вглядитесь!
— Хаки — настоящий добрый гражданин! — ревели микрофоны. — Хаки еще десять лет назад был наш! Еще десять лет назад он принял решение, которое далось ему нелегко! Оставить синюшника с эмоциональным контактом категории А на Плато! И он оставил ее на Плато! Полное единство с нашим Милашкой! Будущим хозяином Холма! Хаки считает, что место синюшникам на Плато! И только на Плато! Но каждый добрый гражданин имеет право входить в эмоциональный контакт любой категории с тем, кто ему подходит! Вглядитесь в визионы, добрые граждане! Хаки имеет право, и он им пользуется! Вглядитесь!..
Хаки вглядывался в экран. И вслушивался.
— Я плохо разбираюсь в ваших делах, — переводил один с эмблемой Дока на легком гравискафандре. — Но до сих пор хорошо разбираюсь в тебе. Я знаю: ты примешь единственное решение. И решение будет верным!
— Ты не допустишь ошибки, — переводил второй с эмблемой Милашки на легком гравискафандре. — Ты никогда не ошибался!.. И ты ее не допустишь.
Эти двое стояли справа и слева от Пигалицы строго на расстоянии полутора футов. Хаки знал эти штучки. Хаки сам проделывал эти штучки десять лет назад. Давно. На Плато. Но тогда были времена Умиротворения! И эти штучки считались в порядке вещей. И Завр их даже поощрял. Полтора фута радиус, три фута диаметр. Это Поле! Хаки сам держал поле над синюшниками. Но ведь не над Пигалицей! Но ведь десять лет назад!.. Ведь времена Умиротворения кончились! Десять лет назад!
Эти двое справа и слева от Пигалицы держали Поле над ней сейчас! Сейчас! И несли всякую чушь. «Перевод» с синюшного.
Хаки остервенело накручивал стакан на салфетку… Синюшники лишены земной мимики. По выражению лица Пигалицы ни один владелец визиона не поймет, что с ней происходит. Остается только стрекот. Стрекот, который «переводится». И который понимает Хаки.
Итак, Они ей сказали, что ее жизнь зависит от решения Хаки. Хаки теперь не может даже нарушить Закон, оставив свой голос при себе. В таком случае будет покончено не только с Хаки, но и с Пигалицей. И с Пигалицей раньше, чем с Хаки. И если он не хочет всего этого видеть, то должен выбрать. Они просто будут держать над ней Поле, пока… И никто из владельцев визионов даже не поймет, что произошло с Пигалицей.
Другое дело Хаки. Он поймет, что произошло. И если хочет, чтобы этого не произошло, то он должен выбрать. И Они перестанут держать Поле… Так Они ей сказали. Так она сейчас говорила ему, вклиниваясь в паузы между «переводом».
Еще она говорила, что каждый из них обещает помочь ей, если Хаки отдаст голос за того, кто им нужен. Но их двое, говорила она, и называют они разные имена. Еще она говорила, что больше не выдержит. Что с ней происходит Что-то. И Хаки знал: это Что-то — Поле…
— Сейчас он скажет! — ревели микрофоны.
Хаки думал о том, чтобы все скорее кончилось. Еще полчаса назад он так думал. Теперь же все кончилось бы не только для него, но и для Пигалицы, с которой у него эмоциональный контакт. Категории А! С периодизацией десять лет.
Хаки думал. Те двое держат Поле. Там. На Плато. И сначала покончат с Пигалицей. А потом здесь покончат с ним. «Нет, — думал Хаки. — Хоть это я сделаю! Пусть сначала будет покончено со мной. А тогда и Пигалицу им незачем будет кончать». Хаки думал, как сделать, чтобы с ним, с Хаки, было покончено. Хаки думал про Поле, Там, на Плато, двое в радиусе полутора футов держат Пигалицу в Поле. Там, на Плато, их двое. Здесь, на Земле, Хаки один. Но сила тяжести вдвое меньше, чем на Плато. И Хаки думал, что еще сможет тряхнуть стариной. Ведь Завр надолго вбил в его голову, как держать Поле. Только нужны двое в радиусе полутора футов, думал Хаки. Только нужно как следует собраться с мозгами, думал Хаки. И тогда получится, думал Хаки. Получится Обратное Поле. Поле с него. Хаки, на двух в радиусе полутора футов. И тогда с Хаки будет покончено. Пигалица синюшник, она просто не поймет, что сделалось с Хаки. Не поймет даже при эмоциональном контакте категории А. Тем более, если Поле удастся здесь у Хаки, контакт «Хаки — Пигалица» прервется. И восстановится через десять лет. Тогда Пигалице будет уже тридцать земных лет — глубокая старость для синюшников…
Хаки представил пай-мальчика Дока и хулиганствующего Милашку после того, как они оба поймут, что сами сработали для него, Хаки, в Обратном Поле. Представил их рожи.
И у Хаки вырвалось: «Кхе!»
— Он решился!!! — взорвались микрофоны.
Да, он решился. Датчик Аквариума показывал стойкое равновесие. Датчик Аквариума не отклонился ни на одно деление. Ни на одно деление в чью-либо пользу.
Хаки оторвал взгляд от визиона, где Пигалица и двое в легких грависка-фандрах. Док и Милашка были рядом. Каждый почти точно в полутора футах от Хаки.
Хаки чуть сдвинулся в сторону Дока, чтобы стать точно в середину. Он выдернул салфетку из стакана. Встряхнул ее. Перебросил через плечо.
Пустой стакан стукнул о стойку.
И…
У Хаки не получилось Обратного Поля. У Хаки не получилось никакого Поля. У Хаки ничего не получилось. Он еще и еще раз пытался, но Поля не было.
И Хаки поднял глаза к небу, мысленно призывая Господа в помощь. И сквозь потолок своего уважаемого заведения, ставшего Аквариумом, он увидел небо. И на фоне белого с голубым — шлюп. Шлюп, зависший над ним, над Хаки, и выпустивший Сеть. Сеть, которая снимала любое Поле.
Они, все Они, и это предусмотрели.
И Хаки перестал призывать Господа в помощь, а послал его к дьяволу!
Хаки потянул с плеча салфетку. Салфетка сползла и повисла у Хаки на руке. Белая. Хаки уткнулся в нее. И заплакал.
Наталья Галкина НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ 1
Каждому ясно, когда нужно хворост собирать. Хуже нет, если дождь зачастит. Дожди обложные для сбора хвороста самое что ни на есть неподходящее время. Потому как сушить его тяжко, да и не переводить же хворост, а тем паче дрова, для сушки хвороста! Милое дело, коли в конце лета и в начале осени вёдро, с неба не льет, и небо на нас гневаться не изволит. Хотя как небу не гневаться?.. Страшно нынче и подумать такое — вдруг кто услышит. Да и глаза нынче поднять страшно — боязно увидеть лишнее. И уши желательно затыкать. Лично я, как грохот приближающихся драконов слышу, готов в землю зарыться. Так и хочется лечь, голову прикрыть, зажмуриться будь что будет! А что будет, если ляжешь? Неровен час, отряд! Или хоть бы и один доносчик… разница-то невелика. И пошло-поехало: почему лег? Зачем глаза закрыл? Почто уши заткнул? Дракона видел?! Ну и все на этом. Сожгут за общение с… не к ночи будь помянутым. С воинством его. Основная на сегодняшний день забота: если сверху летят драконы, сбоку едут адские колесницы, а в лоб идет отряд по отлову вступивших в дружбу с … не к ночи будь помянутыми — не бледнеть, в лице не меняться, глаза вбок не скашивать, взгляда вверх не подымать, а идти как ни в чем не бывало. И упаси Господи вздрогнуть, ежели колесница перед твоим носом пролетит! Чего это ты дрожишь? От кого отшатнулся, нечестивец? Чьи образы в зенки впустил, еретик? И поволокут известно куда. Нарядят в сапожок испанский, либо в колодки, покрасуешься, да и на костер греться. Тут уж тебе отменного хвороста натащат. Вязанка к вязанке. Отборный. Любо-дорого глядеть. И сухого суше. Уж сколько мы этих костров перевидали по тупоумию нашему и простодушию. Можно сказать, с Пасхи наш кюре втолковывает: мол, искушение великое настало, воинство бесовское за грехи на места наши надвинулось, миражи и блазнь на особых грешников, еретиков и вероотступников насылает, и кто ту блазнь видит — тот вере первый враг, а кому она не является — на том благодать. И если недостойное узришь — не верь глазам своим и язык попусту не распускай; прижмурься да помалкивай. Так вот и вышло, что слепые, глухие и немые в наших местах — самые счастливые, и несмотря на то, что слепой в любую яму, в любой овраг, в любую вымоину, в любую канаву может завалиться и шею себе свернуть — он у нас в большей безопасности, чем зрячий. Одних детей сколько загубили. Взрослым-то не втемяшить, а как мелюзге втолковать? Колесницы мчатся, драконы грохочут, огни адские мигают, детвора бежит и орет, а тут не отряд, так доносчик… Лучше всего из дому не выходить. А как не выйдешь? У нас, чай, хозяйство. Корова. Свиньи. Куры. Гуси. Огород. Сад. Хворост вот. Не знаешь, чего бояться. Вроде, от отряда вреда больше, чем от дракона; но отряд — дело понятное: ну, убьют в конце концов; а дракон? От него чего ждать? К чему он? Почему их раньше отродясь не видывали? Почему такая тоска на сердце от воя его? Над чем бесы и бесовки из колесниц смеются? Может, и впрямь конец света подкрался?
Раньше жили да и жили; сверху небесная твердь, снизу земная; в праздники наряжались, пили и ели; в будни работали; зимой был снег, весной он таял, летом… а теперь что? Ни покоя, ни радости. Голову в плечи втянешь и тащишься. И делаешь-то все втрое медленнее; так я к полудню двух вязанок не наберу… А поспешать бы, поспешать, пока тихо, пока никого и ничего… надолго ли тишина?
Но, правду сказать, в некоторых наших соседей и впрямь как бес вселился; заупрямились они; иных уже и на свете-то нет из-за упрямства. Их спрашивают: бесов видите? А они: видим! Так на своем и под пыткой стоят. Дескать, врать не приучены, а в том, что глаза имеем, вины не чувствуем. Имеющий, стало быть, очи да узрит, имеющий уши да услышит — вот мол, и слышим, и видим. Перед соседом жена его на коленях ползала: повинись! Просила: скажи — ничего не видал! А он: как было, так и говорю; может, я и тебя не видал? А коли мне завтра скажут: ты мне мерещилась? И далее в том же духе. Он и на костре кричал: «Гляди, летят!» Мы и ухом не повели. А ведь летели!
С Лебреном беда стряслась накануне всенощной. Шел он за водой; тут колесница откуда ни возьмись голубая двуглазая; а из-за церкви отряд выкатился; Лебрен и попер прямо на колесницу; мы так и обмерли; и, вроде, переехала она его. Лежит Лебрен, Лебрениха бежит к нему, сама не своя, отряд подвалил: «Что это ты разлегся?» — спрашивают. А он хохочет. Потом завизжал, как боров. Свихнулся Лебрен. По ночам воет — слушать страшно. Дети плачут.
Намедни Лелу под большим секретом рассказал мне, что его Пакретта у мэтра Мишеля видела. Лелу мне доверяет. Я ему тоже. Вот Пакретта, жаль, сболтнуть может лишнее, молода и глупа еще. Мэтра Мишеля все уважают, ему среди ремесленников равного нет; но от художеств этих добра не жди; как ему только на ум взбрело колесницу выковать?! А если донесут? То-то Мишлина его с лица сошла, как тень, ходит.
Своего Жанно я днями хорошо веревкой отходил: небось дурь из головы-то выкинет! Подходит ко мне и показывает камешек цветной: «Смотри, — говорит, отец, что мне бес из колесницы дал! Попробуй. И дальше, наглец, продолжает: — Да ты, — говорит, — не бойся, мы все ели, сладко». Выдрал я его, аж рука заболела. Молчал, волчонок.
Господи, за какие грехи нам такое?! Словно сон страшный снится. Все думаю: вот проснусь! Полгода спим. И спасения ждать неоткуда. Совещались мы с Лелу: а ну как собрать скарб да и податься подальше? Так ведь — есть ли такие места, где драконы не летают? Вдруг теперь они повсюду гнездятся? А отряды? Спрашивать начнут: почему едем? зачем? куда? Врем мы пока еще плохо. Краснеем. Мнемся. Слишком легко прежде жили, не думали, привыкли правду болтать, смеяться, когда весело, бояться, когда страх найдет. Не переучиться. Лелу говорит: может, если вид делать, будто их нет, их и не станет? Держи карман шире!
Одна радость — в лесу сухо. Валежник отборный. Да зато и видимость отменная. Драконы видней комаров. И еретики горят прекрасно. Хоть бы туман пал. Хоть бы зима скорей. Хоть бы буря, что ли: ни зги не видно… ветер воет… как в старину… благодать…
2
Это буре подобно, но буря рукотворна, и моих рук дело всё, постигшее нас ныне. А потому нет мне места среди людей, нет мне названья и грехам моим искупленья нет.
Казавшееся мне прежде дурным представляется нынче невинным; забавы дикой молодости, шум крови в ушах, природные шутки беспородной плоти, радости драк и пирушек — по сравнению с деяниями моей мудрости, моего разума, моих трудов просто лепет детский… Я возомнил себя равным Природе, вздумал потягаться с Богом… и потягался… Хитрый умишко уже ищет лазейку: я ведь и не предполагал, каков будет результат! Да сама эта идея равенства с Природою уже несла в себе результат…
Когда Мишлина была совсем молоденькая, как она смеялась! Голос у нее был низкий, совершенно не подходивший к полудетской ее худобе. Она любила бегать простоволосой. Соломенные прямые волосы, разлетавшиеся на бегу. Маленькая Мишлина, собиравшая травы и сушившая их под потолком. «Эта — от кашля, говорила она, — эта — от лихорадки, эта — от сглаза». — «А приворотное зелье, — спрашивал я, — приворотное зелье готовить умеешь?» Она хохотала, румянец во всю щеку: «Надо будет — научусь!» Мишлина с детства была упрямой, как валаамова ослица; глядит, бывало, исподлобья, упрется — и на этом всё, не переломить, сладу с ней не было.
Появился Мишель; и кто из них кому преподнес приворотного зелья — поди разбери; скорее всего, вместе пили. Кажется, вчера они тут за руку ходили девочка и мальчик. Мишель, мэтр Мишель, что же ты натворил от своей заносчивости художнической… куда завел тебя твой талант… Впрочем, натворил-то все я. А расхлебывают другие.
«Моему муженьку в пальцы Боженька вселился», — говаривала Мишлина, любившая своего мэтра Мишеля без памяти. Все давалось ему словно бы без труда: он вырезал изваяния деревянных святых и ковал причудливые засовы на двери, отливал голосистые колокольчики; ему знакомо было ремесло гончара; он мог смастерить крошечные позолоченные ножницы для дочурки, сложить печь, изготовить черепицу; а какие чудные флюгера украшали кровли с легкой руки мэтра Мишеля! Какие вывески уснащали лавки ремесленников и торговцев! Какой удивительный был у этой пары дом! И во всех его святых, богородицах, феях, садовницах и богинях виделась мне Мишлина. Она по-прежнему любила собирать травы, которыми весьма успешно излечивала от самых разных болезней; в доме стоял странный запах настоев, отваров, снадобий, зелий. В зельях ли было дело, в самой ли знахарке — кто знает? Но прикосновенье рук ее исцеляло, и травки действовали безотказно и неукоснительно.
И вот теперь всему этому пришел конец. Ему и ей. Всем нам.
Как сейчас вижу: двери и окна в доме настежь. В дом входит отряд. На деревянном столе в глиняном кувшине охапка маков. Отряд выходит, выводят мэтра Мишеля. Бьют скульптурные изображения колесниц и летательных аппаратов из обожженной глины. Бьют прямо у порога. Деревянные и кованые уносят с собой. Мэтра уводят. Мишлина бежит следом. Соломенные волосы вразлет. Сейчас она молчит — ей перехватило дыхание и челюсти сцепило. Но я-то знаю ее сызмальства. Скоро речь к ней вернется, она заговорит и скажет им все, что она о них думает.
Оба они оказались в руках этих воцарившихся в мире воинствующих подонков, бряцающих оружием и орудиями пыток, готовых превратить в груду бездушного разлагающегося мяса бесплатную человеческую плоть. Оба они — как прежде многие другие… Отыди, — хотелось кричать мне, — отыди, сгинь, дай мне вглядеться, Сатана! Дай вобрать в зрачки и умом постигнуть образы сии, живые картины удивленных лиц, ликов и личин, хитросплетения характеров и объятий сгустки времени, пришедшегося по воле судьбы на долю мою!
Ибо есть Судьба, есть Рок, есть Провидение господне, есть происки врага рода человеческого — и есть произвол людской, и он хуже всего, ибо подл. Не слеп и не глух, не случаю подобен, не звено он в цепи, златой или ржавой, событий — но зряч, исполнен намерениями наитупейшими, вычислениями безумными, минутной рабской пакостью обнаглевшей твари, почуявшей власть над себе подобным и взалкавшей крови, — твари, распухшей до размеров мироздания! И вот мы уже в смрадной пасти, а впереди еще желудок луженый и омерзительные внутренности… твари — кость! требуха! зубы! — потому и других почитающей за ничто, что и сама ничтожество из ничтожеств… Обрети свой собственный размер, ничтожество, разбухшее до образа и подобия мира! Остановись! Хоть на мгновение.
Ибо мгновение прекрасно!
Но к кому было мне теперь обращаться? Кому молиться? На что было уповать мне, старому грешнику, по чьей вине падаль разгулялась вовсю, рукоприкладствуя, убивая с судом и следствием, достойными мистерий, и без оных?.. По чьей вине… или по чьему попустительству… да не все ли равно…
На моих руках, развязавших узел на мешке изобилия времен (да, да, да, да, это был не рог изобилия — обычный мешок, дерюга, аморфное нечто!)… и хлынуло… и обагрило… — и на моих руках кровь жертв безвинных: моих, Времени и падали. Сколь ни изображай они из себя стервятников, падаль они, да и только.
Нет мне прощения. И нет никому из нас возврата. Все мы погибли. До не знаю какого колена. Ведь младенцы невинны, потому именно суть порочны и лукавы, что всё помнят. Рая давно не было, но в душах людских семена дерев и трав его еще давали ростки; а теперь с этим покончено. Конец света начался вчера моей волею недоброй и будет продолжаться десятилетия и столетия, медленно шурша страницами, распуская свой воображаемый бутон, разматывая свой гигантский кокон.
Тайны Времени занимали меня, я хотел быть их властелином. Завтра скрывалось за дверью. У меня оказался в руках ключ — и я отпер дверь. В нашу жизнь хлынули неуправляемыми волнами картины Будущего. Люди в странной одежде. Летательные аппараты. Механические кареты. Как всякий ученый, был я недоучкою, и запихнуть джинна обратно в бутылку не мог. Прав был мэтр Мишель… был… какое слово! Да, теперь уже нет ни его, ни его Мишлины, ни дома, дети пошли по миру… а тогда он был прав, говоря мне: «Ты играешь с огнем; ты любопытствуешь, любопытство — порок. Ты думаешь, что с помощью своих наивных устройств и научных ухищрений познаешь Природу? Мы познаем только породу людскую в наших открытиях, откровениях, познаем пороки и пороги ее — и немного находим хорошего…»
Его спалили как еретика в том огне, с которым я играл.
Все его святые, ангелицы и язычницы напоминали Мишлину ликом и статью. Теперь ни святых, ни дев, ни Мишлины. Она кричала: «Да, да, да, да, я еретичка, я ведьма, я их вижу, и мне мизинец мужнин дороже всей вашей ханжеской болтовни о вере, вместе со всеми вами в придачу, ублюдки вы этакие!»
Мишлина любила мэтра Мишеля больше всего на свете. И еще она любила быть собой. Этого она отдавать не хотела. Жизнь отдать ей было легче.
«Да, я их вижу! — кричала она. — Да, я с ними говорю! Да, я летала на драконе! Может, прикажете называть солнце луной вам в угоду?»
«Бесноватая», — сказал один из них.
«Ты признаешься, что летала на драконе, проклятая ведьма?» — спросил другой.
«Одного мне только и жаль, — кричала она, — что я не могу наслать на вас порчу! Но я и без того знаю, что все вы подохнете в муках, ибо тварь, не имеющая души, только так и подыхает! Вы будете биться в судорогах! Валяться в параличе! Чума падет на головы ваши! Кровь вскипит в ваших жилах!
«Заткните ей глотку», — сказал третий.
3
Диву даешься, — почему жизнь напоминает слоеный пирог.
Соседние слои еще знают друг о друге и о соседях соседей своих, а что потом, что затем, что там, дальше… Чего только нет на свете! В соседнем квартале, например, стоит колоссальный компьютер, чуть ли не несколько домов занимающий; никто и не подозревает о нем; подруга подруги моей милейшей соученицы, случайно попавшая в число тестируемых на многогабаритной электронной штуковине, понятия не имеет, в каких целях штуковина используется на самом-то деле, какая-такая у бандуры профессия, потому как тесты, несомненно, — машинино хобби. В этих тестах, между прочим, мелькнули выражения «возраст личности», «биополе», «метампсихозитивность». В городе есть собачьи парикмахеры с более чем двухвековыми фамильными традициями стрижки кобелей и сучек. Имеется огромный подземный иллюзион при доме отдыха для особо выдающихся. Наличествует клуб разноцветноглазых. Функционирует множество обществ с названиями и целями, которые нам, непосвященным, и не снились. И если бы не случайность, в жизни не побывал бы я на этой экскурсии.
Соученики мои съехались в наше замечательное учебное заведение набираться ума из разных городов, по которым с удовольствием и разъехались перед первым каникулярным днем отведать семейного уюта; подружка моя улетела с родителями в теплые края подобно птичке; неприкаянный, я болтался по тирам, музеям, кафе, дискотекам, магазинам, пока не набрел на экскурсионное бюро.
Через стеклянную дверь попал я в маленький аквариум прихожей, мини-холл в цветах и камешках с надутыми разноцветными массами кресел; дверь к дежурящему в кабинете клерку была чуть приоткрыта, и я услышал разговор клерка с посетителем.
— Дело в том, — говорил представитель бюро посетителю, — что маршрут «Прото» — маршрут закрытый; он не указан в перечне; мы оформляем экскурсантов по особой таксе и по особым картам-рекомендациям; привилегии…
— Помилуйте, — отвечал посетитель, — разве не является своеобразной рекомендацией сам факт, что я в курсе существования этого вашего маршрута «Прото»?..
— Да, — сказал клерк, — само собой. Конечно, я вас оформлю. Но мы берем с клиентов обязательство не распространять слухов о…
— Я понимаю, — сказал посетитель.
Я тихонечко встал и вышел на улицу. На той стороне стояли тенты уличного кафетерия. Под голубым тентом дождался я выхода из аквариумного мини-холла счастливого обладателя билета на неведомый маршрут, допил фанту, докурил и пошел к клерку, стараясь появиться достаточно шумно и заявить о себе с порога. Во мне всегда наблюдалось то ли актерство, то ли нахальство; подружка моя милосердно называла это артистизмом и авантюризмом; с интересом наблюдая со стороны дремлющего или притаившегося во мне афериста, я потребовал путевку на маршрут «Прото». И, разумеется, ее получил.
В шесть утра мы — группа экскурсантов, довольно-таки разношерстная загрузились в многоместный старомодный мобиль типа автобуса и поехали. Рядом со мной сидел скучающий плейбой в наушниках, наслаждавшийся неведомой музыкой и грызший леденцы. Дорога притомила меня, мелькали зеленые холмы и просыпавшиеся деревушки, и я задремал. Когда я проснулся, пассажиры, переговариваясь, уже пялились в окна. Экскурсовода почему-то не было.
Глянул в окно и я.
Престранный городишко окружал нас.
Островерхие крыши с флюгерами. Крестовины, квадраты с диагоналями остовы крепей — на стенах домов; вроде бы, в истории архитектуры это именовалось «фархверковые постройки», я тогда поленился зарисовать их в лекционный конспект.
По улицам бродили люди в театральных костюмах. Лица у них были озабоченные. Нас они то ли не замечали, то ли старались не замечать. Видны они были прекрасно, но словно бы легкая дымка окутывала их. Впечатление было такое, что мы затесались на съемки очередного голографического боевика из древних времен. Полуголодные третьеразрядные актеришки, с плохо подгримированными лицами, изображали стражников и поселян.
Плейбой рядом со мной опустил оконное стекло. Звук был несколько приглушен. Говорили на диалекте, старомодном и гортанном.
Собаки исправно лаяли, петухи голосили. Из кузницы доносился звон, слышался вдалеке и звон колокола. То там, то сям над домами вздымались к голубым небесам аффектированные черные дымы. Я полез было за фотоаппаратом, но сперва у меня заело молнию на сумке, а затем глазастый шофер крикнул мне в микрофон, что снимать на маршруте запрещено.
На маленькой мощенной булыжником площаденке стояла молчаливая массовка. В центре массовки, на возвышении, к столбу привязан был человек, и груду хвороста под ним уже подожгли. Очевидно, изображалось сожжение инакомыслящего. Когда мы проехали массовку, до нас донеслись глухие крики сжигаемого. Похоже, актер он был тоже неважный; но всем известно, всем и каждому, что в этих супербоевиках испокон веку снимается всякий сброд, кормящийся, за неимением лучшего применения своим сомнительным способностям, при масс-медиа — жить-то надо.
Истинным искусством для посвященных тут и не пахло. Скучные ужасы под стать дурному вкусу притомившейся публики. Раскрашено. Скомпоновано. Текстовочка присобачена. Вон стражники кого-то волокут. В зубы дали. Довольно-таки лениво врезали. Провинциальное кино с парой гуманистических идеек, всего-то и навсего. С претензией на широту охвата и глобальность проблем.
И тут произошла небольшая странность. Некая накладочка. На обочину выскочил обросший босоногий оборванец, художественные лохмотья его развевались; на груди висели цепи, дощечки, гирьки, ключи, кованый засов вериги, что ли?
Очевидно, он изображал местного сумасшедшего. И местный сумасшедший нас заметил. Он плевал в наш мобиль, швырял комья земли и камни; плейбой поспешно поднял стекло; сумасшедший потрясал кулаками, орал нам вслед, побежал за мобилем, упал. Почему он вышел из роли? Отступил от сценария? Импровизировал? Или у этот момент их не снимали? По-моему, это был единственный гениальный актер среди убогих усталых халтурщиков. Упав на дорогу, он посылал нам проклятья, подымая грязную смуглую руку, и от его вопля мне стало не по себе.
Я уже не могу говорить но я всегда верила что мы слышим не только слова ах вот опять серебристый дракон полетел а за ним белый след как мышиный хвост забыла от чего мышиный горошек заячьи лапки от печени душица от падучей так давно все было но даже и частичка праха моего будет крупице праха твоего откликаться а души свободны нетленны способны летать ты так говорил летать над драконами за облаками по тверди небесной у меня уже ни голоса нет ни слуха, я уже никто не еретичка не проклятая ведьма ни Мишлина не существо живое но и теперь обращена я к тебе как к Богу тенью бывшей плоти моей и тенью тени ее и на этом всё.
Владимир Першанин САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ КРЕЙСЕР
Отсюда, с пологого песчаного пляжа, громада, опутанная ажурными сплетениями радарных установок, возносящаяся ввысь тремя гибкими стеблями мачт, закрывала половину горизонта. Двухсотметровое монолитное тело, расслабившись, застыло в теплой прозрачной воде лагуны. Солнце, не спеша поднимающееся из расплавленной золотой дорожки, четко вырисовывало решетчатые контуры излучателей, острые головки ракет, барабанные катапульты глубинных бомб, покрашенные в веселый оранжевый цвет, тонкие сдвоенные стволы зенитных пушек в полукруглых башенках, приподнятых над палубой. Он сверкал девственной белизной электрошлюпок, перечеркнутых глянцево-черными трубами нейтронных орудий, огромным пурпурно-желтым полотнищем военно-морского флага Звездной Империи с вытканным на нем парящим коршуном — самый последний корабль на земле.
Дэвис шел босиком по узкой кромке остывшего за ночь и приятно холодившего ступни песка. Шестиногий, на тонких ножках, похожий на паука, кибер плелся шагах в десяти, время от времени останавливался, что-то вынюхивая и пошевеливая лепестками антенны. Дэвис не спеша пересек наискось пляж и вышел на подстриженный газон городка Майти-Мауса. У никелированного флагштока он надел башмаки, которые нес до этого в руках, расправил шелковый, канареечного цвета флаг с изображением могучего мышонка и потянул за тросик. Задрав голову, Дэвис наблюдал, как, расправленный струей утреннего бриза, он поднимается вверх. Это стало его традиционной утренней церемонией — подъем детского флага. Тот, другой, с коршуном, который развевался на передней мачте крейсера, Дэвис давно не трогал, предоставив ему день и ночь осенять бывший флагман несуществующего военно-морского флота Империи.
На поляне яркими разноцветными пятнами рассыпались игрушечные домики с разукрашенными ставнями, цветастые грибки, карусели с фигурками пони и слонов. Рядом с песочной площадкой Дэвис построил роскошную пластиковую крепость с оловянными солдатами, замершими возле пробковых пушек по другую сторону стен в ожидании своих полководцев в коротких штанишках. Дэвис построил крепость в прошлом году, ожидая каждый день лодку и представляя, как будут толпиться вокруг нее мальчишки. Мальчишек, в том числе и двух его сыновей, ждать было неоткуда. Но крепость стояла. Просто так, как многое на острове.
Металлические педальные автомобили и танки с прицепными ракетами подернулись ржавчиной. Он заметил это еще на прошлой неделе и все собирался их подкрасить, но каждый раз забывал. На этот раз Дэвис равнодушно решил, что красить машины не стоит и приказал киберу их убрать. Робот не понял команды и пискляво переспросил, куда убрать.
— К черту! — сказал Дэвис.
Глядя, как кибер, мигая сигнальными лампочками, топчется на месте и переваривает странную команду, он засмеялся и отменил приказ.
Война, длившаяся чуть больше трех недель, закончилась полтора года назад. Звездная Империя совместно с Южным Королевством не оставила камня на камне в государствах, много веков угрожавших их безопасности. Врагам был преподан хороший урок. Дэвис, находившийся вдалеке от военных действий, с удовольствием смотрел по телевизору сделанные со спутников фотографии окутанных многокилометровыми тучами пепла городов врага. Но подлые плутократы в свою очередь засыпали сотнями бомб и ракет цветущие равнины Великого континента. Он наблюдал до последнего мгновения, как противостояла кобальтовым ударам столица Звездной Империи и как разрушенная антиядерная защита, слившаяся в ослепительной вспышке с атомным пламенем падающих ракет, сожрала восьмидесятимиллионный город и погасила экраны телевизоров в боевой рубке крейсера.
Дэвис запустил два зонда дальней связи, но атмосфера планеты, насыщенная радиацией, мешала принимать сигналы. Угнетенный гибелью родного города, да и, по-видимому, не только города, но и всей страны, он был странно спокоен, восприняв трагедию как что-то неизбежное. Жизнь для него на этом не кончалась. Дэвис знал, что вот-вот загорится один из телевизоров и на экране появится круглое улыбающееся лицо Президента.
— Заждался, сынок? Ну вот и мы. Как тут дела на нашем острове? Тебе привет от Марии и сынишек… Готовь встречу, через четыре часа будем вместе. Торопись!
У Дэвиса замрет все внутри. Он долго будет смотреть на погасший экран, представляя, как через несколько часов рядом с кораблем медленно всплывет субмарина. Целую вечность будет открываться люк и начнут выходить люди. Триста его соотечественников, цвет нации, и среди них Мария, сыновья… Они будут стоять все вместе под вечным и непобедимым флагом Империи. С этого острова история планеты начнется во второй раз.
Но дни проходили за днями, а экран не загорался.
Дэвис запирался в кают-компании, зашторивал окна, словно боясь, что кто-то нарушит его уединение, и, уставившись невидящими глазами в пустоту, неподвижно, часами сидел в кресле. Он пробовал пить, но непривычный к алкоголю организм выталкивал все наружу. Дэвиса сильно мутило и рвало, но наступающее вслед за этим забытье как-то помогало пережить эти страшные дни.
Наконец он снова взял себя в руки. Дэвис запустил все шестьдесят зондов, тщательно обшаривая каждый клочок земли, которой оставалось не так много: расплавившиеся тысячелетние льды Севера и Антарктиды затопили почти три четверти суши. Мутный бесконечный океан причудливо изменил очертания материков, слизнул с поверхности миллионы квадратных километров.
Однажды на экране появился город, почти не тронутый разрушениями. Здания, замершие автомобили на улицах и даже деревья, хотя и без листьев, казались невредимыми. Дэвис опускал зонд до пятисот метров и, когда стало явственно различимым все, что было внизу, он понял, что город так же мертв, как и остальное, что он видел до этого времени. Повсюду грудами и поодиночке лежали тела тех, кто когда-то здесь жил и владел этими невредимыми автомобилями. Вещи продолжали жить, предназначенные в качестве трофеев для победителей, — нейтронное излучение пощадило здесь все, кроме людей, животных и зеленых листьев на деревьях.
Это был город врагов, ненавидеть которых его приучали с детства, но, оглушенный мертвой пустотой покинутых навсегда домов, он едва не закричал, вцепившись в подлокотник кресла: «Останьтесь кто-нибудь в живых! Хоть кто-нибудь! Бог, яви чудо, ты ведь всемогущ…».
Он вдруг подумал, что кто-нибудь мог отсидеться в бомбоубежище и, возможно, находится там и сейчас. Дэвис ухватился за эту мысль, стараясь подавить голос рассудка, который неумолимо отвергал ее. В свое время военные предвидели такую возможность и вместе с нейтронными и кобальтовыми бомбами запускали серии инфразвуковых, уничтожающие подземные убежища противника.
Дэвис включил на зонде сигнал и каждые полчаса давал сигнальную ракету. Неподвижно повисший над крышами аппарат пять дней заполнял окрестности непрерывным воем сирены, распарывая время от времени вязкую багровую полутьму вспышками магниевых ракет. Потом зонд улетел — услышать в городе его уже никто не мог.
Это произошло в субботу. Дэвис сидел в боевой рубке, пил консервированное пиво и слушал, как автопередатчик взывает в пустоту:
— Я, Дэвис Лотт, вызываю оставшихся в живых людей. Отзовитесь! Мои координаты… Я, Дэвис Лотт…
Фраза повторялась каждые две минуты, и отчаяние последнего человека на Земле выплескивалось в бесстрастном голосе машины, терпеливо ожидающей ответа. И он пришел. Почти через два года одиночества.
До Дэвиса не сразу дошло, что ему отвечают. Сквозь треск помех явственно донесся голос:
— Дэвис Лотт, мы вас слышим. Мы вас слышим, но плохо. Попробуйте изменить волну…
Дэвиса начало трясти. Мгновенно покрывшись испариной, он дрожащими пальцами крутил ручки настройки, чувствуя, что если потеряет этот голос, жить уже больше не сможет. В приемнике завыло еще сильнее, и звук стал почти неслышным. Он наконец догадался подключить сразу все зонды и, крутнув рукоятку, услышал отчетливо, как будто из соседнего помещения:
— Дэвис Лотт, вы слышите нас? Прием…
— Слышу, слышу, — заикаясь, завопил он во весь голос. — Где вы? Откуда ведете передачу?
— Боже мой, неужели это не сон? — радостно кричал неизвестный. — Слышу тебя тоже. Передачу веду с борта грузового ракетоплана «Глория». Мы в открытом космосе, где-то над бывшей Австралией, милях в двухстах от поверхности.
Больше держать себя в руках Дэвис был не в состоянии. Бодая головой пульт, он плакал взахлеб, всхлипывая и размазывая слезы по лицу.
— Дэвис Лотт, отзовитесь. Куда вы пропали? — звал голос.
— Слышу вас, — повторял Дэвис. — Слышу! Слышу!
— Сколько вас и где находитесь? — спросил неизвестный с «Глории».
— Один я. Всего один, — счастливо отозвался Дэвис, продолжая давиться соленой влагой. — Но у меня тут хорошо. Целый остров с бананами, даже бар есть. А как вы?
— Мы еще лучше, — гремело в динамике. — Меня зовут Кучинский. Том Кучинский. Я пилот этой жестянки. И со мной пестрая компания четырнадцать человек. Есть даже две женщины. Если бы ты знал, как надоело в пустоте вверх ногами болтаться. Мы-то еще ничего, а дети плохо невесомость переносят, особенно Салли.
— И дети есть? Не может быть! А у меня такая детская площадка, закачаешься! Кто у вас? Мальчишки, девчонки?
— Двое мальчиков и девочка. Салли. Та совсем маленькая. Мы уже пробовали приземляться, но везде такая радиация, что никуда не сунешься. Так и крутимся вокруг старушки двадцать три месяца. А что едим, кошмар! Последние полгода — одни бобы, и плюс техническая вода на закуску. У тебя хоть сигареты есть?
— Есть у меня сигареты, — захлебнулся Дэвис. — Какие угодно и сколько угодно. И сигары есть. И вообще нечего время терять. Разворачивайте вашу развалину и ко мне!
— Уже развернули, — сказал Том. — Но радиации у тебя хватает, не так ли?
— Нет у меня никакой радиации! Остров с первого дня под двойной защитой Пирсона. Колпак, будь здоров, ни одного лишнего нейтрона. Просто рай земной — две тысячи акров травы и деревьев. А озеро какое!
— Откуда столько энергии берешь? — спросил Том.
— Вот она, плавучая атомная станция, — Дэвис обвел рукой вокруг, забыв, что люди в ракете не могли увидеть крейсер.
Сам он отчетливо видел серебристую сигару грузопассажирского лайнера второго класса «Глория», приближающуюся к его острову. Дэвис вскочил, забегал по рубке и фальшивя запел марш Стальных Кирасиров.
— Поешь, приятель? — зазвучало в динамике. — Если бы ты знал, как мы тут все рады. Мальчишки прямо визжат от восторга. Они спрашивают, купаться в озере можно?
— Можно, конечно, — закивал головой Дэвис. — Хоть целыми днями. Водичка теплая, как молоко, и отличный песчаный пляж.
— Эй, Дэвис, тут тебе младший Алекс что-то сказать хочет, — проговорил Том, и сейчас же Дэвис услышал ломкий мальчишеский голос:
— Дядя Дэвис, а правда купаться можно?
— Ну, конечно, Алекс, — чувствуя, как опять начинает щипать в глазах, ответил Дэвис. — И рыбу ловить можно. А если хочешь пойти на охоту, тут уйма кроликов.
В динамике засопели, очевидно, раздумывая, верить или не верить в такое неожиданное счастье.
— Нет, на охоту я не хочу. У нас дома тоже кролики есть. Их убивать жалко. У меня и собака есть, только она дома осталась.
— Ну и правильно. Я тоже не люблю стрелять. А рыбу ловить пойдем.
Снова заговорил Том.
— Если не возражаешь, я посажу ракету на остров. На воду опасно. Когда буду приближаться, ты мне укажешь, куда приземляться.
— Ну, конечно. Том! Лучшего места, чем пляж возле крейсера, и не придумаешь.
Через двадцать минут «Глория» приблизилась к острову на расстояние шестидесяти миль. Дэвис включил приборы наведения и напряженно ждал корабль, в котором сейчас была вся его надежда, весь смысл оставшейся жизни.
Резкий зуммер сигнала боевой тревоги заставил его вздрогнуть. Дэвис выскочил на палубу. Тысячи механизмов, подчиняясь сигналу, пришли в движение. Бешено вращались локаторы, выискивая невидимую цель, из развернутых ям боевых погребов показались острые головки ракет, стволы зенитных пушек поднялись и замерли в ожидании.
— Что за черт! — выругался Дэвис. — С ума, что ли, коробка сошла?
Внезапно мелькнувшая догадка заставила его похолодеть. Он кинулся вниз по трапу, туда, где за десятками стальных переборок прятался электронный мозг крейсера, запустивший гигантскую машину уничтожения. На круглом экране радара перед пультом электронного мозга загорались и гасли цифры, показывающие движение «Глории». Наверху, лязгнув, закрывались люки, обеспечивая полную герметичность корабля.
— Эй ты, — задыхаясь, крикнул Дэвис, — немедленно отбой! Сейчас же, сию секунду!
— К нам приближается ракета противника, — торжественно объявил искусственный голос. — Боевая готовность номер один.
— Какой к черту противник, — взвыл Дэвис. — Это наша ракета.
— На ней опознавательные знаки Островной республики, которая является нашим противником, — бесстрастно отпарировала машина.
— Знаки — это маскировка, — вздрагивая от бешенства, зашептал Дэвис. Заканчивай дурацкую игру и давай отбой!
— Тогда я запрошу пароль, они должны его знать.
И не дожидаясь ответа Дэвиса, машина начала неслышный для него диалог с приближающимся кораблем.
— Прекрати немедленно, — повторил Дэвис. — Там Президент. Слышишь или нет?
Электронный мозг, самый совершенный на земле, молчал, мигая сотнями лампочек и индикаторов.
— Вас ввели в заблуждение, — наконец проскрипело там внутри. — Это не Президент. Я дал команду согласно пункта 16/3 приказа Высшего королевского совета атаковать корабль противника.
— Не-е-ет! Только не это! — закричал Дэвис.
Он схватил лежащий на столике толстый справочник и обрушил на разноцветную злорадно подмигивающую панель. Сильный удар электротока отбросил его назад. Дэвис с трудом приподнялся и снова пополз к машине.
— Прекрати! — исступленно бормотал он. — Это мой приказ. Ты должна сейчас же отменить тревогу.
Между ним и машиной опустился гравитационный колпак зашиты Пирсона. Дэвис колотил головой и кулаками по чему-то невидимому и твердому до тех пор, пока в изнеможении не свалился на теплый пластиковый пол. Он каждой клеткой своего ненавистного теперь самому себе тела воспринимал обреченность пятнадцати последних самых близких ему людей на планете. Он вбирал кричащими от ужаса глазами пилотов, женщин, глазами маленького Алекса беспощадный веер радиоуправляемых ракет, несущихся прямо им в лицо. Что они чувствовали в последние сотые доли секунды, когда вспышки нитротола разрывали оболочку ракеты? Наверное, проклинали его, Дэвиса Лотта, заманившего их в ловушку. А может, и не было им никакого дела до него, а просто молча прощались друг с другом, сдерживая самый страшный из всех ужасов — ужас неотвратимой, приближающейся к их детям смерти, не в силах ничего предпринять.
Дэвис приподнял голову. В этот момент они еще жили. Белые безобидные точки ракет еще не слились с черточкой в верхнем левом углу экрана, но находились уже близко. Он медленно закрыл глаза, а когда через несколько секунд открыл их, все было кончено.
Морщась как от зубной боли, он поднялся по трапу. Верхний люк, звякнув, откинулся — тревога закончилась. Дэвис вышел на палубу. Тупо уставившись себе под ноги, он побрел на бак. Возле носовой спаренной пушки остановился, оглядел ее. С полминуты мучительно вспоминал, что хотел сделать. Так и не вспомнив, Дэвис вяло махнул рукой и полез в полукруглую стальную башню.
Он сел на высокое кожаное сидение, поерзал на нем, поудобнее устраиваясь, снял чехол с прицельного устройства и заглянул в окуляры. Через бирюзовые хроматические линзы, в сетчатом кружке прицела трепыхался необычно яркий флаг с никому не нужным Мышонком. Дэвис деревянно усмехнулся и, нашарив в темноте рукоятку, потянул ее на себя. Два снаряда, похожие на короткие, остро отточенные огрызки желтых карандашей, послушно улеглись в казенник, а два других, услужливо поданные крючковатыми лапами элеватора, замерли, ожидая своей очереди. Дэвис передвинул рукоятку в сторону, и затвор, масляно чавкнув, заглотил снаряды.
Взрывы доносились сюда негромкими трескучими хлопками. Там, в пальмовой роще, они поднимали уродливые гейзеры земли, подбрасывали вверх спичечные стволы пальм и оседали дымными растекающимися буграми. Детский грибок-мухомор тоже взмыл в воздух. На секунду замер и, кувыркаясь, полетел вниз, навстречу новому взрыву, разнесшему его в щепки. Могучий Мышонок упрямо приплясывал, на канареечном полотнище. Дэвис закусил губу и, изменив угол прицела, выпустил в яркий клочок материи серию тепловых снарядов. Флаг вспыхнул и мгновенно исчез, скрытый стеной всепожирающего пламени. Внизу на палубе звенели стреляные гильзы, раскатываясь в разные стороны. Испуганная утиная стая пронеслась над крейсером, но, долетев до невидимого купола защиты Пирсона, круто повернула назад и бестолково закружилась над лагуной.
Теперь снаряды падали на поселок. Бунгало рассыпались с легкостью карточных домиков, их пластмассовые обломки занимались неярким чадящим пламенем. Горела уже половина острова. Дым сплошной пеленой затягивал побережье и подступал к неподвижной воде лагуны. Дэвис круто развернул башню и, направив орудия в сторону палубных надстроек, снова нажал на гашетку. Но вдруг все стихло. Умолкло даже едва слышное пение электромоторов. Дэвис нажал подряд несколько кнопок, и сразу догадался, что электронный мозг, спасая корабль, отключил подачу электроэнергии. Он со злостью ударил кулаком по броневой плите, выругался и погрозил кулаком парящему на пурпурном полотнище коршуну.
— Сволочь! Боишься за свою шкуру! Ну, подожди, недолго тебе трепыхаться.
Дэвис, истерично засмеявшись, зашагал к боевой рубке. На центральном пункте он отключил антигравитационную защиту и дал команду к запуску шести кобальтовых ракет. Дэвис терпеливо дождался, пока автоматы вывели их на околоземную орбиту, и переключил ракеты на ручное управление. Передав условные координаты крейсера, удовлетворенно выслушал, как продублировалась в наушниках команда «Групповая атака, цель — корабль».
Откинувшись в кресле, он терпеливо ожидал, когда сила шести взрывов испарит ненавистный корабль, остров, его самого — теперь уже точно последнего человека на планете. Ракеты неслись к указанной цели со скоростью, превышающей скорость звука. Дэвис разделил в уме оставшееся расстояние на скорость — до первого взрыва оставалось меньше минуты.
— Скорее бы, — подумал Дэвис, нащупывая в кармане сигареты, и тут же сообразил, что закурить не успеет.
Ему стало на мгновение страшно. Так же страшно, как, наверное, тем пятнадцати в «Глории», это была лишь секундная вспышка цепляющегося за жизнь инстинкта самосохранения. Дэвис достал сигарету, осторожно размял ее и не спеша прикурил, скосив глаза на секундомер. Красная стрелка весело прыгала к верхней черте. Осталось десять секунд… потом три… две…
Сигарета продолжала дымиться. Когда она догорела до фильтра, Дэвис понял, что проклятая машина опять обманула его. Крейсер вышел победителем — иного не должно и быть. Он мог раньше включить радиолокатор, чтобы убедиться, что ракеты давно повернули обратно и несутся в направлении, указанном электронным мозгом корабля.
Дэвис снова вышел на палубу. Остров продолжал гореть, застилая сплошной стеной дыма всю южную часть неба. Парящий коршун свысока косил на мечущуюся по палубе жалкую фигурку человека. Он казался здесь лишним, среди мудрого сплетения металла и пластика, инородным телом среди торжественного величия самого могучего крейсера на планете. Но человеческая жизнь — мгновение, а атомное сердце корабля будет биться вечно.
Святослав Логинов РАССКАЗЫ ЦЕЛИ ПРОГРЕССА
Угр звучно проглотил голодную слюну и сказал, обращаясь к своему сыну:
— Я придумал, где нам взять много еды. Посмотри вверх. Каждый вечер солнце, тусклое и опухшее от голода, залезает под землю, а утром выходит оттуда сильное и яркое. Значит, под землей много вкусного жирного мяса. Однако достать его очень трудно. Если идти к краю земли, то он будет убегать, словно олень от охотника. Но мы и не станем догонять его. Нам надо всего лишь вырыть такую большую яму, чтобы она вышла на ту сторону земли. Мы пролезем в эту дыру и будем есть солнечную пищу.
Угр встал и, подойдя к одиноко растущему кустику, вырвал его с корнем. Получилось углубление. Угр присел возле ямки и начал разрывать руками почву.
Когда его сын, которого тоже звали Угром, подрос, он начал помогать отцу. Дело пошло быстрее, тем более что сын приспособился ковырять землю обломком камня.
Угр Третий копал уже вполне приличным каменным рубилом.
Угр Пятый приделал к рубилу рукоятку. Получилось кайло.
Угр Девятый придумал, как сделать в яме деревянную опалубку. Теперь яма скорее напоминала шахту.
Угр Пятнадцатый поставил у шахты ворот, чтобы вытаскивать породу наверх в корзинах.
Угр Тридцать Второй добрался до залежей железной руды и выплавил первую металлическую мотыгу.
Угр Тридцать Девятый начал работать отбойным молотком, а Сорок Четвертый представитель династии впервые сел за горнопроходческий комбайн.
В скором времени в шахте стало жарко, поэтому Угр Сорок Восьмой устроил водяное охлаждение.
Угр Пятьдесят Третий применил для проходки бурильную установку, которая была вытеснена направленными взрывами. Впервые их использовал Угр Пятьдесят Седьмой.
Угр Шестьдесят Второй дошел до очагов магмы, и работа застопорилась. Только Семьдесят Четвертый Угр продвинулся вперед, применив охлаждение жидким азотом. Угр Семьдесят Пятый заменил азот гелием, но эффекта это почти не дало.
Великий изобретатель Угр Восемьдесят Седьмой весь свой могучий гений бросил на углубление ямы. Им были созданы плазменные держатели, и работа закипела вновь.
Материалы с уплотненными электронными оболочками, синтезированные Угром Девяносто Шестым, позволили пройти земное ядро.
Все эти научные достижения были обобщены Угром Девяносто Девятым, который на их основе сконструировал универсальный подземоход.
И вот наконец Угр Сотый на отцовской машине пробился на поверхность. Там было раннее утро. Нежный ветерок шелестел в кронах фруктовых деревьев, огромные орехи падали с кокосовых пальм. Угр окинул взглядом окрестности, быстро разделся, залез на самое большое дерево и впился зубами в золотистую мякоть плода.
Глаза его стали бездумными.
ОСТРЫЙ СЮЖЕТ
— Нет, в наше время совершенно невозможно писать приключенческую фантастику! — Стефан Горчинский в раздражении отшвырнул цилиндрик диктофона. Тот покатился по столу. Ожившая пишущая машинка тут же напечатала на девственно чистом листе:
— Тук! Блям, блям, блям…
Горчинский выхватил лист, прочитал написанное. Лицо его исказилось.
— Во! В этом и заключается всё наше творчество! Блям, блям! На большее мы неспособны. Будь проклят наш пресный век!
Горчинский скомкал лист, подбежал к распахнутому окну и бросился вниз с девяносто восьмого этажа. Гравитационный гамак мягко подхватил его и, покачивая, понёс к зеленеющим вдали лужайкам космодрома. Маститый писатель-приключенец Стефан Горчинский отправлялся на поиски впечатлений.
Юпитер встретил Горчинского чудовищной бурей. Планетолёт нырнул в кипящую атмосферу, в самый глаз урагана. Горчинский сменил мягкие тапочки на туристские ботинки и вышел наружу. Тяжести онне ощущал, ядовитая атмосфера тоже была не страшна укрытому защитным коконом землянину. Пробудившийся вулкан громыхал и брызгал кипящей пемзой, но Горчинский испытывал только лёгкую скуку.
Зато на самом краю огненного обрыва он встретил Симеона Пупса также довольно известного писателя. Пупс сидел, свесив ноги вниз и плевал в поток лавы. Авторы пожали друг другу руки. Защитные поля послушно расступились, пропуская живое тело, Горчинский ощутил вялое прикосновение ладони соперника. Коллеги присели на ненадёжный камень.
— Читал вашу последнюю книгу, — начал беседу Горчинский, — и должен заметить, что вы делаете ту же ошибку, что и прежде. Я понимаю, любимый герой, но всё же положительный персонаж не может носить имя Чандраабрахман Джактабарраджи. Конечно, Восток всегда в моде, но скажите, как героиня будет звать на помощь вашего Чандраабрахмана? Иное дело мой герой — Вилл Венс! Коротко и энергично.
— Мой Чандра хотя бы внешне не похож на ходячий литературный тип, — отрезал Симеон, — а в вашем Венсе нет ничего энергичного, кроме имени.
— Болезнь века, — признал Горчинский.
— Да… — вздохнул Пупс. Он тоже не хотел ссоры.
Некоторое время они молчали, глядя на подсвеченные вулканическим пламенем тучи, а потом, кивнув друг дружке, побрели к своим планетолётам.
Через четыре часа корабль опустился в центр посадочной лужайки. Горчинский выбрался из кабины и с усталым стоном повалился в траву. День прошёл впустую. Гоняясь за впечатлениями, Горчинский не сумел толком пообедать, а шелест двигателей не дал ему после обеда нормально заснуть. Главное же: за весь день — ни одного острого ощущения.
Странный звук коснулся слуха писателя. Горчинский приподнял голову, насторожился. Рядом что-то гудело, словно разладившийся термоядерный двигатель. Секунду Горчинский не мог ничего понять, но потом его осенила догадка.
Чёрт возьми, ведь эти посадочные лужайки довольно дикое место! Когда сюда последний раз заглядывала санитарная инспекция? А вдруг именно здесь устроили своё логово мухи — дикие живые существа, которые, несмотря на все предосторожности, неведомо откуда появляются порой в комнате и причиняют массу беспокойства. Муха, завывая, кружит под потолком и избавиться от неё можно только вызвав аварийную команду. Самостоятельная борьба с мухами чрезвычайно тяжела и малоэффективна, но если ему повезло обнаружить гнездовье!..
Горчинский осторожно приподнялся и бросил взгляд за кочку. Он увидел довольно большой шар, словно бы слепленный из серой бумаги. Гудение доносилось изнутри. Увы, объект был явно искусственный! Горчинский разочарованно щёлкнул пальцем по шару. Звук на мгновение затих, но в ту же секунду у отверстия внизу шара появилась муха. Очень странная муха. Хищно-изогнутая, опасного чёрно-жёлтого цвета, она явно собиралась нападать. Горчинский усмехнулся. Юпитерианский вулкан, тысячекратная бурлящая Этна, не только не сумел причинить ему вреда, но даже не смог развлечь. А теперь его атакует муха! Жизнь любит такие контрасты.
Свирепое полосатое существо взвыло, форсируя работу размытых движением крыльев, и ринулось вперёд. И случилось то, чего не мог ожидать не только писатель Горчинский, но даже мудрые изобретатели защитного кокона. Изолирующие поля мгновенно расступились, пропуская живое тело, дикая муха на мгновение словно прилипла к лицу Горчинского, и тот с содроганием почувствовал, как впивается в его кожу острое жало, и как под глазом взбухает и начинает пульсировать невыносимой болью тугой, быстро синеющий желвак.
— Ой! — воскликнул Горчинский и замахал руками, — ой, ой!..
Муха снялась с глаза и, победно гудя, начала второй заход.
Горчинский бежал. Он прыгал через кочки, спотыкался и никак не догадывался включить гравитационный гамак.
— Спасатели!.. — причитал он. — Аварийная команда! Уничтожить!.. Всех!.. Караул!
И вдруг он остановился. Сияющая, яркая мысль пришла ему в голову. Ты же хотел острых ощущений, Стефан Горчинский! И вот сейчас, когда тебе выпала неповторимая удача, ты собираешься уничтожить её?
— Ни за что!.. — прошептал писатель. — Пусть живёт.
Утро встретило Горчинского за работой. Он бегал по комнате, прикрывая ладонью оплывший глаз, и азартно кричал в раскалившийся диктофон. машинка бешено стрекотала, вышвыривая на лист строки:
«Скафандр высшей защиты Вилл Венс оставил на звездолёте. Единственное, что он знал об опасности, это то, что от неё не спасает никакая защита. Значит, обычные меры предосторожности просто бесполезны. Венс шёл налегке.
Гряда сиреневых скал встала перед ним. Венс замедлил шаги. Чутьё подсказывало ему, что именно здесь скрывается неуловимая, безжалостная, наводящая на Галактику ужас, чёрно-жёлтая бестия, получившая от косморазведчиков свистящее словно змеиный шорох имя: Ос-са.
Венс замер. Слуха его коснулся удивительный звук…» — на этом месте увлёкшийся Горчинский уронил диктофон, и машинка сама закончила фразу:
«Тук! Блям, блям…»
ЛЕГКАЯ РАБОТА
— Не понимаю я этой странной традиции — брать с собой на Реверс шашки, сказал Дима, расставляя фигуры. — Я так взял шахматы и три пачки бумаги в клеточку для крестиков-ноликов. Буду брать реванш. Ваш ход, капитан!
— Шашки — это борьба интеллектов, а в шахматы проигрывает тот, кто первым прозевает ферзя, — ответил Богдан, двинув вперед пешку.
Так мы работаем. В кабине тишина, шелестят страницы и иногда постукивают шахматные фигуры. Тишину снова нарушает Дима:
— Шахматы, — наставительно говорит он, — развивают оригинальность мышления. Вот мы делаем маленький карамболь, и нашему увлекшемуся атакой сопернику предоставляется дивная возможность выбирать, какую из этих двух пешек он хочет потерять раньше…
Мы — экипаж Тяжелого Реверса ССК-23. Два спасателя, пилот и радист. Вернее, четыре спасателя, четыре пилота и четыре радиста. Кроме того, Борис Яковлевич и Богдан — врачи. Нет только капитана. Дима величает этим титулом всех по очереди.
Тяжелый Реверс — очень мощная машина. Она может перевозить 28 человек и 400 тонн груза. Он может работать буксировщиком. Он еще много чего может, но сейчас он не делает ничего. Мы висим на дальней орбите, Богдан с Димой играют в шахматы, Борис Яковлевич читает книгу, а я сижу и слушаю эфир, не потому, что я радист, просто я люблю слушать, что делается в пространстве.
— Верди! Я — Гамма-пять. Разрешите посадку в шестнадцатом секторе…
В эту смену мы дежурим во второй линии, наше дело ждать. Корабли первой линии тоже ждут, но там не играют в шашки; в любую минуту с кем-то может случиться беда, и они должны прийти на помощь. А вторую линию иногда называют Сонно-Санаторным Комплексом. Сюда отсылают отдыхать.
Лунный радиоцентр транслирует музыку. Один наушник я отдал Борису Яковлевичу. Он кивнул и отложил книгу. Книга новая, отпечатана на полиоле. Так издают только классику, то, что уже заслужило право на вечность. Бумажных авторов Борис Яковлевич не читает.
Дима с Богданом концертом не интересуются. Они заняты «борьбой интеллектов». Дима выиграл обе обещанные пешки и стремится разменять тяжелые фигуры. Позиция ясна даже мне, но Богдан все еще сопротивляется — он очень упрям.
Музыку передают тихую, задумчивую. Не может такая мешать размышлениям. Я подключил динамик, осторожно прибавил громкость. И тут… Музыка, взвизгнув, пропала, а из динамика звучит прерывающийся голос диспетчера:
— Двадцать третий! Готовность ноль! Старт по сигналу СОС!..
Богдан и Дима бросаются к скафандрам. Бьет по ушам звонок, — это я, не помню как умудрился ткнуть в кнопку нулевой готовности. Борис Яковлевич, сидящий на месте пилота, толчком разворачивает кресло лицом к пульту. Кажется, через секунду грохнут двигатели, перегрузки сдавят тело…
Борис Яковлевич нажал на кнопку, и звонок смолк. Стало тихо, только Дима, чертыхаясь, путался в системах автономного жизнеобеспечения. Богдан поправил ему кислородный шланг. Тяжелый Реверс ССК-23 готов к рывку.
Теперь мы нулевая линия, в космосе что-то случилось, двенадцатый Реверс ушел на выручку. Может быть, где-нибудь гибнут люди, а быть может, двенадцатый ловит дурацкий метеоритик, затесавшийся куда не следует. Реверс первой линии идет по любому вызову. Но мы сейчас нулевая, нас никто не страхует.
Тишина начинает звенеть, и я, не выдержав, отворачиваюсь от молчащей рации. В рубке идеальный порядок. Ни книги, ни шахмат. Они внутри стола, под опустившейся сверху пластмассовой панелью. Так они не смогут натворить бед, мотаясь во время рывков по помещению.
Что-то теперь делает двенадцатый? Хотя, кажется, ничего особенного. На крупные катастрофы снимаются Реверсы всех линий. А если там гибнет всего один человек? Страшно бездействовать, когда гибнет человек, даже если его спасают другие…
Секундная стрелка мучительно ползет по циферблату…
Как всегда неожиданно вспыхивает экран вызова, и мы одновременно вздрагиваем. На экране пожилой человек в белом лабораторном комбинезоне.
— ССК? — тревожно спрашивает он.
— Нулевая линия, — поправляет Борис Яковлевич.
— Я из четвертого сектора. Гаммателескоп. На нас из пространства летит какой-то обломок. Прямо в детекторы. Надо его отбуксировать.
— Мы нулевая линия, — повторил Борис Яковлевич. — Мы идем только на спасение людей.
— А куда мне обратиться?
— Сейчас никуда. Первая линия на задании.
— Но у нас авария. Телескоп гибнет, — недоумевает астроном.
— Там гибнут люди.
— Но вы же здесь! Я бы слова не сказал, если бы вы спасали людей, но ведь вы не делаете ничего! А у меня из-за какой-то железяки под угрозой восемь лет труда. Это же гаммателескоп! Двести тридцать километров одной магнитной фокусировки…
— Мы не имеем права идти к вам, — совсем тихо говорит Борис Яковлевич.
— Я же не требую невозможного. В конце концов, вы спасатели и должны выполнять свой долг! А если будет нужно, то можете уйти с полдороги.
— Катастрофа может случиться в пятнадцатом секторе. Вдруг мы не успеем туда?
— Да не бывает двух аварий одновременно! — закричал астроном, но тут его перебил новый голос:
— Я ССК-двенадцать. Четвертый, дайте траекторию постороннего предмета.
— Слава богу, есть еще в космосе люди, — астроном исчез с экрана.
Мы молчали, потом Дима, ни к кому особенно не обращаясь, спросил:
— Что же произошло, раз такие куски летят?
— Все-таки надо было помочь, — словно отвечая Диме, сказал Богдан.
— Не имеем права, — все так же мертвенно повторил Борис Яковлевич.
Хорошо Богдану, и Диме хорошо. Они новички. А я уже достаточно опытен, чтобы молчать, но сидеть сложа руки мне тоже невмоготу.
Экран снова засветился, и на нем появилось длинное лицо Раймонда радиста с ССК-12.
— Отбой! — весело сказал он. — Это все протонщики. Они предупреждали, что может быть взрыв, но не думали, что всю установку на части разнесет. Пришлось за ними пространство подметать. Вот и все. Будьте здоровы.
Радистам первой линии нельзя отвлекаться на разговоры, но Раймонд славный парень и знает, каково нам сейчас. Очень мутно в груди.
Борис Яковлевич открыл стол, достал книгу, разгладил смятые страницы. Полиолевые книги не боятся, когда их мнут. Вероятно потому Борис Яковлевич и читает их. Дома-то у него есть и бумажные.
Шахматные фигуры рассыпаны по столу. Панель сбила их и сломала белого короля. Теперь Диме должно быть ясно, почему на Реверс берут шашки. Опускающаяся панель прижимает их к доске и фиксирует позицию.
— Еще одну партию? — предлагает Дима.
— Нет, — отвечает Богдан. — Я должен спать.
Богдан ложится на койку, отвернувшись к стене. Конечно, он не сразу заснет, но все-таки заснет, из упрямства. Через шесть часов будет моя очередь спать, я тоже засну и, когда проснусь, то дежурить останется ровно сутки. Мы вернемся на Землю, потом снова будет патруль, но уже в первой линии.
Там будет легче.
НЕСТАНДАРТНЫЙ ИНДИВИД
Сконденсировавшись, Гумидрон первым делом потянулся. Пока летишь через космос в виде электромагнитной волны, это совершенно невозможно сделать. Так вот, Гумидрон потянулся и уже через секунду был готов к работе. Но его неосторожное движение заметили.
— Смирнов, — сказал главенствующий индивид, — опять ты вертишься.
Автоматика не подвела Гумидрона, он вселился в сознание существа, мало отличающегося от всех окружающих. Существо сидело за странным сооружением в центре довольно обширного помещения. Вокруг находилось больше двух десятков аналогичных сооружений и подобных существ. Имелся также и главенствующий индивид, характерный для стадной иерархии. Скрыться в таком стандартном обществе проще простого: достаточно вести себя точно так же, как другие рядовые особи. Однако Гумидрон потянулся. Едва заметно, но главенствующий был зорок.
— Смирнов, — сказал главенствующий, — я к тебе обращаюсь.
Гумидрон решил исправить промах и замаскировался. Он мгновенно оценил поведение соседей, расслабился и слегка ухмыльнулся.
— Очевидно, Смирнов не выспался, — донеслась до него звуковая информация. — Он спит и ничего не слышит. Придется попросить его проснуться.
Рядовые засмеялись, и Гумидрон тоже посмеялся, хотя на душе у него было нехорошо. Его явно разоблачали. Главенствующий выбрался из своего станка и стоял рядом с Гумидроном.
— Смирнов, может быть, ты все-таки соблаговолишь встать?
Гумидрон быстро перебрал словарный запас хозяина захваченного тела и ответил первой подходящей фразой:
— А на кой?..
— Вот ты как заговорил?! — взорвался главенствующий. — Немедленно положи дневник на стол и выйди из класса!
Его обнаружили! Скрываться более не имело смысла. Но откуда они узнали о существовании дневника — секретнейшего документа, содержащего сведения, собранные Гумидроном на сотнях других планет? Будь что будет, но дневника он не отдаст!
Гумидрон взвизгнул и, сбив главенствующего индивида, бросился вон. Он промчался через длинные пустые проходы и выскочил из здания. Теперь предстояло спрятаться. Вряд ли вся планета оповещена о нем. Гумидрон торопливо сдирал с себя униформу. Без формы его, разумеется, задержат, но пока будут определять его региональную принадлежность, он успеет набрать достаточно фактов.
— Вот он где! — раздался голос.
Рядом с Гумидроном стоял еще один главенствующий. Сомнений в том не было: рост, почти вдвое выше Гумидрона, доказывал это.
— От тебя, Смирнов, я такого не ожидал, — звучал новоприбывший, — нечего сказать, прекрасно год начал: урок сорвал, учительницу ударил, и загорать удрал. Да ты не торопись, — продолжал индивид, ухватив побледневшего Гумидрона за ухо, — к директору всегда успеешь, а пока что я тебя маленько вежливости поучу, благо что штаны ты сам снял.
И новоприбывший, сорвав длинный стебель какого-то растения, неожиданно стегнул им по голым ногам Гумидрона. С таким оружием ему еще не приходилось сталкиваться! Гумидрон пулей вылетел из захваченного тела. Он улепетывал подальше от ужасной планеты, и ниспадающая его электромагнитной волны нестерпимо зудела на протяжении сотни световых лет.
ДЕНЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
За шумом дождя Лао не расслышал стука в дверь и пошел открывать, только когда весь дом затрясся от сильных ударов.
У ворот, держа на поводу навьюченного мула, стоял странно одетый человек. Он заговорил сначала невесть что, но потом, увидев непонимание, перешел на язык довольно похожий на здешний:
— Я торговец. Перешел через горы. Я устал и голоден. Можно ли у вас переночевать иностранцу?
— У нас рады тому, кто идет с миром. Заходи в дом, ты получишь еду и постель.
Сон был крепок, а наутро путник увидел голубое небо, солнце и вершины гор. Время собираться в дорогу.
— Прощай, хозяин. Благодарю за ночлег. Это тебе.
— Что это?
— Это?.. Деньги.
— Прости, но в наших краях нет ничего подобного. Объясни, зачем даешь ты мне эти предметы?
— Ты пустил меня в свой дом, накормил, дал новую одежду и еду на дорогу. Я же даю тебе за это деньги. Тот, у кого много денег, — самый уважаемый человек.
— Спасибо, я понял. У нас нет такого обычая, но я вижу, что он мудр.
— Прощай!
— Да помогут тебе боги!
Через час Лао был в доме кузнеца.
— Сделай мне, мастер, сто дисков со знаком моей семьи. Мой сын поможет тебе. Дело в том, что вчера вечером пришел ко мне один чужестранец, и он рассказал…
А некоторое время спустя по всей этой небольшой стране распространился обычай: если кто-нибудь делал приятное другому человеку, тот давал ему серебряный диск со знаком своей семьи. Эти диски хранят дома или делают из них ожерелья. И человек, у которого много денег, — самый уважаемый человек.
ВЕТЕР С МОРЯ
Вечером поднялся Ветер с Моря. Он гнал волны и нес на сушу брызги и белую пыль соли, запахи йода и сероводорода. Навстречу Ветру вылетали Листы. Они появлялись ниоткуда, прямо из Ветра и летели против него, собираясь в стаи или разлетаясь, но всегда против Ветра — в море.
Ветер дул всю ночь и стих только утром. И тогда вернулся Карел. Сам. Этого никто не ожидал, уже собралась поисковая группа, а товарищи почтили кто как умел его память, когда он приехал на станцию, поставил вездеход в ангар и вошел, словно ничего не случилось. Только на лице его застыло радостно-удивленное выражение, да было там еще что-то такое, что даже Зон Сноу, который состарился в космосе и видел всякое, поспешил отвести глаза.
То, что Карел вернулся, было непонятно и немного жутко. Еще никому не удавалось пережить Ветер с Моря. Ветер не убивал тела, но бесповоротно гасил разум, люди становились даже не животными, а просто куклами; никто не знал, что с ними, так же как никто не знал, что такое Ветер с Моря.
Но теперь был Карел, оставшийся человеком. Он спал в своей комнате, и всем, кроме врача, было запрещено входить к нему. Врач, выйдя из комнаты, сказал, что Карелу снится сон, а это хорошо, и пусть его никто не будит, пока он сам не проснется, и что за психику его поручиться нельзя, потому что когда у человека такое лицо…
Проснулся Карел под вечер и сразу же, не обращая внимание на товарищей, стал готовиться к выходу.
— Куда ты, Карик? — спросил Зон, который был дежурным в эту смену.
— На берег, — неожиданно ответил Карел. — Сейчас начнется Ветер, мне надо быть на берегу.
— Ветер не начнется, он не бывает два дня подряд, а тебе нельзя выходить со станции — ты не совсем здоров. Ты ведь помнишь, что с тобой было?
— Помню. Был Ветер, и они сказали, чтобы сегодня я снова вышел.
— Кто они? Листы?
— Нет, не Листы. Жители. Когда Ветер с Моря, то они разумны. Они спасли меня, но им еще надо кончить лечение и договориться о встречах, потому что часто устраивать Ветер они не могут.
— Карик, ты сам же понимаешь, что болен. Это все просто померещилось тебе. Здесь нет жителей. Никаких. Даже Листы не живые, планета мертва!
— Сейчас мертва, но скоро начнется Ветер с Моря. Мне надо идти.
Карел двинулся к выходу, но в этот момент доктор быстро шагнул вперед и прижал ему к шее инъектор. Карел покачнулся, доктор ловко подхватил его и потащил к креслу.
— Ничего, — сказал он, — это не страшно, я опасался худшего, а от этого мы его вылечим. Важно то, что он остался личностью, остальное — дело медицины. Думаю, что через полгода он снова будет здесь, если, конечно, захочет сюда вернуться…
А вечером поднялся Ветер с Моря. Навстречу ему вылетели Листы. Они собирались в стаи, кружили над входом в станцию, словно ждали кого-то, а потом улетали на звук волн. Целую ночь Ветер плакал в переплетении антенн и стих только утром.
ШТАНДЕР
— Штандер — Витька!
Мяч взлетает вверх.
— Стоп!
Замерли на поляне фигуры мальчишек и девчонок, одинаково одетых в спортивные брюки и фосфоресцирующие футболки из полиена.
— Женька шевелится!
— Тут земля скользкая, я в канаву съезжаю.
— Все равно шевелишься.
— А ты бросай скорее, мы тебе не в «бабочки летают» играем, а в штандер!
Витька резко кинул мяч.
— Мазила, — спокойно сказал Женя. — Ныряй теперь за мячом. Он там в луже плавает.
— За такое нехорошее отношение ты у меня сейчас будешь штандером, шепнул Витька Жене и полез в канаву.
Ребята собрались в центре лужайки, подошел Витька, поигрывая мокрым светящимся мячом, невысоко подкинул его и крикнул:
— Штандер — Леха!
Не ожидавшая этого Женя бросилась было к мячу, потом в сторону, но было поздно. Раздалась команда «Стоп!». Дело было совершенно ясным: Женя стояла всего в трех шагах от водящего, но Леха не спешил. Сначала он примерился кидать мяч в кого-то из стоящих далеко, потом, указывая пальцем на злополучную канаву, закричал:
— Теперь-то Игорешка шевелится совсем точно!
— Ребя!.. — донесся сдавленный Игорешкин голос. — Я ногу сломал!..
Игорешка на четвереньках выполз наверх. Подбежали ребята.
— Ты ляг, — сказал Венька Большой. — Где болит?
— Вот тут.
— Ну, — улыбнулся Вениамин, — это не страшно. Нога у тебя цела. Потянул немножко. Полчасика посидишь, и все пройдет.
— Говорила я, — сказала Оля, — ничего хорошего не выйдет, если ночью играть.
— Какая же сейчас ночь? Десять часов, — возразил Витька.
— Все равно темно. Вот он теперь без ноги останется.
— Почему без ноги? Все ноги на месте. Сейчас отдохнем и пойдем по домам.
— У него растяжение, — упорствовала Оля. — Он не может. Надо вызвать санитарный вертолет.
— Дернуть надо, — посоветовал Борик, самый младший участник игры.
— Себе и дергай, — слабо огрызнулся Игорешка. — У меня вывиха нет, а вот тебе давно спать пора.
— Не пора, — ответил Борик. — Я сегодня нарочно днем спал, чтобы с вами пойти. Меня до самой ночи отпустили.
— А ведь уже и есть ночь, — почему-то шепотом сказала Женя. — Вы на небо взгляните.
Все разом задрали головы. Действительно, за несколько минут близкое вечернее небо растаяло, открыв черную Вселенную, исколотую огнями звезд.
— Это какой спутник, кто знает? — спросил Венька Большой, показав рукой на медленно ползущую по небосводу искорку.
— Где?
— Вон движется…
— Наверное, станция какая-нибудь. Спутник тусклее, — неуверенно сказала Женя.
— Эх вы!.. Это не спутник. Рейсовый с Венеры на посадку идет. Они всегда по вторникам прилетают.
— Кто же летом знает, вторник сегодня или среда? Летом одни воскресенья бывают, — философски заметил Витька.
Разговор как-то сам по себе прекратился, все молча глядели на небо, на котором было так много движущихся звезд. Звезды — ракеты, звезды космические станции, спутники связи, метеоспутники… В космосе жили сотни людей, они были далеко и в то же время очень близко. До них тысячи километров, но их дома можно увидеть простым взглядом вот с этой полянки. Конечно, если хорошая погода. Леха вдруг опустил голову и сказал:
— Братцы! Этот рейсовик, он ведь пассажирский. Прямо обидно получается. Сто лет назад считали, что как будущее настанет, так все будут в космос летать. Вот оно, будущее, настало. А для кого? Для одних взрослых! Мне папа рассказывал, что они, как мы сейчас, вечерами в штандер играли, и через сто лет ребята только и будут, что в штандер играть, а все интересное взрослым достанется.
— В штандер тоже интересно, — пискнул Борик.
— Так сам и играй, — встрял Игорешка.
— Погодите, я не об этом, — остановил всех Леха. — Я о равноправии. Говорят, что у всех равные права, а на деле — штандер? Кто из вас был на Луне? Никто. Вот взрослые летают.
— И взрослые не все летают… — вставила было Женя, но Леха тут же отрезал:
— Значит трусы!
— Ты не очень завирайся, — остановил Леху Венька Большой. — Твоя мама, она что, трусиха?
— Так то мама. Ей трусить можно. Знаешь, как она визжала, когда я лягушку в кармане принес. Ляльке так никогда не завизжать.
— А мой папа? А Олькин? А Игорешкин? Они трусы, да?
— У них работа другая…
— А у тебя какая работа, чтобы ты в космос собрался? Тебе отец рассказывал, как они в штандер играли, а мне мой говорил, как они хотели на полюс попасть, но не сумели, хотя тогда в Арктике уже много людей работало. А вы все на полюсе были.
— Я не был, — сказал Игорешка. — Я простудился, и меня не взяли. Словно на полюсе так уж холодно. У нас зимой холоднее бывает, и ничего.
— Все равно почти все были. А через сто лет ребят начнут на Луну возить, на Марс. Только вы и тогда довольны не будете, потому что вас куда-нибудь не пустят. На Солнце или к другим звездам…
— Тебе просто за взрослых заступаться, — вздохнул Леха. — Через год шестнадцать, сам взрослым будешь. А мне еще целых четыре года ждать.
Все снова замолчали, только Борик шепотом считал, сколько лет осталось ждать ему. Получалось много.
Игорешка тем временем поднял с земли мяч, повертел его в руках, а потом вкрадчиво протянул:
— Ребята, что сейчас скажу…
— Чего?
— Штандер — Витька! — заорал Игорешка, швырнул мяч в темное небо и со всех ног бросился бежать.

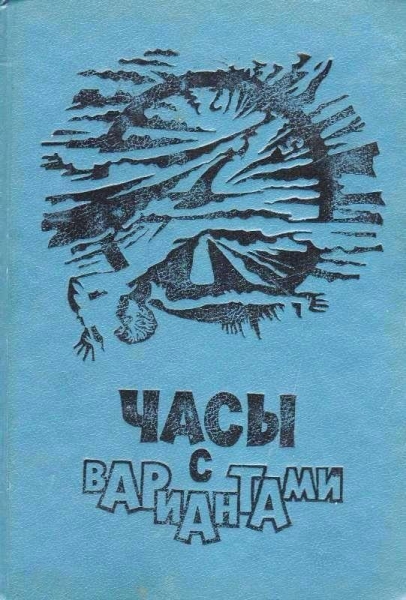


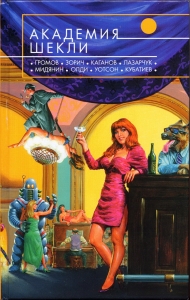
Комментарии к книге «Часы с вариантами», Лев Валерианович Куклин
Всего 0 комментариев