Ховард Уолдроп, Ли Кеннеди Город Одной Лошади
На любом языке значение крика было очевидным: «Эй, ты!»
Гомер поднял глаза к ржавому цвету неба, пытаясь сфокусироваться на звук. Ветром с тропинки на холме с руинами несло в лицо пыль и мелкий песок.
Грубый голос напомнил ему о страхах, когда он был маленьким мальчиком, карабкающимся по руинам сам по себе. Родители пугали жуткими историями об украденных мальчиках, которые никогда больше не видели своих родных, которых принуждали делать то, что им делать не хотелось, которых убивали, иногда попросту, а иногда мучительно, когда они в них больше не было нужды. Страх был частью восторга игры здесь.
Сейчас, больше не мальчик, а почти мужчина, он обнаружил, что боится больше прежнего. Он понимал, что стал более уязвимым, чем когда был маленьким. За последние три года зрение ухудшилось настолько, что за пределами вытянутой руки все расплылось в ужасное мутное пятно. Не такая уж проблема в знакомом окружении родного города, но он больше не может отличить оливковые деревья от остатков древних городских стен. Или врагов от друзей.
Он выбрал одну из форм, темную, в рост человека, движущуюся, словно потрясая кулаками, и услышал хруст быстрых шагов по щебню.
Гомер торопливо дернулся назад вниз по склону поросшей травой осыпи возле стены.
Форма растворилась. Не ушла и не пропала из виду, просто растворилась. Гомер непроизвольно хмыкнул и застыл. Наверное, это тоже обман зрения.
Он чувствовал запах ветра с моря, лежащего ниже этого иззубренного холма, слышал черных ворон, собирающихся к ночи, но никаких других человеческих звуков, кроме собственного трудного дыхания. Опускающиеся сумерки прохладой веяли на руки.
Время уходить, подумал он.
Темнота — враг молодых людей, которые настолько близоруки, что не замечают корову на кухне. Даже если семья считает его совершенно бесполезным, мечтателем, натыкающемся на стулья, ему кажется, что они могут встревожиться.
Он обнаружил эти руины во время семейных летних путешествий на север во времена детства. Она захватили его воображение, как ничто иное, особенно, когда он услышал истории о том, что здесь случилось, весь год он с ужасной тоской дожидался возвращения. Счастливейшие дни его жизни: стоять на стенах, стрелять воображаемыми стрелами, рубить невидимых врагов мечами, криком предлагая помощь давно погибшим воображаемым друзьям-героям.
Он уже почти взрослый, но магия еще присутствует здесь. Ветер доносит тихий плачущий стон. Вздох женщины, воображает он. Когда он был мальчиком, то никогда не испытывал такую глубокую, до самых печенок, тоску по чему-то еще неведомому для него.
Теперь солнце заходит. Он стоит носом к ветру, словно пес, чувствуя морской бриз, ощущая море справа от себя. Повернув голову, он видит солнечный свет, пылающий на миндальных рощах внизу, словно медная бронза, зная, что идти надо туда. Он прокладывает путь по неровным камням и земляным осыпям рядом с гигантскими кучами разрушенных зданий древнего города, безмолвно рассказывающих историю своей гибели.
В особенно крутом месте он находит ступеньки в земляном склоне. Корень, за который он цепляется, чтобы поддержать себя, вдруг поддается, и Гомер держится за землю, чтобы сохранить равновесие. Пальцы нащупывают что-то гладкое и круглое, не похожее на камень, тверже, чем дерево. Он садится на корточки, чтобы посмотреть ближе. Что-то бледное. Любопытствуя, он находит камень, скребет землю, раскачивает и тащит, пока предмет постепенно не поддается, дергается и выпрыгивает ему на ладонь. Он переворачивает и крутит его в руках, пока понемногу не начинает понимать, что это такое.
Детский череп, весь в трещинах. Все зубы, кроме двух передних нижних, еще сидят в челюстной кости. От ужаса он чуть не роняет крошечный череп.
Гомер глядит вверх, соображая по памяти, в какой части руин он находится. Под дворцом.
«Бедный маленький воин», — шепчет Гомер, чувствуя, как встают дыбом волосы на затылке. Он дальше вкапывается в землю, чувствуя под рукой крошечный хребет, и кладет череп обратно. Прикрывает его землей, сколько может, потом карабкается прочь.
Он направляется к дому, зная, что надо идти на юг, чтобы заходящее солнце стояло справа. Перед тем как достичь равнины внизу, он снова слышит голоса. На этот раз их много, очень много.
Женщины, воющие от горя.
* * *
Меня тошнит от этой войны.
Это не моя война. Во всяком случае, я здесь просто помогаю. Эти люди вечно ходят войной друг на друга, хотя выглядят, как братья, имеют одну религию, присутствуют на одних и тех же городских вечеринках. Одни добывают металлы, другие превращают их в драгоценности. Одни ловят рыбу, другие делают модную посуду. И так далее.
Но — бац! — маленький инцидент, чуток царского адюльтера, и они снова воюют. И не удовлетворяются одной-двумя маленькими битвами. Они хотят стереть друг друга с лица земли. И втягивают в конфликт всех соседей.
Большинство солдат хотят приключений, шанса увидеть мир, встретиться с девушками, заиметь чуток золотишка и потратить его в доброе время, если выпадет случай. В этом я не очень отличаюсь от других. Мое происхождение пышно по сравнению с крестьянами и работягами, взявшимися за оружие, однако в этой войне солдат с пышным происхождением, как маслин на оливковом дереве, поэтому большой разницы нет.
Но видим мы только это место. С девушками-то окей, но после стольких лет войны не так-то много новых лиц. Если не считать детишек. А что до золота и добрых времен… что ж, могло быть и получше.
Истина в том, что, когда началась эта война, я был лишь маленьким пареньком, поэтому я сравнительно молодой рекрут. И меня привлекла сюда не просто война. Мне кажется, я хотел иметь шанс быть поближе к некой молодой леди, которая живет здесь. Но, когда бы не пересеклись наши дорожки в городе, она глядит сквозь меня, иногда с весьма странным выражением. Я познакомился с ней пару лет назад на пиру, что дал мой отец, где она была гораздо веселее. Казалось, я ей нравлюсь. Всегда знаешь, когда это случается. Тьма взглядов и улыбок, и старания находиться рядом. Я не мог избавиться от мыслей о ней.
Ее папочка, в общем-то очень милый человек, похоже, меня вообще не замечает, просто глядит смутным взглядом всякий раз, когда я кручусь под его носом. Но у папочки много есть о чем думать, год за годом ведя такую войну.
Сегодня ночью я и Лео стоим на часах. Здесь, на холме, холодно и ветрено. И временами происходит нечто странное. Когда мы только заступили, то заметили что-то вроде мальчика, застрявшего в боковой стене внизу, он просто стоял там, словно стена была его одеждой. Потом он исчез.
Думаю, нам почудилось. Мы оба устали. Хотя вахта на стенах всегда с гарантией держит часового настороже, особенно в холодную ночь, когда можно отморозить задницу.
Лео, не такой дылда, как я, встал на цыпочки, чтобы заглянуть за парапет, потом показал в сторону берега: «Коро, посмотри, огни другие», — сказал он.
Огни на берегу горели уже годами со звуками солдатского смеха, споров, соревнований по бегу, с купанием в прибое, винопитием, и, хуже всего для всех нас голодающих здесь на верхотуре, с ночными шашлыками. Мучительные запахи, так как, будучи в осаде, мы получали не слишком-то много в смысле бифштексов. Время от времени подыхает какая-нибудь лошадь, и тогда мы что-нибудь жуем. И жуем, и жуем. Ручеек подвоза струится, когда мы находим причину для временного перемирия. Наше любимое развлечение — следить, как враги проводят времечко там, на берегу, и фантазировать о дезертирстве. Наградой бывает случайный снаряд, попавший в лоб. На прошлой неделе один из парней получил камнем прямо в глаз за то, что высовывался чересчур долго.
На берегу слишком тихо. Не пьют, не трахаются. Не жарят шашлыки.
— Может быть, — говорит Лео с надеждой в голосе, — они сожгли собственный лагерь.
— Лео, — отвечаю я, — они не могут уйти. Просто вот так.
Вчера был совершенно обычный день: отрубались руки-ноги, копьями протыкались мозги. Ничего такого, что могло бы заставить подумать, что кто-то победил, а кто-то потерпел поражение. Насколько я могу судить, весьма похоже на большинство дней последних десяти лет.
— М-м, — говорит Лео. Он старается не показаться слишком счастливым. — Что, если война закончилась?
— Разве так кончаются войны? — говорю я, наклоняясь через стену, с ощущением, что внизу вижу что-то движущееся. Большое и медленное, как корабль. Наверное, это тень от тучи. Ночь густая, словно кусок хлеба, намоченный супом, и я не вижу ни одной звезды. — Они просто ушли, ничего не сказав?
— Я не знаю.
— Мы должны сообщить.
Только я это произнес, как кто-то заворачивает за угол стены, выкрикивая: «Леокритус! Короэбус!»
Это Эней, выпендривающийся говнюк «я-знаю-все». Выступает как принц из принцев, а сам всего лишь кузен царской семьи.
Лео говорит:
— Мы только что заметили нечто забавное, сэр.
— Да, — говорит Эней. Он уже знает. Возможно, он гордец, но не тупица.
Мы наклоняемся через стену и смотрим в темное ничто, слыша лишь шум моря в отдалении. По крайней мере мне кажется, что это море, но это не море. У звука неправильный ритм, и он слишком близок.
Тогда я поднимаю голову. «Бог ты мой», — все, что я могу сказать.
Это еще жутче, чем ребенок в стене. Приглушенные пылью звуки шагов в небе, прямо над нашими головами, в сопровождении гладкого шорканья множества лопат, в унисон швыряющих землю.
Когда Лео рванул, я рванул тоже, а Эней последовал за нами. Мне было приятен тот факт, что лорд Эней испугался.
* * *
Мы остановились и пришли в себя только под стеной.
Лео вдруг хватил меня за руку и сказал:
— Мы, э-э… дезертировали с вахты.
— А, ага.
Я остановился, надеясь, что Эней не подумает, что наш испуг носит предательский характер. Но он тоже выглядит потрясенным, пытаясь скрыть страх за высокомерным выражением.
— Запрыгнем на стену на следующей лестнице, — говорю я, таща Лео за собой.
— Пойду, найду Кассандру, — задумчиво говорит Эней, поворачиваясь в сторону аллеи, ведущей к городскому центру. — Ей нравится толковать знамения.
Касси! Ее черноглазый взгляд мог заставить меня чувствовать себя ниже работяги-муравья, плетущегося в пыли. Да, именно в нее я влюбился пару лет назад. Перед тем, как она помешалась. Я слышал слухи о ней и Аполлоне — что она его отвергла — и надеялся, это означает, что она предпочитает нас, смертных. Однако, вообразите-ка, отвергнуть Аполлона! Какие тогда шансы у меня? Но я ничего не мог поделать. И часто добровольно вызывался на дополнительную службу при дворце, глядя на ее окно, где мог видеть ее вышивающей с матерью Гекубой, обе сидели молча, в тревоге, только мелькали золоченые иглы.
Я распушил плюмаж из конского волоса на шлеме и втянул живот под кирасой, чтобы плечи казались пошире.
Если б только я обладал благородством ее брата Гектора, чья недавняя гибель подкосила всех нас. Если б только я обладал хитроумием Одиссея, красотой Ахиллеса, но без их греческой сути…
Я попытался вернуть внимание к текущей работе. Лео и я расхаживали по стенам. На равнине было тихо, лишь костры курились оранжевыми углями, берег темен. Когда мы встретились с солдатами, охранявшими северные стены, они согласились с нами, что греков внизу больше нигде не видно. Но никто спокойствия при этом не чувствовал. Лео и я не стали рассказывать о странных штуках, что видели мы. Мы зашагали назад на другую сторону цитадели.
Потом снова появился Эней, нервно сканируя воздух над нами, с Кассандрой по пятам. Она выглядела не лучшим образом, бледная и словно плакала целую неделю. Что ж, наверное, и плакала. С тех пор, как погиб Гектор, у женщин глаза все время на мокром месте. Но даже при том, что она нервничала и последнее время была не в себе, сегодня она выглядела еще хуже.
Из-за спины Энея она посмотрела на меня долгим взглядом.
— Короэбус, — сказала она.
У меня забилось сердце.
— Добрый вечер, Кассандра, — ответил я.
На мгновение она приоткрыла рот, словно хотела что-то сказать, но ее прервал Эней, тыкая в воздух.
— Расскажи, что ты слышал, — приказал он Лео.
— Э-э, ну, миледи, — сказал Лео, оглядываясь через плечо. — Было похоже на звуки шагов. Прямо над нашими головами. Они копали. Вроде как… — Он запнулся.
Кассандра едва обратила на него внимание. Она подошла к одной из стрелковых бойниц в стене и просунула голову наружу.
— Как их много, — сказал она.
Лео, Эней и я посмотрели друг на друга, озадаченные. Сегодня ночью там никого не было.
— Полная тысяча кораблей, — сказал я. — Так они хвастали.
— Нет, — сказал Кассандра, слегка отступая, потом медленно поворачиваясь и поднимая голову. — Не их.
Мы все посмотрели туда, куда она смотрела, в общем направлении горизонта над Тенедосом.
— А кого? — спросил я.
— Тех, кто в туче пыли. Тех, что с корзинами.
Именно в это мгновение, я понял, что она не совсем та женщина, которую я искал в жизни. Хотя, глядя на ее большие карие глаза и ниспадающие складки хитона, я все еще помнил…
Но Кассандра определенно свихнулась.
Пока она высматривала что-то на равнине, мы все снова переглянулись. И подошли к стене, чтобы посмотреть. Думаю, другие видели то же, что и я: черная равнина, темное море. Эней повращал глазами, потом покрутил пальцем возле виска, кивая в спину Кассандре.
— Они пришли за нами, — сказала Кассандра, снимая сережки, бросая наземь и топча их ногами. — Но уже послезавтра все это будет безразлично.
— Э-э, хорошо, Касси, — сказал Эней, кладя руку ей на плечо. — Теперь тебе, наверное, надо вернуться. Уверен, что тетя уже скучает по тебе.
Кассандра снова посмотрела на меня долгим взглядом.
— Короэбус, ты защитишь меня, когда большой зверь выплеснет свои потроха на город?
Мы все застыли. Я вдруг такое подумал, что сам испугался нечестивости мыслей об Аполлоне и его жестокой мести Кассандре. Но будучи вежливым, я ответил:
— Да, мэм.
Эней увел ее прочь.
После их уходя мы с Лео не много-то разговаривали. Кажется, он знал, что я смертельно влюблен в Кассандру. Не могу сказать, что ощущал я. Тошноту. Смущение. Даже если б он не знал, что тут скажешь, когда царская дочь демонстрирует признаки безумия.
До конца ночи мы ходили взъерошенные, как разъяренные коты. Мне все чудились в ветре стонущие и взывающие звуки.
Как будто корабль плывет по земле.
Невозможные.
* * *
Он стоял на вершине руин, ковыряясь в правом ухе мизинцем, словно артиллерист, прочищающий дуло орудия. Осенний ветер добрался туда первым, пронзив до последнего нерва.
Боль ослабла, сменившись знакомым тупым звоном, что приходит и уходит, ежедневно, ежечасно, иногда ежеминутно.
Повсюду вокруг него и ниже турки, армяне и греки в раскопках пели, но не хором, а каждая нация состязалась с другими, кто споет на родном языке наиболее пьяную застольную песню. Уши Генриха Шлимана болели слишком сильно, чтобы прислушиваться к чьим-либо словам, для него все звучало приглушенным звоном. Рабочие вдоль длинной цепочки передавали корзины с землей от места, где другие раскопщики рылись кирками и лопатами на краю земляного холма Гиссарлык, и сваливали землю вниз на равнину.
С тех пор, как здесь присутствовали четыре-пять кланов турок и греков, он научился ставить между ними армян, чтобы корзины шли от раскопщиков к туркам, от них к армянам, от них к грекам, потом снова к армянам, туркам, и так далее. Иногда на каждого нейтрального посредника приходилось по четыре-пять турок или греков, иногда по десять-пятнадцать. Последними в цепи все были армяне, чьей задачей было засыпать плоскую аллювиальную равнину, что простиралась вниз к небольшой речушке, текущей к расположенному в двух милях морю.
Звон в ухе медленно вернулся к вечному жужжанию (он не слишком-то музыкален, но когда для знакомого скрипача попытался напеть этот звук, тот определил его как «В ниже среднего С»).
Сегодня продвижение шло быстро. Они отрыли стену одной из римских фаз и быстро копали вдоль нее туда, где она опускалась ниже в обломки развалин. То, что он ищет, находится ниже, вероятно, гораздо ниже. Только когда раскопщики находят нечто другое, чем строительные камни, керамику или оружие, тогда работа замедляется, они переходят от лопат к совкам, пока те, что уносят корзинами землю догоняют. Но сегодня, раскопщики идут на полной скорости. Он подозревает, это означает, что коллега Дерпфельдт снова станет жаловаться, что раскопки недостаточно систематичны. Даже для немца Дерпфельдт чересчур методичен. «Одной вещи в жизни я научился, — подумал Шлиман, — что кто-то ведет, а кто-то следует. И лидер здесь — я».
Шлиман хотел костей: костей троянцев, похороненных с почетом. И если почет означает, что кости завалены золотом, то чем больше его, тем лучше. Шлиману нравится, как загораются глаза Софии, когда она видит найденное золото. Просто видеть ее удовольствие, ему уже достаточная награда. Она заслуживает всего, что есть в земле и на небе просто за то, что не является русской ледышкой, на которой он по глупости женился в первый раз.
«Я мало сделал ошибок в своей жизни, но брак на русской был одной из них, — подумал он. — Однако, женитьба на моей дорогой, красивой гречанке Софии все покрывает. Я богат, я добился успеха, я знаменит, у меня любящая семья.
Теперь я хочу всего лишь немного троянских костей, и тогда эта вшивая голова Беттихер потонет в земле, вместо того чтобы писать обо мне купоросную чепуху».
Внезапно он застонал. Боль в ухе стала невыносимой.
Один из турок карабкался к нему. «Босс!» — нетерпеливо кричал он.
Шлиман понял, что раскопщик звал его уже несколько раз. Он прикинулся, что был занят мыслями, чтобы не показывать свою глухоту, и слегка повернулся. Турок вручил ему черепок.
Невозможно. На нем изогнутый мягкий рисунок, который Шлиман распознал как щупальце осьминога. Микены!
— Где ты это взял? — потребовал ответа Шлиман по-турецки, сверкая глазами на молодого человека. Промелькнула мысль, что кто-то саботирует раскопки (Беттихер?), подкупая рабочих и подкладывая в турецкую землю греческую керамику.
Турок показывал, размахивая руками, но Шлиман слышал только слово «босс», которое турок с уважением повторял снова и снова. Он был возбужден. Потом Шлиману показалось, что он по губам прочел слова «гораздо больше».
Микены. Конечно. Да, как же я мог забыть? Мысли Шлимана мчались, пока он следовал за раскопщиком. Царские семейства Трои и Микен дружили и гостили друг у друга. Именно в царском путешествии в Спарту Парис влюбился и украл Елену. Конечно, здесь должна находиться микенская керамика! Ее, вероятно, послали в Трою, как, скажем, свадебный подарок для Гектора и Андромахи.
Раскопщики столпились в углу траншеи, один ковырял землю маленьким ножом. Отовсюду торчали края и закругленные поверхности черепков.
— Мои добрые друзья! — похлопав в ладони, сказал Шлиман сначала по-гречески, потом по-турецки. — Хорошая работа. Обед раньше.
Половина рабочих побросали орудия, стали вытирать лбы и заулыбались. Потом он повторил фразу на армянском, и вслед за остальными из траншеи радостно повалили оставшиеся.
Шлиман улыбался и кивал, глядя как они уходят, с достоинством их поздравляя. Потом соскользнул в траншею и погладил гладкий краешек частично отрытого микенского сосуда для смешивания вина, элегантно украшенного полосками.
— О, Афина! — прошептал он. Комок стоял в горле, в ушах болезненно пульсировало, глаза щипало. — Осмелюсь ли я вообразить, что сам Гектор пил из этой чаши?
Он почувствовал, как изменилось освещения и, вздрогнув, поднял глаза. Сначала он никого не увидел. Он положил черепок в карман рубашки, потом нашел место, куда можно поставить ногу, и наполовину высунулся из траншеи. Холм представлял собой плоскость, пересеченную в основном его траншеями, но также и оврагами, возникшими от возраста. Стены города изветшали и осыпались, поросли бледной травой и пучками ячменя. Темные вязы-карагачи, потеряв летний наряд, посвистывали в неослабном морском ветре.
«Вот он! Подзадержавшийся раскопщик?» — удивился Шлиман. Но он его не узнает. Юноша в порванной рубашке, свисающей с плеча. И даже не юноша, а, скорее, большой мальчик, на таком расстоянии не разглядеть, видна только верхняя его половина. Сконфуженный, Шлиман попробовал догадаться, в которой из траншей находится паренек.
— Эй, ты! — крикнул по-турецки Шлиман, карабкаясь в его сторону.
Мальчик слегка повернулся, но посмотрел не на Шлимана. Он взглянул в сторону самой высокой из оставшихся башен Илиона, потом шагнул назад и пропал.
- Маленький мошенник! — проворчал Шлиман, раздраженный, что нарушены чары. А-а, ладно. Он вернулся в траншею, достал карманный нож и стал очень осторожно ковырять землю вокруг полосатого сосуда.
В уме он уже составлял вечерние письма: два друзьям на английском; два другим археологам на французском; одно своему торговому агенту на русском; одно на шведском тамошнему корреспонденту; записку на турецком в музей Константинополя; письмо на греческом своей теще. О, да, не забыть написать кузине в Германию.
Ведь это же невероятная находка.
Он снова сунул палец в ухо, когда в голове с грохотом загудел целый океан. «О-о-о!» — застонал он.
* * *
Вахта почти завершилась. Гляди, на востоке уже розовоперстая заря.
Вы знаете, как иногда просыпаешься средь ночи, вспоминая о том, что так и не написал благодарственное письмо дедушке до того, как он умер? Или о том, что боль в животе может оказаться началом смертельной болезни? Или о своих долгах? Что ж, ночь была очень похожей, только я не лежал в постели. Мы с Лео некоторое время крепились, играя в палочки и в камешки, от таких игр можно вовремя вскочить на ноги, если вдруг заявится какой-нибудь бессонный говнюк. Но большую часть времени мы просто смотрели в никуда, страшась, что звуки шагов могут вернуться.
И не слишком-то помогали вопли и рыдания Андромахи, несколько часов назад потерявшей мужа. Гектору это не понравилось бы, хотя странным образом греет сердце, когда жена так убивается о муже. Но Гектор понимал, что женский вой выводит солдат из равновесия.
Вроде меня. И сказать, что я просто выведен из равновесия, значит оценить мое состояние примерно на одну десятую.
Понимать, что мы потеряли большинство наших лучших генералов и, страшнее всего, Гектора. Понимать, что нет ничего особенного в том, что я царский сын, когда почти все другие — точно такие же. Думать все время о своей семье. Думать о помешавшейся Кассандре. Думать о том, какая гнилая эта война.
Когда взошло солнце, мы увидели, что именно они приготовили на берегу прошедшей ночью.
Мы с Лео просто не хотели верить, что после десяти лет войны они просто убрались прочь. Но ведь Ахиллес был их главным бойцом, так же как Гектор был нашим. Когда погибли оба этих парня, они, наверное, решили, что настало время паковаться.
Я перегнулся через стену и в свете раннего утра увидел громадную темную фигуру, стоявшую возле главных городских ворот. Больше, чем сами ворота.
«Что это, черт побери?»
«Коро, корабли уходят!» — закричал Леокритус. Как и я, в утреннем свете он был начеку. Он показывал на море, где кораблей было, как ос на куске джема.
«Нет, Лео, что это такое?» — снова спросил я, хватая его руками за голову и поворачивая, чтобы он посмотрел вниз и вправо.
На Лошадь.
«Зевс Громовержец!» — выдохнул он.
Солдаты-дозорные с других стен кричали вниз народу: «Они уходят! Греки уходят!»
Люди выбегали, посмотреть, что происходит. Распахивались двери, люди свисали с верхних окон, указывая на корабли, теперь уже на горизонте.
Праздник! Я обнял Лео, он обнял меня; мы подпрыгивали от радости, делая непристойные жесты в сторону кораблей трусливых греков, уплывающих на юг. Я никогда еще не слышал в Трое такого шума. Женщины размахивали шарфами, выносили наружу крошечных детей, сидящих у них на бедрах, били в кастрюли. Мужчины колотили по чему ни попадя, выкрикивая всякое о недостатках солдат Агамемнона и о силе и храбрости воинов-троянцев. И все это так рано утром, еще даже до того, как вынесли вино.
Все куда-то возбужденно карабкались, натыкаясь друг на друга в густой толпе, собравшейся в нашем конце города. Уже разлетелся слух о гигантской лошади у ворот.
Я все еще стоял на стене, разглядывая ее.
Высотой около четырех ростов человека и столько же в длину, сделанная, наверное, из вяза, с большим коробчатым животом и прямой шеей, торчащей под углом, с настороженными острыми глазами. Вырезанные из дерева глаза выглядели дикими и вытаращенными, словно в битве. И это жертвоприношение в честь мира?
Я слышал голоса, вопрошающие, должны ли мы открыть ворота или нет. Пара солдат подняла глаза на нас, стоящих на стене:
— Что делать?
— Не знаю, — крикнул я в ответ. — Позовите жреца. Или кого-то из царской семьи.
Через несколько минут появился великий царь Приам, хрупкий, крошечный человечек в ниспадающих одеждах из тончайшего белого льна, вместе с рысящим позади Энеем. Они открыли ворота, выбрались наружу, и толпа окружила лошадь.
Я с верхотуры увидел клинообразную, суматошно несущуюся толпу встревоженных и напуганных людей, бегущих с верхнего города. На острие клина мчался массивный жрец Посейдона, почти нагой, словно только что выбрался прямо из постели, он размахивал толстыми ручищами и ревел басовитым рыком: «Что случилось?» Наученные, наверное, годами практики, его наполовину взрослые сыновья ныряли и вились вокруг громадных летающих локтей, два любопытных ребенка, желающих знать, отчего весь этот переполох.
— Кто тут говорит о прощальном подарке? — ревел Лаокоон. — Это хитрость!
Он повернулся и позаимствовал здоровенную дубину у одного из своей банды поклоняющихся воде придурков. Могуче замахнувшись (я даже удивился, почему он никогда не появлялся на поле битвы?), он шарахнул дубиной по боку лошади.
Дерево откликнулось низким, стонущим звуком, словно струна из конского волоса. Жутковато.
— Это хитрость! — повторил Лаокоон.
— Э-э, остынь, Лаокоон! — прокричал кто-то. — Пойди-ка, окуни свою голову в море!
Все дико захохотали.
Царь Приам поднял руки, запястья как веточки, лицо печальное, но в нем присутствовала царская магия. Все стихли.
— Давайте изучим вопрос, — просвистел он старческим голосом.
Потом я увидел Кассандру, подходящую к толпе Лаокоона.
— Не трогайте лошадь! Избавьтесь от нее! — пронзительно закричала Кассандра. — Она разрушит город!
Но когда Эней засмеялся, все присоединились к нему.
— Это всего лишь куча досок, Касси!
Несколько человек принялись лупить по лошади, заставляя ее гудеть, как большой барабан.
Лаокоон воздел руки, требуя тишины. Мне послышалось, что Лаокоон сказал: «Восплачете еще, слепые идиоты, в ней прячутся греческие матросы!» — но толпа продолжала сильно шуметь.
Прилепившиеся к нему сыновья выглядывали из-за спины отца широко раскрытыми глазами. Голос Лаокоона загудел.
— Как вы можете доверять грекам? — вопрошал жрец Посейдона, глядя на Энея и стараясь не смотреть на царя Приама.
Смех и стук прекратились.
Лео и я вздохнули с облегчением. С уходом греков, похоже, больше не было нужды тщательно следить за равниной. Ошибка. Правда, я не знаю, что мы могли бы поделать.
— Эй, поглядите, — сказал кто-то у ворот, показывая в сторону, где обычно стояли греческие корабли. По земле скользили громадные извивающиеся создания. — Большие змеи!
* * *
Потом, когда змеи уползли прочь, небольшая толпа заново собралась возле лошади и изувеченных трупов Лаокоона и двух его сыновей. Выглядели они теми обрезками, что мясники швыряют собакам в конце трудной недели, но воняли хуже, дерьмом и гнилым мясом. Хотя мы оба лучше б предпочли очутиться на поле битвы без оружия, чем выполнять эти тошнотворные обязанности, я и Лео помогли взвалить тела на щиты, чтобы отнести назад семье. Я всегда ненавидел момент, когда начинается женский вой, но еще хуже ждать воя, чем слышать его.
Большинство зрителей забежали в ворота, влажные пятна отмечали места, где они стояли. Кассандра с дочерней заботой увела потрясенного Приама. Эней стоял в ошеломлении. Он потер руки и, задумчиво взглянув вначале на тела, а потом на море, сказал:
— Это очень неожиданно.
Теперь мне не слишком нравилось быть снаружи, за воротами.
— Куда исчезли змеи?
Один из наших старых солдат, задыхающийся после бега, нес угол щита, на который я положил тело меньшего мальчика. Он ответил:
— Поползли прямо в храм Афины, покружили вокруг статуи, а потом исчезли в норе в земле.
— Что делать с лошадью, лорд Эней? — спросил один из солдат.
Эней не ответил, все еще находясь в смятении.
— Мне надо идти, — сказал он и пошел на холм в сторону дворца.
Царские родичи удалились, жрец лежал изувеченный, мы просто не знали, что делать. Лео, я и еще двое солдат понесли тела Лаокоона и его сыновей в его же храм. Прибежали женщины, обливаясь слезами и пронзительно крича.
Кажется, пора бы привыкнуть к виду смерти. Но когда они запорхали над ужасными, раздутыми лицами маленьких мальчиков, я почувствовал невыносимую тоску.
Мы прозевали появление Синона, несчастного грека, брошенного земляками за предательские намерения. Он обливал гневом бывших товарищей-греков. Его отвели к доброму царю Приаму, где он все объяснил, желая отомстить грекам, которые хотели принести его в жертву ради благоприятных ветров.
В конце концов царь Приам вытянул из него, что большая Лошадь — это жертва Афине, чтобы умилостивить ее за то, что Одиссей сотворил в ее городском храме, куда он пробрался однажды ночью. Этим грекам все время приходится оправдываться за свои проступки.
Поглупев от победы, я и Лео, вместо того чтобы отсыпаться днем, присоединились к группе, сносившей ворота. Мы хотели, чтобы лошадь богини была с нами в городе и помогла отпраздновать окончание долгой десятилетней войны. Наверное, Афина посмеивалась над нами после того, что натворил Одиссей.
Я не ощущал усталости. Я был счастлив. Стоя на воротах и колотя молотом по каменной кладке, я видел оттуда окна дворца. В частности, окно Кассандры. Там стояла она, не вышивая вместе с матерью, царицей. И не празднуя со всеми во дворце.
Она смотрела.
Мне кажется, она смотрела на меня.
* * *
Маленькая каменная пристань в Сигеуме пахла рыбой, рассолом, сырыми водорослями, веревками и деревом. Гомер почувствовал, как под ногами пляжный песок сменился галькой, но свет здесь был ярким, слишком ярким, заставлявшим щуриться от ослепительного блеска. Во время троянской войны здесь располагался лагерь греков, однако никаких резонансов Гомер не ощущал. Все было слишком занято делом, слишком дышало настоящим.
— Не позволяй парню так близко ходить по краю! — начала браниться мать.
Отец схватил Гомера за руку.
— Стой тут и не разгуливай! — сказал он. — Нам надо найти корабельщика. Легче было бы бросить тебя здесь.
— Сиди, — сказал мать, надавив ему на плечи. — На заднице ты не так далеко забредешь, как на ногах.
Гомер уселся, поцарапав лодыжки о неровную землю, когда скрестил ноги.
— Не шастай! — снова сказала мать. Потом позвала младших детей следовать за собой.
Шаги постепенно замерли. Гомер прислушивался к плеску воды и мягкому постукиванию лодки, привязанной под ним к стенке пристани. В небе пронзительно кричали морские птицы, ожидая возвращения рыбаков. Большая тень возле берега, наверное, тот самый корабль, на который хочет попасть его семья, возвращаясь в Смирну. Несколько минут он наслаждался покоем. Он растянулся, чтобы немного позагорать, и нащупал под спиной громадный голыш. Он поднес его близко к глазам, чуть не касаясь ресницами, и разглядел тонкую серую текстуру, даже легкие искорки.
«Ах, красота!» — подумал он с восхищением.
Потом он снова услышал шаги.
— Выглядит немного простовато, вот и все, — произнес мужской голос. — Ты ведь не пьян, молодой человек, правда?
Гомер сел прямо и попытался сфокусироваться на голос, но не смог выделить его среди деревянных столбиков, окружавших пристань.
— Нет, — ответил он. Я и не простоват вовсе, подумал он, но попридержал язык.
Забормотал женский голос в сопровождении детского агуканья.
Гомер сидел, застыв при появлении незнакомцев. Он ненавидел момент, когда замечали, что с ним что-то не в порядке.
Эти, похоже, им не интересовались. Мужчина и женщина говорили тихо, обмениваясь отрывочными фразами, неспособные поддерживать разговор. Даже ребенок оставался тихим. Потом женщина начала плакать. О его присутствии забыли, и Гомер с таким же успехом мог быть мраморной статуей.
— Как ты можешь оставлять нас сейчас! — сказала она. — Ты теперь — моя единственная семья. У меня не останется никого и ничего, кроме нашего сына.
Гомер навострил слух. Он оставался абсолютно тихим, цепко прислушиваясь к голосам за спиной.
— Ты ведь знаешь, мне надо идти, любовь моя, — защищаясь, сказал мужчина. — Если я останусь, чести тебе все равно не видать. Послушай, я понимаю, как это тяжело для тебя. Но когда я выполню свой долг, ты станешь мной гордиться. Все будет по-другому. — Он пытался говорить мягко, почти беззаботно.
— Да уж, я уверена, все будет по-другому! — гневно сказала она сдавленным голосом.
Хотя слова прекратились, но звуки — нет. Гомер воображал подслушанную сцену — муж с досадой уходит, жена плачет навзрыд, повесив голову, ребенок хнычет.
Задрожав, Гомер вспомнил звуки троянских женщин на руинах.
Потом вернулись звуки мужских шагов по грубому песку.
— Идет кормчий и какие-то люди. Наверное, тебе лучше уйти. Будет не так больно, правда?
Ее рыдания не ослабли, но сменили тональность с гнева на печаль.
— Послушай, иди домой, любимая, — сказал муж. — Хорошенько трудись. Будь доброй матерью и женой. Я вернусь сразу, как только смогу. Хорошо?
Она что-то пробормотала, Гомер не разобрал.
— Дай-ка, я попрощаюсь с моим мальчиком, — сказал мужчина.
Ребенок завыл, словно испугавшись отца.
Но мужчина засмеялся и сказал:
— Все будут говорить — он лучше, чем его отец, и им гордится его мать! Будь сильным, сын.
Все трое заплакали, потом мужчина хрипло сказал:
— Уходи, любимая! Уходи!
В наступившей тишине Гомер не осмеливался шевельнуться. Легкие женские шаги заторопились в сторону города. От чужого горя ему стало жарко. Если б только у него была такая сладкогласая жена! Он никогда бы не покинул ее! Но ради чести… что ж, ради чести… он с дрожью выдохнул.
В любом случае, у меня никогда не будет жены, подумал он. Кому я нужен?
Потом раздались голоса его семейства и другие, включая человека, говорившего с сильным галикарнасским акцентом, и еще звуки человека, дышавшего тяжело, то ли больного, то ли очень толстого, потом еще несколько голосов, наверное, матросов и других пассажиров. Галикарнасец то тут, то там отдавал разнообразные приказы.
— А вот и наш сын, капитан, — сказала мать Гомера, слегка задыхаясь, словно вся группа шла слишком быстро для нее. — Он не причинит никаких хлопот, только он не видит дальше собственного носа. Но мы сами позаботимся, чтобы он не свалился за борт.
Гомер встал и повернулся лицом на голоса, смутно осознавая массу, движущуюся по берегу в его сторону. Потом хватка матери (которую он хорошо знал) вдернула его в эту толпу и повлекла вниз по веревочной лестнице, причем все вокруг давали советы и предупреждения, галдя, как чайки над куском отбросов. Как только небольшая лодка загрузилась народом, они поплыли на веслах в сторону судна, стоящего в отдалении.
Гомер, притиснутый спиной отца к тяжело дышащему человеку, чувствовал, как к нему прижимаются чужие голени и лодыжки. Он слышал счастливый смех своих младших сестер и братьев на другом конце лодки, но не вполне различал, что они говорят. Когда они удалились от берега, ветер усилился и стал прохладнее и начал доносить материнские увещевания младшим до всех в лодке. Два гребца ворчали и ухали, четыре весла окунались в воду и подымались, окунались и подымались, в то время как корабельщик стоял (даже Гомер его видел), наверное, пользуясь длинным шестом.
— Что ты видишь? — в конце концов спросил Гомер отца.
— Судно, на котором мы отплываем, — ответил отец. — С черным корпусом и большими белыми парусами. Старый капитан не пойдет в это плавание.
Гомеру хотелось спросить, не сидит ли с ними в лодке печальный мужчина, но не осмелился. Тяжелое дыхание рядом его тревожило. «Не заразна ли эта болезнь?» — подумал он.
— Ты не можешь видеть, мальчик? — прошептал тяжело дышащий.
— Нет, — ответил Гомер, глядя прямо вперед.
— Но ум у тебя есть, не так ли? — спросил мужчина.
Гомер смущенно поежился.
— Ты нервничаешь на море? — прошептал тяжело дышащий. Похоже, это был его нормальный голос.
— Не в этот сезон, — ответил Гомер, поднимая лицо. — Гесиод говорит, что сейчас самое время для плаванья, через пятьдесят дней после солнцестояния.
— Гесиод! — Голос тяжело дышащего поднялся почти выше уровня шепота. Потом он закашлялся. — Парень, да ты школяр.
Гомер ткнул пальцем в ребра отца. Нет сомнения, отец опять грезит, но Гомеру не хотелось говорить с этим человеком в одиночку.
— Извините, что вы сказали? — спросил отец Гомера, перегнувшись через колени мальчика.
— Не школяр ли ваш паренек? — выдохнул трудно дышащий. — Он знает Гесиода.
— Нет. Но он слушал всех певцов в Смирне и голова его полна странных материй. Таким, как он, не много чего еще остается, не так ли? Он бесполезен. Мы не знаем, что с ним делать сейчас, когда он почти мужчина. Он не годится ни для какой работы.
— Я знаю все поэмы Мимнерма из Смирны, — наудачу сказал Гомер. — Поначалу они мне не нравились, но я все равно их запомнил.
— О, ты уже достаточно вырос, чтобы стать романтиком, а, парень?
Гомер почувствовал, что краснеет.
— Я был певцом. — Шепот был совсем тихим.
Заинтересовавшись, Гомер повернулся лицом к тяжело дышащему.
— Несколько лет назад я пел в Смирне.
— Наверное, я вас слышал.
— Наверное… Меня звали Келевтетис. Обычно, я пел о Тесее или Ахиллесе.
— Я помню! Об Ахиллесе в Смирне! — Гомер припомнил медовый голос и проворную лиру. Ну, конечно, ведь песни о троянской войне всегда были его любимыми.
— Хороший парень, — почти усмехнулся Келевтетис.
— Вы больше не поете? — спросил Гомер.
Отец толкнул его.
— Если б ты мог меня видеть, то понял бы, почему, — сказал мужчина шипящим шепотом. — Меня убивает собственное тело. Большая опухоль на шее. Еду домой в Кносс умирать.
Потрясенный и смущенный, Гомер съежился на лодочной скамейке.
— Я ходил с мальчиком, но в прошлом году он умер от лихорадки в Смирне, — печально прошептал Келевтетис.
Вопрос сформировался в голове Гомера. Потом другой. Потом в голове начался целый дождь вопросов, словно сам Зевс послал грозовой ливень мыслей. Но, с родителями так близко, Гомер оставил их при себе. Кроме того, им сейчас взбираться на борт судна с черным корпусом, он уже слышал, как паруса хлопают на ветру и как капитан зовет тамошних матросов.
* * *
Нахлобучив широкополые шляпы от жаркого солнца, Келевтетис и Гомер сидели на ящиках на палубе. Родители были где-то на другой стороне судна, явно обрадованные, что Гомер нашел кого-то, кто с ним занимается. Ящики под ними иногда шевелились от килевой или боковой качки, потом двигались обратно. Гомер цепко продолжал говорить с Келевтетисом о пении, задаваясь вопросом, как это певцам удается запомнить так много слов.
Больной рассказывал Гомеру о значении композиции закругленными оборотами, одним из средств запоминания.
— И я каждый раз называю кого-то одним и тем же именем. Например, если у тебя «радостный сердцем Гомер», он остается «радостный сердцем», даже если только что потерял своего лучшего друга или даже если его убивают. — От усилий разговора Келевтетис задыхался.
— Каждый раз? — с сомнением переспросил Гомер. Ему не нравились некоторые из эпитетов, выбранных Келевтетисом, и у него имелся свой собственный тайный запас. Особенно для троянцев, которыми, как казалось Гомеру, всегда пренебрегали традиционные певцы.
— Я не хочу делать паузы и пытаться вспомнить, в этом ли месте надо называть его «кислолицым», не так ли?
— Понятно, — Гомер задумчиво поскреб подбородок. — Значит, надо придумывать гибкие имена, которые годятся во многих ситуациях.
После паузы Келевтетис сказал: «А ты шустрый». И вздохнул, почти с облегчением. Потом спросил:
— Ты ведь желаешь стать певцом, не так ли? Если хочешь, я могу выкупить тебя у родителей.
Гомер не отваживался сказать это сам. Но когда Келевтетис произнес эти слова, он почувствовал себя полным, как весеннее озеро, и ярким, как солнечный свет. Он смог в ответ выговорить лишь простое:
— О, да.
Глубокий бас позади них сказал:
— В чем дело? Матросы для вас слишком волосаты?
— Матросы, — рассеянно повторил Келевтетис. Потом совершенно другим тоном: — У меня осталось не слишком много времени, парень. Останешься ли ты со мной до самого конца?
— Да, — ответил Гомер.
— Пусть одна из твоих младших сестер принесет мою лиру. Мы начнем.
* * *
Мальчишка. Вернулся этот мальчишка.
Шлиман находился в траншее, ниже края стены. София ухитрилась отвлечь представителей турецкого музея с завидущими глазами, пока Шлиман откапывал еще пару десятков золотых иголок для вышивания. Рабочие рылись выше на холме, ведя две разные траншеи, в то время как третья партия внизу на равнине занималась поисками двух воспетых источников — горячего и холодного — за пределами стен города. До сих пор, однако, множество найденных в долине Скамандра родников оставались равномерно теплыми круглый год.
Мальчишка, которого он мельком увидел из траншеи, носил тунику, как носили ее многие из греков, но был босой и даже без гамаш в эту пронзительно холодную осеннюю погоду. Он был еще и явно неуклюж. Шлиман мог поклясться, что он выглядел так, словно только что свалился со стены.
Шлиман выкарабкался наверх. Где же мальчишка теперь?
На таком расстоянии ближайшие рабочие казались размером с большой палец, передавая по цепочке из рук в руки корзины с землей, а прямо впереди София в черно-красном платье очевидно что-то объясняет одному из представителей турецкого музея, выразительно размахивая руками. Он ощутил внезапный приступ любви к ней и вздохнул с сожалением о своих подступающих годах и бесконечных болезнях.
Он подергал себя за ухо. Там постоянно низко жужжало, а теперь прибавился еще и высокий свист, похожий на двойную флейту. Но он понимал, что эту музыку ниоткуда производит его собственный ухудшающийся слух.
Вернусь в Афины, подумал он, пусть доктора снова все посмотрят.
Ранее днем в этом месте рабочие вышли на зону пепла и обугленного дерева. Немедленно, однако сохраняя безразличный и беспечный вид, Шлиман отослал их к месту более ранних раскопок. Зола… наверное, от Пожара Трои после той, настоящей троянской войны. Горящие башни Илиона. Ночь хаоса и смерти, каких еще не видывал древний мир.
Мальчишка вдруг появился снова, пробежав поперек неотрытой стены, потом прыжком скрылся из вида.
Шлиман нахмурился. Тот же самый? Выглядит он моложе предыдущего.
— Мальчик! — завопил он по-гречески, по-турецки, а потом еще, для полноты счастья, почему-то и по-французски. Он взобрался по ступенькам и посмотрел вниз по другую сторону стены, в основном еще находящейся под столетиями копящейся землей. Надо бы позднее раскопать то, что внутри ограды.
Голова мальчика, едва видимая, миновала поворот стены.
— Эй ты! Стой! — Разъяренный Шлиман обнаружил, что у него вырвался родной немецкий. В ушах все прибавлялось шума, ветер сегодня дул яростно, однако Шлиман совсем его не слышал. Он последовал за мальчишкой до того угла стены, который они прошли во вчерашних раскопках.
Где проклятый мальчишка? Шлиман заскрипел зубами от раздражения и от боли в ухе.
В запутанной поверхности земляной стены траншеи что-то блеснуло. Шлиман остановился и припал на колени, чтобы взглянуть поближе. Здесь тоже была зола. Почему ее не заметили вчера? Плохое освещение?
Он потянулся за зеленоватым предметом.
* * *
Я почувствовал, что внутри у меня все похолодело, как в каменной бочке в Беотии в месяц аристогетон, когда посланец объявил:
— Вас немедленно вызывают во дворец.
Лео заснул на полу там, где праздновали мы, солдаты. Никто не услышал, как меня вызвали, все продолжали пить, выкрикивать шутки и пожелания того, что собирались делать завтра, когда мир уже наступил.
Дворец!
Первая мысль была, что лорд Эней прошлой ночью слишком часто видел мое лицо не там, где надо. Потом я подумал, что, наверное, нужен для специальной охранной службы. Или меня пригласил царь Приам на царский пир. Или получены плохие вести о моей семье.
Я следовал за посланцем по аллеям города; почти из каждого окна доносились звуки праздника, во многих случаях — в постели. Троянцы и троянки стонали от счастья.
Однако, во дворце было странно темно. Как раз когда до меня дошло, что темные окна означают, что все собрались в Большом зале, приведший меня посланец пошел глубже во дворец. Я слушал смех и пение — уже успели сочинить победные песни — и чуял запахи вольных потоков вина и праздничных факелов. Но от всего этого мы свернули в темный коридор.
Посланец указал мне дверь и удалился. Я осторожно постучал.
Кассандра открыла дверь в комнату, которая, как я понял, была ее спальней. Плотно закутанная в тончайший тканый халат, с каймой из золотых и алых нитей, с темными распущенными волосами, она снова поразила мое воображение. Я не мог сопротивляться. Ей всегда надо было только взглянуть на меня, и я оказывался в ее власти.
— Принц Фригии, — произнесла она формальное приветствие, слегка отступая в сторону.
Я остался, где был.
— Принцесса Трои, — ответил я.
— Сын Мигдона. — Голос ее стал мягче.
— Дочь Приама.
— Короэбус.
— Здравствуй, Кассандра, — сказал я.
Она потянулась вперед, взяла меня за запястье и втащила в комнату. Потом заперла дверь.
— Помоги мне, — сказала она.
— Чем?
— Мы все в ужасной опасности. — Глаза ее полнились слезами.
— Касси… греки ушли. Я сам видел, как их корабли уплывают прочь.
— О, ты тоже, — нетерпеливо сказала она. — Конечно, мое проклятие основательно. — Она отвернулась, раздраженно проведя рукой по волосам.
Пожав плечами, я спросил:
— Но что-то я все-таки могу сделать?
— Сожги большую Лошадь! Немедленно! — Глаза ее были безумны.
— Но… но ведь Лошадь посвящена богине! Конечно, нет! — Я был просто шокирован.
— Тогда я сделаю это сама!
— Ты не сможешь! Толпа разорвет тебя на части! Большая Лошадь означает победу. Мир! — Я просто не мог поверить, что она ведет себя так глупо.
Она посмотрела на меня. Пристально. Напряженно. Потом просто покачала головой, плача, не в силах ничего сказать.
— Касси, — сказал я, протягивая руку.
И она просто шагнула ко мне и уткнулась лицом в шею. Она так всхлипывала, что все слова прерывались.
— У меня в голове все уже произошло. Я не могу ничего изменить. Конечно. Не могу.
Я обнимал ее, пока она не стала поспокойнее. Быть так близко к ней было хорошо. Потом она подошла ко окну, взяла со столика тонкий платок, вытерла лицо и вздохнула.
— Коро, пожалуйста. Давай поговорим. Я так полна страхом. Ты можешь меня отвлечь. Садись.
Я осмотрелся и двинулся к трехногому табурету, который для меня был низковат, но больше сесть было негде, не считая постели. Колени торчали выше локтей. Кассандра сделала то храброе лицо, которое делают женщины, когда дела идут не так, как им хочется. Она уселась на подоконнике.
— Ты помнишь, когда мы встретились впервые? — спросила она притворно веселым голосом.
Я не хотел, чтобы она знала, как в течении лет я все больше и больше думал об этим моменте, мысли росли во мне крепкие, словно корни здорового дерева.
— По-моему, во дворце моего отца, — ответил я обычным голосом.
Кассандра кивнула, сверкнув улыбкой.
— После этого я часто думала о тебе. Но потом… Аполлон…
Я пожал плечами и уставился в собственные колени.
— Тогда я поняла, что мы не можем пожениться. Хотя, как ты думаешь, мы подошли бы друг другу?
— Думаю, да, — ответил я. Голос у меня был не столь сильным, как надо бы. Я чувствовал растущее смущение. Выпитое ранее вино возымело свое действие, я сидел молча, мне становилось жарко, меня развозило. «Почему же мы не можем пожениться?» — удивился я.
— Коро, — сказал она, словно только что что-то придумала.
Я понял на нее глаза.
— Да, Касси?
— Перед тем, как пойти на муки… Перед тем, как мной воспользуются те, кого я не хочу… — Сейчас у нее было по-настоящему странное выражение лица, такая тоска, которой я прежде никогда не видел. — Я хочу знать, как это могло бы быть.
— Что это, Касси? — спросил я. Но я уже знал. Я просто чувствовал.
Она встала, подошла ко мне и мягко положила ладони на мои волосы.
Да.
* * *
— Ты не должен петь о троянцах, — сказал Келевтетис. Он был так раздражен, что говорил почти шепотом. — Герои — это греки. Греки — это мы. Какой язык исходит из наших уст? Как ты можешь петь о варварах?
Гомер хмурился в ночном воздухе.
— Что заставляет тебя думать о них? — не успокаивался учитель.
— Тихо, вы двое! — прошипел в темноте кормчий.
Начиная с полудня на западном побережье Лесбоса судно пряталось от пиратов. Семья Гомера устрашенной группкой располагалась рядом, но он почему-то не боялся. Он только что обрел будущее, и морская лоханка, полная пиратов, не могла сотрясти его уверенности в себе. Келевтетис не выказывал страха по противоположной причине — его будущее в любом случае уже почти улетучилось.
Гомер закрыл глаза, словно погружаясь в сон. После посещения развалин Трои его уже несколько ночей донимали услышанные там голоса.
Вой троянок.
— Я хочу петь не просто о троянцах, а об обеих сторонах. Даже в твоей песне об Ахиллесе, — прошептал Гомер, — ты говоришь, как Ахиллес делит трапезу с Приамом, когда тот приходит заплатить выкуп за тело Гектора.
— Да, — нетерпеливо возразил Келевтетис, — но…
— Троянцы были могучими, отбиваясь от греков десять лет. Это стоящий противник.
— Окей. А ты из смышленой породы, Гомер.
— Мне больше нечем заниматься, кроме как думать.
— Это верно, — сказала где-то рядом в темноте мать пугающе громким голосом.
— Ш-ш-ш! — прошипел кормчий.
Некоторое время они помалкивали. Всюду вокруг чувствовались теплые люди. Гомер слышал поскрипывание досок, вода лизала борта судна, которое удерживалось на месте якорным камнем. Он слышал ветер в кронах деревьев и далекие голоса людей с Лесбоса, доносящиеся через узкую полоску воды. Он слышал мягкое сонное дыхание сестер и братьев, тихое бормотание матросов.
Гомеру несколько мгновений снился сон, хотя он лежал, бодрствуя. Казалось, сон сочится в него прямо с прохладного неба.
— Учитель, — уважительно сказал Гомер, пытаясь смягчить раздражение Келевтетиса. — Я хочу петь о людях, совершающих деяния, а не просто о самих деяниях.
Келевтетис не ответил, словно ожидая продолжения.
— Представь Гектора, — попробовал начать Гомер. — Гектор… — Гомер попробовал поискать пригодный эпитет для величайшего из троянских героев. Надо что-то доблестное. Что-то пригодное на все времена, счастливые или печальные. — Гектор — коней укротитель. Он только что вернулся после сражения, где битва сложилась не в их пользу. Солдаты-троянцы, это же не настоящие солдаты, они находятся дома, они защищают свой родной город. Их жены и дети живут здесь же. Когда они возвращаются с битвы, женщины толпятся вокруг Гектора, ожидая новостей о своих мужьях и сыновьях, но он так жалеет женщин, что говорит им только, чтобы они молились. Потом Гектор идет искать свою жену. Кроткой Андромахи нет дома, она на стенах цитадели над воротами, потому что услышала, что дела пошли плохо. Он спешит назад по улицам, чтобы разыскать ее. Она видит его первой и бежит навстречу с их маленьким ребенком в руках. Гектор улыбается, когда видит ее, но ей все так надоело, что она его бранит: «Зачем тебе надо ходить в бой самому? Ты хочешь оставить меня вдовой, а собственного сына сиротой? Ты, вообще, любишь ли нас?» Гектор отвечает, что сражаться это его долг, особенно когда он представит, что она может закончить свою жизнь в рабстве. И если ему суждено умереть, сражаясь, чтобы это предотвратить, то он умрет сражаясь. «Люди будут показывать на тебя, как на жену Гектора, храбрейшего в битве за Трою. «Он до самой смерти защищал свою жену от рабства», — будут говорить они». Когда Гектор говорит ей все это, она понимает, что ей надо это принять. И она улыбается сквозь слезы. А Гектор, коней укротитель, берет у нее маленького Астианакса, чтобы сжать его в объятиях. Но маленький сын пугается, потому что на Гекторе его ужасный боевой шлем. Он роняет игрушечную лошадку на колесиках и громко кричит от страха. Гектор смеется. Он поднимает ребенка на руках и говори: «Однажды люди скажут, что он еще храбрее и сильнее, чем был его отец!» Потом Гектор говорит Андромахе, чтобы она возвращалась к своему ткацкому станку и к своим обязанностям, чтобы работала усердно и предоставляла воевать мужам, ибо это их долг…
Гомер остановился.
В нескольких шагах от него всхлипывал мужчина.
О-о! Он и забыл, что на борту тот молодой воин с берега. Смущенный, он ждал, что его выбранят за наглость.
И кормчий забыл его остановить.
Плачущий мужчина сказал:
— Никогда я не слышал более правдивой истории, паренек, — и по матросам прошло согласное бормотание.
Гомер улыбнулся в темноте.
Наступила долгая пауза.
— Ну? — сказал кормчий.
Гомер удивился: чего теперь-то он хочет?
— Ну, парень? — снова повторил кормчий.
— Вы мне, сэр?
— Да. Что было дальше?
* * *
Я чувствовал себя, словно в постели богини. Думаю, даже если б сам царь Приам вошел в комнату, я не смог бы пошевелиться, столь полно я был удовлетворен. Кассандра медленно водила пальцами по моей руке, положив мне голову на грудь, лицо ее в слабом свете масляного ночника было задумчиво.
Потом я снова услышал этот звук, что мы с Лео слышали на стене. Раскопки. Множество лопат, врезающихся в землю. Он заполнил всю комнату.
Я сел.
— Касси, ты слышишь? — Сильно забилось сердце.
— Да, — ответила она. — Иногда я слышу даже их голоса. — Она показала на потолок возле дверного проема. — Теперь они роют здесь. У центральных ворот они тоже раскапывают.
— Кто?
Она пожала плечами.
— Это больше не имеет значения, Коро. Иди ко мне. Тебе скоро уходить. Подержи меня, прежде чем ты уйдешь.
Мне стало холодно. Я снова прилег рядом с ней и поцеловал; она была вкусна, как свежая олива, и нежна, как лепесток.
— Я хочу прийти завтра ночью, — прошептал я. — И каждую ночь до конца моей жизни.
Дрожь боли прошла по ее лицу. Она тронула мой подбородок.
— Окей, — сказала она. — Я тоже этого хочу.
Но я видел страх в ее глазах.
И впервые до меня дошло. У нее настоящее предвидение, скорее всего от бога. Такова месть Аполлона за то, что она не пожелала его. Даже воздух, что я делил с ней, был пропитан страхом неминуемой катастрофы. Я ощущал его в крови, словно свинцовый яд.
— А будет ли завтрашний день? — спросил я.
Она разжала губы…
Я приложил к ним палец. Я не желал ответа. Она поцеловала кончики моих пальцев. Мгновение мы глубоко заглянули друг в друга. Над нами вывернули еще лопату земли. У меня волосы встали дыбом.
— Теперь нам пора идти, — сказала она. — Скоро мы снова увидимся, Коро.
Мы молча оделись. Я чувствовал тошноту и дрожал от холода. «Почему мне надо уходить?» — удивлялся я. Как и с другими вопросами, я не был уверен, что хочу знать ответ — достаточно слова Кассандры, что мне надо идти. Мы двинулись к двери одновременно. Подчиняясь импульсу, я снял кольцо, которое дал мне отец, и вжал его в ладонь Кассандры.
Когда она надела кольцо на палец, лицо ее было в полосках слез. Похоже, для гибкой руки кольцо оказалось велико.
— Завтра ночью, — сказал я. — Спокойной ночи, Касси.
Она чуть улыбнулась, коротко прильнула ко мне, потом выпустила меня из двери. Коридоры еще были пусты, звуки пира доносились чуть глуше, чем когда я вошел.
Я побежал, чувствуя, что меня преследует Рок, я побежал к большой деревянной Лошади.
* * *
На улицах было потише, чем когда я шел во дворец, люди теперь были почти в изнеможении от питья, еды, смеха и занятий любовью. Лео продолжал спать на полу там, где я его оставил; когда я потряс его, он туманно пробудился и последовал за мной, не включаясь, но и не задавая вопросов. Я все еще чувствовал Кассандру своей кожей, когда мы мчались рысью по узким улицам к воротам, где стояла Лошадь с головой, торчащей над крышами. Черное небо и звезды говорили, что еще продолжается ночь, что еще далеко до утра. Лео и я уселись в укромном уголке под навесом в стене у Скаенских ворот, где мы соорудили хлипкую баррикаду после того, как сняли ворота, чтобы затащить Лошадь.
Лео был более пьяный и более сонный, чем я. Я даже не успел намекнуть, на что настроился, как его голова свесилась набок и он захрапел, поэтому я дохлебал остаток не слишком-то разбавленного вина из меха, что он захватил с собой, отчего меня совершенно развезло. Мне казалось, что я абсолютно бодр, но даже когда глаза мои оставались широко открытыми, кто-то наступил мне на лицо, раздавив нос, впечатав губы в зубы и чуть не сломав челюсть.
Но здесь никого не было.
Должно быть, мне снился сон, но ощущал я себя хоть и пьяным, но не спящим.
Потом во сне произошел странный, неожиданный поворот.
Несколько наших солдат (и несколько их подружек) выбрали место для сна меж копыт Лошади. Никто из них, вроде, не шевелился, но я услышал шелестящий, скребущий звук.
Потом в брюхе Лошади открылся люк.
Оттуда раздался голос, тот голос, которым всем нам, принимавшим участие в битвах на равнине, был хорошо знаком, он принадлежал хитроумному Одиссею.
— Эхион, ради бога, спускайся по веревке, идиот! — прошипел человек с Итаки.
Из люка выпала темная человеческая фигура, держащая под мышкой щит. В предрассветном мраке на мгновение сверкнуло белое испуганное лицо. Он упал вниз головой и остался лежать на земле, очевидно, сломав себе шею.
Потом во сне другие греки стали скользить вниз по веревке с мечами и щитами наготове, врубаясь в наших солдат, который едва начали просыпаться. Одиссей с рыжими волосами, торчащими из-под шлема. Потом Аякс Малый[1] и Менелай. Пронзительно вопя, стали разбегаться женщины, все в крови мужчин, которых только что крепко обнимали.
В нашем укромном уголке никто не замечал ни меня, ни Лео. Но ведь это же сон, не так ли?
Вывалился еще один из греков. Неоптолем. Я еще ни разу не видел его так близко, но, минус благородство, он был вылитой копией своего отца Ахиллеса.
У него были глаза безумца.
Звуки воплей и боя стали подниматься вверх по дороге на холм, где греки уже кишели. Я почуял запах свежего дыма. Несколько греков из брюха Лошади начали растаскивать баррикаду у ворот. Открылась широкая дыра, греки рысью вбегали в нее, словно табун понесших скакунов.
Какой глупый сон. Я попытался проснуться.
Между сном и явью разницы не оказалось.
Это была реальность.
Я встал и пнул Лео ногой, чтобы он просыпался. Наши шлемы и оружие мы вчера оставили на стенах, пока ломали ворота. Безоружный, я не знал, что делать. Солдаты, вываливающиеся из брюха Лошади, все еще ковыляли неловко, словно от скрюченного положения внутри затекли их ноги. Если б у меня было подходящее оружие, хорошее время их завалить.
В соседнем дверном проеме мы с Лео увидели толстуху-жену бронзовых дел мастера в одной рубашке. Губы ее дергались, глаза широко открыты. Мы ринулись внутрь мимо нее и поискали оружие мужа — мне вспомнилось, что бронзовщика несколько недель назад мы потеряли в бою. Лео отыскал шлем и невзрачный меч. Из угла кухни жена вынесла мне иллирийский жавелин[2] (ужасно тяжелый) и щит (слишком легкий).
Казалось, снаружи раздаются голоса тысяч греков, толпой вбегающих в ворота мимо нашей двери и разливающихся по городу.
В дверном проеме вдовы Лео убил вторгнувшегося грека. Она что-то забормотала невнятно; выскочив наружу, мы услышали, как она заложила засов поперек двери.
Я помчался к Лошади, где орал и размахивал мечом Неоптолем.
Я был напуган. Но ведь это сражение, а я солдат, поэтому я побежал к нему, пытаясь думать о славе победы над сыном Ахиллеса. У Неоптолема сила оказалась бычья, и он просто сшиб меня на землю. Потом бросил на меня сверху короткий взгляд, увидел вшивый щит бронзовщика и зашагал прочь.
— Приам! — орал он. — Я иду за тобой!
Я стряхнул с себя пыль.
— Сноб, — пробормотал я ему в спину. Но с таким снаряжением не хотелось открывать ему свое царское происхождение.
Если он ищет царя Приама, ему надо пройти долгий путь. Я никоим образом не желал допустить, чтобы этот бешеный пес напал на царя; наверное, именно это имела в виду Кассандра. Лео куда-то исчез, и я остался единственным живым троянцем на виду. Из люка в брюхе Лошади появилась еще пара ног, как раз в тот момент, когда я пронырнул по трупам возле копыт и побежал по аллеям вверх ко дворцу.
Сделав кувырок, праздник продолжался с привкусом кошмара. Я слышал звуки ударов мечей о щиты, стало быть, хоть кто-то уже начал отбиваться. Куда ни глянь, по узким дорожкам бежали греки, греки выбирались из окон, вылезали из погребов.
Я миновал дом, где один из наших солдат (сын торговца оливковым маслом, я бился бок о бок с ним всего несколько дней назад) свешивался из окна с перерезанным горлом, кровь потоками стекала по стене. Я услышал, как внутри женщина стонет от гнева и унижения, а греческий солдат повизгивает от удовольствия.
Пронзительный крик. Греческий солдат пытается вырвать ребенка из рук молодой женщины. Она отбивается свободной рукой. Двумя домами ниже из окна со вздохом вырывается большой клуб пламени, освещая дорогу. Грек отвлекся зрелищем, и я вонзил жавелин ему в ухо, повернул дважды, вырвал и продолжал путь. Я услышал сладкий звук падения грека на камни мостовой и шлепанье сандалий убегающей женщины.
Я нырял через улицы, перебирался через низкие стены, всюду видя тела своих товарищей-солдат, безоружных и неподготовленных. Везде плакали женщины, кричали мужчины, горели дома. Неторопливо прошли два греческих солдата, делясь ломтем захваченного хлеба. Когда необходимо, я прятался, сохраняя себя для обороны дворца, в нетерпении, что так много времени у меня заняло, чтобы добраться до него.
Маленький человечек и громадная, странная фигура спешила вниз по одной из тропинок за домами. Я инстинктом понял, что они не греки. Мы разминулись, узнав друг друга в бледном свете наступающего дня.
Это Эней в капюшоне нес на спине своего отца, а рядом его сын Асциней. Он ничего мне не сказал, лишь бросил виноватый взгляд. Он бежит, спасая семью для лучшей участи, чем оборона Трои.
Пусть нам помогает Зевс.
Я повернул за угол и попал в тучу летящих стрел. Я отпрыгнул назад. Не знаю, были это наши стрелы или чужие, не хотелось быть убитым ни одной из сторон.
Когда я достиг дворца, то в воротах увидел Андромаху, жену Гектора. Она так крепко вцепилась в маленького Астианакса, что он вырывался, но смотрела она вниз по дороге. Увидев меня, она рванулась ко мне и сказала:
— Принц Короэбус, царь ушел в храм Зевса, но посмотри — жадные до крови греки волокут его обратно!
— Где Кассандра? — спросил я.
— В храме, — ответила она. И снова показала вдаль: — Помогите царю! — приказала она.
Неоптолем тащил Приама за бороду, тыча мечом в ребра. Я слышал, как стонет и плачет старый царь.
— Мне надо было позволить твоему отцу убить меня, когда я ходил просить тело сына! Он был благороден душой, твой отец! А ты — свинья!
— Заткнись и не болтай о моем отце! — заорал Неоптолем.
Я набежал на него, воздев свой жавелин, но он так развернул Приама, что я не видел, как мне рубануть его.
— Ты хуже, чем свинья! — , закричал Приам. И взвыл, когда его рванули за бороду. Я теперь только увидел, что у Приама отрублена рука и брызжет всюду кровью.
— Снова ты! — засмеялся Неоптолем, увидев меня. — Ты даже не снарядился к бою, — презрительно сказал он.
— Ты хочешь взамен бороться со стариком? — спросил я.
— Царь — всегда добыча.
— Я сын царя Фригии, — ответил я. — Бейся со мной!
— Возьми мой шлем, — сказал мне Приам. — Я побежден. Теперь мне остается только умереть.
Но я никак не мог подобраться близко.
Они двое боролись, исполняя что-то вроде танца. Думаю, сын Ахиллеса не ожидал, что старый царь окажется так силен. Я изготовил свой жавелин, но никак не мог найти момент. Потом Приам увидел свою невестку в дворцовых воротах.
— Андромаха, беги! — прокричал он царский приказ.
— Андромаха? Жена Гектора? — Я увидел специфический блеск в глазах Неоптолема. Похоть. Но оказалось, это глубоко извращенная похоть. Ему наскучила возня с Приамом, поэтому он ткнул ему мечем в ребра и свалил его, потом вырвал дымящийся кровью меч. Неоптолем был аккуратен — Приам не издал ни звука.
Горе просто пронзило меня — он был добрым и благородным царем, гостем и другом моего отца. Глядя в его глаза, уже безжизненные и стекленеющие, я снял с него шлем, надел на голову и взял его меч.
— Теперь бейся со мной, — воззвал я.
Но Неоптолем косолапо направлялся к Андромахе. На мгновение мне показалось, что приятель слишком труслив, чтобы драться, но я быстро понял, что не имел ни малейшего представления о степени его безумия. Он вырвал у нее маленького Астианакса, схватил ребенка за лодыжку и начал раскручивать над головой. Какой-то страшный миг казалось, что он с ним играет, как дядя или отец играет с крошечным сыном, кружа его над собой, улыбаясь, даже посмеиваясь.
Потом он его отпустил.
Астианакс молчал, перелетая через стену и падая вниз на камни.
На секунду, глядя на этого монстра, я был ошеломлен. Потом я заново обрел чувства и бросился в атаку. Уже в нескольких шагах друг от друга мы воздели мечи, и его меч был более кровавый.
Потом между нами оказался поток обезумевших дворцовых псов, словно разлившаяся река, затопляющая берега. Они рычали, щелкали зубами и лаяли, набрасываясь на тело Приама и раздирая мертвого царя зубами. Даже Неоптолем содрогнулся.
Тогда я окончательно понял, что боги против нас.
С холодным отчаяньем я вдруг вспомнил слова Касси, сказанные прошлой ночью на стене. Защитить ее, когда разверзнется брюхо зверя.
Я повернулся и побежал.
* * *
Я не смог спасти твоего отца, Касси, мысленно повторял я снова и снова, пока бежал к храму.
Всюду пламя. Люди, вопящие на двенадцати языках. Я видел, как один из наших ребят швырнул вниз на грека булыжник для мостовой, почти раскроив его доспехи. Булыжник подпрыгнул, а грек остался лежать. Потом греческая стрела нашла троянца и он упал навзничь. Я видел группку теней, некоторые лишь по колено ростом, которых вел куда-то успокаивающий голос: «Сюда, сюда, не надо бежать. Не пугайтесь.»
Конечно, нет нужды паниковать. Мир битком забит убийцами-греками.
Столкнувшись с греком, которого я помнил по прежним битвам, я был слишком зол, чтобы что-то делать, поэтому я просто зарубил его и продолжал путь. Плечо закровило от раны, что нанес мне этот грек. Вокруг становилось все кошмарнее. Женщины теперь были наги, содержимое домов выплескивалось на улицы и аллеи. По меньшей мере половина наших зданий были в огне. Я увидел Одиссея, озирающегося на коньке крыши, словно в поисках еще нетронутого уголка города, безошибочно узнаваемого по своей имбирной бороде и рыжим волосам, широкоплечего, низкорослого и жилистого.
Я не смог спасти твоего отца, Касси.
Я бегу.
О, боги, почему вы бросили нас?
Ярость зарычала моим горлом, и я замахнулся своим мечом на конек крыши, где сидел хитроумный Одиссей.
Когда я подбежал достаточно близко, чтобы видеть храм Афины, то увидел борьбу человека с богиней. Это Аякс Малый, локриец, малорослый, но сильный воин, которого я знал по битвам, странно дергал статую Афины. От пояса вниз он был голый, хотя еще носил грудной панцирь и налокотники. Щит его свисал с плеча, меч был заткнут сзади за кожаный пояс — он явно не собирался больше драться.
Потом я понял, что посередине находится Кассандра. Платье ее сорвано с плеч и висит на поясе. Она цеплялась за богиню, как испуганный ребенок цепляется за собственную мать:
— Великая богиня, помоги мне! Пожалуйста! Я не хочу уезжать! Пусть кровь Агамемнона прольется без меня!
— Оставь ее! — закричал я, но был еще слишком далеко.
Аякс Малый сделал такой толчок, что статуя рассыпалась в руках Кассандры, и оба они кувыркнулись на землю. Она цеплялась за голову богини, оставшуюся у нее в руках. В тот самый миг, когда Кассандра увидела меня, идущего на помощь, Аякс Малый навалился на нее и жестоко укусил за грудь. Даже на расстоянии я слышал его довольное рычание.
Я бежал, воздев меч.
Потом в его ногу вонзилась стрела. Он полупривстал и оглянулся через плечо. Другая стрела с глухим стуком ударила в шею. Он обмяк.
Я взглянул в сторону. Это Лео. В руках подобранный где-то парфянский лук со стрелами. Он, шатаясь, пошел ко мне. Я увидел, что он весь изранен. И понял, что и сам весь липкий от крови, бегущей из плеча.
Касси, Лео и я сошлись вместе, обхватив руками друг друга, смеясь и плача одновременно. Маленький праздник победы. Мне хотелось целовать обоих.
— Коро, мы строимся у театра. Передай дальше и встречай меня там, — сказал Лео и зарысил прочь, гримасничая и прихрамывая.
Тогда пошевелился малый Аякс.
— Касси, беги! Найди безопасное место! — сказал я.
Она жестом показала на храм.
— Это святилище богини. Если не сюда, то куда же мне идти?
— Возвращайся во дворец к другим женщинам. Я скоро буду там.
Она посмотрела на меня. Глубоко, как всегда. Но что-то пугающее было в ее глазах.
— Об этом будут петь вечно, Коро.
— Касси…
Она поцеловала меня и пошла прочь, опустив голову.
* * *
Все в огне. Достаточно светло, чтобы увидеть примерно пять мертвых троянцев на каждого мертвого грека. Числа против нас.
На рыночной площади впереди я увидел громадную стычку. Не знаю, с какой стороны наши, и если у нас, вообще, сторона. Я пробежал боковой аллеей, через дворик, потом через стену, сначала перебросив перед собой все свое снаряжение, а потом подобрав его снова, и вышел на главную улицу. Далеко внизу я видел Лошадь, горящую громадным костром.
Я почти задохнулся от бега.
Люди, упорно сражаясь, выстроились на крышах пылающих домов. Они швыряли на головы дерущихся внизу булыжники и черепицы, попадая, наверное, столько же в троянцев, сколько и в греков. Два приятеля выдернули деревянные стропила и обрушили на дорогу целый пролет крыши.
Я увидел несколько критских шлемов, эти парни в большинстве своем воевали на нашей стороне, и они направлялись к театру. Поэтому я последовал за ними.
И когда я перебегал аллею, кто-то вонзил мне меч в ребра.
Такое случалось со мной и прежде, после боя раб полил рану уксусом, перевязал, и меня лечили неделю-другую.
Он вырвал свой меч, отчего заболело еще сильнее. Я повернулся, чтобы взглянуть ему в лицо. Меч и шлем Приама вдруг стали очень тяжелыми, чуть не подкашивая меня.
Это Неоптолем. Он ухмылялся.
— Юный наемный паяц, — съязвил он.
Я с ненавистью рубанул его мечом.
— Убивать детей и стариков? — спросил я. — Ты готов теперь к настоящему бою?
Я услышал какой-то треск и грохот. Еще одним выпадом я взрезал его руку. Но он смотрел над моим плечом, отступая назад.
Вдруг меня ударило сильнее и тяжелее, чем прежде, бросив на землю, распластав, одна рука оказалась подо мной, погребенным под рухнувшей стеной.
Сын Ахиллеса стоит надо мной, дергая за шлем. Потом он оглядывается, словно кого-то слышит или видит.
— Ты уже никуда не денешься. Я еще вернусь за шлемом.
Я не мог шевельнуться. Не видел, куда он уходит. Я слышал только его голос.
— Выстройте троянцев! — орал он. — Пошлите их ко мне! Неоптолем перебьет их всех!
— Вернись, большой вонючий бык, — сказал я, тяжко пытаясь вытащить себя. Я совершенно не мог пошевелить ногами и лишь чуточку одной рукой.
Я был полностью измучен. Из того, что происходило дальше, я видел лишь немногое. Я видел, как греки убили чертову прорву троянцев, потом следил, как несколько троянцев затратили, казалось, ужасно много времени, чтобы вонзить в грека достаточно мечей и копий, чтобы наконец убить его. Моих призывов никто не слышал.
Потом схватка переместилась куда-то дальше.
Стена стала казаться приятной, мирной баней, но постепенно мне становилось все холоднее и холоднее. Свет пожара растворился в сером дневном свете. Вился дым и летели искры. Иногда я дремал, иногда нет. Ребенок протопал мимо, остановился, посасывая леденец на палочке, посмотрел на меня громадными глазами, потом ушел прочь. Я даже не попробовал заговорить с ним.
Старик наклонился надо мной. Я с трудом сфокусировался на него. К его носу прямо перед глазами проволокой прикреплены кусочки стекла. У него странное выражение лица. Радость? Удивление? Не этого ждешь от человека, нашедшего раненного солдата. Может, он простак?
— Немного воды? — попросил я. И закашлялся, было больно говорить.
Он глядел на меня, согнувшись и не шевелясь. У него странные, тесные одежды, он лысеет. Он хмурится, втыкает палец себе в ухо и бешено трясет головой, потом снова смотрит на меня, все еще с удивлением в глазах.
Потом тянется за моим шлемом.
Я дергаю головой.
— Оставь шлем в покое. — Он с Неоптолемом, нет сомнения. — Этот шлем не твой.
Я почувствовал тепло и какое-то спокойствие. И снова подумал о Касси, когда увидел, как этот человек уносит шлем. Шлем ржавый, побитый и кажется древним.
Проклятые мародеры. Похоже, без них больше не повоюешь…
* * *
Засунув шлем под пиджак, он взобрался на край тропинки, чтобы осмотреться. Рабочие, должно быть, на обеденном перерыве, подумал он, их нигде больше не видно. София все болтает с турецкими чиновниками, но они ушли еще дальше. Нет даже необходимости посылать ей условный сигнал.
Он заторопился к хижине, стараясь идти нормальным шагом, словно выпуклость под пиджаком всего лишь от раздутой ветром одежды. Даже Дерпфельдт где-то в другом месте, хорошо.
В хижине он с благоговением держит шлем в руках, поворачивая его туда-сюда.
После всех долгих лет, после полууспешных находок, после критики, отказов, контрверсий, обвинений. Наконец-то вот это! Наконец-то! Он едва мог дождаться, чтобы объявить о находке миру.
Наверняка, стопроцентно, это должен быть шлем благородного Приама!
* * *
— Мы уж дошли? — спросил Гомер детей. После долгого подъема он слегка задыхался. Мальчишкой было гораздо легче.
— Папа, а здесь дома, — сказала дочь.
— Дома?
— Ага, и в них живут люди, — сказал сын. — Они жгут уголь, стирают белье, здесь собаки. Если б мы прошли немного дальше, то могли бы подниматься по ступенькам, а не карабкаться по пыли.
Дома? Ступеньки? Гомер удивлялся.
— Эй, здесь какая-то старая стена. Идем, немножко там поисследуем.
Гомер устроился на земле, скрестив ноги. Итак, Троя заселяется вновь… Кроме голосов своих детей, он слышал ветер, шелестящий в вязах и оливах, пахнущий миндалем и морским бризом. Солнце греет худую спину.
В последний раз он был здесь как раз перед тем, как его забрал Келевтетис на такое короткое ученичество. С тех пор много лет он все поет об этом холме, черпая вдохновение и у греков, и у троянцев.
И у призрачного воя, что живет на холме.
Он сидит, дожидаясь звуков троянских женщин.
Очень долго он сидит в одиночестве. Потом подходит мужчина, садится рядом и рассказывает о тех, кто живет на холме теперь. Они говорят о древней войне. Дети играют, пока не подбираются холодные сумерки.
Голоса из-под развалин затихли. Война закончилась.
© 2001, Гужов Е., перевод (Eugen_Guzhov@yahoo.com)Примечания
1
В Троянской войне на стороне ахейцев участвовало два Аякса: Аякс Теламонид из Саламина (закололся после похорон Ахилла, задолго до взятия Трои) и Аякс Оилеид из Локриды, прозванный Малым или Меньшим Аяксом (прим. верстальщика).
(обратно)2
Метательное копье, дротик (прим. верстальщика).
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
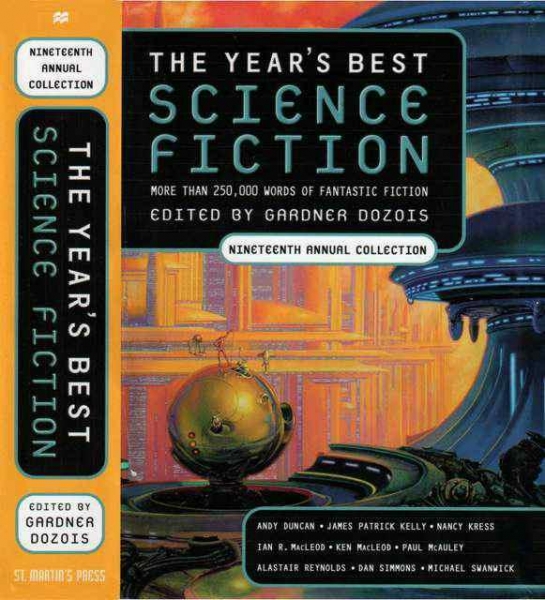

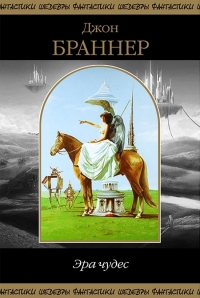
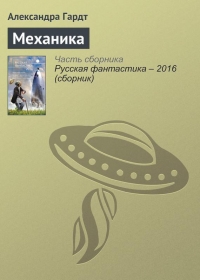
Комментарии к книге «Город Одной Лошади», Ли Кеннеди
Всего 0 комментариев