Александр Казанцев ЛЬДЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ОТ АВТОРА
Фантазия — великая сила. Она способна перенести в иное время, на иные планеты, она же может превратиться в своеобразное увеличительное стекло, показывающее мир, в котором мы живем.
В фантастическом романе, предлагаемом читателю, научные идеи не более достоверны, чем путешествие во времени или оторвавшиеся от Земли материки в известных романах классиков фантастической литературы. Научные идеи романа не претендуют на предвидение, они лишь придают «фантастической оптике» свойства, позволяющие показать с необычной стороны реальный мир, где борются те же социальные силы, что определяют судьбы человечества сегодня. Этот реальный мир и стремился автор отразить в фантастическом зеркале действительности, мир, в котором, несмотря ни на какие испытания, восторжествует разум.
Александр КазанцевПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!
Вместо предисловия
Я понимаю, что мне, рядовому физику, не под силу будет нарисовать грандиозную картину нового ледникового периода и мировых потрясений, участницей которых я стала совсем не по праву, если не считать близости к тем, кто действительно влиял на ход событий.
Ученый, каким я так стремилась стать, может и не обладать даром художника. Поэтому, не доверяя своим способностям, я пользовалась каждым удобным случаем, чтобы вести повествование от первого лица, пользуясь письмами, дневниками и записями главных действующих лиц. Лишь в тех случаях, когда мне приходилось силой собственного воображения восстанавливать события и обстановку, в которой они происходили, я решалась вести повествование от третьего лица, от автора, охотно уступая место даже самой себе, какой я была когда-то, неуверенно ведя наивные записи в голубой тетради, хранившейся под подушкой.
Заранее прошу читателей простить за то, что повествования от автора и включенные в него дневники и письма не всегда расположены в хронологическом порядке. Я не старалась запутать повествование, а хотела лишь отразить закономерность событий в эти дни холодной войны, захватившей даже Солнце…
И пусть для тех, кто будет читать эти строки, никогда не будет войн ни горячих, ни холодных, и пусть для них ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!..
ЧАСТЬ 1. СНОВА ХОЛОД
Глава первая МЕДНОЕ СОЛНЦЕ
Солнце!
Медное, приплюснутое сверху, неяркое, оно грузно садилось за белый окоем. Бесконечные, покрытые платиновым снегом льды были гладкими и мертвыми, даже без торосов, этих следов движения и борьбы. Казалось, вся Земля уже скована ледяным панцирем, и на горизонте умирает бессильное, остывшее Солнце.
Но кому в голову могла тогда прийти такая мысль?
Нет, во всяком случае не Шаховской!..
Она стояла на носу корабля, крепко вцепившись в поручни, и, пожалуй, даже с вызовом смотрела эту эту картину, словно вырванную из белых тысячелетий. Она невольно подумала о тех далеких временах, когда ледники властвовали над Землей и когда потускнело, став медным, как в этот Полярный вечер, светило.
В легкой оленьей куртке, с непокрытой головой, словно оттянутой назад тяжелым узлом волос, она стояла, гордо подняв подбородок и глядя прямо перед собой.
Ей нужно было бы подумать, куда она идет, на что решилась, обернуться… Но она, если и смотрела назад, то на тысячелетия, воображая себя молодой женщиной первобытного племени, стоящей перед холодной стеной льда, неотвратимой и безжалостной. От этой стены бежало все живое, даже мохнатые исполины, на которых охотилась женщина вместе со всем племенем, бежало, падая и погибая под слоем снега, который потом превращался в лед. А вслед за ними, хмуро оглядываясь, уходили с родных мест и люди в жестких невыделанных шкурах, бородатые, сутулые, среди которых прекрасными были только женщины, — бежали, чтобы спастись, выжить…
И они все-таки выжили тогда, пещерные люди в шкурах, выжили, греясь у костров.
А ныне? Ныне дерзкие их потомки восстали против этих сил, дерзнули помериться силами с Природой в Арктике: построили из льда тысячекилометровую плотину, отгородили ею от Ледовитого океана узкую полоску воды, подогретую атомными реакциями установки, названной «Подводным солнцем». Водород воды в ней превращался в гелий, освобождая огромную энергию, которой едва хватало, чтобы не дать замерзнуть струе Гольфстрима. И ликующий человек стал плавать на кораблях вдоль северных берегов круглый год, построил там заводы, считая, что ему удалось изменить климат, отодвинуть льды на целых сто километров.
Но Природа затаилась, когда торжествовал над ней человек, и нежданно нанесла удар. Неведомо как заглушила она термоядерные реакции «Подводного солнца», и никакие физики не способны были до сих пор зажечь его вновь. Замерзла созданная человеком полынья. Природа словно предупреждала человека, чтобы ждал он, подобно диким своим предкам, еще больших бед.
Эти странные мысли владели Еленой Шаховской, когда она задумывалась о своем будущем, в которое она ринулась очертя голову, не оглядываясь назад. Она вступила в новую жизнь, посвятив себя подвигу, которого она желала и которого страшилась. Ей предстояла встреча с виднейшими физиками страны, приехавшими в Проливы, чтобы противопоставить капризам Природы силу человеческого знания. Но не величие авторитетов пугало сейчас Шаховскую, начинающего физика, которая еще в Томске добилась, чтобы ее направили сюда, в Проливы, в самое трудное место, не сложность научной проблемы, решавшейся там, волновали ее… Неизмеримой была тяжесть той роли, которую она добровольно приняла на себя и объяснить которую не смог бы, кроме нее, ни один человек на свете…
Она знала, что должна сейчас собрать всю силу своего духа, чтобы оказаться достойной своей великой цели — сковать себя ледяным панцирем, подобно такому, какой был сейчас перед ее глазами.
Силуэт молодой женщины на фоне угасающей зари был виден с капитанского мостика ледокола. Всякий раз, когда капитан корабля Федор Иванович Терехов смотрел на Шаховскую, он испытывал какое-то легкое щемящее беспокойство, хотя, конечно, меньше всего мог угадать в ней человека, которому придется сыграть значительную роль в последующих событиях.
Он привычно вел во льдах ледокол-гидромонитор, как водил десятилетия назад по этим же местам. Тревога для него была обычным состоянием. Но ее тоже нельзя было угадать по его обветренному лицу с жесткими седыми усами, которое казалось бы суровым, если бы не добродушная ямка на подбородке да серо-голубые глаза, смотревшие прямо и доверчиво.
Он был одним из строителей Мола Северного, больше других на корабле озабоченный погасшим «Подводным солнцем». Чутье подсказывало ему, что вслед за первым бунтом Природы можно ждать и новых. Но даже он, всегда готовый ко всему, старающийся все учесть, озабоченный и зоркий, не мог предвидеть того, что произошло в следующую минуту.
Ледокол медленно наползал на лед, проламывавшийся под его тяжестью. Молодой лед не был толстым, не было нужды пускать водяные струи гидромониторов, способные резать даже паковые льды. Рейс не обещал быть трудным, но…
Капитан увидел, как в полукилометре от корабля ледяное поле постепенно начало вздуваться, словно гигантский шар всплывал под ним со дна. Это было так неожиданно, так непонятно, беззвучно и грозно, что Терехов вцепился в руку машинного телеграфа:
— Стоп машина! Назад… самый полный!..
Ледокол задрожал.
А ледяное поле продолжало выпучиваться, пока наконец вдруг не лопнуло, покрывшись змеистыми щелями, из которых с шипеньем вырвался, заклубился над снегом пар.
Лицо Терехова побледнело, покрылось потом. Он с силой нажимал на ручку машинного телеграфа, словно мог этим ускорить отступление содрогавшегося от напряжения судна.
Ледяное поле разломилось, из него вырвалась гора воды, а из нее — пар, а потом вишневый столб огня. Он достал до самого неба и там расплылся черной тучей.
Ледокол пятился, налезая кормой на льдины.
Что-то посыпалось сверху, загрохотало, запрыгало по палубе. Лед дробился на кусочки, холодные и острые. Почему-то вдруг стали дымиться доски. Не только лед, а раскаленные камни падали с неба.
Что это? Нет! Это не атомный взрыв, которым должны были, как предупреждали о том капитана, зажечь «Подводное солнце»!..
— Вулкан!.. Подводный вулкан, — подумал вслух Терехов.
Палуба задымилась в нескольких местах. Уже горели палубные надстройки и капитанский мостик. Словно сотни зажигательных бомб прошили тело корабля одновременно…
Прикрывая рукой обожженное лицо, капитан стал спускаться с мостика. Холодная струя воды, направленная из брандспойта, чуть не сбила его с ног, но помогла сойти по охваченному огнем трапу.
По палубе метались растерянные люди. Сверху летели искры, головешки и горячие камни, от которых корабль загорался все в новых местах.
Пожарные струи били вверх, вниз, наперекрест, а пламя шипело, клубилось и вспыхивало еще неистовее.
Перед капитаном появился долговязый старпом:
— Федор Иванович! Течь в трюмах… в десятках мест… Пробило корпус… камнями… Идем ко дну, Федор Иванович.
— Спокойно, — сказал капитан. — Спускать плавсредства! Всем стать, кто куда приписан.
— А ну! — проревел в мегафон старпом. — Спускать плавсредства! Всем стать, кто куда приписан! А ну! Спокойно! Женщин — вперед!
Капитанская рубка и салон под ней пылали. Огонь разделил корабль на две части.
На носу одиноко стояла Шаховская, нахмуренная, напряженная. Она еще не осознала, что произошло. Она видела огненный столб впереди и огненную стену позади. На палубу падали малиновые камни, и доски начинали дымиться. Она посмотрела за борт. Вода клокотала.
Шаховская с отчаянием подумала о всем том, что не успела сделать… Она сжала зубы, зажмурилась. Открыла глаза. Ничего не изменилось, только дым окутал ее плотнее и палуба вдруг стала покатой.
Шаховская ухватилась за поручни. Неужели гибель?
Она не кричала, не металась по палубе, лишь чуть брезгливо отодвинулась от слишком близко упавшего раскаленного камня, прошедшего сквозь палубную доску, как сквозь папиросную бумагу. Усмехнулась. Думала о ледяном панцире, а кругом огонь… и за бортом кипяток.
Да, она боялась, до спазм в горле боялась, но она еще выше вскинула голову, подняла подбородок. Она умела владеть собой, даже когда вокруг никого не было…
Из-за дыма Шаховская не заметила спускающихся шлюпок и катеров. Она решила, что о ней забыли. И почти с негодованием подумала об одном человеке, который был на корабле.
Этот человек сейчас тоже думал о ней.
Он бежал от кормы, заглядывая в лица всем встречным.
— Шаховская!.. Кто видел Шаховскую? — хрипло спрашивал он.
На него смотрели, на огромного, тяжеловатого, по быстрого в движениях, с растрепавшимися русыми волосами, с яростными, почти бешеными глазами, смотрели и отрицательно качали головами.
Со шлюпок сдирали брезенты. Скрипели блоки.
У моряков были закопченные, перекошенные от напряжения лица.
Капитан снял фуражку и грустно рассматривал ее прогоревшее дно. Вдруг он увидел человека в меховой куртке с неистовым вопрошающим взглядом. Это был Сергей Буров, молодой физик.
— Она там, — указал капитан на нос корабля. — Куда? Назад! — крикнул он, видя, что Сергей бросается на стену огня.
Опаленный, тот отскочил и сбросил куртку.
Капитан выхватил у матроса в брезентовой робе брандспойт и направил струю воды на куртку, которую держал перед ним Буров. Вода надула ее рвущимся пузырем.
— С головой накройся! — напутствовал капитан.
Буров, закутавшись в мокрую куртку, исчез в огненном вихре.
Корабль уже сильно накренился. Шлюпки плюхались на волны. Из-за поспешности матросов катер сорвался с блоков, лег на бок и затонул.
Люди в пробковых поясах толпились у наклонившихся к воде реллингов. Никто не решался прыгать в клокочущую пучину.
Шаховская, как и все, смотрела на этот кипяток, не в силах заставить себя прыгать в него. Она отвернулась и увидела, как из огненной стены выскочил кто-то, скрытый с головой в дымящемся балахоне.
Бросив на палубу горящую куртку, он предстал перед нею.
— Прыгать!.. За борт! — крикнул он, хватая ее за руку.
— Оставьте, Буров! Вы с ума сошли! — отстранилась она.
— Да что вы?!.. В такую минуту вспоминать! За борт… со мной!.
Она смотрела на него. Все-таки он пришел. Но мог-бы не прийти…
— Там кипяток, — сказала Шаховская.
Он не стал убеждать ее, доказывать… Он просто кинулся на нее, сжал ей руки и поднял над головой.
Она извивалась, отталкивала его, непроизвольно защищаясь, но полетела за борт. Больно ударившись о воду боком, захлебнулась, потом вынырнула… Ей казалось, что дух захватило у нее. Кипяток! Но ощущение это было вызвано холодом. Ледяная вода клокотала, потому что со дна вырывались пузырьки газов. Пахло серой, разъедало глаза.
Буров плыл рядом. Он подхватил ее под руку, даже приподнимал ее над водой.
Она посмотрела на него теперь уже с благодарностью.
— Хорошо, что вы не успели меня ударить, — буркнул он, отплевывая воду, и потащил ее дальше от судна.
Накренившийся бортом к самой воде ледокол изрыгал тучи стелющегося по воде дыма.
Вода была очень холодна. Она действительно обжигала, как кипяток. Спасение теперь было в том, чтобы плыть, плыть…
Шаховская увидела близкую льдину, подплыла к ней и ухватилась за скользкий край.
Буров нагнал ее и ударил по руке.
— Вы с ума сошли! — со слезами в голосе крикнула она.
— Не держаться… Отплывать! Скоро и здесь вода станет нагреваться…
Она отпустила льдину. Ей уже показалось, что вода начинает жечь. Она легла на спину и отчаянно заработала ногами. Когда-то она победила в заплыве на спине. Победит ли сейчас?…
Она видела упершийся в небо вишневый столб с клубящейся черной тучей вверху, подсвеченной снизу красным.
Совсем близко в воду падали камни, с шипением исчезая в глубине. Словно кто-то обстреливал беглецов.
Ледокол-гидромонитор, гордость арктического флота, погибал.
Шаховская ощутила рядом тяжелое дыхание Бурова. Он плыл на боку, одной рукой держа ее.
— Пустите, — сказала она без прежней злости.
— Дальше! — настаивал он.
И они плыли.
Небо горело. Вода стала медно-коричневой. Белыми пятнами пестрели на ней куски разбитых льдин. Вдали взмахивали светлыми веслами шлюпки.
— Надо же!.. Вулкан на дне океана, — сказал Буров.
Шаховская еще яростнее заработала ногами.
Вулкан? Здесь, в Арктике? И ледокол оказался в районе извержения!.. Все могло закончиться, не начавшись…
А может быть, и не начнется еще?…
Все-таки он пришел… Что же он за человек, плывущий рядом? Сильная у него рука. Конечно, вода чуть нагрелась, иначе, сведенные судорогами, они уже пошли бы ко дну… Почему же он не плывет с ней к шлюпкам? Хочет раньше добраться до ледяного поля? Только бы судорога не стянула ногу… Нет! Не думать об этом, не думать!..
Какие страшные раскаты грома передаются по воде! И гул… наверное, с самого дна… Вода здесь не слишком соленая… Спасся ли капитан? Камни прыгали по палубе, как теннисные мячи… Как он смог пройти сквозь огненную стену?…
Глава вторая ШАХОВСКАЯ
Сергей Андреевич Буров впервые увидел Лену Шаховскую несколько дней назад, когда она, стоя на носу корабля, смотрела на ледяной мол, будто ножом обрезавший торосистые ледяные поля.
В этом месте прибрежная полынья, отгороженная молом от Ледовитого океана, еще не успела замерзнуть. Ледяная плотина, вдоль которой шел гидромонитор, казалась чудом. По одну сторону громоздились льды океана, бизоньим стадом напирая на нее при каждом порыве ветра. По другую сторону мола бежали быстрые волны. Они озорно налетали на зеленоватую стекловидную стену, в тучах пены разбиваясь о нее.
Шаховская почувствовала, что кто-то подошел к ней. И не оглядываясь, сказала ему, совсем незнакомому:
— Смотрите. Как два мира. И разделяет их холод…
Ему понравилось это сравнение. Холод действительно возвращался на Землю, разделяя человечество на непримиримые лагеря, возвращался новой волной холодной войны. Как много успело сделать человечество за передышку, когда на Земле восторжествовало разумное начало, предотвратив ядерную войну! Человек овладел энергией, и в первую очередь энергией солнца во всех ее проявлениях и даже энергией атомного ядра. Он сумел подогреть морские течения, изменить климат и лицо Земли, победить пустыни, холодные и жаркие. И по примеру Советской страны другие народы, еще недавно отсталые, начавшие в Азии, Африке и Южной Америке новую жизнь после векового гнета, взялись за подобные же великие сооружения. Появилась совместно созданная африканцами и европейцами Великая Гибралтарская плотина, позволившая опустить уровень Средиземного моря, освободить людям новые просторы плодородия, а главное — запрячь энергию Атлантического океана и с ее помощью оросить Сахару и Ливийскую пустыню… Человечество было на пути к победе над голодом, на пути к расцвету культуры, стремилось сделать знания доступными всем и… снова, как в середине двадцатого века, из-за океана, где все еще в неприкосновенности сохранились законы капитализма, провозглашенные его жрецами незыблемыми, шла новая волна холодной войны, волна угроз и провокаций, чтобы сдержать торжество новых идей, хотя бы ценой развязывания локальных войн, и прежде всего в Африке.
— Как два мира, — повторила Шаховская, — один в хаосе льдов, другой свободный, согретый теплом…
— Это вы хорошо сказали, — ответил Буров, — только не будем продолжать сравнение. Тепло иссякает… Льды возвращаются в отвоеванную от Ледовитого океана полынью. Вы слышали о погасшем «Подводном солнце»?
Она оглянулась, посмотрела на него, огромного, тяжелого — силача со лбом мыслителя. Она заметила, что он любовался ею.
— О погасшем солнце все слышали, — сказала она, — но почему оно погасло, никто не ответит.
— Как знать! — лукаво сощурясь, неожиданно для самого себя сказал Буров и тут же поймал себя на том, что красуется перед ней.
Она заинтересовалась:
— Уж не туда ли вы направляетесь, мужественный незнакомец?
— Вы проницательны.
— Тогда вы по меньшей мере несете туда готовое решение, которое там трепетно ждут беспомощные научные светила.
Он нахмурился, задетый за живое:
— Если бы вы были физиком, я бы объяснил вам.
— Стоит ли опускаться до неуча! — подзадорила она его.
Тогда он посмотрел на нее сверху вниз.
— Наверное, уже все перезабыли, — предположил он.
— Ну, знаете ли!.. Впрочем, это меня интересует только для вашей характеристики.
— Благодарю за интерес. Что ж… могу сознаться. У меня отнюдь не готовое решение. Только гипотеза, которую я мечтаю подтвердить.
— Мечтаете? Вот вы какой! А у вас есть факты, на которых вы основываетесь?
— Мне известно явление. Ядерные реакции в районе «Подводного солнца» вдруг стали невозможными. Я отвечаю — почему.
— Не кажется ли вам, что гипотезы можно выдвигать только в объяснение фактов?
— Старая несня тех, кто отмахивается от нового слова. А разве у Джордано Бруно, дерзко высказавшего мысль об обитаемости иных миров, были факты, подтверждавшие его гипотезу? Но гипотеза эта, за которую он был сожжен инквизицией, заставила в наше время искать факты в ее подтверждение. Нет, нет, мой дорогой оппонент! Гипотезы можно выдвигать не только на основе фактов, но и для того, чтобы искать факты в определенном направлении. Этим и должны заняться ученые в районе «Подводного солнца».
— Так и предоставьте им выдвигать гипотезы на основе найденного. Меня учили, что научные гипотезы вправе выдвигать только ученые.
— Если не ошибаюсь, вы не хотите признать за мной такого права? Считаете, что прежде чем говорить на научную тему, надо предъявить оправку ученого совета о присвоении степени. А как быть с учителем Циолковским, с часовым мастером Мичуриным, с лабораторным служителем Фарадеєм, с инженером Альбертом Эйнштейном, наконец?
— В недурный ряд вы себя ставите!.. По другую вашу сторону я бы еще поставила Добрыню Никитича, Степана Разина и Ермака Тимофеевича… когда он еще не был завоевателем, а только разбойничал.
Буров разозлился:
— Уж если бы я был разбойником, то просто выкинул бы за борт такую княжну, как вы.
— А что вы знаете об этой персианке?
— Скажите мне, что вы любите и что ненавидите, и я скажу кто вы.
— Извольте: «Завеса сброшена, ни новых увлечений, ни тайн задумчивых, ни счастья впереди…»
— Почему Надсон? — удивился Буров. Это, мне кажется, мало на вас походит.
— А вы, конечно, должны стихи писать сами.
— Почему?
— Ну, как Суворов. Вы должны делать что-нибудь совсем вам не соответствующее.
— Например, сочинять сказки…
— Сочините мне сейчас какую-нибудь сказку, и я все скажу про вас.
— Хорошо. Я попробую. Ну, о чем?
— О лесе.
— Хорошо. О лесе. Жил был лес, угрюмый, вечно ворчавший на каждое дуновение ветра.
— Ворчавший лес? Забавно. Дальше, — приказала она.
— Деревья в лесу были изогнутые, узловатые, толстые, всем недовольные… И особенно возмущались они совсем непохожим на них белоснежным деревцем, которое поутру распускало золотистую листву. Толстухам казалось это непристойным: стоять такой белоснежной на обрыве, у всех на виду. И они трясли ветками, наклонялись друг к другу и наушничали.
— И в лес пришел художник, — подсказала она.
— Да. В лес пришел художник, который жил в мире ханжей, как березка в этом лесу. Он захотел нарисовать ее… Он нарисовал ее такой, какой она ему представилась. Он сделал это и ужаснулся. Он знал, что его все осудят, призовут к правителю города, сожгут перед ратушей его полотно. Тогда он закрасил написанное, вставив только одну березку с корой, напоминавшей кожу женщины…
— Так говорил Марко Поло.
— Художник никому не показывал своего творения. Он скоро умер от пьянства, потому что ему хотелось писать не то, что он писал. Вдова, у которой он снимал мансарду, стала за долги распродавать его вещи. И картину с березой купил один бедный студент с душой мечтателя.
— Он должен был поселиться в той же мансарде?
— Да. В той же мансарде. Но там теперь висела только одна эта картина. И большое окно заделали, чтобы не было так холодно, оставили только совсем маленькое слуховое окошечко. И в это окошечко только раз в день во время вечерней зари затладывал луч солнца. Однажды студент, отвлекшись от латыни, которую зубрил, взглянул на березку в тот момент, когда по ней скользнул волшебный луч. Взглянул и ахнул. Каким-то чудом из-под красок проступали другие: белизна березки сливалась в белизну нагого женского тела, золотистая листва стала ниспадающими кудрями, и на студента смотрели зовущие глаза… Он бросился к картине, но видение исчезло. Он перестал ходить в кабачки, не пил больше пива с друзьями, вечерами просиживал он около своего слухового окна, ожидая, когда волшебный луч оживит волшебную девушку… И она появлялась ему на миг, появлялась и исчезала… И была она его тайной до самой глубокой старости, когда стал он прославлен и знаменит. И все он ждал, что сойдет она когда-нибудь к нему с полотна, все ждал…
— Не надо было мне это рассказывать, — сказала она, опустив голову.
— Вы не любите березки?
— Напротив. Я люблю березки и ненавижу асфальтовые шоссе. Презираю рельсы, топоры и пилы. Я бы жила… Как это сказать… Жила бы в вигваме среди тайги, ходила бы молиться в скит, слушала бы, как журчат ручьи, и даже не срывала бы цветов…
— В тайге много мошкары. Не представляю вас в наряде раскольницы. Вы — и вдруг кокошник на голове!..
— Меня зовут Леной. Дедушка любил, когда я надевала русский сарафан. Он называл меня боярышней. Я хотела бы… и я могла бы быть такой, как боярыня Морозова. Но я никогда не видела картины Сурикова.
— Почему же? — удивился Буров.
— В Москве не была, — просто ответила она.
— Значит, так бы и держали вверх два пальца, отправляясь на казнь?
— Да. В розвальнях.
Он задумался:
— А ведь есть другие примеры силы русских женщин.
— Я же сказала, дедушка звал меня боярышней. Ну, теперь мы познакомились. Я знаю, какой вы…
— А я знаю, кто вы. Вы — березка… Надо только суметь в вас заглянуть.
— Попробуйте, — дерзко сказала она, смотря снизу вверх в его лицо.
Видимо, он совсем неправильно понял ее, может быть, хотел наказать за дерзость. Никогда впоследствии он не мог объяснить своего поступка, но схватил ее за плечи, притянул к себе и поцеловал, как ему казалось, в призывно открытые губы.
Она вывернулась и ударила его звонко по лицу, а в следующую секунду он почувствовал нестерпимую боль, согнулся пополам, сдержав стон.
Да, она применила болевой прием, наверное из джиу-джитсу, о котором ему приходилось только слышать… И вот он, слабый, поверженный, ухватился за поручни, почти повис на них, а она, не удостоив его взглядом, прямая, как деревце, пошла прочь.
Буров едва пришел в себя, пристыженный и оскорбленный. Вытирая холодный пот со лба, он поплелся вдоль реллингов, страшась встретиться с кем-нибудь. Тяжело дыша, он все же остановился около иллюминатора кают-компании, осторожно заглянул в него.
Окруженная молодыми людьми, Шаховская шутила там и смеялась, сидя за роялем.
Ему стало до отвращения плохо. И не только от физической боли… Как он мог дойти до этого, так говорить, так поступать с незнакомой женщиной, даже не зная кто она!..
Крадучись, он пробрался в свою одноместную каюту и бросился на койку. Будь у него коньяк, он напился бы до бесчувствия. Но пойти в буфет он не решался…
Что за женщина, черт возьми!.. Ангел, сирена или стерва!.. Сочувствует льдам и раскольникам. Боярышня, а бьет, как в полицейской школе. Но хороша!
Утром Буров не вышел к завтраку. Он разузнал что мог о своей спутнице и ужаснулся. Они оба оказались физиками и ехали в одно место!.. Вот это да!.. А он-то вещал о гипотезах!..
Позавтракав у себя в каюте, он вышел на палубу.
Шаховская вела себя как обычно. Облокотившись на реллинги, любовалась льдами за молом, волнами впереди, веером солнечных лучей, пробивавшихся из-за туч, болтала с пассажирами, но больше стояла одна.
Буров не решался подойти к ней.
На следующее утро, еще при свете звезд она уже стояла на носу корабля, а он тайком наблюдал за ней из-за переборок.
Когда она проходила в кают-компанию, он прятался, как мальчишка.
После обеда она опять стояла на баке.
По мостику расхаживал капитан Терехов. Буров поднялся к нему. Капитан сказал, что в Проливах академик пришлет береговой катер за своими физиками.
Занятый своими мыслями, огорченно вспоминая о вчерашнем, Буров не сразу обратил внимание на грохот и шипение, заметил только странную вспышку зари. И тут понял, что гребные винты закрутились в обратную сторону.
Он оглянулся и невольно отпрянул назад. Ему показалось, что огненный водопад рухнул с неба на море.
И тут по настилу запрыгали горячие камни.
Выскочившие на палубу перепуганные пассажиры кричали, в панике бежали куда-то, сталкивались и поворачивали обратно, ища спасения от огня и камней.
Теперь Буров уже понял, что огненный смерч вырывается со дна моря. Как здесь мог проснуться подводный вулкан? Впрочем, острова-то тут все вулканические…
В следующее мгновение он уже думал об одном: где Шаховская?
Салон капитана, штурманская и рулевая рубка пылали, огненная стена отгородила Бурова от бака… от нее… Огонь не остановил Бурова…
…И вот она плыла рядом с ним, он ощущал ее, поддерживая над водой, помогая плыть.
На медной воде виднелись шлюпки и головы плывущих людей. Кроме Шаховской и Бурова, в воде оказались все, кто рассчитывал спастись на неожиданно затонувшем катере.
Буров первым услышал стук мотора.
— Это катер Овесяна. Держитесь! — сказал он.
Теперь он даже помог Лене взобраться на подвернувшуюся льдину. Она стояла на ней в облипшем на ветру платье и кричала, махая руками.
С катера ее заметили. Он повернул к льдине. На носу его виден был человек в развевающемся брезентовом плаще.
Буров узнал академика.
Лена, сидя на льдине, дрожала. Буров был в отчаянии, не зная, как ее согреть. И вдруг вспомнил.
— Напрягайтесь, напрягайтесь! — закричал он ей. — Представьте себе, что лезете по скалам, поднимаете тяжести, боретесь с кем-то, отбиваетесь…
— Я постараюсь, — стиснув зубы, сказала она.
Буров знал, что волевая гимнастика доступна только волевым людям. Он видел, как Шаховская стала напрягать мышцы, расслабляясь, снова сжимаясь комком. Усилием воли она совершала тяжелую работу, заставляла себя уставать, изнемогая от напряжения. Взгляд ее был сосредоточенным и яростным… Она боролась, она умела и хотела бороться. Такие побеждают!
Подошел катер, стукнулся бортом о льдину.
Лена встала во весь рост и легко перепрыгнула через борт, даже не опершись на протянутые с катера руки.
Буров вдруг сразу ослаб. Ему было стыдно, что его вытаскивали, как утопленника.
Вода стекала с него ручьями, когда он, обмякший весь, полулежал на скамейке. Его мутило. Усилием воли он унял дрожь. Ведь смогла же это сделать Лена…
Потом он стал искать ее глазами. Шаховская сидела, укутанная в бушлат, у ног академика, который продолжал отдавать команды, руководя спасением людей.
Буров, перешагивая через скамейки, перебрался к ней.
Она протянула ему руки. Он хотел пожать их, но Лена вскочила.
Они стояли друг перед другом. Она принялась застегивать пуговицу на его мокрой рубашке.
И не было для Бурова минуты счастливее!
Кто-то похлопал Бурова по плечу. Это был улыбающийся Овесян. Его всегда подвижное лицо было сейчас нетерпеливым, глаза возбужденно горели, седые кудрявые волосы были встрепаны, открывая узкий в залысинах лоб.
— Буров? — спросил академик. — По фотографии узнал. Я на фотографиях на глаза смотрю. У кого есть огоньки, такие годятся. Таких выбираю.
Лена с улыбкой посмотрела на Бурова. Пожалуй, такого можно выбрать…
Матросы вытаскивали из воды людей. Буров стал помогать им.
Катер подошел почти к самой корме ледокола, все еще торчавшей над водой. Видимо, там образовался воздушный мешок и удерживал судно…
Взяв на буксир шлюпки, катер довел их к берегу.
Глава третья ГУБОШЛЕПИК
Люда, хрупкая и решительная, прижав к бедру сумку с красным крестом, стояла на ветру, на высокой скале, закусив свои приметные губы, и смотрела в море, словно могла перенестись туда, ще зловеще что-то сверкало и откуда доносился сотрясающий землю гул.
Порвав чулки и расцарапав коленки, она с трудом забралась на эту вершину, усыпанную белым пухом от множества птиц, гнездившихся здесь летом.
Где-то далеко отсюда, в районе проснувшегося вулкана терпел бедствие ледокол. К нему по разводьям между ледяными полями отправился на катере академик Овесян.
А ее, как она ни просилась, не взяли.
И она ждала, не в силах совладеть с дрожью, готовая отдать жизнь, если это поможет кого-нибудь спасти… Она смотрела туда, где должен быть катер, прижав к себе санитарную сумку. В сумке были бинты и все, что нужно для оказания первой помощи. Но была в ней и общая тетрадка в мягкой обложке…
В ней записала она потом события, которые произошли на берегу.
«…Зачем я завела эту тетрадку? Чтобы вести дневник? Это было бы глупо. Я считаю совершенно бессмысленным делать „скушные и пошлые записи“ о том, что прошел еще один день, лил дождь или светило солнце, или мама строго сказала мне что-то, а я плакала. Или какой-то мальчишка с оттопыренными ушами, носивший пышные волосы, чтобы было незаметно, сказал мне, что я „губошлепик“… а я лотом рассматривала перед зеркалом свои несносные губы и ревела…
Нет! Не для этого завела я тетрадку. В ней может быть записано только самое важное, только самое необыкновенное, что случится в жизни.
И это случилось. Я окончила школу. Я получила аттестат зрелости.
Сколько было волнений, сколько зубрежки ради несчастных пятерок, утешительных четверок и… досадных троек, из-за которых приходилось краснеть перед мамой.
Ну вот! Школа позади, а мир, удивительный и зовущий, — впереди.
Школа была старого типа, не специализированная. Мама по старинке считала, что в детстве нельзя почувствовать склонность к чему-нибудь, хотя именно в детстве это и находят. Она настояла на общеобразовательной школе, окончив которую, „созрев“, можно выбрать все, что хочешь: станок, лес, поле или вуз…
Я „большая“! Я „созрела“! У меня аттестат зрелости, а чувствую я себя „аттестованной незрелостью“ и совсем не знаю чего хочу.
Вчера все мы, одетые в белые платья, — а мальчишки были в серых костюмах и небрежно курили, — все мы по старой традиции собрались на Красной площади.
Я быстро-быстро ходила без подруг, наметив себе на камнях черту, где поворачиваться. Я загадала, что при первом ударе курантов, в полночь, должна все придумать, все решить.
Раньше все казалось просто. Я хотела стать великой актрисой, дирижером, пианисткой… Выйти к освещенной рампе в красивом, длинном до пят платье, ощутить озноб от тысяч устремленных на меня глаз, от которых сладко и жутко на душе. И потом, чтобы все исчезло, едва зазвучат первые аккорды и перенесут в необыкновенный мир и меня и всех в зале, заставят рыдать или смеяться, ощутить счастье… Я хотела дарить людям счастье, но научилась только бренчать на рояле… Потом я мечтала пойти на самое опасное поприще, стать разведчицей в стане врагов… Но иная сейчас сложилась в мире обстановка… И произношение на иностранных языках у меня просто ужасное. А после несчастья, постигшего Францию, всенародного гнева и победы друзей во всех главных странах Европы мне уже хотелось изучать в Париже и Лондоне, в Риме бесценные сокровища культуры, но на беду я понимала произведения только старых мастеров и никак не воспринимала „рыдающих красок“ или „смеющихся линий“, все еще модных на Западе.
Оставалось искать себе применения на самом обычном поприще. Но уж во всяком случае не у мамы под крылышком в ее лаборатории!.. Каждый человек должен быть самостоятельным, пусть даже с аттестатом зрелости в детской сумочке, вроде той, которую мама подарила мне, когда я перешла в седьмой класс, и которую я до сих пор люблю больше всех своих вещей…»
«…Я спорила с папой, когда он прилетел и готовился к новым полетам. Я ему говорила, что стыдно дочери профессора Веселовой-Росовой стать физиком „по наследству“, а он сказал, что Ирэн Жолио-Кюри неплохо продолжала дело своей матери Марии Кюри. Я даже почувствовала неловкость от такого сравнения. Я сказала, что другая дочь Марии Кюри стала киноактрисой. А он сказал, что она была красавицей. Потом папа понял, что я сейчас разревусь, усадил меня перед собой так, чтобы мои коленки упирались в его жесткие колени, взял мои руки в свои, заглянул, как он говорит, в мои миндалинки, и… все стало ясно, все стало не так, как думалось на Красной площади. Нет на свете никого лучше папы!.. Он знал все!
Во всяком случае можно было попробовать. В конце концов в лаборатории тоже производство. И надо выяснить — выйдет из меня физик или нет. А лаборантка — тоже самостоятельный человек.
Мама, как можно было предвидеть, оказалась ужасно дотошной — заставляла все переделывать сотни раз. Разницы между мной и другими не делала. Но я, конечно, из гордости этого не замечала».
«…Я боялась обыденности, скуки, незначительности того, что я делаю.
И вдруг в Проливах на севере что-то случилось, погасло „Подводное солнце“. А ведь эту установку запускали академик Овесян с мамой, когда она была еще его помощницей.
И они оба отправились туда со своими помощниками. Надо было выяснить необыкновенное явление.
И меня взяли вместе со всеми».
…А потом… потом я стояла на скале с санитарной сумкой и ждала возвращения катера, ушедшего спасать людей.
Я, может быть, первая заметила его. Он тащил за собой на буксире целую вереницу шлюпок и лавировал в извилистых разводьях. Люди в шлюпках на поворотах отпихивались веслами от льдин.
Я села на шероховатый камень и скатилась, громко крича, чтобы все бежали встречать катер.
Научные сотрудники, рабочие и инженеры уже толпились у причала. И мама была здесь же…
Катер подошел, расталкивая носом мелкие прибрежные льдины. Академик первым выскочил на причал и стал энергично распоряжаться.
Я раскрыла сумку. Все-таки она пригодилась. Среди спасенных были обожженные. Я их перевязывала. И вдруг увидела на мостках удивительную женщину…
Она стояла, сбросив бушлат, в мокром, обтягивающем ее чудесную фигуру платье и отжимала волосы.
Я ахнула. Она показалась мне Русалкой. Я влюбилась в нее с первого взгляда.
Я едва закончила перевязывать какого-то ворчливого матроса и бросилась к маме. Я стала умолять ее взять Русалку к нам.
Мама подошла к ней и накинула на нее мою шубку. Оказывается, она специально ее захватила для нее.
Мама обняла женщину за плечи и повела к нашему коттеджу.
А я перевязывала руку самому капитану. Я знала, что ему очень больно, но он даже не морщился. Он смотрел в море, где погиб его корабль. И больно было мне.
Это был суровый моряк. Я погладила его руку поверх бинта.
Потом побежала догонять маму и Русалку.
Я запыхалась, не могла выговорить ни слова. Я только взяла ее за руку. У нее были тонкие и холодные пальцы. Она улыбнулась мне.
За нами шли академик Овесян и какой-то очень громоздкий мужчина. Но, к счастью, они повернули в сторону коттеджа, в котором жил академик.
Дома я сразу же наполнила ванну теплой водой. Она улыбнулась мне, опустившись в воду, блаженно сощурилась и сказала:
— Лю, милый, принеси мне, пожалуйста, пока я в ванне, самого крепкого коктейля.
Мне очень понравилось, что она так назвала меня, но я не умела делать коктейли. И мама не умела. Она стала звонить по телефону, чтобы узнать, как его сделать. Честное слово, позвонила куда-то и узнала. А здесь никто не умел.
Наконец я поставила бокал на маленький подносик и понесла его в ванную.
Глупо краснея, я стояла с подносиком в руках и таращила на нее глаза. Будь я скульптором, я бы ваяла ее статуи!.. И украшала бы ими языческие храмы!..
Через час Елена Кирилловна в мамином халате, который сразу стал нарядным и элегантным, сидела в столовой и пила чай с коньяком.
Теперь я уже не сомневалась в своем будущем. Ведь она была физиком! Кем же иным могла я стать?
— Ну, хвалю за отвагу, дорогая, — говорила ей мама. — Не за то, как вы прыгнули с ледокола в воду, а за то, что решились к нам пойти на работу. Тяжело с нами будет, но интересно…
— Как ни в каком другом месте! — сказала Елена Кирилловна.
Я не переставала удивляться ее красивому низкому голосу. Глупые мужчины!.. Чем они заняты сейчас, вместо того чтобы осаждать наш коттедж?
Она попросила у мамы разрешения закурить. А папирос у нас не было. Я помчалась к соседям. Нужно было перебежать через дорогу. Я даже ничего не накинула на себя, выскочила в одном свитере.
А когда, запыхавшись, взбежала на свое крыльцо, то увидела «осаждающих» наш коттедж мужчин. Собственно, это был только один мужчина, но по размерам он стоил нескольких, огромный, в чужой дохе, достававшей ему едва до колен.
Он мельком взглянул на меня и спросил:
— Девочка, здесь ли остановилась Елена Кирилловна Шаховская?
Между прочим, я могла бы сказать ему, что меня уже давно не называют девочкой, но я ничего не сказала. Молча открыла дверь и молча пропустила его вперед. И он так и ввалился в дом первым, принялся стаскивать доху.
Я старалась остаться спокойной, вошла в столовую и просто объявила, что к Елене Кирилловне пришли.
К счастью, она осталась сидеть на месте, не бросилась ему навстречу. Она только кивнула головой, когда он вошел.
— Буров, Сергей Андреевич, — отрекомендовался он маме и с чуть лукавой улыбкой взглянул в мою сторону, словно мы с ним уже познакомились.
— Ах, Буров! — обрадовалась мама. — Мы вас ждали. Я рада, что вы перешли в мою лабораторию. Читала ваши работы о гипотетической структуре протовещества. Занятно. Исследование вероятного!.. Жаль, что здесь вам придется заняться совсем иным.
— Курите, — пододвинула ему Елена Кирилловна принесенную мной пачку папирос.
— Благодарю вас, не курю, — ответил Буров, усаживаясь на скрипнувший под ним стул.
Я следила за каждым его движением. Почему он явился к ней, а не к маме, с которой приехал работать?
Я решительно села между ним и Еленой Кирилловной, почувствовала себя если не стеной, то решеткой.
— Это мой спаситель, Лю, — сказала Елена Кирилловна. — Он силой сбросил меня с корабля в воду, как Стенька Разин, а потом больно дрался, когда я хотела задержаться у льдин.
Он смутился. Должно быть, я слишком выразительно посмотрела на него.
А Елена Кирилловна смеялась. Потом она протянула ему красивую обнаженную руку и сказала, что устала.
Мама пригласила Бурова к себе в кабинет, чтобы поговорить о предстоящей работе.
А я была счастлива! Наконец-то мы остались с ней одни! Я проводила ее в мамину комнату, которую та уступила ей. Мы теперь с мамой будем жить вместе в моей «девичьей», как она ее называла.
Елена Кирилловна легла на кушетку в небрежной позе. Точеные ноги были полуприкрыты полой халата.
По ее просьбе я рассказала ей все о маме, академике Овесяне, «Подводном солнце» и даже о кольце ветров, которое из-за замерзания отгороженной ледяным молом полыньи, перестало теперь существовать. Раньше вызванные теплой полыньей ветры дули вдоль сибирских берегов и замыкались кольцом в Средней Азии, приносили из пустынь в Арктику тепло, а в пустыни арктическую влагу и прохладу. Теперь все нарушилось. «Подводное солнце» погасло, полынья замерзла. Земледелие гибнет и в Арктике и в пустынях. И к арктическим заводам теперь на кораблях не пробьешься. Заводы останавливаются. И невозможно понять, почему не зажигается над водой атомное солнце. Ядерные реакции никак там не получаются…
И про маму и академика я рассказывала, что он пообещал взять ее к себе, когда она была еще школьницей. Сам он тоже был не старым, потому что в университет пришел пятнадцати лет и в двадцать восемь уже был академиком. А мама окончила университет и напомнила ему былое обещание. Он стал нечестно экзаменовать ее, гонял, как профессора какого-нибудь… Небось теперь не рискнет! Но мама все стерпела. И ей еще много пришлось терпеть, когда они вместе начали работать. Он просто ужасный человек, всех людей может вымотать, а сам двужильный. Но он замечательный.
И тут я замолчала, потому что в дом к нам ворвался академик Овесян. Именно ворвался.
Он зашумел и объявил, что напрасно до сих пор слушался маму, не переносил установку «Подводного солнца» в другое место. А теперь проснулся подводный вулкан, и все подводное оборудование погибло.
— Приоткрой дверь, Лю, — сказала Елена Кирилловна. — Там идет очень интересный спор.
Я задернула портьеру, а дверь приоткрыла.
Мама сказала, что важно не только возобновить работу «Подводного солнца», но и понять, почему здесь оно не может работать, и что очень хорошо, что прорвался вулкан, в этом явлении, может быть, таится разгадка всего. А они могут теперь разделиться. Овесян запустит в новом месте новое «Подводное солнце», а она вместе со своими помощниками будет исследовать новую среду, в которой не проходят атомные реакции, пусть это будет даже и чисто научной проблемой, не имеющей практического значения.
— Черт возьми! — возмутился Овесян. — Если бы я ставил памятник упрямству, я заказал бы отлить вашу статую. Вам мало тысячи проб морской воды, в которой вы ничего не обнаружили? Вам надо дробить наши силы, покидать меня на старости лет, слабого и немощного? И все ради научной гордыни и замысла, «не имеющего практического значения»!
— Тысяча проб? — переспросила мама. — А разве вы забыли о пятидесяти тысячах опытов, которые мы с вами вместе сделали?
— Я ничего не забыл! И вы мне по-прежнему нужны. Я не привык работать без вас и не хочу с вами разделяться. Стране нужно второе «Подводное солнце», и все мы вместе переезжаем на новое место, немедленно! Собирайтесь! Где ваши чемоданы?
— Нет, я не поеду с вами, Амас Иосифович, дорогой. Мы здесь останемся.
— Кто это мы? — шумел академик. — Я всех заберу, всех!
— Почему же всех? Моя лаборатория останется со мной.
— Ну и оставайтесь!.. И совсем вы мне не нужны!. Оставайтесь здесь научными отшельниками, питайтесь акридами, надеждами и консервами. Все инженеры, рабочие и повара уйдут со мной. Мы зажжем «Подводное солнце», хотя бы для этого пришлось сдвинуть гору.
— А мы поймем, почему погасло «Подводное солнце», хотя для этого, как вы говорите, пришлось бы выпить полярное море.
— Они друг друга стоят! — восхищенно заметила Елена Кирилловна.
Я ей шепнула:
— Академик очень хороший, я его люблю. Но маму больше.
— Ну что ж! Разойдемся! Расходятся не только научные соратники, но и когда-то влюбленные друг в друга супруги!.. Будем облегченно вздыхать и искать в другом недостатки, от которых, к счастью, теперь избавились! — слышался голос академика. — А теперь скажите-ка, куда вы прячете моих крестников, которых я из воды таскал? Давайте их сюда. Один из них мне бы очень подошел. Ему удобно плечом в гору упираться, чтобы сдвигать.
— Сергей Андреевич! — позвала мама Бурова, сидевшего у нее в кабинете. — Вас академик просит. Но не соглашайтесь меня покинуть. Мы только что с вами заключили союз.
— Что она говорит! — рассмеялся академик. — Вот увезу отсюда одну наяду — и он мой!
И тут моя Елена Кирилловна вскочила с кушетки, откинула портьеру и вышла в столовую:
— Если вы имеете в виду меня, Амас Иосифович, то я никуда не поеду.
— Заговор! Всеобщий заговор! — закричал академик, притворно хватаясь за голову. — Знал бы, не вытаскивал их из воды. Ну, что ж, копайтесь, копайтесь здесь! Достойная профессор Веселова-Росова всю жизнь изводила меня своей дотошностью. Помучайтесь теперь с нею вы. А меня — на заслуженный от нее отдых!.. Или, вернее, на свободу!.. Пойду зажигать «Подводное солнце» от своего пылающего сердца. Кстати, познакомьтесь. В катере вы, наверное, не рассмотрели друг друга. Калерия Константиновна вызвалась быть моим секретарем… за спасение ее души. Не все такие неблагодарные, как некоторые…
Я выглянула в столовую и увидела через дверь в передней стоявшую там худую, высокую даму, с которой здоровалась сейчас мама. Лицо у нее было, пожалуй, даже красивое, но сохраненное, конечно, неумеренными заботами о нем.
— Простите, я не хотела мешать деловой беседе, — сказала она. — Я действительно готова все сделать для такого человека, как Амас Иосифович. Боюсь только, что слишком неуклюже буду помогать ему.
Я сразу поняла, что эта дама просто вцепилась в академика, навязала ему свою помощь. Только не учла его особенности подчинять себе всех окружающих, выматывать из них всю душу и еще весело подбадривать. Как бы он не вымотал ее, бедненькую, как бы уголки рта у нее не стали бы не презрительными, как сейчас, а горькими…
— Все! — объявил академик. — Мой новый личный секретарь, доброволец арктического аврала! За мной! Пойдем поднимать поселок по тревоге. Демонтируем все наземное оборудование! Соберем его в ледяных хижинах в полусотне километров отсюда! Прощайте! Да здравствует солнце, да сгинет дотошность и тьма!
И академик со смехом открыл дверь.
Моя Елена Кирилловна сияла, а я любовалась ею.
И тут подошел прощаться Буров.
— Мы уже простились, — холодно кивнула ему Елена Кирилловна и, обняв меня, пошла в свою комнату.
Я взглянула через плечо. Буров помрачнел. А я торжествовала. Моя мамочка все заметила, все поняла. Она взяла его под руку и оказала:
— Ну, а нам о вами, Сергей Андреевич, еще рано прощаться. Наметим-ка план работы, обсудим детали, И увела его к себе в кабинет.
Не знаю, сможет ли он сейчас что-нибудь обсуждать?
Глава четвертая БУРОВ
Никогда Буров, атлет и турист, не страдал бессонницей, а теперь просыпался в середине ночи, угнетенный ясностью сознания, сбрасывал одеяло и шагал по комнате из угла в угол, думал, думал…
И сам же издевался над собой. Должно быть, не выдержал добрый молодец тройной смены жары и холода: подводное извержение и замерзшая полынья, пламенная любовь с увечьем и холод равнодушия, наконец, горячие замыслы искателя, с которыми он рвался сюда, и холодная рассудочность профессора Веселовой-Росовой, не позволявшей отступать от плана… И не превратился добрый молодец, как полагалось в сказке, после того как окунулся в котлы с горячей и холодной водой, в могучего богатыря, а лишился последних сил и даже сна…
Негодуя на себя, Буров надевал меховую куртку, брал лыжи и выходил в ночную тундру.
Исполинский «цирк» Великой яранги был освещен. Здание синхрофазотрона выросло здесь мгновенно. Его простеганные стены походили на теплое одеяло, а остроконечный конус крыши, упиравшийся в самое небо, перекрывая огромную площадь в центре научного городка, где прежде жил персонал установки «Подводного солнца». Здание это, по существу, было надувной резиновой палаткой с двойными стенками, воздух между которыми хорошо сохранял тепло внутри. Крутой же конус крыши, на которой не удерживался снег, был надут водородом и не взлетал, как воздушный шар, только из-за стальных тросов, которые струнами тянулись к земле от его вершины и основания. Такие своды легче воздуха применялись теперь для перекрытия крупнейших стадионов.
Синхрофазотрон перенесли из-под Москвы по частям на гигантах вертолетах, которые спускались прямо на площадь, выполняя роль подъемных кранов. Грандиозный кольцевой магнит, по весу не уступавший броненосцу, требовал при сборке точности в несколько микронов. Его установили не на фундаменте, а заставили плавать в жидкой ртути, благодаря чему его части при сборке сами занимали точно такое положение, какое имели прежде.
За право работать на синхрофазотроне буквально дрались группы физиков, одну из которых возглавлял Буров.
Буров подсмеивался над собой. Повезло ему, что в его группу назначили именно Шаховскую… и еще одну, острую и колючую девчонку, вчерашнюю школьницу, дочку самой Веселовой-Росовой.
Группе Бурова было поручено механически проделывать бездумные опыты, предусмотренные общей программой, планомерно и дотошно, ничего не пропуская, со всех возможных сторон исследовать загадочные свойства среды, в которой почему-то перестали происходить ядерные реакции.
Веселова-Росова не допускала никаких отступлений, никакой фантазии. Она резко предупредила Бурова, что считает фантазерство несовместимым с наукой. Буров должен был подчиниться, стать слепым орудием слепого поиска.
Да, слепого поиска!..
Полярное небо затянуло тучами. Звезд словно никогда не было. Снег лежал перед Буровым темный, без единого следа.
Казалось безрассудным идти без лыжни по целине. Но Буров шел. Он не боялся полярной ночи, умел ориентироваться в снежной темноте, к которой удивительно приспосабливались его глаза. Даже просеянного сквозь облака света невидимых звезд и молодого месяца было ему достаточно. Ветер дул в левую щеку, пологие подъемы и спуски холмов отмеряли расстояние. Лыжня всегда приведет обратно… к Великой яранге… к Шаховской…
Шаховская!.. Что это за женщина, которая так вдруг сковала его, всегда легкого, свободного? Она угнетала его на работе своей ровностью, даже увлеченностью той чепухой, которой они занимались. Елена Кирилловна не знала усталости, не знала сомнений, угадывала его желания, намерения… Всегда была права и, оставаясь холодной, старалась облегчить ему работу!. А ведь она знала еще по разговору на ледоколе, что он хотел бы искать совсем другое!.. Знала, но не подавала виду!.. Демонстрировала свое превосходство!.. А девчонка с острыми темными глазами все замечала, все понимала… И Буров, срываясь, кричал на помощницу:
— Шаховская! Нельзя ли живее? Вы что, не знаете назначение приборов? Может быть, еще пудреницу мне подсунете?
Елена Кирилловна холодно улыбалась. А Люда однажды едко заметила, что хирурги тоже иногда орут во время операции на ассистентов и медицинских сестер, но те ради больных все терпят. Все дело — в воспитании!..
Воспитание!.. Что она понимает в этом!.. Буров кусал тубы.
Родители отдали его в «английскую школу», чтобы он с детства овладел языком. По их же настоянию он поступил в Высшее техническое училище. Множество занятий, научные олимпиады, спорт, музыка, театр занимали у Сережи все свободное время.
Сережа мог прочитать любой доклад, провести любое «мероприятие», был председателем совета отряда, потом членом комсомольского комитета, стоял во главе студенческих организаций. Как юный руководитель, он усвоил принципиальную, резкую и даже грубоватую требовательность к другим.
А теперь вот толстогубая девчонка, кичащаяся своими миндалинками вместо глаз, делает ему замечания!. А замечаний он совершенно не терпел. Отец и мать сначала не успевали, а потом не решались ему их делать, а другим он делал замечания обычно сам… Всегда уверенный в своей правоте, он презрительно относился ко «всяким условностям», которые люди выдумывают для общения друг с другом, считал себя выше этого.
Сергей Буров всегда шел своим путем. Из двух дорожек, которые ему встречались на пути, он всегда выбирал нехоженую, а еще больше любил прокладывать новую. Сколько он протоптал в снегу тропок!.. И как радовался всегда, когда видел, что по его тропинке идут другие.
Окончив вуз, Сергей Буров не стал инженером. Отец не угадал его склонности к научной работе и даже оскорбился изменой сына инженерному делу. Но Сергей невозмутимо ответил, что Альберт Эйнштейн тоже был инженером.
Буров увлекся не только ядерной физикой, но и астрономией, считая, что искать новое можно только на грани смежных и даже далеких наук.
Сергей Буров получил степень кандидата физико-математических наук за лишенную, как считал отец, всякого практического значения работу «О некоторых гипотетических свойствах протовещества, которыми должно было бы обладать, если действительно существовало до образования звезд». Тьфу!.. Старый инженер не мот одобрить такой деятельности сына.
И вот теперь так о многом дерзко мечтавший Буров должен был заниматься бесперспективными исканиями по чужой программе. Ему казалось, что он потерял самого себя.
Он бежал по снегу, не ощущая холода, и думал, думал… В чем же дело? Он слепо подчинялся профессору Веселовой-Росовой. У нее и сейчас был тот же метод, каким она когда-то вместе с Овесяиом запускала «Подводное солнце». Пятьдесят тысяч опытов!.. Они накрывали снарядами не цель, а огромную площадь в расчете, что хотя бы один снаряд случайно попадет… в яблочко. Случайно!.. Так же поступал и Эдисон, когда искал нить для первой лампочки накаливания и пластины для щелочного аккумулятора. Кажется, это принято считать американским методом исследования. А может быть, нужно не пятьдесят тысяч, а сто тысяч, миллион опытов!.. Сколько лет нужно убить на это?…
А к Великой яранге приезжали на оленьих упряжках — по четыре оленя веером — гости из тундры. Они заглядывали внутрь яранги, щелкали языками, пытались донять суть физических опытов. Они опасались за свои плодовые сады, которые успели посадить, когда «Подводное солнце» отеплило море, они беспокоились о весеннем севе пшеницы… Или прав Овесян, ушедший в другое место зажигать новое «Подводное солнце» и не одобрявший «проблемных исканий», называя их «беспредметной наукой ради науки»?
Буров шел вперед и невольно сравнивал обстановку, в которой он вынужден экспериментировать в поисках решения научной проблемы, с окружавшей его темнотой.
Ведь не прокладывает он сейчас в сугробах сто путей, чтобы наткнуться на единственно нужный!.. Он находит его чутьем, интуицией! Не так ли должно быть в науке? Не подобна ли научная проблема снежным сумеркам, когда все одинаково неясно и ложно, но где-то лежит один верный путь?
Почему он так легко отказался от идеи, с которой ехал сюда, почему забыл о своей гипотезе, которая могла открыть путь исканий? Пусть она окажется ложной, но тогда взамен надо выдвинуть другую, которая тоже покажет свой путь. Нет! Не ощупью надо вести научный поиск!
Сбросить тяжесть авторитетов! Угадывать дорогу самому, прокладывать путь… менять его, если он неверен, идти путем гипотез, предположений, а не бездумно пробовать все: «рябчик, лошадь, медведь, слон, колибри…»
Буров остановился и повернул назад. Бунтарь созрел в нем.
В Великую ярангу он пришел задолго до начала своей смены.
Он бродил между грубо сложенными из свинцовых болванок стенами, разделившими отсеки, защищая людей от опасных облучений, и рассеянно смотрел на приборы, которыми пользовались его группа и другие группы физиков.
Усталые научные сотрудники собирали записи и запирали столы после ночной смены.
Буров не мог дождаться, когда придут его помощницы.
Они пришли, как всегда, вместе. Эта девчонка влюблена в Елену Кирилловну, ревнует к каждому его взгляду. А покорная на работе Елена Кирилловна, выйдя из Великой яранги, становится недоступной… и словно не она застегивала пуговицы на его мокрой рубашке!..
А следом за Шаховской и Людой прямо в отсек Бурова неожидато пришли профессор Веселова-Росова и академик Овесян.
— Ну, как, богатырь? — спросил академик, озорно поблескивая глазами. — Бросай «науку для науки». Идем ко мне настоящим делом заниматься, будем вместе солнце зажигать. Или нравится статистикой здесь заниматься?
— Статистики не выношу, — признался Буров. — И метод исканий, построенный на ней, считаю неверным. — Он решился. Он шел на бой.
— Ого! Бунт на корабле! — засмеялся Овесян, взглядывая на Марию Сергеевну. — Над Великой ярангой будет выброшен черный флаг.
— Сергей Андреевич склонен к фантазиям, — сказала Мария Сергеевна, — но это пройдет…
— Молодость всегда проходит… к старости, — заметил Овесян.
Буров вскипел. Он вдруг понял, что маститые ученые даже не принимают его всерьез. Они, не могущие поладить между собой, против него едины. И он накинулся сначала на Овесяна:
— Простите, Амас Иосифович, мне трудно понять, как можно было произвести в свое время управляемый синтез гелия из водорода, а теперь отрекаться от проблемных исканий? Разве наука может остановиться на том, что в свое время сделали вы?
Овесян вспыхнул. Мария Сергеевна даже испугалась за него. Она-то знала, каким от бывает, когда вспылит. Но он только сказал:
— Сейчас он докажет, что мы, академики, получаем свои звания за работы, сделанные в бытность кандидатами наук.
— Я этого не говорю. Но остановиться, хотя бы во имя практичности, на достигнутом, это наверняка дать себя обогнать другим.
Шаховская, стоявшая с Людой поодаль, нагнулась к ней и прошептала:
— Ну, Лю, нам с тобой, кажется, повезло… Бой быков или гладиаторов?…
— Боюсь, нам придется волочить тело по песку, — шепнула в ответ Люда.
— Чем же вас не устраивает, позволительно будет узнать, наш план работ? — холодно спросила Веселова-Росова.
— Так дальше нельзя, Мария Сергеевна! Для того чтобы найти золото, не измельчают всю гору, чтобы промыть ее, а находят жилу, ведут разработки этой жилы, поворачивают с ней то вправо, то влево.
— Что ж, — вздохнула Мария Сергеевна. — Никто не запретит вам свернуть с нашего пути.
Шаховская и Люда переглянулись, но Буров не понял намека и продолжал:
— Надо представить себе направление жилы, определить характер физического явления, которое мы хотим разгадать, предположить, почему стала невозможной ядерная реакция!.
— Кстати, наш план предусматривает не предположения, а точное установление причин явления, — прервала Мария Сергеевна.
— Предположения, гипотезы нужны как луч в темноте. Идя в освещенном направлении, можно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Если верно, идем дальше. Если неверно — выдвигаем новую гипотезу, ищем в новом направлении.
— Стоп, стоп, молодой человек! — загремел Овесян. — Гипотеза должна исходить из фактов, а не факты из гипотезы.
— Верно только наполовину, — отпарировал Буров. — Гипотеза должна объяснять факты известные и в то же время должна указывать факты, которые могут быть найдены в ее подтверждение.
— Вот! Не угодно ли! — обернулся к Веоеловой-Росовой Овесян. — Закономерный шаг к абсурду. Не взыщите, дорогая! Достаточно только начать «заумные искания», и они тотчас выльются в заумные выводы.
Из-за свинцовых перегородок словно случайно в отсек заглядывали физики других прупп. Все чувствовали грозу.
— Я понимаю, что неугоден вам, — сказал Буров. — Очевидно, здесь требуются бездумные исполнители…
— Остановитесь, — прервала Веселова-Росова. — Не беритесь так судить о всех своих товарищах по работе.
Овесян подошел к Бурову:
— Слушай, Буров, в тебе что-то есть. Ты инженер по специальности, понюхал физики… Здравый смысл подсказывает, что тебе надо идти со мной зажигать «Подводное солнце». А гипотезы, гипотезы потом… Так, кажется, пелось в одной старой песенке.
— Я не склонен шутить, Амас Иосифович. Если бы мне было нечего предложить, я не поднимал бы этого разговора.
— Любопытно все же, что он может предложить? — обратился Овесян к Веселовой-Росовой.
Мария Сергеевна пожала плечами, давая понять, что может выслушивать этого человека только ради причуды академика.
— Итак, что вы предлагаете, Сергей Андреевич? — обернулся к Бурову академик.
Работа на синхрофазотроне прекратилась. Физики столпились в отсеке Бурова, который вынужден был выступать на стихийно собравшейся научной конференции.
— Итак, что глушит здесь ядерные реакции… Какие же примеси в морской воде неугодны им? — спросил Овесян, усаживаясь на табурет и опираясь руками в расставленные колени.
Буров стоял перед ним, как школьник, отвечающий урок:
— Мне привелось работать над проблемой протовещества.
Овесян поднял свои лохматые брови. Шаховская насторожилась.
— Протовещество — это состояние материи до появления звезд и планет. В протовеществе все строительные материалы вещества были собраны в невыразимой плотности, как бы в одном немыслимо сжатом атоме, нейтроны которого не могли разлетаться…
Овесян поморщился.
— И возможно, существовала некая субстанция, которая удерживала нейтроны, — продолжал Буров.
— За эту субстанцию вам и присудили степень кандидата наук? — прервал Овесян.
Буров смутился, нахмурился.
— Я не боялся черных шаров, — запальчиво сказал он. Мария Сергеевна осуждающе покачала головой.
— Почему же не допустить, — упрямо ухватился за свое Буров, — что остатки этой субстанции существуют всюду, где материя обрела уже форму обычного вещества. Она может проявлять себя в том, что захватывает нейтроны, мешает ядерным реакциям.
Овесян деланно всплеснул руками:
— И эту физическую жар-птицу он предлагает искать!..
— Взамен планомерных исследований, — с укором добавила Мария Сергеевна. — Мы не вправе отвлечься. Слишком неясно. Слишком малоперопективно. Слишком оригинально.
Люда поймала восхищенный взгляд, который Елена Кирилловна бросила на Бурова.
Лоб у Бурова стал влажным, он словно поднимал с земли немыслимую тяжесть.
— Где же вы хотите искать свою субстанцию? — язвительно спросил Овесян.
— В море. На дне. У вулкана, — решительно ответил Буров.
— Так-таки на дне? И прямо у вулкана? — переспросил Овесян. — Воду ведрами будете оттуда черпать?
— Нет! Надо опустить на дно целую лабораторию.
Овесян и Веселова-Росова переглянулись.
Амас Иосифович встал, похлопал Бурова по плечу:
— Жаль, жаль, товарищ инженер, что не хотите ко мне на установку идти. Слушай, когда будешь академиком, пожалуйста, не вспоминай работу, за которую тебе кандидата дали, не надо!.. А для гениальности ты вполне безумен.
Буров вытер платком лоб.
— Простите, — сказал он, — я понимаю это как отстранение от научной работы.
— Научной работой нельзя заниматься против своей воли, — холодно сказала Мария Сергеевна и, величественно встав, вышла из отсека.
Овесян пошел следом. У свинцовой стенки он остановился и пытливо посмотрел на Бурова через плечо.
Бурову хотелось наговорить всем резкостей, порвать записи, опрокинуть табуретку.
Неожиданно он встретился взглядом с Шаховской.
Нет, она не торжествовала. Она смотрела на него ободряюще, задорно… ласково.
А Люда с тревогой смотрела на них обоих.
Глава пятая РОЙ БРЕДЛИ
Бизнес есть бизнес!
Даже дневник стоит писать, если когда-нибудь он будет стоить миллион! А это уже большой бизнес!
Босс сказал, что издаст дневник того, кто побывает в самом пекле. Сделает его миллионером… Стоит вспомнить, сказал он, проклятую руанскую историю, и тут же добавил, что дневник должен быть дневником, в нем вое должно писаться для самого себя, только тогда он будет иметь опрос. Побольше интимности! А ужас придет…
О’кэй! Пусть придет… Для самого себя — так для самого себя!.. Даже забавно болтать с самим собой. Давно я не беседовал с этим парнем, Роем Бредли, шесши футов ростом и двухсот фунтов весом, которого я вижу каждое утро в зеркале — узкую физиономию славного малого двадцати восьми лет, с прямым, чудом не проломленным носом, великолепным подбородком «гордость нации», способным вынести любой удар кожаной перчатки, с ясными голубыми глазами, так, кажется, принято о них говорить, и светлыми волнистыми волосами, которые словно притягивают тоненькие пальчики, иной раз застревая в надетых на них кольцах. Что еще можно о нем сказать? Усики, которые надо подстригать через день, полоской над верхней губой…
Стоп, старина! Ловлю на том, что все это не для себя пишется!
О’кэй! Считай, что сорвался… Сойдет для первого знакомства, но больше ни слова на публику!
Легко миллион не заработаешь. Действительно, споит вспомнить проклятую руанскую историю. Том Стрем, автор книги «Руанская история», сержант американской ракетной базы «ТН-73» близ Руана, вытащил лотерейный билет. Случайно он все видел, а потом, воспользовавшись переполохом, схватил джип и помчался к месту происшествия. Да, он был очевидцем, черт бы его побрал! Жутко читать написанные им страницы. Босс оказал, что ужас придет сам собой. Может быть, Том Стрем и не старался писать пострашнее… Просто он видел. Потом можно было ломать себе голову: отчего это получилось? Во всяком случае нашего американского летчика можно будет расспросить лишь в день Страшного суда. Бомба свалилась на Руан без парашюта, и самолет далеко улететь не смог, он, наверное, расплавился в воздухе. Возможно, опять не сдержали бомбодержатели. Обыкновенный традиционный полет, демонстрация готовности й силы. Черт возьми! Падали ведь и самолеты с атомными бомбами, сваливались ведь и бомбы, но не взрывались, а тут… Знаменитый руанский собор, восстановленный после последней мировой войны, оплавился и осел, как восковая свечка на горячей сковородке… Когда-то в Японии на стене осталась тень человека, а сам человек превратился в газ… В Руане даже этого не могло случиться, не осталось ни стен, ни теней всех его жителей, если не считать, конечно, царства теней, где они ждут часа, чтобы посчитаться с летчиком, союзными генералами или, быть может, с самим государственным секретарем…
Книга разошлась в невиданном количестве экземпляров. Миллион Тома Стрема, вероятно, достался его наследникам, потому что он слишком увлекся прогулкой на джипе, забыл про радиацию и через год умер от лучевой болезни. Ему, как известно, поставили два памятника, один — солдату, погибшему при исполнении обязанностей, а другой — от коммунистов «честному агитатору против атомной войны»… Бедняга Том Стрем может вертеться в гробу, ню из-за него, сержанта ракетной базы союзных войск, из-за его книги, вернее — из-за случайного атомного взрыва в Руане, который он описал, и поднявшейся вслед за тем пропагандистской свистопляски, приведшей левых к власти после выборов во Франции, а потом в Италии и даже теперь в Англии, из-за него, из-за Тома Стрэма, возглавляемый Штатами свободный мир подобен ныне гористому острову, окруженному бушующим коммунистическим океаном…
Правильнее всего надо было начать в свое время шум по поводу того, что атомную бомбу на Руан сбросили коммунисты, ведь именно им на пользу пошел этот взрыв, но… после драки перчатками не машут. Теперь поздно. Игра сделана, ставок больше нет. По крайней мере до новых выборов в странах-ренегатах. Но когда шеф услышал про эту мою «коммунистическую бомбу», он сказал, что для такого парня, как я, не все еще потеряно. Нужно только побывать именно теперь в самом пекле и писать дневник. Под пеклом он разумел Африку.
Африка! Нужно быть круглым дураком, чтобы не понимать, куда направят мировые коммунисты следующий свой удар. Конечно, в солнечное сплетение. Отколов от свободного мира европейские куски, они постараются оставить наш континент без сырья. Таким мастерам пропаганды, как они, не так уж трудно подбить черномазых в бурнусах или набедренных повязках вообразить себя царями природы и забыть, кто их поднял из состояния дикости, кто им дал машины, проложил на их земле трубопроводы, прорыл каналы, научил строить дороги и работать. Красные додумаются и до того, чтобы потребовать национального освобождения гамадрилл или орангутангов! Лозунги готовы — «Борьба с монополиями!», «Долой капитализм, империализм и частную собственность!» Тебе скажут, что ты взрослый и потому режь отца родного, который дал тебе облик человека, режь и отнимай у него нефтяные промыслы и алмазные россыпи, урановые рудники и тропические плантации! Отцы для того и существуют, чтобы получать от них наследство… Но нет! Мир частной инициативы, именуемый красной пропагандой капитализмом, действительно был отцом цивилизации, но он вовсе не собирается еще при жизни отдавать свое наследство неразумным сыновьям, которых сам создал, сделал чуточку цивилизованными.
Африка! Недаром говорят, что это атомный погреб мира. Там можно ожидать чего-нибудь почище руанской истории, очевидцу найдется что рассказать. Словом, там будет большая свалка и настоящее пекло… Будет пекло, потому что у нас есть священное оружие справедливости, с помощью которого мы еще можем сдерживать напор врагов цивилизации.
Пекло так пекло! Нас рогами не запугаешь, особенно если из-за них выглядывают доллары. Рой Бредли заведет дневник и будет вполне искренен. Эту искренность он с удовольствием обменяет на доллары. Если нужен очевидец великих событий, то Рой Бредли пишет дневник.
Впрочем, он, кажется, спутал дневник с очередной статьей в одной из газет босса. Больше интимности, старина!
Что ж, последний разговор с боссом был почти интимным.
— Хэлло, Рой, подбейте итог своим доходам и расходам. Разницу я оплачу. И собирайтесь в путь. И успейте жениться, чтобы иметь по крайней мере наследников. — Босс почти по-приятельски хлопнул меня по затылку и засмеялся.
Он редко смеялся, наш босс, великий, но низенький, как Наполеон, быстрый, проницательный, но всегда желчный, раздражительный, во всяком случае во время бизнеса. Все мы, работники одной из газет босса, привыкли видеть его недовольное лицо, когда он стремительно проносился в кабинет главного редактора, который спешил открыть перед ним дверь. Мы видели узкую спину босса и неожиданно могучий для его небольшого роста, слитый с шеей, как у тяжеловеса, затылок. Когда босс вызывал к себе репортеров, то никогда не смотрел на них. Он казался сонным, но говорил резко, отрывисто, в темпе и заставлял людей работать, как на пожаре. Он любил говорить, что газета — это пожар!
Его называли Малыш, но прозвище это звучало как кличка одного из тех парней, которые не церемонились и держали когда-то в страхе весь Чикаго.
И вот он, сам Джордж Никсон, Малыш, по-дружески обнимая меня за плечи, провожал до дверей кабинета и поторапливал отечески с женитьбой.
А ведь он прав, черт возьми! Тот, у кого толстая чековая книжка, всегда прав. И я заказал себе освинцованное белье. Нужно быть атлетом, чтобы его носить. Невольно вспоминаешь средневековых рыцарей. Таскали же они стальные доспехи. Правы пифагорейцы! Все в мире возвращается. Становлюсь рыцарем в свинцовых доспехах, дело теперь лишь за получением шарфа от своей дамы…
Итак, о даме…
Предстояло сбъяснить Эллен все начистоту.
Я успел оказать мистеру Джорджу Никсону, что всякая новая книга, будь то дневник или детективный роман, тогда только книга, когда к ее титульному листу прикреплен чек издателя.
Мистер Джордж Никсон еще раз рассмеялся и сказал, что из меня выйдет толк.
Титульный лист был написан в баре за стойкой.
Ребята из нашей газеты немного залили его не то виски, не то содовой водой, листок покоробился, но я его все же не заменяю. Как всякий образованный человек, я суеверен и считаю, что первую страницу переписывать нельзя.
Меня и первую страницу дневника, заказанного всесильным Джорджем Никсоном, Малышом, прославленным свидетелем обвинения на знаменитом «Рыжем процессе», ныне газетным королем, вывели на улицу из бара на руках и свалили в кузов автомобиля, приказав шоферу везти меня домой. Но я попал почему-то на какие-то состязания — не то регби, не то бокса, может быть, на испытания автомобилей, когда они взлетают с трамплинов и сталкиваются друг с другом… А потом кого-то уносили на носилках… Но не меня. Я уже двигался сам.
Я помнил, что должен добраться до Эллен. Черт возьми! У нее какой-то аристократический предок: не то граф, не то князь. Он до сих пор кичится возвышенными идеями, и с ним надо всегда держать ухо востро. Пришлось завернуть к доктору.
— Док! — сказал я, суя эскулапу в руку десятидолларовую бумажку. — Можете ли вы проявить мою фотокарточку? Я сейчас больше смахиваю на негатив.
Док был славный парень. Он только поворчал немножко, заметив, что не стоит тратить доллары, чтобы прийти в такое состояние, а потом снова тратить доллары, чтобы из него выйти.
Но он меня все-таки «проявил». Если не считать легкой головной боли и отвратительного вкуса во рту, я чувствовал себя прекрасно. Слава медицине! А говорят, что доверяться можно только хирургам. Любопытно, что бы те со мной сделали? Ампутировали мою голову?
А сейчас она была у меня на плечах, и я отправился к мисс Эллен Сэхевс, 47-й стрит 117, 14 этаж.
Дверь мне открыл князь или граф, которому, видно, лакеи были теперь не по средствам. Великолепный старикан, пригодный для Голливуда не меньше, чем сама Эллен. Красота ее наследственная. Порода! Седые виски оттеняли немного смуглую кожу. Узкое лицо с презрительно опущенными уголками губ и насмешливо суженные глаза… Темные брови придворного красавца двойной кривизны, приподнятые у переносицы в обратном изгибе волны…
— Хэлло, мистер Сэхевс! Как вы поживаете? Могу я видеть мисс Эллен?
Он пожал узкими плечами. Мне удивительно не нравились его плечи и манера пожимать ими, особенно когда это заменяло ответное приветствие. Уж очень много о себе воображают эти черепки разбитого вдребезги…
— Хэлло, Рой! — послышался всегда волнующий меня голос Эллен.
О!. Это была настоящая девушка!
— Хотите стаканчик или сигарету?
Она вышла ко мне в пикантной пижаме, похожая на озорного мальчишку.
Мы с ней закурили. Я не знал, с чего начать, а она, полулежа в низком кресле у столика, сбрасывала пепел на ковер. Раскачивая восхитительнейшей ногой, обтянутой пижамой, все норовила задеть меня кончиком домашней туфельки, сваливающейся с миниатюрной ступни.
— Эллен, — сказал я сдавленным голосом, — мне надо с вами очень серьезно поговорить.
— О’кэй, Рой. Я не считала вас склонным к серьезным разговорам.
— У вас свободен вечер, Эллен?
— Вы способны еще пить, Рой? Вы, кажется, уже побывали сегодня у дока.
— Черт возьми! Как вы догадались?
— О! Секретами дорожат только профессионалы.
— Так что же вы заметили?
— Во-первых, у вас очень постная физиономия. Потом от вас пахнет чем-то неуловимым, специфическим. Наконец, пиджак ваш помят чуточку больше, чем считается шикарно… А на рукаве даже пятно! И вместе с тем вы свежи, как только что сорванный обезьяной банан. Ну, и есть еще кое-что… Но не будем хвастаться наблюдательностью.
Эллен всегда меня удивляла. Ей только и недоставало навыков детектива. Я счел это за утонченное кокетство и оказал, что могу пить хоть всю ночь.
— О’кэй! — сказала Эллен. — Я не люблю веселиться всухую.
Я напомнил о серьезном разговоре, но она раосмеялась. Однажо вдруг сразу переменилась и сказала, что ей тоже нужно мне сказать что-то очень серьезное.
Мы начали обход заведений. Начали с кафетерия, где пили только молоко, стоя около высоких, как стойки, столиков.
Я рассказал ей о дневнике и о пекле.
— Нам придется, пожалуй, расстаться, — промямлил я.
— Я хотела сказать вам то же самое, милый Рой. Я даже рассчитывала как следует кутнуть с вами по этому поводу.
Потом мы поехали куда-то на окраину Нью-Йорка и попали во второразрядную таверну. Мы сидели на высоких табуретах у стойки, пили все, что нам наливала развязная буфетчица с медными кольцами в ушах, и разговаривали:
— Это очень здорово, Рой, увидеться в последний раз!
— Почему в последний? — запротестовал я.
— Не мешайте! Я хочу так думать. Может быть, вам будет выгоднее, чтобы я так думала.
Она уже много выпила, но на эту чертову девушку, кажется, никакой алкоголь не действовал.
— Я хочу успеть жениться на вас, Эллен, — выпалил я.
Она расхохоталась. Случайные посетители за стойкой и у столиков обернулись. Она продолжала смеяться.
— Чокнемся, отарина! — сказала она мне. — Я никогда не слыхала, чтобы за стойкой делали предложение.
— Но нет больше времени, Эллен, — попытался я оправдаться.
— Время еще есть, — загадочно сказала она. — Мы будем кутить всю ночь.
И мы кутили, черт возьми! Она, кажется, поставила себе целью объехать все веселые места города за одну ночь. Я уже не могу припомнить, где мы только не побывали. Но ночной клуб я помню отчетливо. Нас туда не хотели пускать. Я не был членом этого клуба избранных. Однако Эллен настаивала, она начала скандалить в вестибюле. Выбежал распорядитель в смокинге с безукоризненным пробором и плоским лицом. За ним двигался детина следующей после моей весовой категории, но я не отступил и на шаг.
И вдруг я услышал знаковый голос:
— Это мои гости, джентльмены!
Босс, сам миотер Никсон!
Глаза его не казались, как обычно, сонными. Жадные, они жгли. Он нарочно прятал их всегда! Он вышел из зала, почуяв нюхом газетчика скандал, и узнал меня.
— Хэлло, девочка! — сказал он, беря меня и Эллен под руки и слегка повисая на моем локте. — Это я сказал Рою, чтобы он поторопился с женитьбой. Вы справляете свадьбу?
— Ничуть, — сказала Эллен. — Я просто хочу танцевать.
О, великий док! Его снадобью я обязан тем, что держался еще на ногах, нет, не только держался…
Мы с Эллен сплясали. Тысяча дьяволов и одна ведьма! Вот это был пляс! Нам могли бы позавидовать черные бесовки африканских джунглей, краснокожие воины у победного костра, исполнительницы танца живота с тихоокеанских островов и исступленные фанатики шествия Шахсей-Вахсей мусульман-шиитов… Всем было далеко до нас!
Все вокруг стонало, визжало, выло. Нервы были обнажены, и нужно было кричать от боли, ужаса и исступления при каждом прикосновении к ним. Она бросалась ко мне с расширенными, кричащими глазами…
Мы крутились, мы отталкивали друг друга, мы бросались в объятья и отскакивали, чтобы через секунду-другую снова ловить друг друга… Бешеный пляс! Злоба предков, проклятье потомков, наваждение!
Босс развозил нас по домам в своей машине. У меня хватило ума не позволить ему отвезти сначала меня. Он долго смеялся и говорил, что мне нужно стать бизнесменом.
Босс убеждал Эллен выйти за меня замуж. Она только хохотала в ответ и говорила загадочные слова. Босс целовал ее руки. Я, кажется, повысил тон, но мы с ним быстро помирились.
Эллен вышла из машины и стояла на тротуаре, даже не пошатываясь. Она была удивительной девушкой. Настоящая американка! Она создана для Голливуда.
Босс сказал, что купит мне киностудию, чтобы Эллен снималась в боевиках, которые он для нее закажет.
Я согласился. Но мы оба ничего не понимали в Эллен, ровным счетом ничего!
Он повез меня куда-то еще пить. Мы с ним побратались, резали себе осколками бокалов руки и смешивали с вином капли крови.
Он сказал, что приближает меня к себе. А я знал, что он далеко пойдет.
Но в ту ночь даже я не подозревал, как высоко он поднимется, до чего дотянется!
До самого солнца!
Эти строки я вписал много позже, а тогда… тогда мне оставалось одно — не отставать!
Глава шестая «МАРСИАНСКАЯ НОЧЬ»
Итак, совершенно откровенно, интимно, правдиво, только для самого себя!..
Как это ни странно, но карьеры моя и босса начались одновременно, со знаменитой ньюаркской ночи, сделавшей меня журналистом, а босса мистера Джорджа Никсона, сотрудника одной из второстепенных нью-йоркских газет, — владельцем газетного треста «Ньюс энд ньюс».
Все, кто смаковали потом кровавые подробности и потустороннюю жестокость пришельцев с другой планеты, сделали это после меня. Все, кто примкнули к кампании защиты цивилизации и возвращения к холодной войне, поддержали мистера Джорджа Никсона.
Мистер Джордж Никсон, руководитель отдела информации газеты, еще за неделю до «марсианской ночи» послал меня, заштатного репортера, разнюхать, что делается в Ньюарке, и не растеряться в решительную минуту, дать информацию, которая могла бы повысить тираж газеты.
Я прибыл туда на следующий день после начала забастовки на заводах Рипплайна. Мне казалось, что ничего интересного она не обещает. Банальные экономические требования. Респектабельная поддержка профсоюзных лидеров, которые не дадут себя скомпрометировать. И вдруг… Руанский взрыв… Заколебалась почва в Европе… Раскаты докатились до Ньюарка.
Забастовщики дерзко закрыли на заводских воротах золотые буквы «рипллайн» красной материей с возмутительной надписью: «довольно!»
Красная пропаганда уцепилась тогда за злосчастный руанский взрыв. Нашу благородную политику готовности и демонстрации силы назвали гангстерской политикой размахивания ядерными бомбами, одна из которых вырвалась из грязных якобы рук и обрушилась на не повинных ни в чем французов. Эта пропаганда вызвала во Франции шумиху большую, чем сам взрыв. В потрясенной Италии и в обеспокоенной Англии левые добились досрочных выборов в парламент… О, Великий Случай, Бог Удачи и Несчастья! Как все перевернулось из-за какой-то отвернувшейся гайки в бомбодержателе!..
Бурлило даже в Америке. Забастовки под девизом «Довольно!» вспыхивали по всей стране. Центром бунтовщиков стал Ньюарк. К нему стягивались полицейские силы. Туда же стекались и рабочие с других бастующих предприятий. Положение становилось угрожающим. Я понял, что могу сделать бизнес, и толкался среди прибывших. Их было так много, что они даже не разместились в квартирах принимавших их ньюаркских рабочих, и на пустыре появился палаточный город, подобный тому, какой возник под Вашингтоном в пору голодного похода безработных к дому президента.
Вечером перед памятной ночью атмосфера накалилась до предела. Зловещая тишина угнетала. Автомобильное движение прекратилось. Передавали, что к Ньюарку движутся войска. Я не видел у рабочих оружия, но был уверен, что оно у них есть, о чем и телефонировал в редакцию.
Пока что смутьяны старались соблюдать порядок, и никаких инцидентов не было… до двух часов ночи.
В два часа семнадцать минут после полуночи, как я писал в удавшейся мне корреспонденции, залитая лунным светом площадь перед заводом выглядела вымершей. Казалось, что опущенные зкалюзи на окнах магазинов уже никогда не поднимутся, огни в коттеджах не зажгутся и не появятся прохожие на темных улицах… Даже в аптеке, где я всегда мог закусить, а человек менее крепкого здоровья найти лекарство, лампочка над звонком не горела. Около заводских ворот расхаживали одинокие пикетчики. Я был среди них, они считали меня своим парнем. Полисмены, дальновидно избегая конфликтов и тем оберегая спокойствие, отсутствовали. Электрические фонари не зажигались. На асфальт легли резкие лунные тени от пустующих заводских корпусов. Доносились далекие паровозные гудки. Пахло гудроном — неподалеку ремонтировали шоссе.
Внезапно на площадь одна за другой вылетели легковые автомобили. Они остановились с полного хода. Визг тормозов продрал меня по коже. Я спрятался за каменный столб ворот и ждал, что будет.
Из первой машины на тротуар выбралась странная фигура, — как только не перевиралось впоследствии мое точное описание! — приземистая, с огромной круглой головой, похожей на шлем водолаза. Передвигалось существо на тоненьких ножках. На спине — зубчатый хребет, как у допотопного ящера, переходивший в короткий и жесткий хвост.
Точно такие же загадочные существа стали выбираться из остальных автомашин, заполняя собой часть площади и прилегающие к ней улицы.
Передо мной заметались пикетчики. Их как будто стало больше. Наверное, подошли ребята из полотняного города, не спавшие в эту ночь.
Странные пришельцы и забастовщики молча концентрировались на противоположных сторонах площади.
Я забрался на цоколь столба и приготовил фотоаппарат.
И тут я услышал поразительно странный, неприятный голос, звучавший, очевидно, из репродуктора с одной из автомашин.
Мне пришлось как-то писать, что еще давно, на знаменитой «Нью-Йоркской выставке будущего» в павильоне «Белл-телефон компани» демонстрировалась необыкновенная говорящая машина, не воспроизводящая человеческий голос, а произносящая слова сама. Раздражающие слух, скрипящие металлические звуки складывались в гласные и согласные английской речи. Управляющая машиной девушка с намазанными ресницами, выслушав заданный машине вопрос, нажимала клавиши, словно играя на органе, и чудовищный автомат «вполне сознательно отвечал, беседуя с посетителями выставки», скрежеща железным, невозможным «голосом», который не мог принадлежать человеку, но мог быть понят им.
Именно такой голос услышал я в ту ночь на площади перед заводом Рипплайна. Свистящие, скрипящие, клокочущие звуки слагались в произнесенные с потусторонним, как я написал тогда, акцентом слова, обращенные к пикетчикам:
— Марсиане желают говорить с людьми завода.
— Марсиане?
Я ликовал, думая о своей корреспонденции. Пикетчики недоумевали:
— Что это? Мистификация? Маскарад?
Два существа с зубчатыми хребтами и шарообразными головами вышли на площадь. У них были «свободные от ходьбы конечности», свисавшие к самой земле.
Старик Дред Скотт и юноша Рей Керни, с которыми вместе мы только что расправились с сандвичами, принесенными внучкой Дреда, храбро направились навстречу пришельцам. Я успел их сфотографировать. Я не отдал этой фотографии газетам, я подарил снимки родным Дреда и Рея…
Марсиане и представители рабочих скрылись в улицу, очевидно, для переговоров.
Мои приятели пикетчики волновались. Или время казалось им слишком долгим, или на них влияла бесовская какофония, несшаяся через площадь из автомобильного репродуктора… Это были душераздирающие, воющие, тявкающие звуки, стоны, визг, хрип, крик филина и хохот гиены…
Потом все смолкло. Из переулка стремительно вылетела открытая автомашина, понеслась к воротам завода, сделала резкий поворот… Номера на ней, конечно, не было…
Два тела, по-видимому, лежавшие на ее борту, не удержались и мягко шлепнулись на асфальт. Машина унеслась, скрывшись в переулке.
На площади грохотал чревовещательный голос:
— Марсиане не убивают. Марсиане наказывают.
Пикетчики несли на руках Дреда и Рея… Трудно передать, что сделали со стариной Дредом и мальчиком Реем.
Говорят, у Чингиз-хана существовал жестокий обычай заменять людям смерть переламыванием хребта. У обоих, у Дреда и Рея, были переломлены позвоночники. Лежа на асфальте, они беспомощно шарили руками. Глаза у них были выколоты…
Неведомые существа вернули пикетчикам не трупы, они вернули нечто более страшное, пугающее, предупреждающее, рассчитанное на то, чтобы содрогнулся каждый, кто узнает о «марсианской расправе»…
Молча стояли, разделенные площадью, люди и… нелюди. Так я назвал их в своей корреспонденции.
Репродуктор выплевывал скрежещущие слова:
— Марсиане не знают жестокости. Им просто чужда земная мораль, как людям чужда мораль пчел или муравьев. Марсиане наводят порядок на Земле во имя торжества разума и цивилизации. Люди, повинуйтесь высшей культуре! С каждым, кто откажется повиноваться, марсиане поступят так же, как с теми, кто уже побывал у них.
Я понял одно: забастовка будет подавлена.
— Им не подавить забастовки! — крикнул крепкий рыжий малый, в котором я тотчас узнал… сенатора Майкла Никсона!
Как известно, моя корреспонденция с упоминанием его имени стоила ему сенаторского кресла.
— К оружию! Сосредоточиться! — командовал он рабочим.
Сенатор руководил вооруженными смутьянами! В тот момент я об этом не думал, но редакторы постарались поработать над моим текстом. Ведь это было беспрецендентно!
Затрещали автоматные очереди. Полусогнутые, уперев автоматы себе в живот и стреляя из них, забастовщики через площадь бежали на марсиан.
Марсиане стали отстреливаться, но не из автоматов, а из револьверов. Наконец с одного из автомобилей затрещал крупнокалиберный пулемет.
…Взрыв гранаты.
Марсиане побежали в переулок. Рабочие преследовали их.
Черт возьми! Я бежал вместе со всеми, вооруженный лишь фотоаппаратом. Моя микромолния сверкала, как во время грозы в горах. Я исступленно нажимал спусковой рычажок затвора, запечатлевая картину боя очередями кадров…
И, конечно, я слишком увлекся, вылетел вперед и оказался на позициях марсиан.
Пули пели у самого уха. Мне казалось, что они летят во всех направлениях. У меня хватило ума скатиться в канаву.
За крыльцом коттеджа стоял, согнувшись пополам, марсианин без головы… Его голову, то есть круглый водолазный шлем, я видел на тротуаре и даже ощущал, как отвратительно из него пахнет…
Другой марсианин снял с себя шкуру и… сделался человеком низенького роста, чем-то мне знакомым… Он подошел к согнувшемуся марсианину, которого рвало:
— Возьмите себя в руки, сэр. Поймите, это было необходимо. Нужна острастка. И ведь они сами с оружием идут на убийство.
— Отстаньте!.. Об этом можно читать… можно это даже видеть на экране, но… смотреть, как они переламывают им позвоночники, выдавливают глаза… Меня мутит… Где вы раскопали этих чудовищ, Малыш?
— Я ничего не изобрел, — усмехнулся маленький. — Так поступал знаменитый король штрейкбрехеров мистер Пэрл Бергоф. А эти… один взят из сумасшедшего дома, а второй туда еще не попал. Кто за них может отвечать? Невменяемы, действуют без уз рассудка.
— Высший разум стоит над рассудком, — иронически сказал марсианин без шлема.
— Сэр, умоляю… сейчас не до сомнений. Они наступают.
Автоматная очередь зазвенела стеклами в окнах коттеджа. Разговаривающие присели.
Я узнал обоих. Малыш оказался моим боссом, а второй без шлема… юным миллиардером Ральфом Рипплайном, наследником Джона Рипплайна, пароходного, нефтяного и алмазного короля, столпа долларовой династии и председателя Особого комитета промышленников, штаба мира частной инициативы.
Теперь-то я знаю, как все это произошло. Могу даже представить себе все детали, занося их в дневник.
Они собрались в одном из ночных клубов Гарлема. Мой босс, Малыш, встречал его у подъезда. Они вошли в зал, где гремел джаз. Негры в белых фланелевых костюмах, подпрыгивая на стульях, исступленно дули в трубы и саксафоны. Все, кто был в зале, танцевали: молодцеватые молодые люди в строгих, таких же, как у вошедшего Ральфа, изысканно небрежных костюмах, бритые едва ли не в первый раз в жизни или уже отпустившие тоненькие элегантные усики, их юные партнерши с лихорадочно блестевшими глазами, чуть излишне подкрашенными губами и обнаженными плечами…
Образовав тесную толпу, они тряслись в такт истерическому ритму — подобно огромному студнеобразному телу. Но, честное слово, это было забавно, когда они, шутливо подергиваясь, сплетаясь в объятьях или, нагнувшись вперед, упирались лбами, как бы бодаясь, и выделывали ногами жизнерадостные па.
Ральф Рипплайн вошел, и музыка оборвалась. Танцоры еще продолжали двигаться. Это напоминало кадр кинофильма при выключенном звуке. Люди топтались, передвигались, прижавшись друг к другу, а звук, извинявший их действия, отсутствовал. Это было весело, и все засмеялись.
Но вдруг сразу молодые люди стали серьезными, с грубоватой поспешностью покинули своих дам и устремились к Ральфу.
Ральф, юный атлет, охотник на слонов и тигров, отважный путешественник, азартный игрок и спортсмен, наследный принц долларов, подавал пример. Вместе с ним они должны были рисковать жизнью во имя спасения свободного мира, возрождая славную американскую традицию смело, решительно и романтично решать самим дела страны, когда власти бессильны.
И вереница автомобилей помчалась из Гарлема к Хедсон-риверу.
В первом открытом спорткаре летели Ральф и Малыш. Оли остановились у входа в туннель. Малыш заплатил частному полицейскому в трусиках и широкополой шляпе за проезд всех сорока восьми автомашин.
И все сорок восемь машин одна за другой скрылись в черном устье, унося в туннель респектабельных молодых людей…
А когда автомобили выскочили на противоположный берег реки уже в штате Нью-Джерси, то в них сидели… марсиане.
Можно понять романтических молодых людей. Для черномазых ниггеров хороши были белые балахоны, для борьбы с красными смутьянами пошли в дело черные балахоны. В наш век космических полетов, освоения других планет, балахоны, естественно, должны были уступить место чему-нибудь другому, более современному, символическому.
Не скрою, я был потрясен в ту жуткую ночь, но, если говорить теперь о событии спокойно, следует ли осуждать патриотов за жестокость, если она сдерживает разрушителей цивилизации? Как ни жаль Дреда и Рея, но они были неизбежными жертвами, погибнув по воле господней…
Я видел проявление благородной храбрости со стороны Ральфа Рипплайна.
Когда смутьяны снова перешли в атаку, он надел свой вонючий шлем и бросился в контратаку во главе других марсиаи.
Но их отбросили назад. А Ральф Рипплайн, сраженный пулей, мешком свалился на асфальт.
Я выполз из кювета.
Малыш исчез.
Рабочие хлопали меня по плечу и смеялись над марсианами.
— Экие балахоны выдумали! — говорил один здоровенный детина, толкая ногой поверженного марсианина.
Знал ли он, кого коснулся его грязный башмак!
Подошел сенатор Майкл Никсон.
— Караульте эту дохлую скотину! — распорядился он и повел своих головорезов преследовать отступающих марсиан.
С меня было довольно. Я был рад, что остался цел, и стал перезаряжать фотоаппарат.
— Ну и придумали же балахоны, — повторил тот, что трогал ногой марсианина. — Надо же так оскорблять обитателей далекой планеты. Они небось орошают там пустыни, талую воду полярных льдов за тысячи миль по трубам подают… А эти… рабочих террором вздумали пугать?
Я промолчал. У меня была своя точка зрения.
— А что, парень из газеты, на Марсе уж, наверное, не капиталистический строй? — спросил еще один рабочий с автоматом.
Я пожал плечами.
В улицу с площади въехал спорткар и, скрипнув тормозами, с ходу остановился около марсианина.
За рулем сидел молодой человек с завязанной бинтом нижней частью лица. Я сделал вид, что не узнаю его.
— Ну, давай, что ли! — грубо крикнул он. — Долго тут мне торчать под пулями? Булькнешь, как часы в колодце.
— Чего давай? — не очень приветливо отозвались рабочие.
— Как чего? Марсианина дохлого. Меня послали привести его, пока он не очухался. Ты что, не узнаешь?
— Что за авто? — не спеша осведомился рослый детина, освещая автомобиль фонариком. При виде огромного мотора гоночной машины он поцокал языком.
— Захватили за углом, — объявил водитель. — Хороша, парень, как таитянка лунной ночью. Давайте, что ли, а то жаль, если у такой красотки продырявят чулочки.
Простодушное восхищение рабочих машиной разрешило колебания. Они подняли тяжелое тело и, как мешок, бросили в кузов.
Машина рванулась с места.
— Развернусь за углом! — крикнул водитель.
— Стоп! — раздался срывающийся голос рыжего сенатора, бежавшего по тротуару.
Затрещала очередь автомата.
— Это же наш! — горячился детина. — Мы захватили шикарное авто, клянусь потрохами. Там наш сидит.
— Наш? — переспросил Майкл Никсон. — Дуралей! Этот «наш» — мой кузен, пройдоха Джордж Никсон! Вырвал вещественное доказательство. Но я увидел его гнусную рожу, знаю теперь, с кем мы имеем дело.
— С марсианами?
— Нет. С Рипплайнами.
— Ясно, — отозвался рабочий.
Я восхищался подвигом босса…
И я понимаю, почему через неделю он стал владельцем газетного треста «Ньюс энд ньюс», а молодой Ральф Рипплайн «уехал в Европу лечиться»…
Вооруженное столкновение в Ньюарке явилось законным поводом для введения туда войск и объявления военного положения, в связи с чем рабочие завода по закону Скотта обязаны были возобновить работу.
Славный Рыжий Майк, коммунистический сенатор Майкл Никсон, за руководство вооруженным восстанием на основании закона Меллона специальным решением сената был лишен депутатской неприкосновенности и заключен в тюрьму.
Мистер Ральф Рипплайн, вернувшись из Европы, как известно, присутствовал на похоронах своего отца Джона Рипплайна и встал во главе могучего концерна, заняв также место в Особом комитете промышленников.
Он уже больше не бегал в маскарадном костюме под пулями бастующих рабочих своего завода. Он научился разговаривать с самим Большим Беном, вызывая его к себе на беседу.
И у такого человека запросто бывал мой босс!
Босс доверял мне и готов был направить меня в Африку, где я мог сделать настоящий бизнес.
Так сплелись наши с ним карьеры.
Глава седьмая ЭЛЛЕН
Когда наутро после веселья с Эллен и боссом я явился в редакцию, голова моя трещала и во рту было ощущение нечищеного зверинца.
Меня вызвал Малыш.
Он был бодр, энергичен, подвижен, и его не сонные сегодня глаза смотрели насмешливо.
Я пожалел, что не поднял спозаранку дока.
— Хэлло, Рой, — сказал босс. — Четыре дня отпуска славному парню. Летите со своей шикарной девушкой на Лонг-бич, в Майами или Калифорнию.
— О’кэй, — сказал я. — Мы поедем с Эллен на ферму к отцу.
Босс расхохотался:
— Всякая истинно деловая женщина на ее месте послала бы такую деревенщину, как вы, к отцу на ферму и обратила бы внимание, скажем, на меня. Но мы друзья. Возьмите чек.
Босс был просто очарователен.
Клянусь джином, я не надеялся, что Эллен согласится. Никогда нельзя было сказать наперед, как она поступит. А она свистнула, подмигнула мне: «О’кэй» — и собралась в одну минуту.
Ее аристократический предок, в присутствии которого она была почти чопорной, как классная дама, неодобрительно смотрел на меня из-под великолепных бровей царедворца.
Через полчаса мы переправляли наш автомобиль на пароме, древнейшем из всех суденышек, когда-либо плававших по мореподобному Хедсон-риверу. Ноев ковчег, модернизированный двумя тоненькими трубами раннего геологического периода!
Эллен стояла, перегнувшись через перила, и смотрела в воду. Там отражались: небо, облака и след реактивного самолета.
— В чем красота? — сказала она, может быть, мне, а может быть, себе…
Я благоразумно промолчал.
— Почему красиво небо? Почему красива вода? Почему вообще красив простор? Вы не думали об этом, Рой? Почему женскую красоту осмеливаются измерять с портновским сантиметром в руках? Вероятно, красиво то, что неизмеримо и недосягаемо… Совершенной красоты, как и полного счастья, нельзя достигнуть.
Я посмотрел на Эллен и подумал, что если стоишь рядом с Эллен Сэхевс, то расстояние до совершенства и умопомрачительного счастья, пожалуй, измеряется дюймами. Я постарался высказать эту сверкающую мысль пояснее, но Эллен не рассмеялась. Она была в мечтательном настроении. Предложить ей выпить стаканчик в такую минуту было рискованно.
А потом мы мчались по бетонному шоссе. У меня был открытый кар. Эллен пожелала наклонить лобовое стекло, чтобы ветер завладел ее волосами. Он сделал это с ветреной бесцеремонностью, о чем я с приличествующей ревностью счел необходимым заметить, но она опять не рассмеялась.
— Послушайте, Рой. Вам не кажется, что эти скучные плакаты с рекламой «Кока-кола», сигарет «Кэмел» и зубной пасты «Жемчуг» оскорбляют природу?
— Я не думал, мэм, что природа способна оскорбиться, как старая леди.
— Эх, Рой! Неужели вы парень только за стойкой!
Решительно мне сегодня не везло. А она продолжала:
— Иногда я завидую индейцам из резерваций, живущим в вигвамах.
— Там нет газа, ванн и клозетов.
— Молчите. Я хотела бы сейчас скакать верхом на мустанге, а не кататься по этой застывшей блевотине бетономешалок.
Бррр! Вот такой она была всегда! Хоть кого словом перешибет!
Я сказал, что мы будем проезжать мимо одной индейской резервации. Можно сделать небольшой крюк.
Навстречу летели бензозаправочные станции крикливых раскрасок ненавидящих друг друга фирм. Парни в форменных комбинезонах по обязанности переругивались с конкурентами через дорогу и тщетно зазывали проезжих.
Наконец мы увидели на обочине индейцев. Некрасивые, широкоскулые женщины с жидкими черными волосами и высохшими бурыми лицами — красной ведь была только краска военных походов! — сидели чинно в ряд прямо на земле и торговали экзотической дрянью.
Эллен велела остановиться, купила на восемь долларов сувенирного хлама, напоминавшего о былой благородной дикости краснокожих, — нож для снимания скальпов и тамагавк (несомненно, Рипплайн-стил-корпорейшн!), туфли с мягкой подошвой ручной работы, орлиное перо — и сетовала, что нет головного убора вождя. В вонючую резервацию мы, к счастью, не пошли и отправились дальше.
Вечером мы ехали уже по родным мне местам.
Черт возьми! Вдруг забывается все, что налипло на тебя в городе! Когда вокруг такой воздух, даже не хочется виски.
У невысокой скалы с косыми слоями, срез которых огибала дорога, я узнал любимое место мальчишеских походов и почувствовал, что от ветра у меня слезятся-таки глаза.
Перед нами зеленым морем простирались поля кукурузы. Вот оно, благосостояние свободного мира, оплот американского образа жизни, изобилие, откормленный скот, молоко, масло, консервы, мука, экспорт, текущие счета и поджаренные початки, которые я так любил в детстве…
А когда мы спустились к берегу зеленого моря, то оказалось, что нам предстоит нырнуть в него. Кукуруза поднималась стенами, почти смыкавшимися у нас над головой.
Эллен совсем притихла, стала маленькой, ручной… Я даже погладил ее локоть. Она улыбнулась.
Я тотчас остановил машину, и мы, взявшись за руки, углубились в кукурузные джунгли. Она боязливо прижималась ко мне. Я взял с собой купленный тамагавк, готовый защищать ее от леопардов, аллигаторов и анаконд.
Небо закрывалось облаками из спелых кукурузных початков. Как, наверное, радуется, глядя на них, отец!
В городе я всегда знал, что делать, а здесь был робким простофилей и только боялся выпустить ее пальцы… Когда Эллен присела на землю, окруженная могучими стеблями, я прилег около нее.
Она была грустна и, быть может, не замечала меня.
— Рой, хотели бы вы жить в другой стране?
— Нет, — признался я.
— Даже если бы я позвала вас?
— С вами хоть в Антарктиде, в пучине Тускарроры, на Луне, в Подмосковье или на Марсе.
Она наклонилась и спутала свои волосы с моими.
Я был подлинным олухом и только дрожал.
М Э-ээ! Целуются, целуются! Э-ээ! Как не стыдно! Голубочки, любовники, кошки на крыше!
Я порывисто обернулся на крик. Черт возьми! Это был веснушчатый парнишка лет одиннадцати, с бандитской рожей, чумазый, перепачканный машинным маслом или сапожной ваксой.
— Э-ээ! Как не стыдно! Ээ-э! — прыгал он на одной ноге.
Осел! Мне действительно было стыдно, что он неправ… Я замахнулся на него тамагавком. Эллен перехватила мою руку.
Тут я узнал своего племянника Тома, а он меня.
— Дядя Рой! Я не знал, что это вы, право не знал. Как вы поживаете, дядя Рой, и вы, леди?
Он мгновенно стал воплощением изысканной вежливости и даже шаркнул ножкой, хоть стоял отнюдь не на паркете.
Эллен, улыбающаяся, поднялась, подошла к мальчишке и потрепала его рыжие волосы. Я дал ему приветственного щелчка. Все вместе мы вышли на дорогу.
Около моего кара стоял трактор на резиновом ходу с прицепом, нагруженным початками.
— Ой, дедушка от радости подскочит выше кукурузы! — трещал сорванец. — Сейчас такая жаркая работа. Приходится шпарить. Очень надо помочь. Ведь вы поможете, не правда ли, дядя Рой?
— Это даже интересно, Рой! А почему бы не помочь? Прибавится впечатлений, — решила Эллен, стряхивая платье от былинок.
Парнишка забрался на свой трактор.
— Уже вечер, — заметил я. — Ты едешь в последний раз на ферму?
— Что вы, дядя Рой! Дедушку и папу не утянешь дотемна даже «Катерпиллером». Мне придется тащиться еще раз или два. Мы сегодня нажариваем с четырех часов утра. Мама и бабушка скачут дома, как ковбои.
— Молодец! — сказал я. — Можешь считать за мной еще щелчок. Слезай.
Я сел на трактор. Эллен взяла мальчика к себе и доверила ему руль.
— У нас никогда не было такой шикарной машины! — восхищался паренек.
Они уехали вперед. Я тащился с прицепом.
Наконец знакомый поворот. Вот и здания фермы! Ого! Отец выстроил-таки задуманный им механический ток. Да, я знаю, он не мог не сделать этого. Он только потому еще и держится в неравной борьбе с сельскохозяйственной компанией, что до предела механизирует свое маленькое хозяйство.
Мама бежала ко мне по дороге.
Я остановил трактор и тоже побежал к ней.
Она запыхалась, сняла очки в вычурной оправе, которые я прислал ей из Нью-Йорка, сразу стала родной, знакомой, только уж очень морщинистой и сухой, костлявенькой, когда я ее сжимал в объятиях.
Мы вместе пошли по дороге. Навстречу вприпрыжку несся Том, чтобы привести оставленный мной трактор.
Мать утерла платком глаза.
— Вот даже ребенку нет отдыха, — вздохнула она.
— Ничего, ма, мы приехали с Эллен на несколько дней и поможем в уборке.
— Ой, как же можно! Она такая леди! У нее богатые родители?
— У нее богатая родословная, не хуже, чем у знаменитого скакуна. Она сама предложила мне помочь вам.
Пока Эллен переодевалась, а мать хлопотала по хозяйству, мы с Томом и сухопарой сестрицей Джен разгрузили прицеп.
Вышла Эллен, совершенно прелестная в мальчишеском комбинезоне, в платочке, завязанном под подбородком «а ля рюсс».
Я тоже успел надеть комбинезон, отцовский, перепачканный, и выглядел героем пролетариата.
Маскарад нам пригодился. Отца и зятя мы застали за починкой кукурузного комбайна. Наскоро поздоровавшись, я полез под машину с гаечными ключами. Эллен, стоя на коленях, подавала мне инструмент.
Когда я вылез, отец шепнул, что зто хорошо, что она не боится работы.
Он был все такой же, отец, в мятой старой фетровой шляпе, в затасканном пиджаке, покрытом масляными пятнами, рыхлый, неподвижный, совсем седой, с кирпичным обветренным и унылым лицом.
Стало совсем темно. Я освещал дорогу фарами. Мы с отцом примостились на тракторе вдвоем. Эллен и Том ехали на прицепе и пели веселые песни. Старательный зять, отец Тома, вел сзади комбайн.
— Очень плохо, сынок, — говорил отец, — С одной стороны, душит банк. Я же не мог обойтись без ссуды. Надо было построить ток, купить этот комбайн. Хотел подешевле, а он портится… С другой стороны, эти оптовые цены. Их опять снизили на четыре с половиной процента. Эх, если бы объединиться всем оставшимся фермерам и самим сбывать кукурузу!.. Ведь подумать только, сколько мы теряем! Да, мало нас осталось, еще не разорившихся… и каждый смотрит в сторону… Как тут выдержать? Спасибо, хоть ты немного долларов присылаешь… Рассчитываешь хорошо заработать? Так, сынок? Храни тебя бог, дорогой Рой! А у меня концы с концами не сходятся. Разве я могу нанять работника? Я бы сразу разорился. Ты правда, сможешь помочь в эти дни? Тогда я, пожалуй, выскочу…
Поздно вечером все собрались у стола. Том так и уснул, уронив рыжую голову рядом с тарелкой и не выпустив вилки из рук. Отец важно восседал в старинном, прадедовском кресле, тщательно ремонтируемом всеми поколениями, и просматривал газеты. Мать умилялась, глядя на Эллен, которая, не поднимая головы, штопала рваные носки, буквально отнятые у матери. Я смотрел на нее и удивлялся. Джен вздыхала, разглядывая ее костюм, прическу туфли и профиль. Зять старательно таращил осоловевшие от усталости глаза и не уходил из уважения к гостям.
— Что это вы тут пишете, сынок? Зачем вам опять понадобилась холодная война? Что вы хотите заморозить?
— Хотя бы священное статус-кво, — неохотно отозвался я.
— Я не понимаю вашей латыни, но если африканцы не хотят нас, то нечего им грозить… натравлять их друг на друга… да еще и подсовывать одной стороне ядерную бомбу… Мало нам руанского взрыва? Или нужен еще какой-нибудь чикагский взрыв?
— Чепуха! Америка будет в стороне, она здесь ни при чем. Африканцы могут взрывать свою Африку хоть ко всем чертям.
— Постой, но ведь ты собираешься туда?
— Что ж делать, па, журналисту нужны впечатления.
И тут мать залилась слезами:
— Ты погибнешь там, мой мальчик!..
— Вот-вот! Хорошо бы все американские матери поплакали… заблаговременно, — ворчал отец.
Ну что я мог объяснить ему, этому простаку! Разве он в состоянии уяснить, что ядерное оружие послано нам богом как оружие, справедливости, которым можно сдержать наступление коммунизма на свободный мир. Он ответит, что все это давно читал, и упрямо качнет головой.
Эллен ночевала в комнатушке Тома, которого Джен взяла к себе. Ночью дверь комнатушки оказалась запертой. Пристыженный, я пошел спать на улицу под гигантским старым вязом, ветви которого в свое время облазил.
На рассвете отец поднял меня. Эллен была уже готова, снова мальчишески прелестная, в платочке, с опущенными, чуть лукавыми глазами.
Мы проработали три дня, три счастливейших дня моей жизни. Я даже полюбил эти семейные вечера с хлопотами матери, с открытым ртом Тома, с искрящейся, завистью Джен, вялой тупостью зятя и воркотней ничего не понимающего в политике отца, зудящего об оптовых ценах, ссудах, процентах, удобрениях, конкурирующей компании… Что-то чистое, патриархальное, бесконечно уютное и честное было во всем этом!..
А Эллен! Я готов был стать фермером, всю жизнь забрасывать механической швырялкой размельченную кукурузную массу в башню для силосования, лишь бы мне помогала совсем новая, удивительная Эллен. А как она разговаривала со старшими! Почтительно, не поднимая глаз, всегда занятая какой-нибудь работой. Или она превосходная актриса, решившая поозорничать, или сокровище!
Отец и мать, даже вечно раздраженная Джен — все были без ума от нее. Отец подмигнул мне и сказал, что к моему возвращению из Африки приторгует для меня соседнюю ферму. Бедняга Картер совсем разорился, все идет с молотка, можно будет купить хозяйство за бесценок.
В последний вечер Эллен, отвечая на расспросы отца, рассказывала о себе. Да, она кончает сейчас колледж. Теперь модны точные науки. Может быть, станет преподавать их или устроится на другую работу.
Отец вздыхал и подмигивал мне.
— Работа, работа. На ферме ее хоть отбавляй!
Родители ее давно умерли, она их не помнит, продолжала Эллен. Старый мистер Сэхевс воспитывал ее и хочет от нее очень многого. Она еще знает языки. Может быть, это тоже пригодится.
— Вот Тома обучите! — смеялся старик. — Он будет водить по ферме иностранных туристов и показывать им, как надо хозяйствовать.
Эллен сказала, что в последний вечер хочет погулять.
Мы пошли с ней в гору к лесу. Перед нами была уходящая в небо тень, за нами — лунное море равнины.
— Слушайте, Рой. Я хочу проверить вас. Возьмите апельсин.
— Вам очистить его?
— Нет. В состоянии вы положить его себе на шляпу? Я отойду на двадцать шагов. Не бойтесь, я не промахнусь.
— Из чего? — посмеялся я.
Но она достала из сумочки настоящий револьвер. Я только развел руками.
— Если вам хочется продырявить мою голову, то пожалуйста. Но я рискую не из смелости, а будучи уверен, что при лунном свете вам и в голову мне не попасть, пусть она даже распухнет от изумления.
Эллен рассмеялась, отняла у меня апельсин, высоко подбросила в воздух и выстрелила в него.
Апельсин упал шагах в десяти. Она подбежала к нему, подняла и бросила мне. Я хотел поймать на лету, но промахнулся. Апельсин покатился под гору, я едва догнал его.
Черт возьми! Он был прострелен…
— Теперь слушайте, Рой. Я попробовала этой жвачки… Но я предназначена для другого. Может быть, лучше было бы положить апельсин вам на голову и выстрелить чуть ниже цели. По крайней мере мне не нужно было бы сейчас мучиться…
— Конечно, я безоружен, мисс гангстер…
— Я не шучу. Мне больно. Я позвала вас проститься со мной.
— Разве мы не едем утром вместе?
— Нет, Вы проводите меня сейчас до железнодорожной станции. Я уже посмотрела расписание. Проводите… навсегда…
Я не хотел верить ушам. Я не знал, что она умеет плакать.
Она не позволила будить стариков. Мы ушли на станцию, крадучись, пешком, без автомобиля.
Я все никак не мог привыкнуть к ее причудам и уверял себя, что все обойдется. Ведь мы уже прощались раз в Нью-Йорке…
На перроне заштатного полустанка, где на каждого пассажира смотрят открыв рот, мы стояли, тесно прижавшись друг к другу, и молчали.
У меня вдруг горько защемило сердце, захотелось своей фермы, жены с прелестной мальчишеской фигуркой, дедовского кресла. Я отогнал от себя глупые видения. Что ж, мы снова увидимся в Нью-Йорке!.. Я так сказал ей.
— Вы ничего не поняли, милый Рой, Мы никогда больше не увидимся.
Мне стало не по себе.
— Нет, нет… не потому… — добавила она быстро. — Вы милый, родной… Но так надо… Это уже не зависит от меня… Какое страшное слово никогда…
С грохотом подошел поезд и тотчас двинулся.
Ее уже со мной не было. Я ощущал только вкус поцелуя на губах и легкий ее аромат…
Я побежал вслед за поездом, остановился у стрелки и заплакал.
Глава восьмая ОБЩЕЕ ДЫХАНИЕ
Сергей Буров еще в детстве, когда жил с родителями в Крыму, любил нырять с открытыми глазами. Удивительный мир под водой! Вокруг как бы плотный воздух, меняющий цвет с глубиной, напоминая то просвечивающую весеннюю листву, то мрак ночи. Там не плаваешь, а вместе с быстрыми чешуйчатыми птицами будто летаешь над колеблющимися лесами, над мягкими бархатными скалами. Вверху играет тенями прозрачное «небо», Его можно пронзить и, вынырнув на поверхность, глотнуть желанного воздуха, на миг увидеть слишком резкие облака, слишком яркое солнце, слишком четкие берега…
Воспоминания детства! Буров плыл в акваланге, освещая путь лучом прожектора, закрепленного у него на лбу, как зеркальце у врача. Он управлял электрокарой, которая буксировала контейнер с приборами.
Фантасты мечтали о завоевании подводного мира, пересаживали человеку жабры акулы. Ученые пожимали плечами. Новое существо уже не походило бы на человека, должно было бы пропускать через себя бочки воды… Жизнь по-своему осуществила мечту. Не приспособление к природе, а подчинение ее разуму, способному техникой заменить биологические органы. Акваланг позволил человеку спуститься в море и быть таким же легким и свободным, как на его поверхности. И человеку открылись подводные материки! Приспособление его организма казалось безграничным. Аквалангисты жили на дне океана, не выходили на поверхность по неделям, создавали подводные колонии. Смельчаки доказали, что могут опускаться на поразительные глубины.
Буров встал на дно, ухватился за водоросли, выключил подводную электрокару.
А неподалеку от него тоже в водорослях замерла, притаилась тень, напоминавшая изящное и ловкое в воде тело нерпы. На Бурова смотрели такие же огромные, как у нерпы, глаза, но… это были очки подводной маски, через которые за Буровым тревожно наблюдала его помощница Шаховская.
…Так же тревожно следила она за Буровым в Великой яранге, когда после ухода Овесяна и Веселовой-Росовой он сел за стол, стал что-то писать, рвал написанное и снова писал.
— Письмо запорожца научным султанам? — спросила Елена Кирилловна.
Буров нахмурился:
— Думаете, что на мне сказывается беда века — примат образования над воспитанием?
— Думаю, что главную черту характера в вас воспитали. И вы не отступите из-за ложной обиды и жалкого самолюбия.
Буров ничего не ответил и твердым почерком закончил докладную записку о проведении части опытов по плану Веселовой-Росовой в подводной лаборатории, в которую можно превратить кают-компанию затонувшего ледокола, заполнив ее, как кессон, сжатым воздухом, чтобы вытеснить воду.
Овесян и Веселова-Росова созвали совещание, пригласив на него капитана ледокола-гидромонитора Терехова и прибывшего для подъема затонувшего корабля начальника экспедиции Эпрона Трощенко. Подводники вызвались помочь физикам. План Бурова был принят.
Буров мог торжествовать, но виду не подал.
Шаховская посматривала на него с лукавой улыбкой. А Люда чувствовала себя уязвленной. Ее несравненная Елена Кирилловна стала слишком много внимания уделять Бурову, даже вместе с ним возвращалась теперь с работы, а Люда вынуждена была тащиться сзади. В довершение всего она узнала, что ее не берут на дно. Буров с Еленой Кирилловной будут там вдвоем!.. Она убегала на берег моря к любимой своей скале, с которой впервые увидела русалку…
Корабли Эпрона работали в зоне действия подводного вулкана. К ледоколу требовалось подвести понтоны, заполнить их воздухом, с их помощью заставить корабль всплыть.
Начальник экспедиции подводников решил вместе с Буровым осмотреть затонувший корабль. Трощенко устраивало, что физик был опытным аквалангистом.
Катер подводников доставил двух смельчаков в район, где затонул ледокол. Извержение вулкана прекратилось, но вода здесь не замерзала и в нескольких местах клокотала, над ней клубились тучи пара и дыма.
Спрыгнув с катера в воду, они поплыли рядом на небольшой глубине. Скоро под ними в зеленоватой толще выросла громада затонувшего судна. Они подплыли к ней, потрогали руками скользкий борт, ощупали выступы иллюминаторов и стали подниматься.
В свете прожекторов появилась ажурная тень реллингов.
Эпроновец первым встал на накренившуюся палубу. Буров опустился рядом с ним. Минута молчания…
Потом они поплыли над палубой. Ледокол не походил на затонувшее судно. Нигде не было ни ила, ни ракушек, ни рыб, шныряющих меж снастей. Корабль словно попал в густой туман.
Внизу в коридоре тумана не было. Прожекторы освещали прозрачную воду. Казалось даже, что ее нет.
Вошли в кают-компанию. Рояль стоял на обычном месте, стол — посередине, но стульев не было. Буров взглянул вверх и увидел, что все они плавают там кверху ножками. Он дотянулся до спинки одного из них и качнул его. Ножки закачались, не задевая за потолок.
Подводники радостно пожали друг другу руки. Они увидели то, чего так хотели: воздушный мешок под потолком! Цомещение годилось для кессона!
Эпроновцы блестяще справились со своей задачей. Они протянули от спасательных кораблей к ледоколу воздушные шланги. По ним в кают-компанию накачали сжатый воздух, вытеснив им воду. В освобожденное от воды помещение из Великой яранги провели электрические кабели различных напряжений, под руководством Бурова перенесли туда лабораторное оборудование.
Буров отказался от многих добровольцев-помощников, он взял с собой только Шаховскую.
Спрыгнув с эпроновского катера, он плыл рядом с ней под водой, вспоминая их первое купание. Чуть отстав, освещая ее прожектором, он любовался ее уверенными движениями.
Оказывается, она и с подводным спортом знакома!
В кают-компанию нужно было попадать снизу из трюма через специально пробитое отверстие. Двери же кают-компании были теперь задраены наглухо.
Эпроновец Трощенко плыл впереди физиков, освещая лучом нагромождение ящиков в трюме. Около светлого пятна в потолке он остановился и жестом предложил Бурову вынырнуть здесь.
Буров выбрался сквозь пробитое в палубе отверстие, как из проруби, и ступил на паркетный пол, оставляя на нем мокрые следы. Он протянул руку, помог подняться на паркет и Шаховской. Она выпрямилась, сняла маску и зажмурилась от яркого электрического света.
Казалось странным вынырнуть в роскошной, отделанной дубовыми панелями комнате с роялем, отодвинутым в угол, с лабораторным распределительным щитом, с желтыми полосками шин, с уникальным плазменным ускорителем, доставленным сюда вместо громоздкого синхрофазотрона.
— Ну вот мы и дома! — объявил Буров.
— Тогда я переоденусь, — сказала Шаховская. Она отошла к ширме около рояля, где на диване было заботливо приготовлено все необходимое для переодевания.
Через минуту Шаховская появилась уже в легком, облегающем ее фигуру комбинезоне.
Буров докладывал по телефону Веселовой-Росовой о благополучном прибытии.
— Приступаем к работе, — закончил он.
— Я только подсохну, и обратно, — словно оправдываясь, сказал Трощенко, который сидел на полу, свесив ноги «в прорубь».
Ученые сразу же приступили к работе. Трощенко, обхватив мокрое колено руками, наблюдал за ними. Особые эти люди!.. Чтобы изучать космические лучи, как альпинисты, поднимаются по кручам в поднебесье, теперь вот опустились на дно…
Потом он простился, напомнив, что в капитанской каюте дежурят его эпроновцы, — они всегда придут на помощь, — и уплыл.
Физики остались одни.
Шаховская открывала в Бурове все новые черты.
Экспериментатор — это не просто ученый-физик, знающий свою область. Помимо научной дерзости, знаний, равняющих его с теоретиками, он еще должен быть инженером, конструктором, изобретателем, способным не только провести тончайший опыт, продумав его во всех деталях, но и придумать весь арсенал опыта, изобрести неизвестное, иной раз своими руками смастерить никогда не существовавшую аппаратуру, оставив попутно в технике важнейшее изобретение, а для себя — всего лишь очередной неудавшийся опыт, который будет забыт.
С яростным весельем набрасывался Буров на работу. Он словно радовался, когда обнаруживал, что чего-то не хватает и надо это делать самому. Он становился за тиски, пилил, резал, Шаховская наматывала катушки, паяла… Ведь им нельзя было выйти в соседнюю лабораторию за любой мелочью.
Понадобились изоляторы. Их не было. Буров посмотрел на потолок, увидел люстру. Поставил стул на стол, забрался на него и снял плафоны. Из них получились великолепные изоляторы.
Шаховской потребовались металлические нити. Он, не задумываясь, вынул из рояля струны и победно протянул их помощнице. Из этих же струн он устроил великолепную подвеску для особо точного прибора, чтобы на нем не сказывалось дрожание морского дна вблизи действующего вулкана.
— Как вы себя чувствуете в одиночном заключении? — весело спросил он Елену Кирилловну после работы.
— Я бы не сказала, что оно одиночное, — ответила Елена Кирилловна, стеля себе на ночь на диване за ширмой.
Буров располагался в другом конце кают-компании на угловом диване, который был ему явно короток.
— Слушайте, Буров, — послышался из-за ширмы голос Шаховской. — Я бы не поверила, что буду спать с вами в одной каюте… того же самого ледокола…
— Это не каюта, — ответил Буров. — Это полевая палатка. Геологи или саперы в ней не задумывались бы о соседстве друг с другом.
— Вы все-таки, Буров… настоящий… — сказала Шаховская.
Буров уже спал.
— А вы храпите! — с возмущением сказала она ему наутро.
— Храплю? — весело отозвался Буров. — Значит, вы мало работали вчера, если могли слушать мои ночные концерты.
На следующий день работа так вымотала Шаховскую, что она ночью уже ничего не слышала.
Они не поднимались на поверхность две недели, пока не подготовили эксперимент.
Во время эксперимента Елена Кирилловна надела на голову наушники с микрофоном и каждую минуту передавала в Великую ярангу ход опыта. Проводили его под водой двое, но заочно участвовали в нем все научные сотрудники Великой яранги, включая Марию Сергеевну и приехавшего Овесяна.
Эксперимент был проведен. Результат взволновал всех.
Ядерные реакции в затонувшем судне не происходили, как не происходили они под водой в месте, где существовало прежде «Подводное солнце». Таким образом было доказано, что морская вода и ее примеси не имеют никакого влияния на ход ядерных реакций, влияет что-то другое.
Буров держал в руках фотографию, полученную под водой в камере Вильсона, где оставался след от пролетавших элементарных частиц. Не выпуская ее, он сжал помощницу в объятиях!
— Вы понимаете, что это такое? Понимаете?
— Я понимаю, что вы сломаете мне кости.
— Видите? Какая-то сила поглощает нейтроны, не дает им разлететься! Они не долетают до соседних атомных ядер, не могут разрушить их.
— Но вы можете. Умоляю, отпустите.
— Это же субстанция!.. Неведомая субстанция. Ее нужно поймать! Это же протовещество!
Буров был весел как мальчишка, глаза его горели, волосы были растрепаны, он весь словно искрился, как наэлектризованный.
А потом пришлось скучно повторять одно и то же. Веселова-Росова желала удостовериться, требовала дотошных проверок.
Буров поручил повторять опыт Лене.
— Там, где требуется упорство, непогрешимость и дотошность, незаменимы женские руки, — заявил он.
Сам он углубился в подготовку сложнейшего эксперимента, который должен был разгадать физическую сущность открытой субстанции.
Он хотел проверить, как действуют на нее тяготение, электрическое и магнитное поле.
В Великой яранге волновались, вызывали Бурова наверх для доклада и обсуждения результатов, но Буров не хотел об этом и слышать, он должен был найти самое главное. Кроме того, организмы «подводных физиков» привыкли к повышенному давлению. Смена давления могла даже вывести их из строя.
И снова «фантазер от науки» предложил неожиданное инженерное решение. Нужно было определить «размещение» загадочной субстанции. Он потребовал, чтобы эпроновцы помогли ему путешествовать вместе с ледоколом по дну!..
Буров не знал, как реагировали вверху на его новую, безумную, как, наверное, сказал Овесян, затею, он только настаивал, доказывал до хрипоты, требовал.
Трощенко, этот немногословный эпроновец, и капитан ледокола Терехов поддержали его. Они заверили академика и профессора Веселову-Росову, что ледокол можно передвигать.
Это была необыкновенная операция в практике Эпрона. Подводник, доставивший физикам в их подводное заточение продукты, рассказал, что понтоны скрепляют сейчас с ледоколом, судно будет приподнято над дном, а спасательный корабль с помощью стального троса станет буксировать судно над дном, перемещая его по желанию физиков.
Буров обнял мокрого водолаза, потом, бодро насвистывая, принялся за подготовку задуманного опыта.
Эксперимент был повторен несколько раз по мере перемещения ледоколам Результат был все тот же. Субстанция равномерно заполняла пространство вокруг подводного вулкана.
Тем временем Бурову удалось уплотнить «субстанцию» в магнитном поле.
Это уже было великим достижением! На Большой Земле физики-теоретики принялись объяснять сделанное открытие, подводя под нее математическую базу. Буров не ждал их выводов, он решительно шел по намеченному пути. Он уже знал, что субстанция имеет физическую сущность, что ее может быть больше, может быть меньше. Он решил, что ее можно принести, собрав у самого кратера вулкана.
Елена Кирилловна испугалась. Буров не должен был так рисковать! Но Буров не хотел и слышать об излишней осторожности. Он решил, что доставит субстанцию в электромагнитном сосуде, сам отправится с таким сосудом в подводный рейс, поскольку корабль был бы слишком большой мишенью для вулканических бомб. Он не позволил Шаховской сопровождать себя.
Весь вечер он сооружал «электромагнитное хранилище». Лена помогала ему делать обмотку электромагнита, готовить аккумуляторы подводной электрокары, которые должны были питать электромагнит. Буров был верен себе и приспосабливал для своих целей все, что имел под рукой.
Ночью, приказав Шаховской спать после его ухода, он облачился в подводный костюм и спустился в отверстие в полу кают-компании. Лена опустила за ним следом подводную электрокару и контейнер с приборами, который нужно было буксировать.
Но Шаховская не осталась в лаборатории. Она не хотела отпустить Бурова одного. Она быстро переоделась и нырнула за ним.
Было очень страшно в темноте трюма. Вынырнув на палубу, она успела заметить свет от прожектора Бурова. Электрокара с контейнером двигалась очень медленно. Лена смогла догнать ее и осторожно следовала за Буровым.
На всякий случай она все-таки сообщила по телефону Трощенко о предпринятом рейде. Эпроновец забеспокоился.
Буров приблизился к подводному кратеру. Вода здесь была совсем непрозрачная, наполненная пузырьками пара. Время от времени возникали шипящие полосы. Это могли быть только камни.
Буров открыл сосуд. Забулькал выходящий воздух. Сосуд наполнился водой… и субстанцией. Буров включил ток электромагнита. Теперь она никуда не денется.
Шаховская, затаясь, неотступно следила за Буровым.
Подводный пейзаж изменился. Луч прожектора Бурова словно пробивался сквозь белый туман. Внезапно Лене стало не по себе. Одновременно справа и слева от нее раздался шипящий свист. В грудь ей ударила волна, вероятно, горячая… И тут же около Бурова возник косой белый столб. Лена ринулась к нему.
Он нагнулся над чем-то и раскачивался, будто раздумывая. Лена подхватила его и заметила, что его заплечный мешок с аппаратом дыхания сорван. Раскаленный камень, вылетев из подводного жерла вулкана, не только ранил Бурова, но и лишил его возможности дышать… Если он не был убит, то должен был сейчас задохнуться.
Лена схватила Бурова, повернула его лицо к себе, осветила прожектором. Сквозь залитое кровью стекло было видно, как рот Бурова судорожно ловит воздух.
Она не колебалась. Торопливо сняла свой заплечный аппарат и трясущимися руками стала присоединять его к сохранившемуся шлангу Бурова.
Да, у них будет общее дыхание… Пусть обоим не хватит воздуха, но дышать будут оба… Она знала о подобном случае с космонавтами на Луне. Женщина-космонавт присоединила свой дыхательный аппарат к костюму другого космонавта, чтобы общим дыханием спасти его…
Костюмы двух водолазов оказались скрепленными. Буров был без сознания. Лена включила электрокару, обвязав себя и Бурова буксирным канатом.
Электрокара выносила водолазов из клокочущего ада. Вслед за ней, прошивая водяную толщу, летели выброшенные из кратера камни.
Скорее бы добраться до корабля!
Лена старалась не дышать. Она словно ныряла… Воздуху не хватало, в голове мутилось, в висках стучало…
Включенный на самый быстрый ход мотор электрокары не отказал. Электрокара домчала водолазов до корабля. Не управляемая, она ударилась о борт, скользнула вверх и пошла к реллингам. Последним усилием Лена выключила мотор…
Глава девятая СНОВА ХОЛОД
Тяжела мертвая зыбь. Мистеру Джорджу Никсону казалось, что нет никакой волны, но исполинские морщины океана незаметно и неумолимо вздымали на себя и судно, и даже весь мир земной…
Этот мир земной воплощался для мистера Джорджа Никсона в зыбкой палубе предоставленного ему полицейского катера, который он злобно проклинал вместе с почтительными полицейскими чинами и обиженной супругой в бриллиантах с припухшими глазами.
Что женщина понимает в бизнесе!
Мистер Джордж Никсон страдал морской болезнью, не выносил мертвой зыби и женских слез. Его жесткое лицо с обозначившимися подглазными мешками позеленело, как морская трава. Невысокий, но сбитый, крепкий, обхватив сильными пальцами холодные прутья реллингов, он откинулся на вытянутые руки, сохраняя достоинство. Его маленькие сверлящие глаза неотрывно смотрели назад, на взбитую винтом пенную полосу за кормой, на далекий горизонт, из-за которого словно прямо из воды, как в дни нового всемирного потопа, поднимались четкие башни небоскребов.
Что понимает женщина в политике!
Статуя Свободы, сторожившая с холодным каменным факелом в руке выход из порта, исчезла первой вместе с тюремным замком у ее ног…
Небоскребы выше. Они остались. И это символично! Мистер Джордж Никсон разглядывал зубцы на горизонте, припоминая названия зданий.
Да, в новом «всемирном потопе коммунизма», как ноевы ковчеги свободного предпринимательства, видны еще над поверхностью и Эмпайр-стейт-билдинг, этот столб американского просперити, и Эдиссон-билдинг, символ высоты американской техники, и Рокфеллер-центр, скала мира частной инициативы! Надо шепнуть парням, чтобы использовали эти мысли в своих статьях. Выше всех поднимается, сверкая на солнце, как горный пик слоновой кости, пластмассовый шпиль Рипплайн-билдинга, который на семнадцать этажей выше самого высокого здания в мире.
Рипплайн! Это надо понимать! Если вновь избранный губернатор задумал отметить свое избрание как торжество своей семьи и силы доллара, если он решил сделать это в открытом море и прислал вместо геликоптера, которого боялась миссис Амелия Никсон, полицейский катер, то приходится все терпеть. Ральф Рипплайн не только учтив, но способен выписать личный чек на 19 миллионов долларов, когда находит нужным спасти какую-нибудь фирму, уничтожить слабеющего конкурента или создать новый газетный трест вроде «Ньюс эид ньюс»…
Отец Ральфа, старый Джон Рипплайн был скуп, сварлив и недалек, но разве не прав был он, борясь против строительства трансконтинентального плавающего туннеля? Мир памяти пароходного короля! Политика и жизнь — цепь ошибок. Арктический мост через Северный полюс между СССР и США был не только построен, но и стал, конечно, местом вторжения коммунизма в американский мир, чего и боялся старик Рипплайн, скупой и тощий рыцарь старого порядка. Его сыну, молодому красавцу Ральфу, политику и бизнесмену дальнего прицела, человеку щедрому, веселому и жестокому, возможно, еще придется закрыть движение поездов в плавающем туннеле…
Сегодня утром мистер Ральф Рипплайн запросто позвонил по радио в редакцию главной газеты Джорджа Никсона. В газете был переполох, но парни там были вышколенные, не подали и виду, что поняли, кто звонил боссу. Мистер Джордж Никсон одной рукой торопливо натягивал снятый для работы пиджак, а другой ухватился за телефонную трубку. Под свежим впечатлением разговора с боссом он торопливо кричал жене:
— Хэлло, Мелли! Двадцать две минуты на вечерний туалет и косметическую магию. Прием на яхте Рипплайна! О’кэй! Губернатор галантен, как учитель танцев, и требователен, как шериф из старого фильма. Придется топтать палубу вонючей полицейской посудины. Что? Почему прием в море? Да чтобы отгородиться от репортеров океаном. Дырка в жилете! Один из них все же будет. И пусть теперь конкуренты из «Нью-Йорк таймса» жуют мои подошвы, им придется утирать свои гриппозные носы нашими сенсационными полосами! Хэлло, детка! Блеск в глазах и на шее, можно и в ушах и, конечно, на пальчиках. Пятьдесят строк отчета только об этом. Я выезжаю.
Мистер Джордж Никсон предусмотрительно не взял свой знаменитый, известный всему Нью-Йорку, комфортабельный автомобиль с телефоном, телевизором и коктейлями, а заехал за миссис Амелией в потрепанной автомашине метранпажа.
Кто поймет женщин! В конце концов она могла бы быть более довольной и не так уж бесцеремонно пилить супруга, воспользовавшись отсутствием шофера.
— Джордж, мне не нравится яхта в открытом море и совещание без репортеров, — сразу напала она. — Здесь пахнет радиоактивным дымом. Это Африка.
— Вы носите брильянты, найденные в Африке, моя дорогая, и об этом пишут газеты. А я делаю бизнес. На холоде, если хотите.
— Джордж, вы не впутаетесь в это липкое дело, не примете никаких предложений.
— Не делайте вид, милая, будто вы глотнули уксуса вместо коктейля. Было время, когда вы сами устраивали деловые свидания для своего супруга.
— Для Кандербля? — ужаснулась миссис Амелия Никсон. — Оставьте это чудовище! Я не желаю слышать его имени.
— Женщины меняются, как дела на бирже, — раздраженно брюзжал Джордж Никсон, решив вдруг вспомнить всех былых соперников. — Такой ли вы были, когда мы охаживали вас с проклятым Майком.
— К сожалению, он не был тогда сенатором, — огрызнулась Амелия.
— Но и сенатор ныне не миновал тюрьмы.
— А я ныне не хочу больше авантюр, я хочу покоя! — воскликнула миссис Амелия.
— Кто станет вас еще раз похищать? — покосился на нее Джордж Никсон. — У гангстеров тоже бизнес.
Мистер Никсон намечал на похищение миссис Амелии в дни «Рыжего процесса», когда ее жених Майкл Никсон был обвинен в убийстве невесты и должен был сесть на электрический стул. Как известно, он сбежал из тюремного двора на геликоптере. Миссис Амелия уже позже, освобожденная гангстерами и прославленная газетами, отказалась от жениха.
— Уж ваш бизнес, сэр, мне известен! — зашипела миссис Амелия. — Провал на «Рыжем процессе», потом ринг с подозрительным нокаутом негра Брауна.
Джордж Никсон усмехнулся, трогая машину с места:
— Ставки были очень велики, моя дорогая, очень велики. Пусть Ральф Рипплайн тогда немного проигрался, но зато заметил Малыша. И, главное, судя по сегодняшнему приглашению, продолжает замечать. А это куда лучше, чем булькнуть, как часы в колодце.
— Уж не знаю, где лучше: на дне колодца или на дне радиоактивного кратера.
— Или на тихом дне семейной жизни, на которое вы меня тянете, как камень на шее.
Мистер Джордж Никсон, заворачивая за угол, свистнул. И это почему-то особенно возмутило миссис Амелию, дало ей повод разлиться Ниагарой слез, не считаясь с тем, как эти потоки скажутся на ее внешности. А мистеру Джорджу Никсону это было совсем не безразлично. На яхте не то общество, куда можно являться в любом виде.
Женщина, особенно плачущая, ничего не понимает в бизнесе! К несчастью, унять ее можно только полной капитуляцей. Чертовы женские слезы! Они, как плавиковая кислота, проедают даже мужскую твердость! И мистер Джордж Никсон, которому предстояло в жизни проявить твердость почти сверхъестественную в условиях совершенно невероятных, перед слабой женщиной, навязанной ему судьбой, собственным упорством и господом богом, остановился, как перед красным светофором, и капитулировал.
— Милли, право… Ну, не надо… Газеты — это тоже неплохо.
— И если марсианский наряд или нокаут безобразного негра принесли вам какое-то богатство, положение и собственные газеты, о которых вы мямлите, то надо вовремя остановиться! — продолжала рыдать миссис Амелия.
— Может быть, заедем к доку, чтобы он реставрировал после слез известный всем газетам портрет? — осторожно предложил мистер Джордж Никсон, но вызвал этим уже не Ниагару слез, не водопад Виктории, даже не водопады Игуасу, а исполинскую слезную цунами, волну моретрясения, что начисто смывает острова с пальмами, обезьянами, хижинами туземцев, а также морские порты и… в данном случае остатки мужского сопротивления.
Все же к доктору благоразумно заехали. Что делать! У всякой красивой женщины в известном возрасте, когда косметика выдыхается, начинают шалить нервы. Доктор был не хуже живописца, и если бы не чуть припухшие глаза миссис Амелии, то фоторепортеры могли бы работать хоть с цветной пленкой.
Мистер Джордж Никсон вспомнил об Африке — ну, туда найдется кого послать, — но вот Капитолий… и другие белые здания, которые его окружают. Вот где надо иметь проверенных деловых людей. По-видимому, об этом и пойдет разговор на яхте…
Полицейский катер подходил к яхте с подветренной стороны. Причуда миллионера, яхта начавшейся космической эры была… парусной. Конечно, у нее в трюме стояли мощные двигатели, даже атомные двигатели, но на всем судне не было и фунта каменного угля. Великолепный корпус с совершенными линиями, рожденными тысячелетним опытом плавания под ветром, с могучими мачтами, где по мановению нажатой кнопки вдруг оживает парусина, ослепительная белая краска бортов с оранжевыми полосами и фигура прекрасной женщины на бушприте, бегущей в развевающихся одеждах по волнам, — все это делало яхту Рипплайна удивительным сооружением, полным технических новшествий романтики старины.
С высокого борта были сброшены веревочный шторм-трап для Малыша и плетеная корзина со скамеечкой для дамы. Электрическая лебедка подняла Амелию раньше, чем ее проворный супруг, не оставлявший былых тренировок, взобрался на сияющую палубу.
Как и других гостей, их встретил Ральф Рипплайн.
Миллионер Бильт с багровой шеей и неизменной сигарой, огромный Хиллард, стальной магнат, похожий на состарившегося чемпиона по поднятию тяжестей, сверстники уже почившего Рипплайна, его союзники и противники со своими женами и дочерьми прилетели на геликоптерах, на прием которых была рассчитана корма судна. Были здесь и другие денежные воротилы, в том числе и представители домов Моргана и Рокфеллера, также с дамами.
Миссис Амелия Никсон, полная чопорного достоинства и страха, под приветливыми улыбками и враждебными взглядами первых леди Америки медленно приближалась к ним.
Ее оценивающе осматривали, протягивали ей руки, вспоминали о королеве сенсации мисс Амелии Медж, похищенной гангстерами. Амелия в ответ вежливо улыбалась и сердечно уверяла всех, что терпеть не могла газет, которые упоминали ее имя.
Одна из юных дам отвела миссис Амелию в сторону:
— Право, мне хотелось бы, чтобы и обо мне говорили столько же, сколько о вас, обо мне, а не о капиталах моей семьи или могуществе моего будущего мужа.
Амелия осторожно разглядывала свою незнакомую собеседницу. На ней не было никаких драгоценностей, одета она была совсем просто, так просто, как могла себе позволить лишь продавщица универсального магазина или обладательница всем известного и несметного состояния.
— Мужчины отправляются в пиратскую каюту, — сказала девушка, насмешливо глядя на удаляющуюся группу джентльменов. — Говорят, там на стенах висит старинное оружие, и в том числе сабля, которой рубил своих жертв сам старый Моргай, пират, а потом английский губернатор Ямайки, основатель банкирского дома, на яхте Рипплайна достойно представленного.
— Со стороны молодого мистера Рипплайна было бы очень милым подарить эту саблю…
— Хотя бы мне! — со смехом прервала Амелию девушка. — А я надела бы ее на какой-нибудь бал, чтобы вызвать сенсацию. И обо мне говорили бы, как о вас.
Шутя и смеясь, собеседницы вместе с другими нарядными женщинами прошли в просторный салон из стекла и алюминия. Они забрались на высокие табуреты у стойки и потребовали горячительных напитков, употребление которых среди дам считалось модным.
— Я хочу с вами дружить, — сказала молодая леди Амелии. — Мужчины — это загадка. Я мечтаю, чтобы вы поделились со мной всем, что вы о них знаете.
— А вы совсем ничего о них не знаете? — осторожно осведомилась Амелия, чувствуя, что у нее чуть кружится голова после крепкого коктейля.
— Ну… кое-что, — пожала девушка плечами. — Вот, например, о чем они совещаются…
— Очень любопытно, — насторожилась Амелия, думая о муже и о той выгоде, которую он извлечет для газет, присутствуя на совещании магнатов.
— Боже мой! Чудовищная, травоядная скука. Они говорят, скажем, об Африке, о сырье, которое уходит из-под ног, о том, можно ли сохранить капитализм в одной стране… Станет чуть веселее, если кто-нибудь расхрабрится заговорить о взрыве ядерной бомбы, которым следовало бы приостановить распространение коммунизма… особенно в Африке. Будут сетовать на европейское предательство. Съели американские миллиарды и отвернулись… Вспомнят о вредной бесполезности выстроенных когда-то наших баз… И закончат все-таки снова взрывом бомбы, которую надо бросить в решительную минуту в нужном месте. В международном воздухе — снова холод, миледи.
Амелия невольно скосила глаза в огромный, похожий на магазинную витрину иллюминатор. Из-за горизонта торчали столбики небоскребов. Молодая леди заметила ее взгляд и рассмеялась:
— О’кэй! Но в том-то и дело, что бомбу надо так сбросить, чтобы не получить ответную. Тут нужны особая ловкость, тактика ринга, опыт рэкетиров, елейность проповедника и отвага самоубийцы.
Амелия всплеснула руками. Ее собеседница, выбросив соломинку, залпом осушила бокал бьющей в голову жидкости.
— От этого я только трезвее говорю, — указала она глазами на бокал, — словом, им требуется человек с верной рукой, газетной совестью и бульдожьей хваткой. Вы знаете, я думаю, что под саблей Моргана сидит сейчас сам «Ричард львиное сердце». Он хоть и не показывался на палубе, но я его, как живого, представляю там… такой благообразный, холеный и рыхлый.
— Если бы не ваше богатство, — осторожно заметила Амелия, — вы бы сделали карьеру в газете моего мужа.
— Иногда мне хочется, чтобы я не была богата, — задумчиво произнесла девушка. — И порой противно пить эту влажную мразь из-за того только, что это модно… Зовите меня просто Лиз. А о мужчинах я почти все знаю… Я только хотела подружиться с вами и говорю лишнее. Может быть, вы не такая, как все… Вы были несчастны?
— Да… очень, — неожиданно для себя созналась Амелия.
— А вы хотели бы жить снова? Вы поступали бы по-иному?
— Не знаю, — совсем смутилась Амелия.
— И я не знаю… Только мне всегда хочется поступать не так, как поступаю. Зачем мне выходить замуж за Рипплайна? Зачем?
Только сейчас Амелия догадалась, что эта молодая леди — невеста Ральфа, наследница одной из моргановских ветвей.
— Мне кажется, что мы с вами переговорили о многом, об очень многом, — задумчиво сказала Лиз, — или я просто думала здесь при вас… Может быть, я буду такой же, как все, и стану обманывать Ральфа… или попрошу сбросить ядерную бомбу в Африке… или взорву ее вместе с собой и еще с кем-нибудь поважнее. Я не знаю…
Амелия поняла, что времена переменились, сейчас эксцентричность, пожалуй, иная, чем в ее юные дни. А может быть, это и не эксцентричность, а что-нибудь глубже, серьезнее… Она уже боялась обо ей новой знакомой.
Лиз стало скучно или на нее подействовал выпитый коктейль, она пригорюнилась.
— О чем вы думаете? — спросила из вежливости Амелия.
— О чем? — усмехнулась мисс Морган. — О том, какого негодяя они выберут, чтобы делать все его руками?
— Что делать?
— Ах, вы ведь знаете, вас же похищали гангстеры… Только тут надо — целую Африку… Приемы одни и те же… Масштабы другие. Вместо угрожающих писем с орфографическими ошибками — дипломатические ноты с историческими ошибками, вместо стрельбы в воздух — испытательные взрывы, вместо разрывных пуль — «священное оружие справедливости» — оружие меньшинства, которым якобы можно сдержать любое большинство — ядерная сверхбомба. Боже! Когда же пройдет наконец на нее мода и будут носить косы, туники и ездить в колесницах?…
На палубе появились мужчины. Оживившиеся дамы, спешно пудрясь, поспешили выйти к ним.
Мисс Лиз Морган осталась за стойкой.
Амелия нашла мистера Джорджа Никсона. Он стоял у перил и суженными глазами смотрел на восток. Лицо его было бледно, губы плотно сжаты.
— Опять морская болезнь? Это ужасно! — посочувствовала Амелия.
— Нет, дорогая! Все как рукой сняло, — бодро ответил мистер Никсон.
— Вы сделали хороший бизнес?
— Пожалуй!
— Напишете что-нибудь интересное для газет?
— Ни строчки, дорогая! Ни строчки!
— Что же произошло?
— Снова холод, дорогая. Начинается решительный раунд.
— Вам придется драться?
— Еще как! В холодную пору надо помочь «Ричарду львиное сердце». Придется стать… — он оглянулся по сторонам, они были одни, — государственным секретарем, моя милая.
Амелия ахнула:
— Кому?
— Мне, милочка! О! Я кое-что понимаю в нокауте, особенно если он касается кого-нибудь черного.
Амелия смотрела на супруга расширенными глазами, в ушах ее звучал голос Лиз.
А вверху, на мачтах, щелкали парусные автоматы, скрипели блоки. Ветер надувал выпуклые паруса. Красавица яхта разворачивалась, готовая ринуться к африканским берегам.
Океан мирно дышал, поднимая на своей груди и яхту, и воздух вокруг, и небо над ней.
ЧАСТЬ 2. АТОМНЫЕ ПАРУСА
Глава первая В ПЕКЛО!
Дух захватывало… Нет! Какой там захватывало! Духу вообще не оставалось места в бренном, сдавленном скоростью теле, сердце захолонуло… — если оно и продолжало биться, то удары его уже в счет не шли, рот хватал воздух, как после ныряния, и никак не мог набрать его в легкие…
Бешеный самолет летел над землей.
Если бы удалось закрыть глаза! Но они смотрели, расширенные от ужаса, от напряжения, от неестественности того, что видели.
Я взлетал вверх, вдавленный в кресло, я падал, повисал в воздухе, теряя вес, с замершим стоном на губах…
Когда-то пилоты страдали от воздушных ям. Сейчас это были ямы земные.
Только в кошмаре может привидеться, что ты мчишься в гоночном автомобиле, в котором дерзость конструкторов превзошла азарт рекордсменов, и эта сверхмашина, порождение расчета и страсти, вдруг срывается с шоссе, но несется уже так быстро, что не в силах упасть в пропасть без дна. Ум не может осознать это, но механический демон из газовых струй и шариковых подшипников несется… прямо на скалу, которую нельзя миновать. Миг — и все должно разлететься на атомы, но машина, словно насмехаясь над законами природы, чуть взмывает над скалой — и внизу злобно мелькают оскаленные зубы камней с глубокими провалами. А машина уже скользит в головокружительном спуске по склону горы, конечно, без дороги, скользит над хаосом камней и кустарника, хижин и изгородей.
И все это не в кошмаре, все это наяву.
Дьявольский самолет, самолет, пилотируемый дьяволами, превышал скорость звука, но не отрывался от земли. Все сливалось в вихре разноцветных полос, в безумную вакханалию теней, когда уже нет предметов, нет линий, нет цвета объема, есть нечто, утратившее материальность, воплотившееся в одно лишь неистовое движение.
Голова кружилась, в глазах мутилось, горло сдавило изнутри…
Это было наваждение. Избавиться от него можно было лишь смотря вдаль или вперед. Но навстречу летела жуткая стена африканских джунглей, пышных, душных, непроходимых, с дикими зверями и черными дикарями, не успевающими испугаться невозможной машины, которая должна была бы врезаться в зеленую мякоть листвы и разбиться о частокол негнущихся стволов. Адская машина неуловимым движением скользила вверх, пролетая над кронами деревьев. И под брюхом сатанинской птицы уже проносились возделанные поля плантаций. Казалось, что плоская земля вертится, как исполинский диск, вернее, два диска — справа и слева, — крутящиеся в разных направлениях… И снова роковое, неотвратимое препятствие впереди — степы роскошного дома плантатора, над крышей которого мы пролетаем, едва не сбив антенну.
Так я летел — о ирония судьбы! — с последним регулярным рейсом советского самолета из одной африканской страны в другую в последние часы перед назревшим конфликтом.
Надо отдать им справедливость. Самолеты у них великолепные. Мне посоветовал взять билет на этот последний регулярный рейс портье отеля, португалец из Анголы, уверявший, что это наиболее безопасно. Безопасно!.. Я тысячу раз расставался с жизнью в пути!. Или их пилоты продали душу дьяволу и в аду им пока нет места, или у них колдовские приборы, которые позволяют так летать! Черт возьми! В этом есть смысл. Попробуй-ка перехватить такой самолет истребителем!.. Засечь радиолокатором!.. Сбить зенитной артиллерией или догоняющей ракетой!.. Он появляется сразу над головой, обрушивая сверху рев двигателей, уже исчезнув.
Неспроста они так летали, невидимым лучом нащупывая неровности рельефа и с поразительной точностью копируя его в воздухе в пятидесяти метрах от земли. Советская авиационная компания не только гарантировала тем безопасность пассажиров при любых неожиданных эксцессах, но и показывала, с чем придется столкнуться кое-кому, если конфликт, уже сотрясающий африканский континент, расширится…
Нет, нет! Конфликт вполне локален! Боже, спаси наши души! Он касается только Африки. Ни в коем случае не Великих ядерных держав, которые могут лишь проявлять симпатию и сочувствие той или иной стороне. Никаких всемирных ядерных столкновений! Если здесь и будет сброшена какая-нибудь ядерная бомба, то лишь потому, что развитие физики настолько велико, что невозможно предотвратить ее успехи в любой, даже маленькой лаборатории… в том числе и на африканском континенте.
Что будет с очередной, заложенной в пишущую машинку страницей моего дневника, за который я так хочу получить миллион, но который пишу в расчете на пепел?.. Да, да, на пепел, скорее всего радиоактивный пепел, в который страницы дневника превратятся, хоть я и храню их в несгораемом портфеле… Юмор висельника? Еще бы! Этот юмор висел в африканском воздухе, едва я вдохнул его вместе с чертовой пылью рудничных отвалов, насыпанных между вполне американскими небоскребами.
Мои первые впечатления в Африке были таковы, словно я никуда из Америки не уезжал. Если бы не эти пыльные, втиснутые между домами кучи размельченной, высушенной африканским солнцем породы, можно было бы вполне почувствовать себя в Нью-Йорке. Те же автомобили последних марок, те же небоскребы, так же нельзя найти для машины место у тротуара, приходится отъезжать километра на два и потом идти к бару пешком; только вот ездят здесь по левой стороне улицы, а на тротуаре пешеходы сторонятся вправо.
Темп жизни американский — все словно опаздывают на поезд. Чем не Америка! Малая Америка! Милая Америка! И город подобен нашему Городу золотого тельца. Если у нас золотой телец хранится в пробитых в скале Манхеттена подвалах, то здесь… фундаменты почти всех домов стоят на золотых жилах, вернее, на ноздреватой, как сыр, золотоносной земле, изрытой кротовыми норами, которые остались от жил, — золото сплавлено в слитки и отправилось в подвалы Уолл-стрита или Лондонского Сити, а пустая порода осталась тут. В свое время ее использовали для засыпки мостовых, но… потом кто-то спохватился, что мостовые-то в городе золотоносные! И движение на улицах останавливалось, водители бросали свои автомобили и… разворачивали асфальт. Самородков в нем, конечно, не было, но на обогатительной фабрике из него выжимали достаточно желтого металла. Я и сейчас видел ночью бродяг или дорожных рабочих, которые, греясь у костров, украдкой рассматривали куски вывороченного во время ремонта мостовой асфальта в надежде увидеть блестящую крупицу.
Конечно, это были черномазые. Они здесь еще отвратительнее наших американских. Те хоть пообтесались у нас в Америке за столетие, даже посерели в северных штатах, одеваются и говорят как люди, а здесь… Уверен, что здешние негры остались язычниками и тайно жарят на кострах своих пленников, предварительно поработав на рудниках, набив набедренные повязки деньгами и заплатив выкуп скотом за своих бритых жен с обвислыми грудями.
Вполне понятна гордость тех, кто сделал хотя бы часть Африки похожей на Америку, как понятно и их презрение к дикости и невежеству полуживотных, которых им хотят навязать в равноправные собратья. Есть отчего схватиться за оружие! Сотню лет назад белые рыцари цивилизации боролись здесь с дикими джунглями, дикими зверями и зверскими дикарями, зарождая цивилизацию, и вот теперь именно здесь суждено пройти оборонительной линии мировой цивилизации, где ей грозят коммунистические полчища черномазых каннибалов, предводительствуемых агентами Москвы.
В городе золотых жил я провел два чудесных дня, чувствовал себя как дома, сидя за стойкой на высоком табурете. И даже загрустил в одном баре, слыша вокруг родной язык Чикаго и Фриско… Мне показалось, что как раз здесь мы выпивали с Эллен…
Эллен, Эллен!.. Милая, загадочная колдунья, злая волшебница с добрыми глазами ангела и бесовскими, сводящими с ума линиями плеч, талии, бедер…
Здесь полно девчонок, у которых такие же бедра, такие же волосы, которые так же ходят маленькими шажками, подчеркивая женственную слабость, вызывая умиление, восхищение, желание, но… у всех у них нагло зовущие глаза. И они отталкивали меня этими жадными глазами. У Элен были совсем иные глаза. Они не звали, они вели. за собой в омут, в пропасть, в бездну…
Здесь не было дока и некому было «проявить» мою фотокарточку. Я пил, сосал, хлестал виски, джин, ром, пунш, коктейли… мне даже подсунули какого-то экзотического негритянского зелья, которое приготовляют беззубые старухи, пережевывая стебли чертовых растений и бережно сплевывая пьянящую слюну. Вполне понятно, что все мои внутренности протестовали и выворачивались наружу…
Дока не было, но в отеле меня ждала депеша, подействовавшая на меня лучше всех патентованных докторских средств.
Босс приказывал мне быть в самом пекле!
Уж если куда будут бросать атомную бомбу, то именно туда!..
Разрыв между африканскими странами был неизбежен. Только самолеты нейтральных стран еще курсировали между Малой Америкой и страной гор и джунглей, несметных богатств, сырья, бездорожья, каннибалов и марксистов.
Ирония судьбы! Я летел на советском самолете, гарантировавшем безопасность перелета в эти грозные часы… И вот я уже в другом африканском городе.
Он спроектирован белыми архитекторами, он оборудован белыми инженерами, он так же отличается от крытых листьями хижин туземцев, как отличаются дворцы от неандертальских пещер, но в этом городе с широкими бетонными улицами, тенистыми садами, белыми виллами, с многоэтажными зданиями банков и компаний, пробудивших континент ото сна, в этом городе белой культуры хотят хозяйничать черные!..
Печально их хозяйствование. Улица роскошных особняков полна зловония. Не работает ни водопровод, ни канализация, а черномазые хозяева не умеют это наладить. Видите ли, у них нет специалистов.
Нет специалистов? Так живите себе в грязном пригороде в незатейливых своих хибарках из глины, прутьев, жести и дерева, не лезьте в просторные холлы с роялями, в библиотеки с сокровищами человеческой мысли.
Черные хозяева распевали красные песни. И в одной из них говорилось об их желании разрушать. Они хотели разрушить все, что создано до них, разрушить до основания, а затем что-то там построить! Что они могут построить! Нет! Таких надо было усмирять. И хорошо, что в этом деле можно было обойтись силами одной Малой Америки, африканской цитадели свободы, чтобы не делать конфликта всемирным.
В черном автомобиле советской марки, с черным шофером я ехал но белому городу, захваченному черными вандалами.
До аэродрома вела прекрасная, вполне американская дорога, по которой ездили с правой стороны. Посередине она была разгорожена кактусами, чтобы уберечь машины от столкновения. Конечно, не черные проявили эту человечность… Дорога строилась «белыми» компаниями.
На аэродроме в белых костюмах и даже в пробковых шлемах ходили черные. Они тут выполняли все функции, которые никогда прежде им не доверялись, они были пограничными офицерами, таможенными чиновниками, диспетчерами. Ватага черномазых, одетых в летную форму детин завидного роста, сидела в баре, а их обслуживала… белая стюардесса…
Я не смог здесь пить и вышел на летное поле.
Самолет босса ждали с минуты на минуту.
С тех пор как босс, не занимая официального поста, обрел удивительную власть, его посещению в любой стране придавали особое значение. Его называли государственным сверхсекретарем. Говорили, что якобы настоящим руководителем государственного департамента был… Ну, не будем повторять того, что говорят досужие языки.
Я ждал босса с непонятным волнением.
Что я думал тогда о телепатии? Что? Слышал, читал, догадывался о передаче мысли на расстоянии! Допускал, что мать за тысячу километров неведомо как узнает о внезапной смерти сына, что какие-то медиумы в далеких закрытых помещениях общаются между собой, по заказу рисуют квадраты и треугольники! Не подозревал я в себе ни таких могучих чувств, ни острой чувствительности сомнамбулы, но…
Я смотрел в небо, где должна была показаться стальная птица над эскортом истребителей, и сердце у меня отчаянно билось, словно я встречал совсем не босса…
Темный полустанок, страшное слово «никогда», рельсы, на которых я остановился, ощущая вкус поцелуя на губах…
Клянусь негритянским зельем беззубых старух, это было смешно! Стоять в лютую жару на месте возможного радиоактивного кратера, встречать самого государственного сверхсекретаря и распустить нюни… Похож ли я на злополучного Тома Стрема? Впрочем, может быть, и Том Стрем, заработавший миллион на руанской истории, был человеком…
По сравнению с истребителями самолет босса, несмотря на отогнутые назад крылья, казался неуклюжим. Наши не умели летать, как русские, над самой землей и были уязвимы. У босса неплохие нервы.
Истребители еще кружили над аэродромом, а серебряный гигант, выпустив шасси, уже коснулся громоздкими колесами бетона дорожки. Он остановился вдали от зданий, и мы побежали к нему.
В колледже я хорошо бегал на двести ярдов. Я обогнал всех встречающих и даже не задохнулся, хотя сердце готово было выскочить из груди. Неужели я так растренирован? И вообще глупо было бежать.
К самолету подкатили лестницу с ковром на ступеньках. С боссом считались и здесь!.. Он вышел первым, щурился на ярком солнце, чуть бледный, совсем не загорелый, как все мы тут. Он увидел меня и усмехнулся, поманил рукой.
Я подошел к трапу.
Вокруг щелкали фотоаппараты, жужжали динамо. Я тоже спохватился и нацелился на босса, потом на выходящую из самолета за ним свиту. Два генерала, детектив в мягкой шляпе и темных очках…
Я увидел ее в видоискатель. Руки опустились, я выронил аппарат, и он повис на ремне. Холодный пот покрыл мой лоб.
Босса окружили какие-то люди. Он быстро шел и давал на ходу указания. Репортеры бежали следом.
Так вот оно что! Какой же я ублюдок с зародышем мозга без извилин! Так вот почему нужно было возить нас с ней по нью-йоркским кабакам, вот зачем надо было сулить ей голливудские павильоны, а мне супружеское ложе!.. Он таскал ее с собой, чтобы согревать простыни в отелях! Они успели сговориться еще до дурацкой нашей поездки на ферму к отцу…
Она увидела меня и улыбнулась, помахала рукой и крикнула:
— Хэлло, Рой! — Она легко сбежала по ступенькам. — Пропустим по стаканчику, Рой? Есть здесь приличный бар?
И она подставила щеку для поцелуя. И я, бесхвостый осел, я чмокнул ее, промямлив:
— Приличный? А разве есть что-нибудь приличное на свете?
Я имел в виду прежде всего приличность ее поведения, но она сделала вид, что не поняла.
Она была очень хороша в светлом дорожном костюме, гибкая, легкая, с тонкими крепко сжатыми губами, с усмешкой в уголках твердых серых глаз.
Мне надо было все-таки поговорить с боссом, он платил мне деньги. Мы догнали его у входа в аэровокзал. Он всегда был краток. Он назвал мне место, где я должен был находиться. Я понял. Там я мог остаться живым… Остальное, как он сказал, зависело от меня. И он отпустил «славного парня», хлопнув на прощание по спине. Генералы с завистью смотрели на обласканного счастливчика, а я все стоял, мрачно сверля босса глазами. Он нахмурился и повернулся спиной.
Может быть, он указал мне место, где будет кратер?
Эллен взяла меня за руку й повела в бар. У нее был нюх ищейки, она безошибочно нашла стойку и взгромоздилась на высокий табурет.
— Два двойных виски и сигарет, — потребовала она у черного бармена.
Мы выпили. Она закурила и вдруг спросила:
— Хэлло, бармен! Есть у вас русская водка?
Она нравилась даже неграм. Бармен улыбнулся и с таинственным видом вышел в дверь. Он вернулся с прозрачной бутылкой. На ней был нарисован какой-то советский небоскреб. Надпись была на дикарском алфавите, где каждую нормальную букву нужно было читать как-нибудь не так. Они даже не считают теперь нужным писать по-английски! Питье оказалось изумительным. Оно не имело никакого привкуса, оно жгло. Это было словно огонь без дыма. Я попытался прочесть варварское слово:
— Кмо… кмо…
— «Столичная»! — поправила меня Эллен и рассмеялась.
Я покосился на Эллен. Она всегда удивляла меня.
— Слушайте, Эль, — сказал я, чувствуя, что обрел отвагу. — Теперь я лучше понимаю парней, которые прокатили меня над землей. Они пьют огонь без дыма и едят мороженое при сорокаградусном морозе, с ними лучше не связываться.
— Они еще и закусывают после выпивки, — сказала Эллен и потребовала у бармена селедки. У черномазого нашлась банка анчоусов.
Это было странно, пить и заедать соленым. Но Эллен так хотела. Чему только не научил ее аристократический предок!
— Когда начинаете сниматься в Голливуде? — осведомился я.
— Глупый Рой, — ответила она, разглядывая на свет рюмку.
— Передайте привет золотоносным мостовым Малой Америки.
— Я никогда там не буду.
— Я не люблю слово «никогда». Кроме того, босс летит туда.
Эллен пожала плечами и улыбнулась.
— Кто же будет греть ему пододеяльник? — дерзко спросил я.
Она закатила мне пощечину. Я слетел с табурета, но удержался на ногах.
Бармен сделал вид, что ничего не заметил.
Со столика поднялся русский пилот, один из тех, что вел дьявольский самолет, и стал надвигаться на меня. Если бы я не благодарил его за перелет, если бы я не жал дружески его руку, я не отступил бы.
Эллен соскочила с табурета, бросила бармену бумажку, схватила меня за руку и вытащила из бара.
— Дырявая шляпа, сонный бегемот, сточная канава, свинья, дурак! — отхлестала она меня словами, упрощая и уточняя свое отношение ко мне. — Есть у вас свободная ночь?
— У меня есть свободная, ничем не занятая жизнь, — ответил я, потирая щеку.
— Оставьте. Вы дешево отделались. Вам еще нужен босс?
— А вам?
— Только как адресат.
— Уже.
— Болван! Я предложила бы вам снять очки, если бы вы их носили.
— Благодарю, я еще не выступал на рингах с женщинами.
— Берусь вас нокаутировать.
— Без перчаток?
— Поцелуем.
И эта дьявольская женщина, не стесняясь глазевших на нас негров, притянула мою голову и самым жестоким и сладчайшим образом выполнила свою угрозу…
Я задохнулся.
— Считайте до десяти, — вымолвил я. — Я готов.
Эллен победно рассмеялась, потом посмотрела на зеленую чащу за летным полем.
— Что там? — спросила она.
— Наверное, джунгли, — предположил я.
— Мы сделаем там шалаш, — объявила Эллен.
Она шла впереди, изящная, сильная, знающая, что она делает.
Я шел за ней следом, ничего не зная.
Глава вторая ЗВЕЗДНЫЙ АЛТАРЬ
Лианы завидовали мне. Они свисали отовсюду, хватали за ноги, били по лицу, цеплялись за руки…
Я шел впереди по звериной тропинке и отводил в сторону живые шнуры непроходимого занавеса. Я сам не мог отдать себе отчета, что со мной, счастлив ли я, или глубоко несчастен, вытащил ли лотерейный билет, или проигрался дотла.
Эллен шла сзади и что-то напевала. Я не мог понять слов ее песни, но не хотел подать вида, что не понимаю.
Нагло любопытные обезьяны рассматривали нас сверху. Они перескакивали с дерева на дерево, как легкие тени. Я следил за ними, но не мог разглядеть кроны деревьев. Куда-то вверх уходили могучие стволы, с которых свисали темные рыжие бороды мха.
Цветы были повсюду: вверху, сбоку, под ногами. Кощунством казалось на них ступить. Противоестественно яркие, с влажными бархатными лепестками, жадными и мягкими, с пестиками на длинной поворачивающейся ножке, свисающие с ветвей, осыпающие пыльцой, или жесткие, с острыми тонкими лепестками, с виду нежными, но режущими, с иноцветной серединой — цветок в цветке… Орхидеи — эти любовные взрывы природы всех оттенков, радуги, завлекающие краской и запахом, красотой и желанием, провозвестники будущих семян жизни… Сумасшедшие африканские цветы! Казалось, что они живут в неистовом ритме движения и красок, породившем исступленные негритянские танцы. Я мог поклясться, что цветы двигались, они заглядывали в лицо, они пугливо отстранялись или пытались нежно задеть за щеки, прильнуть к губам. Они шумно вспархивали, взлетали… Конечно, это были уже не просто цветы, а… попугаи, но они были подобны цветам, такие же яркие, но еще и звонко кричащие.
Обезьяны перебегали тропинку, показывая свои лоснящиеся зады и одобрительно щелкая языками. Им тоже хотелось заглянуть нам в глаза. Они казались ручными и насмешливыми, хотя тоже завидовали.
Мы спотыкались об узловатые корни, похожие на сцепившихся в смертельной схватке змей, готовых задушить друг друга. Попадались полусгнившие стволы поверженных великанов. Я оборачивался и протягивал Эллен, моей живой и надменной, яркой и хищной орхидее, руку. Она опиралась на меня, вскакивала на ствол, смотрела на цветы и смеялась.
Душная сырость тропического леса, дурман цветов, аромат духов Эллен, заглушавший все запахи джунглей, пьянили меня, заставляли голову кружиться, протянутую руку, ощущавшую горячие пальцы Эллен, дрожать.
И вдруг сквозь влажную зелень, преломляясь в ней, падая яркими пятнами на пышные цветы или мрачные корни, прорвался солнечный свет.
Еще несколько шагов, и в лицо пахнуло жарой, как из печи. Мы вышли на вырубленную просеку.
Эллен огляделась, словно осматривала свои владения. Здесь росли банановые деревья с могучими листьями, на каждом из которых во весь рост мог бы вытянуться человек.
— Рой! Способны вы построить хижину? — воскликнула Эллен, подняв руки и заложив ладони за узел волос. Она распустила их, и они волной упали на плечи.
Если бы она потребовала от меня небоскреб, я тотчас же принялся бы рыть котлован для фундамента.
Для шалаша этого не понадобилось. Мы стали ломать банановые листья, которые должны были служить и стенами и крышей.
Неожиданно она села в тени бананов. Я сорвал несколько серповидных плодов, лёг около нее и стал очищать их.
Эллен кормила меня, давая откусить нежную мякоть и смеясь.
Я почувствовал взгляд. Оглянулся. Эллен ничего не замечала.
Перед нами на одной ноге стоял черный мальчишка, большеглазый, кудрявый, и во все глаза смотрел на нас.
Он не кричал, как когда-то мой Том: «Э, голубочки, целуются, целуются!..» — он просто смотрел, не в силах оторвать от нас взгляда.
Эллен смущенно оглянулась.
Я сел и нахмурился.
Черномазый мальчонка вздрогнул.
Но Эллен улыбнулась ему. Она могла бы быть укротительницей тигров, львов, змей… Она поманила негритенка и достала из сумочки мягкую от жары шоколадку.
Мальчик вращал белками глаз и не двигался с места. Он чем-то походил на Тома. Как-то он там? Ездит на своем тракторе, помогает на ферме? А это дитя природы может протянуть руку и сорвать банан, который отныне становится для меня священным напоминанием о минутном рае.
Мальчик подошел и взял шоколадку. Эллен ухватила его за руку и потянула вниз. Он сопротивлялся, потом уступил и сел. Он уплетал шоколад, а мы с Эллен умиленно смотрели на него.
Да, я не мог узнать себя. Что только не сделают колдовские чары! Мальчишка казался удивительно симпатичным.
Из-за банановых листьев на нас смотрело еще несколько пар огромных глаз.
Эллен стала перемигиваться с ними. Тогда на круглых рожицах появились белые полоски зубов.
Маленькие дикари вышли из зарослей и уселись вокруг нас. Они были нагие, но здесь это было красиво!. Пугливость сменилась доверчивостью.
Эллен раздала все содержимое своей сумки, круглое зеркальце, миниатюрные ножницы, блестящую пудреницу, яркую помаду, даже душистый носовой платочек.
Я расстался со своим перочинным ножом, с сигаретами, с маленьким компасом, готов был даже отдать ручные часы…
Эллен дала знак продолжать строительство.
У нас появились рьяные маленькие помощники.
Работа закипела. Ребятишки смеялись. Я подумал, что смех на всех языках одинаков.
Мы сооружали шалаш, и я обменивался шутливыми пинками и щелчками со своими маленькими друзьями.
Шалаш был готов.
Мы с Эллен уселись у входа в шалаш. Из шалаша пахло орхидеями, которые ребята натаскали туда, мягкая трава устилала его пол, связки бананов висели, как украшения…
Маленькие черные помощники уселись кружком против нас. Откуда-то взялся трехлетний кудрявый малыш с такими огромными глазами и такими смешными надутыми губками, что казалось, будто он сделан Диснеем.
Эллен приманила его, и он устроился у нее на коленях, доверчивый и счастливый.
Я трепал его по курчавой головенке, волосы у него были жесткие, как пружинки.
Я поймал себя на том, что ведь это все черномазые, и тотчас стал оправдываться перед собой. Такое уж у нас чувство ко всем маленьким животным: к жеребенку, к щенку, котенку… даже медвежонку или львенку.
Природа заложила в нас снисходительность к тем, кто еще не вырос… Кажется, ведь даже хищник не загрызает олененка. Впрочем, не знаю! Только человек ест телятину…
Нет, сейчас я готов был всю жизнь питаться одними бананами.
Я лежал около Эллен, она положила мою голову к себе на колени.
И тогда упала тьма. Ведь мы были где-то у экватора, здесь не бывает сумерек. Просто солнце выключается, как электрический светильник.
Черные ребятишки растворились в темноте и исчезли. Мы остались одни.
В небе видны стали звезды.
Эллен встала, я различал ее силуэт.
У нее был удивительный низкий голос, от которого мурашки пробегали по спине.
Она пела на неизвестном варварском языке непонятную волнующую мелодию.
Она оборачивалась и переводила мне ритуальные слова заклинания:
Нас венчали не в церкви, Не в венцах со свечами, Нам не пели ни гимнов, Ни обрядов венчальных… Венчала нас полночь Средь шумного бора… …Леса и дубравы Напились допьяну… Столетние дубы С похмелья свалились…Она пела эту сумасшедшую песню, от которой должны были бы содрогнуться все ханжи на свете, и обращалась к звездам. Она сказала, что мы с ней стоим перед звездным алтарем…
Я уже не относился к этому как к шутке. Я был пьян, как сказочный лес сказочной песни, я готов был свалиться столетним дубом к ее ногам.
И вдруг гадкая мысль холодом ударила меня, как свистящим бичом. Я уже получил пощечину за пододеяльник. Но почему она здесь? Ведь она ничего, решительно ничего мне не говорила.
И мы стояли с ней перед звездным алтарем, нас венчали звезды и орхидеи, брачное ложе нам приготовили черные ангелочки…
Эллен хлопотала внутри шалаша. Я сидел и, несмотря на жару, дрожал.
Я чувствовал, что Эллен снова была рядом. Я ругал от себя мерзкие мысли и не смог взглянуть в ее сторону.
Впрочем, было так темно, что разглядеть что-нибудь все равно было нельзя. Из джунглей слышались странные звуки, чье-то мяуканье, переходящее в рычание, клекот, потом завывание, замершее на высокой лунной ноте.
Я сказал, что, может быть, надо разжечь костер. Но она возмутилась.
Я все еще не смотрел на нее. Протянул к ней руку и… отдернул.
Она рассмеялась.
— Знаменитый путешественник Марко Поло, — сказала она, — писал об удивительной стране, через которую ему привелось проезжать. Там росли деревья, кора у которых была так же нежна, как женская кожа…
Она сидела в темноте рядом со мной с распущенными волосами, такая же дикая и непонятная, как джунгли и ночь, и так же непонятно говорила о женской коже, которую я только что ощутил.
— Береза, — пролепетал я. — Разве Марко Поло проезжал через Канаду?
— Березы растут не только в Канаде, — сказала Эллен. — Вы хотели бы, Рой, прикоснуться к березке?
Я хотел прикоснуться к Эллен. И она это знала. Меня удерживало только чувство протеста. Она сама привела меня сюда, сама заставила сделать шалаш, сама пела свадебную песнь.
Какой я был олух, как не понимал я этой удивительной девушки, которая стала моей женой перед звездным алтарем, с которой я познал высшее счастье на благословенной райской земле Африки, отныне для меня священной.
Рассвет был таким же внезапным.
Эллен нежилась на траве в шалаше, который подтвердил народную мысль о местонахождении рая…
Моя милая, моя несравненная и чистая жена выглядывала из шалаша, прикрываясь пуком травы. Это был самый поразительный наряд, который я мог представить себе для белой женщины в Африке.
Она послала меня разыскивать ручей.
А когда я вернулся ни с чем, то застал ее одетой, успевшей умыться, европейской и недоступной. Черные мальчишки принесли ей воду из близкой деревни.
Эти же мальчишки провели нас к аэродрому.
Оказалось, что для этого нет нужды брести звериными тропами по джунглям.
Я любовался Эллен, я гордился ею. Она была моей женой. Конечно, мы не станем покупать фермы. Мы будем жить в Нью-Йорке, но не будем так часто бывать в барах. Обо всем этом я думал.
Мы держались за руки.
— Я думаю, — сказал я, — что нам не так уж важно ждать здесь атомного ада. Надо поскорее удрать в Нью-Йорк.
Она усмехнулась и пожала мои пальцы.
— Глупый Рой, — только и сказала она.
— Разве… разве мы не вернемся вместе?
Эллен отрицательно покачала головой.
Черные мальчишки забегали вперед, заглядывали нам в глаза и поощрительно щелкали языками. Я нахмурился, сердце у меня остановилось.
— Все это была шутка? — хрипло спросил я.
— Нет, Рой, нет, родной… Это не шутка. Я твоя жена. И ты мой муж… перед звездами, перед Вселенной!
— Так почему же?…
— Милый Рой, ни ты, ни я не принадлежим сами себе.
— Но друг другу? — протестующе воскликнул я.
— Только друг другу. И будем принадлежать, какая бы стена ни встала между нами.
— Нет таких стен, не может быть таких пропастей!
— Есть такие стены, стены гор и расстояний, есть такие пропасти, наполненные водой океанов, милый Рой.
— Что ты хочешь сказать, Эллен? — в испуге спросил я.
— Ну, вот! Уже и аэродром. Так близко. А мы вчера бродили, как Ливингстон или Стенли… Что бы подарить нашим маленьким друвьям? Ты хотел бы, чтобы у нас было столько детей?
Она достала сумочку и сунула каждому из ребят по долларовой бумажке.
Они шумно закричали и убежали, унося нежданную добычу.
Эллен грустно смотрела им вслед:
— Ну, вот, Рой… Никогда не забывай этой ночи.
— Я не люблю слово «никогда».
— Никогда, — повторила Эллен. — Я тоже не хочу этого страшного слова. Мы ведь увидимся, Рой… Не знаю когда, но мы увидимся…
Я чувствовал в себе пустоту.
— Вот и самолет, который ждет меня, — указала Эллен на самолет, которого здесь не было вчера.
Я не мог ее потерять. Лучше уж найти место, где будет радиоактивный кратер…
Мы шли по летному полю, которое не было ничем отгорожено от джунглей.
Навстречу нам шел тот самый штатский в темных очках, которого я вчера принял за детектива.
— Хэлло, Марта! — крикнул он Эллен. — Не хотите ли вы, чтобы самолет из-за вас задерживался?
— Я ничего не имела бы против, — ответила Эллен, смотря только ей присущим взглядом в темные очки.
— Надеюсь, джентльмен не будет в претензии, что останется один? — проворчал детектив.
— Я всегда буду с ним, — отпарировала Эллен.
— О-о! — сказал детектив и предложил мне сигарету.
Мне очень хотелось курить, свои сигареты я раздарил в джунглях, но я отказался.
— Ты будешь писать мне? — спросил я Эллен. Она отрицательно покачала головой.
Страшная догадка стала заползать мне в мозг, я гнал ее, как гнал вчера мерзкие мысли. Эллен молча опровергла их, как только может это сделать женщина! О, если бы она смогла сейчас опровергнуть мое подозрение.
Она поняла меня, она очень хорошо поняла меня.
— Значит? — спросил я ее. Она кивнула головой й сказала:
— Значит…
Шеф в очках отвел меня в сторону:
— Вам доверяет сам мистер Джордж Никсон, парень! Надеюсь, вы поняли, что ни Марту, ни меня вы никогда не видели?
Опять это гнусное слово. Я молча кивнул головой.
Может быть, я и вправду никого не видел, все это было во сне: и бешеный полет над землей, и бешеное счастье на земле.
Эллен стала Мартой. А я остался Роем Бредли.
Марта не знала Роя.
Она шла вместе с очкастым и ни разу… ни разу не оглянулась на меня.
Какие-то шпики и парни с мрачными славянскими лицами переговаривались между собой на незнакомом языке. Они что-то крикнули Эллен, то есть Марте… Марта живо заговорила с ними.
И вдруг мне припомнились слова заклинания на неведомом наречии:
Нас венчали не в церкви… Столетние дубы С похмелья свалились…Я пошел прочь.
Я свалился в канаву за летным полем, свалился, как подломленный дуб. Я видел, как разбегался по бетонной дорожке самолет, видел, как оторвались баллоны колес от земли, как, уже в воздухе, убрал пилот шасси.
Самолет превратился в серебристую блестку и растаял в солнечном небе.
Я встал и сжал челюсти.
Я был женат! Пусть обрушатся на меня небеса, пусть разверзнется подо мной земля, я был женат!
И у меня была самая удивительная, самая нежная и самая смелая жена, которая способна прострелить апельсин на лету, которая хочет увидеть березки…
Глава третья ТРИ КИТА
За окном билась метель. Шаховская невольно прислушивалась к ее завываниям. Ветер налетал на коттедж, превращенный в больницу с одной лишь палатой, сотрясал его, грозя выбить окно. Елене Кирилловне казалось, что даже свет в электрической лампочке мигал.
Буров лежал на постели, огромный, вытянутый. Его осунувшееся лицо казалось неживым.
Елене Кирилловне становилось жутко. Она брала тяжелую, горячую руку, держала ее в своей.
Прилетавший из Москвы нейрохирург нашел сильное сотрясение мозга. И вот уже который день Буров не приходил в сознание. А врачи считали операцию ненужной.
Елена Кирилловна прибегала сюда прямо из лаборатории и уходила только утром. Веселова-Росова хотела временно освободить ее от работы, но она и слышать об этом не хотела. Ведь в Великой яранге продолжали начатое в подводной лаборатории дело, которое захватило теперь многие научные институты.
Елена Кирилловна склонилась над Буровым, заглянула ему в открытые, беспокойные и невидящие глаза.
Сейчас он будет опять бредить. Это всегда было страшно.
За тонкой перегородкой спала медицинская сестра. Иногда она вскрикивала, заставляя Шаховскую вздрагивать, или начинала шумно дышать, ворочалась.
Буров что-то пробормотал.
Шаховская вынула из сумочки маленькую тетрадку в мягком переплете.
Поглядывая на дверь, стала записывать.
Может быть, она стенографировала бред больного, чтобы показать утром врачу? Но до сих пор она этого ни разу не сделала, унося тетрадку с собой. Если бы медсестра увидела эти записи, они показались бы ей сделанными по-латыни.
Утром Шаховская деловито ушла на работу, словно и не было бессонной ночи.
А вечером Буров первый раз пришел в себя. Он узнал Елену Кирилловну, закрыл глаза, улыбнулся. Его пальцы сжали ее руку.
— Все будет хорошо, — сказала Елена Кирилловна. — Как я рада… Все обойдется.
Он открыл глаза:
— Лена… Это вы… Это вы меня оттуда вытащили?
— Там было столько подводников! — ответила Шаховская. — Но теперь все хорошо. Не надо говорить. Вам нельзя.
Болезненная складка появилась у Бурова между бровями:
— Нет, надо! Хорошо, что вы здесь… Вот не знаю, встану ли?
— Встанете! Молчите!
— Не имею я права молчать. Субстанция…
— Ею уже заняты многие. Мы не одиноки, Буров!
— Весь мир должен заняться! Весь мир… Нет ничего важнее! Ядерные реакции при ней невозмоясны!.. Вдумайтесь!.. Это наш долг физиков… Тех самых, которые выпустили ядерного джина…
Буров разволновался. Ему стало худо. Шаховская вызвала врача.
— Вы просто опасная сиделка, — недовольно сказал он Шаховской.
Когда в следующий раз к Бурову вернулось сознание, Шаховской не было. Он уже не был уверен, что видел ее здесь, говорил с ней.
Правда, медсестра сказала, что Шаховская бывала, но только пока он был в беспамятстве, а теперь у нее срочная работа.
Буров загрустил.
На другой день в палату пришла Люда, робкая, сконфуженная, и принесла букетик цветов.
— Можно? — спросила она, приоткрыв дверь.
— А, Люд! — сказал Буров. — Давай, давай!.. (Он был с ней иногда на «вы», иногда на «ты»). Мне теперь куда лучше.
Девушка вошла, прижимая к себе цветы. Она заказала их самолетом из Москвы, это были первые весенние цветы.
Но Буров не обратил на них никакого внимания.
— А Елена Кирилловна где? — сразу спросил он.
Неужели он не мог об этом спросить хоть не сразу!.. Люда, будто не слышав вопроса, сидела и рассказывала о маме, об академике, о его секретарше Калерии-Холерии, которая пытается во все совать свой длинный нос, о соседних отсеках Великой яранги, о капитане Терехове, который готовится вести ледокол в док, едва его поднимут со дна…
А о Шаховской она кратко сказала, что у нее начались головные боли, но что она вообще замечательная. Потом Люда была еще несколько раз у Бурова, передавала приветы от друзей. Буров сам уже не спрашивал о Шаховской. Он стал сосредоточенно-задумчивым. Он требовал бумаги, но ему не позволяли заниматься.
Но он все равно не щадил себя. Он продумывал во всех деталях новый дерзкий замысел. Ему не терпелось начать его осуществление. Ведь проходили недели…
Когда его наконец выписывали из больницы, рекомендовав отдых, он был уверен, что за ним придет Шаховская. Потребовал электрическую бритву, тщательно выбрился. С удовольствием скинул больничную пижаму — из дома ему по его просьбе принесли лучший его костюм.
К коттеджу подъехала автомашина. Это, конечно, Мария Сергеевна позаботилась. Буров поспешно оделся, встал, крепко обнял медсестру, поблагодарил за все.
В передней Бурова ждала не снимавшая шубки… Люда.
Буров не смог скрыть разочарования.
— А, Люд… — рассеянно сказал он. Девушка зарделась, стала что-то лепетать.
— Поехали, — не слушая ее, сказал Буров.
На улице сверкали звезды. Буров остановился, расставив ноги, запрокинув голову, смотря в сияющее огнями небо, и всей грудью вдыхал морозный воздух.
— Синоптики обещают пургу, — сказала Люда.
— Будет буря, мы поспорим, — пробормотал Буров, думая о чем-то своем.
Ехать было совсем недалеко. Люда хотела помочь Бурову войти в его коттедж, поддерживая под руку, но он рассмеялся, повернул ее к себе спиной и легонько толкнул:
— За все тебе спасибо, хороший мой Люд, наверное, лучший из людей.
Люда отпустила машину и пошла домой пешком. Здесь было недалеко. Небо затянуло тучами. Вероятно, прогноз окажется верным.
Не успела Люда прийти домой, как следом за ней на пороге появился… Буров.
Он шумно ввалился в коттедж Веселовой-Росовой, как бывало, топотал своими ножищами, отряхивая снег, ворочался в тесной передней, как медведь.
Из столовой выглянула секретарша академика Калория Константиновна.
— Ах, как я рада вашему выздоровлению! Академик будет в восторге вас видеть, — сладко произнесла она.
Буров кивнул ей. Овесян здесь? Вот это удача!
Он вошел в столовую, намеренно задерживаясь, откашливаясь и украдкой смотря на дверь комнаты Елены Кирилловны. Но Шаховская не вышла.
Перехватив взгляд Бурова, Люда заглянула к Елене Кирилловне.
Та, одетая, сидела на кушетке, поджав под себя ноги. Портьера в ее комнату была задернута, но дверь приоткрыта.
На немой вопрос Люды она отрицательно покачала головой.
Услышав кашель Бурова, в столовую выбежали Мария Сергеевна и Овесян. Мария Сергеевна бросилась на грудь Бурова и заплакала. Это было так неожиданно, что Буров растерялся. Овесян долго тряс его руку.
Мария Сергеевна усадила Бурова за стол, велела Люде поставить электрический самовар, подать чай.
— Как хорошо, что вы сразу — к нам, — говорила Мария Сергеевна, разливая чай. — Мы должны быть вам ближе всех.
Она рассказывала Бурову, какой интерес у советских ученых вызвала открытая им субстанция, какие начаты работы для ее изучения.
— Мало, — сказал Буров, — мало.
— Опять вам мало, дорогой, — мягко упрекнула Ве-селова-Росова.
— Я поспорить с вами пришел, Мария Сергеевна, — сказал Буров, беря стакан, — не терпелось.
Мария Сергеевна всплеснула руками:
— Сергей Андреевич! Да что вы, дружочек! Зачем же это?
— Вот это я понимаю! — воскликнул академик Овесян. — Значит, здоров.
Буров холодно посмотрел на Овесяна.
— Разговор у меня будет серьезный, Амас Иосифович!
— Серьезный? — обрадовался Овесян. — Давай по-серьезному! Мы только что говорили с Марией Сергеевной. Работы, проведенные в подводной лаборатории, очень интересны, их надо продолжать, но… Друг мой! Великий Резерфорд не позволял своим соратникам работать после шести часов, берег их здоровье и… считал, что людям надо дать время, чтобы думать… Поедешь на курорт, друг мой! Так решено. Все.
— У меня было достаточно времени, чтобы подумать. В одиночной палате… Я черт знает что успел передумать… о долге физиков… Теперь мне надо проверять…
— Проверять — это хорошо, — вставила Мария Сергеевна. — Если есть в науке единственный метод, который, должен быть положен в ее основу, то это метод сомнения во всем, метод проверки…
— Дотошной проверки, абсолютного недоверия! Узнаю Марию Сергеевну Веселову-Росову! — вставил Овесян.
— Мы с вами, Амас Иосифович, представляем как бы два начала в науке. Ваш практицизм, мой принцип сомнения… две стороны одной и той же медали, два начала единой науки.
— Простите, — упрямо сказал Буров. — Допускаю, что наука нужна не для науки. В конечном счете любое открытие будет использовано для практических целей. Однако ученый, делающий открытие, порой даже и представить себе не может, что он открывает. Разве мог Гальвани, наблюдавший подергивание ножки лягушки, представить себе современные электрогенераторы мощностью в сотни тысяч киловатт, электрические сети, окутывающие земной шар?
— Это был младенческий возраст науки, — возразил Овесян. — Сейчас мы можем ставить перед наукой задачи, а не заставлять ее открывать тайны природы наугад.
Калерия Константиновна сидела за столом, благоговейно глядя на ученых, которые продолжали спорить.
— Догадываюсь, — сказал Овесян. — Наш Буров хочет добавить к двум китам науки, к принципу практичности и утилитарности, к принципу сомнения и проверки еще третьего кита — фантазию.
— Фантазию, но не фантазерство, — сказала Мария Сергеевна.
— Фантазия — качество величайшей ценности, — выпалила Люда. — Без фантазии не были бы изобретены дифференциальные уравнения. Так говорил Ленин.
— Ого! — сказал Овесян. — В бой вступают резервы. Однако что же надумал наш третий кит науки?
— Субстанция существует, — сказал Буров. — Это уже не фантазия. Но этого мало. Ее нужно не только находить в природе. Ее нужно создавать.
Овесян ударил себя по колену:
— И продавать в аптеках! Здорово! Это уже вполне практично!
— Но это разговор не для чайного стола, — прервала Мария Сергеевна, вставая.
Все поднялись. Только Калерия Константиновна осталась сидеть, опустив уголки тонких губ.
Ученые вернулись в кабинет и заговорили вполголоса. Люда словно нечаянно заперла плотнее за ними дверь и выбежала на улицу, чтобы посмотреть, не разыгралась ли пурга. Она беспокоилась за Бурова и решила, что непременно пойдет его провожать.
Когда она вернулась, то Холерии, как она звала секретаршу академика, в гостиной не было.
Дверь за портьерой в комнату Елены Кирилловны была открыта, и Люда невольно услышала конец фразы, сказанной Холерией:
— Не теряйте времени. Протяните руку… возьмите его.
— Хорошо, Марта, — ответила Елена Кирилловна. Люда опешила, ничего не понимая.
Ученые вышли из кабинета, громко разговаривая.
— Как хотите, Сергей Андреевич, — говорила Мария Сергеевна, — я верна своему методу: ничему не верить, все брать под сомнение. А вы опять фантазируете.
— Так если не фантазировать, то что же тогда проверять? — отпарировал Буров.
— Я выхожу из игры, — заявил Овесян. — Мое дело зажечь «Подводное солнце». А вы здесь можете фантазировать, проверять выдуманное, но имейте в виду — это слишком фантастично, чтобы быть практичным.
Люда подумала, что три кита все-таки не смогли договориться.
Шаховская вышла в столовую, когда Буров уже одевался в передней. Калерия Константиновна, опустив глаза, завязывала тесемочки у папки. Академик стоял у замерзшего окна и изучал снежные узоры. Мария Сергеевна провожала гостя.
Елена Кирилловна мило улыбнулась Бурову, положила ему руку на локоть:
— Подождите, Сергей Андреевич! Вас еще рано отпускать одного. Я пойду с вами.
Буров радостно и растерянно затоптался на месте. Не замечая Люду в расшитых бисером народных унтах, он стал искать шубку Шаховской.
И они ушли вместе.
Потом стали прощаться Овесян и Калерия Константиновна. Академик должен был сразу же уехать на место нового «Подводного солнца», Калерия-Холерия оставалась в его коттедже для связи.
Они ушли, а Люда в непонятной тревоге не знала, что ей делать.
Глава четвертая АПОКАЛИПСИС
Буров жил в кюттеедже Овеояна. Академик, перебравшись на место строительства нового «Подводного солнца», сохранил здесь за собой только одну комнату, другую предоставил Калерии Константиновне, осуществлявшей по его заданию связь между стройплощадкой и Великой ярангой, а третью отдал Бурову.
— Мне в бреду привиделось, что я с вами разговаривал, — сказал Буров, выходя с Еленой Кирилловной на улицу.
— Вот как? А вы ведь никогда меня этим не удостаивали. Я кое-что сегодня впервые услышала. И мне понравилось, Буров, как вы говорили. В вас что-то есть. Вы ломаете изгороди коралля. И у вас, конечно, бизоньи, налитые кровью глаза. Бизон красив, он весь — устремленный удар.
— Да. Ударить надо. Хорошо бы стать бизоном науки…
— Бизоны вымерли, их истребили. А вы не думаете, что мир выиграл бы, если бы таких, как вы, физиков истребили бы?
Буров даже закашлялся от изумления.
— На месте папы римского я отлучила бы их всех от церкви. Я ввела бы костер за чтение еще не сожженных книг по ядерной энергии.
— Нам с вами пришлось бы тоже сгореть, — напомнил Буров.
— Я отправилась бы и на костер… в розвальнях, подняв два перста…
— Не забыли свою боярыню Морозову? Нет, дорогая раскольница. Спасение человечества — не в отказе от знаний, а в обретении знаний высших.
— И высших сверхбомб, радиоактивных туч, от которых никому не будет спасения…
— До сих пор история человечества была историей войн. При совершенствовании средств войны была извечная борьба ядра и брони.
— Борьба всегда извечна, — подтвердила Елена Кирилловна.
— Артиллеристы придумывали все более тяжелые пушки и ядра, все более страшные бронебойные снаряды. И в ответ на каждое такое изобретение другие умы придумывали более могучую, более крепкую, непробиваемую броню. В ответ на ядовитый газ появился противогаз.
— Но в ответ на атомную бомбу не появилось атомной брони.
— Физически она еще не создана. Она существует в виде политического сдерживающего начала. Слишком страшны средства, какими владеют противостоящие лагеря. Эти средства кажется невозможным применить.
— Кажется?
— Да. Только кажется. Их все же могут применять. И если после несчастья в Хиросиме и Нагасаки на города не падали ядерные бомбы…
— Если не считать руанской трагедии, — напомнила Шаховская.
— Нет, считая ее… считая эту трагедию, как напоминание того, что бомбы, созданные для взрыва, взрываются…
— Они существуют только для защиты.
— Нет. Ядерное оружие — это не оружие защиты, это оружие нападения, оно принципиально рассчитано действовать на чуяюй территории. Поэтому мы всегда предлагали его запретить.
— Оружие возмездия…
— Взаимное «возмездие» — печальный конец цивилизации.
— Значит, не зря написан апокалипсис. Будет конец мира. Помните, «Откровения» Иоанна-богослова? «И пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, павшую с неба на землю, и дан ей был ключ от кладезя бездны…» В наше время такими звездами падают баллистические ракеты.
— Вы знаете Библию наизусть?
— Не всю. «Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя…» Вам не вспоминаются фотографии черного гриба Бикини?.. Его нельзя забыть. Но это не все. Слушайте, дальше. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана ей была власть, какую имеют земные скорпионы». Вдумайтесь в этот образ. Саранча, нечто бесчисленное, всюду проникающее, неотвратимое. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям…»
Шаховская схватила руку Бурова и крепко сжала. Он поражен был ее голосом, глухим, придушенным. Ему показалось, что она говорит с закрытыми глазами.
— «И дано ей будет не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека…» Вам не приходит на ум, что поражающая мучением саранча — это образ радиоактивности, несущей медленную и неизбежную смерть от лучевой болезни, от которой гибнут люди, но не травы?
— Лена, черт возьми! — крикнул Буров. — Кто вы такая? Не было столетия, когда апокалипсис не толковался бы с позиций современности. Его мутные символы подобны алгебраическим знакам, под которые можно подставить любые значения.
— Нет, нет, Буров! Разве вы не поняли еще, что самый страшный враг человека — это знание? Оно поднимает его гордыню на головокружительную высоту, чтобы потом низвергнуть в бездну.
— Вы хотите сказать, что гибель цивилизации заложена в самой природе ее развития?
— Да. Всему есть начало, всему есть конец. Конец можно было предвидеть интуитивно, как это делал древний поэт и богослов, но можно и сейчас понять неизбежность конца, исходя из всего того, что мы уже зпаем и… хотим узнать. Прощайте, Буров. В жизни хорошо идти с закрытыми глазами, чтобы не видеть, что впереди…
— Подождите, Лена. Не уходите. Зайдите ко мне… Этот разговор нельзя оборвать. Ведь мы только работали. Никогда не говорили…
Шаховская усмехнулась:
— Зайти к вам? А что скажет княгиня Калерия Константиновна? Она, вероятно, уже вернулась. Впрочем, не все ли равно!
Буров открыл своим ключом дверь. Увидел на заснеженном крыльце следы, усмехнулся. Да, Калерия-Холерия уже дома.
Шаховская тоже заметила это, но ничего не сказала.
Буров снял с Лены шубу в передней, провел в свою комнату и занялся камином.
Лена осмотрелась. Подошла к столу и стала прибирать на нем бумаги, передвинула стулья, смахнула газетой пыль с подоконника, положила книги на полку.
— Настоящий мужчина должен быть неаккуратным. И от него должно немного пахнуть… козлом.
— Благодарю вас. Вы не откажетесь от приготовленного мужчиной чая?
— Откажусь. Садитесь напротив меня. Нет. Чуть подальше. Не торопитесь. Конец цивилизации еще не так близок, чтобы, следуя западным теориям, позволять себе все.
Буров сердито отодвинулся вместе со стулом, потом встал с него.
— Чепуха! — раздраженно сказал он. — Не ищите конца мира, оставьте это попам. Я допускаю лишь кризисную стадию в развитии цивилизации…
Сергей Андреевич ходил по комнате большими шагами.
— Мы уже знаем, что живем в населенном космосе. Миллиарды звезд, которые смотрят на нас, — это миллиарды светил с планетными системами. В одной только нашей галактике, а таких галактик несметное число, в одном только нашем звездном острове ученые готовы признать от полутораста тысяч до миллиона разумных цивилизаций неведомых, мыслящих существ. Как бы они ни выглядели, эти существа, их общество, овладевая знанием, в какой-то момент переживает опасный кризисный период, период овладения тайной энергии и ядра. Если в этот момент самосознание мыслящих существ не на высоте, они могут погубить себя. Но это так же исключительно редко в истории развития Разума Вселенной, как редко самоубийство среди людей. Но самоубийцы встречаются.
— Я хотела покончить с собой, — призналась Лена. — Я вскрывала себе вену, — и она показала Бурову шрам на запястьи.
Буров встал на колено и прижался губами к выпуклому, бледному, более светлому, чем кожа, шраму.
— У человечества тоже останутся шрамы, — сказал Буров. — Но оно переживает тяжелую пору, как переживали ее миллионы иных цивилизаций Вселенной.
— Вы настоящий русский человек, Буров. В вас есть неукротимая широта.
— Я советский человек, я человек мира, мира, который рано или поздно станет единым.
— Но вас надо сжечь… пусть хоть рядом со мной, но сжечь. — Лена бросила в разгоревшийся камин полено. Оно зашипело.
— В ските? Нет! Победа никогда не дается отступлением.
Смотря на огонь, Лена задумчиво говорила:
— Проблема ядра и брони… Самоубийство цивилизаций… Пережить кризис?.Вот вы как считаете…
— Да. Пережить кризис. Победить мыслью. Нельзя дать автомат неандертальцу. Это ясно всем. Но неандертальцы в смокингах и роговых очках существуют, распоряжаясь атомными заводами. Они будут побеждены мыслью…
— Вы думаете?
— Будут! Но прежде нужны охранные меры. Об этом должны заботиться мы, физики, иначе мы действительно заслуживаем костра.
— Хотите сделать атомную кольчугу? Ее не может быть…
— Прекратилась в Проливах ядерная реакция? — в бешенстве крикнул Сергей Андреевич, сощуря один глаз, словно прицеливаясь.
Лена, проницательно смотря на Бурова, кивнула головой: «Да».
— Если она невозможна здесь, почему нельзя сделать ее невозможной всюду? Ведь именно в этом теперь наша задача! Именно в этом!
Лена посмотрела теперь на Бурова расширенными глазами.
— Идите сюда, станьте, как вы стояли! — приказала она.
В ней что-то изменилось. Буров почувствовал это. Он сел на лежавшую перед камином шкуру белого медведя.
Лена пододвинула к нему свой стул, запустила тонкие пальцы в его русые волосы.
— Вы мне очень нравитесь, Буров. Я никогда не трогала таких волос. Они чуть седеют. Они у вас буйные. И сами вы буйный. Мне нравится, как вы ходите, даже как вы ругаетесь в лаборатории. Мужчины должны быть невоздержанны на язык. Вы молодец, что хотели меня поцеловать…
Буров вздрогнул, потянулся к Лене, но она, больно ухватив за волосы, оттянула назад его голову, заглядывая ему в глаза.
— Работать с вами — большое счастье, — сказала она. — Вы видите цель не в колбе, а среди звезд, где существуют неведомые миры…
— Слушайте, Лена… — перехваченным от волнения голосом сказал Буров. — Из-за кого я потерял голову?… Хотя что-то и делаю, о чем-то думаю, даже бунтую?…
— Из-за кого? — глухо спросила она.
— Из-за тебя.
Лена, глядя в глаза Бурову, медленно проговорила:
— У тебя, Буров, сумасшедшинки в глазах… Ты удивительный, но ты не мой, ты мне не нужен…
— Лена! Что ты говоришь, опомнись!.. Я не смел прикоснуться к тебе, но сейчас…
— Ты мне не нужен, ты чужой… Все запутается… Какой ты сильный! — она зажмурилась, гладя его по волосам, но едва он делал движение, как пальцы сжимали его волосы, удерживая голову.
— Я не могу выговорить это слово. Ты его знаешь. Даже оно ничего не выразит.
— А я понимаю тебя. Ты мне нравишься… нравишься потому, что ты такой, но… любить за что-нибудь нельзя… любить можно только вопреки, вопреки всему… обстоятельствам, здравому смыслу, собственному счастью.
— Так пусть будет вопреки! Вопреки всему, но только для нас… для нас вместе. Мы будем всегда вместе…
Буров уже не обращал внимания на сопротивление Лены, он обнял ее талию, спрятал лицо в ее колени.
— Вместе? — переспросила Лена. — Никогда, милый… Никогда.
Буров вскочил на ноги:
— Почему?
— Ты проходишь мимо, задевая меня плечом, а я… я беременна.
Буров ухватился за мраморную доску камина.
Лена сидела, откинувшись на стуле с полузакрытыми глазами. Потом она сползла на шкуру и, усевшись на ней, стала смотреть в огонь.
— Зачем… так шутить? — хрипло спросил Буров.
Лена покачала головой:
— Я не знаю, кто будет… мальчик или девочка?
Буров почувствовал, что лоб у него стал мокрым.
— Я провожу вас, — сказал он, сдерживая бешенство.
Она встала и принялась поправлять волосы перед зеркалом, стоявшим на камине.
Отблески пламени играли на ее бледном, освещенном снизу лице, казалось, что оно все время меняется.
Она не смотрела на Бурова.
— Не трудитесь, — сказала она, — я зайду к вашей соседке.
— Как пожелаете, — скрипнул зубами Буров.
Елена Кирилловна, подтянутая, прямая, вышла из комнаты и без стука вошла в соседнюю.
Буров, не попадая в рукав лыжной куртки, выскочил на улицу.
Там началась пурга. Дрожащими руками он налаживал крепление на лыжах. Резко оттолкнувшись палками, он бросился в воющую белую стену снега.
Калерия Константиновна стояла перед прислонившейся к двери Леной и даже не говорила, а шипела:
— О, милая! Я все же была лучшего мнения о ваших способностях. Как вы могли, как вы смели!..
— Неуместное проявление страстей, — устало сказала Шаховская. — Я действительно жду ребенка.
— Какая низость! — воскликнула Калерия Константиновна. — Разве нет выхода! Я договорюсь с академиком. Гнойный аппендицит, срочная операция на острове Диксон. Самолет. Через неделю вы будете снова здесь, а он — у ваших ног.
Лена замотала головой.
— Я не знаю, кто будет: мальчик или девочка. Я хочу мальчика.
— Дура! Шлюха! Гадина без отца и матери!.. — не повышая голоса, говорила Калерия Константиновна.
Шаховская качала головой:
— На меня это не подействует.
Обе женщины оглянулись.
В передней стояла красная от смущения Люда, в глазах ее блестели слезы.
— Дверь наружу была открыта, — сказала она. — А где Сергей Андреевич?
Калерия Константиновна повернулась к ней спиной.
— Буров ушел… он любит одиночество в тундре. Посмотри, Лю, здесь ли его лыжи? — сказала Елена Кирилловна.
— Он ушел на лыжах? — ужаснулась Люда. — Да вы знаете, что на улице творится?
— Я ничего не знаю, — усталым голосом сказала Елена Кирилловна.
— Что? — обернулась Калерия Константиновна. — На улице праздник?
— На улице пурга! — отчеканила Люда. — Я беру ваши лыжи.
Громыхая палками, она выскочила на крыльцо.
Лыжня уходила во тьму. Люда побежала по этой лыжне. Она не знала, чего она хотела, она не знала, что делает, ей нужно было догнать Бурова. Огни поселка скрылись за спиной. Ветер дул одновременно отовсюду, снег крутился, слепил глаза…
— Она беременна! — всхлипывала Люда. — А он не вернется… он погибнет.
Глава пятая НОВЫЙ МАРАФОН
Я снова вытащила свою общую тетрадку. Мне кажется, я целую вечность не писала в ней. Но сейчас произошло такое, что я не имею права не писать…
Академик Овесян вызвал маму на установку нового «Подводного солнца». Буров велел мне ехать вместе с ней.
Я чувствовала себя разведчицей. Я угадывала, что Буров что-то задумал и посылает меня неспроста.
Мы поехали с мамой на оленях. Это было очень интересно. Я сама пробовала править хореем, такой длинной палкой, которую слушают олени. Они удивительно смирные и приятные животные. Прежде я никогда не думала, что они такие маленькие, всего по грудь мне.
А бегают они быстро, но как бы ни скакали, несут рога параллельно земле, не колебля их.
Овесян, как он говорил, несколько раз выходил встречать нас и наконец встретил.
Я знала, зачем ему понадобилась мама. Он не хотел без нее зажигать новое «Подводное солнце». Все-таки она очень много значила для него в жизни, хоть они и спорили всегда.
Амас Иосифович даже не дал нам с мамой отогреться.
— В блиндаж! Скорее в блиндаж! — торопил он. — Кофе вас там ждет… И даже кое-что покрепче.
— Ей еще нельзя, рано, — строго сказала мама.
Академик выразительно подмигнул мне. Я уже пила коньяк… Он же меня и угощал еще в Москве.
— Это только в случае победы, — сказал он.
Он повел нас снежными тропами к округлому холму, в глубине которого соорудили бетонное убежище.
Я спускалась по темной лестнице, нащупывая рукой шершавую холодную стену. Потом зажглось электричество. Впереди шел Овесян с мамой.
Блиндаж был с узкими горизонтальными бойницами, совсем как на войне, только вместо пулеметов здесь были приборы. Противоположную узким щелям стену занимал пульт с рукоятками и кнопками, в которых я, конечно, разобраться не могла.
Академик протянул мне темные очки.
А на улице и так было темно. Теперь узкие щели стали черными.
Академик отдал команду. После этого в репродукторе послышался голос, предупреждающий об опасности:
— Всем укрыться в убежищах! Атомный взрыв! Всем укрыться в убежищах…
Мне стало жутко, и я ничего не могла сделать с зубами: они начинали стучать. Если бы Буров меня увидел, он стал бы презирать…
Потом в репродукторе стал стучать метроном.
— Все, как тогда, — оглянувшись на маму, сказал Овесян.
Она улыбнулась ему.
В репродукторе слышался голос:
— Девять, восемь, семь, шесть…
Я ухватилась за спинку стула, на который села мама, до боли сжала пальцы.
— Пять, четыре, три, два…
Овесян поднял руку.
— Один… ноль! — в унисон с репродуктором крикнул он.
Я смотрела в черную щель. Мне показалось, что ничего там не произошло. Но вдруг на горизонте беззвучно выросло огненное дерево… Именно дерево, потому что оно расплылось вверху светящейся листвой. Говорят, что у гриба атомного взрыва черная шляпка. Это только днем. А в полярную беззвездную ночь эта черная шляпка светилась.
И потом заколебалась почва. У меня кружилась голова.
У подножия огненного дерева на горизонте образовался белый холм, словно море со льдами приподнялось там.
И только потом на нас обрушился звук. Он сжал голову, в глазах у меня помутилось, стены поехалн куда-то вбок. Если бы я судорожно не держалась за стул, я упала бы.
Академик целовал маму.
Потом, одетые в неуклюжие противоядерные балахоны поверх шуб, мы вышли на берег моря.
Мама и академик уже знали, что все вышло, как ждали, произошел не только инициирующий атомный взрыв, загорелось под водой и атомное «солнце». Реакции, которые не проходили на старом месте, здесь протекали нормально.
На берегу мы застали капитана Терехова в таком же, как у нас, балахоне.
Овесян обнял его за плечи:
— Ну, как ледовый волк? Конец пришел твоим льдам! Доволен? Сейчас коньяк будем пить, плясать, шашлык жарить!..
— Поднимать ледокол будем, — ответил капитан.
— Да! Поднимать будем, вместе с бокалами!.. Ты только посмотри, как быстро освобождается от льдов полынья. Слушай, капитан. Хочешь ледовую разведку провести? Бери катер, иди к старой установке. Если пройдешь на катере — значит, скоро вся полынья от льдов освободится.
— Можно я тоже поеду с капитаном? — попросила я.
Мама хотела запротестовать.
— Можно! Можно! Пойдешь против течения. Никакой опасной радиации. Будешь гонцом нового марафона. Сообщишь Бурову о победе слепцов. Скажешь: вслепую, а зажгли «солнце».
— Почему вслепую? — удивился капитан.
— Потому что так и не поняли, почему оно погасло. А ты думаешь, люди знали, что такое электрический ток, когда строили первые динамомашины?
Капитану не терпелось скорее плыть к своему ледоколу, готовиться к его подъему.
Так и не успел Овесян угостить нас с ним коньяком.
Катер весело застучал мотором, и мы отплыли от берега. Может быть, атомный взрыв разогнал тучи, в небе светили звезды, но они померкли сейчас рядом с роскошными занавесями, которые свисали с неба, переливаясь нежными фиолетовыми и красноватыми тонами. Овесян шутил, что это все в честь одержанной ими победы.
Я видела такое сияние впервые, и мне оно действительно казалось связанным с тем, что здесь недавно произошло.
Капитан сам сидел за рулем и искусно вел катер, выбирая разводья. Мы двигались против течения и против ветра, который гнал нам навстречу льдины, оттаявшие в районе подводного вулкана. Он словно работал в паре с «Подводным солнцем», подогревая полынью.
За каких-нибудь два часа мы уже были около нашего научного городка.
Буров и Елена Кирилловна встречали меня.
У них был загадочный вид. Они, конечно, уже знали обо всем. Им сообщили по телефону, но они и сами видели атомный взрыв. Он вызвал здесь такой ураган, что с Великой яранги чуть не сорвало купол, оборвалось несколько струн-растяжек.
— Ну, Люд, — сказал Буров, когда мы пришли, — значит, академик сказал, что это новый марафон?
— Да, новая Марафонская битва, выигранная им. А я, как знаменитый гонец, должна была добежать до вас, но умирать у ваших ног он не позволил.
— Правильно сделал. Потому что сейчас надо бежать обратно.
— Как обратно? — не поняла я.
Тогда Буров усадил меня на табуретку и сам сел напротив, как обычно папа садился:
— Слушай, Люд. Сейчас получено страшное известие об ядерном взрыве.
— Почему страшное! Радостное, — поправила я.
Буров отрицательно покачал головой:
— Нет. Ядерный взрыв произошел не только здесь, в соответствии со специальной международной договоренностью. Одновременно он произошел и в африканском городе, на который сбросили атомную бомбу вопреки всем международным соглашениям. Неизвестно, что там произошло. Связи нет. Но можно себе представить. Десятки тысяч задавленных, разорванных, испарившихся людей… И радиоактивная саранча, жалящая, как скорпион… А за первой бомбой последуете вторая… Сейчас уже медлить нельзя…
— Лю, милый! — сказала Елена Кириллована. — Останови хоть ты этого безумца. Его сошлют навечно, закуют в кандалы…
— Куда там дальше ссылать, и так на краю света, — без тени улыбки сказал Буров. — При неудаче никто не заметит моей дерзости, а при удаче… Снесли бы, конечно, голову, если бы судили победителей.
— Что вы хотите сделать? — в тревоге спросила я.
— Успех не только у них. Пока ты ездила зажигать «солнце», у нас тоже кое-что вышло. До сих пор мы находили антиядерную субстанцию, Теперь мы получили ее.
— Это еще надо проверить, — вставила Елена Кирилловна.
— Да, проверить. Но у нас нет времени на лабораторный эксперимент. Проверить надо сразу в огромном масштабе.
— Он хочет потушить «солнце», — сказала Елена Кирилловна.
— Как — «солнце»? — ужаснулась я.
— Конечно, «Подводное солнце», которое они зажгли, — нетерпеливо пояснил Буров. — Я хочу сделать невозможными ядерные реакции.
— Вам этого не позволят, — сказала Елена Кирилловна. — Смешно об этом говорить…
— А если… — сказала я, — если… не спрашивать… взять и погасить?…
Елена Кирилловна пытливо посмотрела на Бурова.
— Ну как? — сказала она. — Или вам впору только персианок за борт бросать?
— Это вы правильно вспомнили… о разбойниках. Разбой мог бы быть с размахом.
— И вы способны на это, Буров?
— Я покажу вам, на что способен. Вы ведь, кажется, сомневались в моем воспитании? «Примат образования над воспитанием»!..
Я не все понимала из того, о чем Буров и Елена Кирилловна говорили между собой. После выздоровления Бурова у них что-то произошло. По-моему, они избегали друг друга и встречались только на работе.
Я не верила сама себе. Я ляпнула, что можно взять и погасить новое «Подводное солнце», а Буров… Буров, кажется, решил это сделать…
Во всяком случае он приказал механику вездехода везти наш излучатель к установке нового «Подводного солнца». А мне он сказал:
— Ну как? Новый марафон, говоришь? Действительно, новый марафон. Придется нам с тобой, Люд, стать марафонскими гонцами. Вставай на лыжи, побежим.
Мне показалось, что я ослышалась. Он хотел бежать на лыжах со мной, а Елене Кирилловне велел ехать на вездеходе!..
Я бросилась за лыжами, не помня себя от счастья. Я уже представляла, как мы подкрадемся с нашим излучателем к берегу, направим его решетчатую параболу на полынью и…
Вездеход был на ходу, он постоянно таскал наш излучатель по тундре. Буров проводил опыты в самых разных местах прямо под открытым небом. Я верила в него. Да, он мог погасить и «Подводное солнце».
Елена Кирилловна села рядом с механиком на вездеход. Я еще не успела надеть лыжи, а наша решетчатая башня уже двинулась. Издали она казалась каким-то фантастическим марсианином на ажурном треножнике, выкинувшим вверх скрюченные руки.
Когда я натирала лыжи, Сергей Андреевич зашел за мной.
— Живо! На дистанцию! — скомандовал он.
Так я стала участницей марафонского бега.
Буров прокладывал лыжню, я бежала за ним. С моря доносились раскаты грома. Льды шли друг на друга, отогреваемые сразу с двух сторон — вулканом и ядерным «солнцем». Неужели мы его погасим? И что тогда будет? Как только я могла это посоветовать Бурову?
Однако не скрою, я хотела, очень даже хотела, чтобы оно погасло по воле этого огромного, сильного человека, расчеты которого смелее, выше, важнее расчетов всех окружающих его людей.
Сергей Андреевич был озабочен, хмур. Я будто снова и снова слышала его слова об атомной бомбе, сброшенной в Африке. Все мы читали об атомных бомбах, привыкли их ненавидеть, но кто из нас мог представить их себе во всем их ужасе!..
Буров догонял нашу движущуюся вышку. Я старалась не отстать от него. Казалось, что силы мои сейчас кончатся… Я ждала, когда ко мне придет второе дыхание. Я сказала себе, что должна… должна бежать… и от этого зависит что-то самое важное…
…Когда мы наконец достигли центрального поста управления установкой «Подводного солнца», я знала, что сейчас упаду и умру. Так ведь и полагалось марафонскому гонцу.
И я упала, вернее — села в снег.
Ни мамы, ни академика здесь не было. Они ушли на берег смотреть, как тают льды. Я не могла идти дальше. Буров пошел вперед.
Я сидела в сугробе и безучастно смотрела на горизонт, где уже появилась наша вышка излучателя. Мы с Буровым здорово обогнали вездеход!..
Когда я немного отдышалась, Буров с мамой и Овесяном уже возвращались на пост управления. Не замечая меня, они продолжали спор, видимо, начатый на берегу.
— Вы безумец, Сергей Андреевич, простите, что так говорю о вас, — слышала я голос мамы. — Как у вас поворачивается язык предложить академику ликвидировать весь его труд последнего времени!..
— Но ведь вы не верите, Мария Сергеевна, что я могу потушить «Подводное солнце»?
— Не верю.
— Так проверьте!
— Кажется, это единственное, чего я не желаю проверять.
— Слушай, Буров, — сказал Овесян. — Ты понимаешь, на что замахиваешься? Я рапортовал правительству, партии… В Арктике всенародный праздник…
— А в Африке всенародный траур.
Я не знаю, почему он сказал об Африке. Ни мама, ни Овесян ничего не ответили.
— Поймите, — продолжал Буров, — нет времени проводить мелкие опыты. Нужен сразу грандиозный размах. Только такой масштаб может сделать нашу работу практической. Разве не этого вы всегда хотели, Амас Иосифович?
— Зачем моими словами играешь? — рассердился Овесян.
— Неужели я должен был тайно подкрасться к берегу и погасить ваше «Подводное солнце»?
— Кому только могло это прийти в голову! — в ужасе воскликнула мама.
Я невольно съежилась в своем снежном убежище.
— Амас Иосифович, дорогой наш академик!.. Вы только представьте, во имя чего мы это сделаем, ради чьего спасения!.. Вот вы ужаснулись, что я мог пойти на научный разбой…
— Недостойно это коммунистического времени!.
— Я переборол себя, Я не своевольничал, я пришел к вам. Неужели же вы… неужели вы не поймете, что должны мы вместе сделать?
— Это ты зря, Буров. Зачем митинговые слова? Кроме того, риск мой не так велик. У тебя может ничего не выйти.
— Должно выйти. И не только здесь. Везде должно выйти. И с вашей помощью.
Вездеход, буксировавший наш ажурный излучатель, подошел совсем близко.
— Я настаиваю на решающем опыте, чтобы остальные сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять опытов были не нужны, — закончил Буров.
— Подумать только, сколько затрачено на «Подводное солнце»! И все это теперь! — почти в отчаянии воскликнул Овесян.
— Важно не сколько израсходовано, а сколько будет сбережено… и спасено, — ответил Дуров.
— Он меня подведет! Честное слово, подведет под монастырь! — крикнул Овесян.
Я больше ничего не слышала из их разговора. Они все пошли навстречу вездеходу. Я вздела, что из его кабины высунулась Елена Кирилловна.
И тут я подумала: а вдруг ничего не выйдет и наш излучатель не создаст субстанции, не погасит ядерных реакций, подумала, что ни Овесян, ни мама не рискуют, рискует только один Буров.
Я еле дотащилась до вездехода. Про меня все забыли. Елена Кирилловна пошла навстречу Бурову, который все еще расхаживал из стороны в сторону с Овесяном. Я не знаю, что они еще обсуждали.
Я замерзла и забралась в кабину механика, который ушел на пост управления. Я считала, что они все-таки придут сюда.
И они пришли. Буров говорил:
— Он не мог поступить иначе. Я уважаю еето.
— А я уважаю вас, Буров, — сказала Елена Кирилловна.
— Он оказался выше самого себя, выше старой своей позиции. Он рискует всем, что им сделано. Так мог поступизть только подлинный ученый.
— Я уверена в вашем торжестве, Буров. Остались считанные минуты.
— Но я не хочу торжествовать с горечью в сердце, Лена… Я хочу в эти последние минуты, чтобы вы простили меня…
— Буров! Буров! Не надо…
— Нет, надо, Лена!.. Я не хочу никакого торжества, если не буду знать… что ребенка, которого ты родишь, мы будем считать нашим ребенком. Разве я люблю тебя меньше оттого, что ты ждешь дитя?
У меня сердце переварачивалась от этих слов. Я не знала, куда деваться, а он продолжал:
— Это будет наш ребенок, наш… Кто бы ни был его отцом. Я буду любить его, как только способен любить свое дитя.
Елена Кирилловна усмехнулась:
— Лучше займемся излучателем, Буров. Надеюсь, что в своем замысле вы меньше ошибаетесь.
— Что вы хотите оказать?
— Я только ваша помощница, Буров. И я замужем.
Я похолодела. Она замужем?
— Кто он? Где он? — спросил Бурав.
— Если бы я знала! — вздохнула Елена Кирилловна.
И тут послышался голос академика:
— Эй, на излучателе! Где же вы там? Давай к берегу! Направляйте луч на северо-северо-восток!
Овесян как-то удивительно привычно командовал диверсией против «солнца», которое сам недавно зажег ценой таких усилий.
Я включила вездеход и повела его к берегу, буксируя излучатель. Сосредоточенный Буров шел рядом, нисколько не удивившись, что я в кабине.
Сейчас все должно было начаться. В кажущейся технической простоте операции был заложен весь смысл ее дальнейшего использования.
Я боялась дышать.
Глава шестая ЧЕРНЫЙ ГРИБ
…Не думал я, что мой репортерский каламбур может всерьез обсуждаться в Совете Безопасности и послужить поводом для всего, что потом случилось.
Окапов в джунглях никто не рыл. Танки через «проволочные заграждения» лиан и надолбы из поверженных исполинов джунглей пройти не могли. В душной и пышной чаще солдаты сражающийся армий просто охотились друг за другом, как это испокон веков делали жившие здесь воинствующие племена каннибалов.
Но в джунглях щелкали не только одиночные выстрелы затаившихся охотников, не только трещали автоматы преследователей, не только бухали, разворачивая сцепившиеся корни, заградительные мины, поражая осколками вертлявых обезьян, которые так же кричали и стонали, корчась в предсмертных муках, как и раненые люди… Сквозь непроглядную гущу листвы, лиан, орхидей и стволов со свисающим мхом почти беззвучно, с неуловимым нежным пением летели стрелы… Я рассматривал их в колчанах простодушных черных бойцов, которым не хватало винтовок. Мне показалось, что наконечники стрел чем-то вымазаны. Я посмеялся, что не хотел бы оцарапаться о них.
И я пошутил в очередной корреспонденции, что против танков и бомбардировщиков, защищающих права обворованных владельцев рудников и копей, применяется «отравленное оружие». Увлекшись, я даже вспомнил о Женевских соглашениях, запрещающих применение отравляющих средств. А ведь там не сказано, что будто отравляющими могут быть одни только газы, могут быть ведь и… стрелы.
Газеты босса напечатали мою корреспонденцию с самыми серьезными комментариями. Босс сказал, что это была моя лучшая находка. Во всем мире поднялся невообразимый шум.
Командование войск Малой Америки предъявило противнику ультиматум. На первую следующую стрелу, «нарушающую международные соглашения», ответом будет ядерная бомба.
Совет Безопасности не мог прийти к единогласному решению. Мое имя упоминалось в ООН.
А я не выходил из бара. Вот уже сколько месяцев я жил в загородном отеле, указанном мне боссом. Кроме меня, там обитали офицеры, коммунистические советники, нейтральные наблюдатели и мои коллеги, репортеры. Они завидовали моей славе, а меня снедала тоска. Я снова пил, сосал, хлестал виски, джин, ром, пунш, коктейли, привык даже к проклятому африканскому зелью, забыв, как его приготовляют. А бармен снова и снова наливал мне двойные порции. А здоровенный черномазый швейцар, милейший парень, эбеновый Геракл, осторожно втаскивал меня в лифт, а из лифта в мой номер, включая все четыре вентилятора на стенах и пропеллер под потомком, поднимавших в комнатах душный и жаркий смерч.
Я умирал от жары, жажды и тоски. Я не хотел больше идти в джунгли, я не хотел больше видеть дикарских стрел и писать о них!..
Жаркий ветер, рожденный бессмысленно вращающимися лопастями, мутил мне ум. Я лежал поперек бессмысленно широкой кровати и изощрялся в отборных и бессмысленных ругательствах, удививших бы даже Эллен…
Явился мой черномазый приятель, доставлявший меня из бара, и сказал, что меня требуют вниз к телефону.
О, милый нью-йоркский док! Тебе бы следовало понять, что протрезвляюще действует на таких клиентов, как я!..
В трубке звучал скрипучий, чужой и чем-то знакомый голос:
— Хэлло, Рой Бредли?
— Какого черта? — отозвался я.
— Дурацкая сентиментальность, но я все же звоню вам.
— Какого черта? — пьяно повторил я.
— Я не помогал вам строить шалаш в джунглях, но я был первым, кого вы встретили, выйдя из него.
— Какого черта? — уже растерянно твердил я, боясь поверить.
— А вот такого черта. Угодно вам получить от нее записку?
— Что? — воскликнул я, мигом протрезвев. Я прижался щекой к раскаленному от жары телефонному аппарату.
— Если можете взгромоздиться на джип, — продолжал голос в телефоне, — я буду ждать вас в три часа ноль восемь минут пополудни. Национальный банк, напротив парка, на углу набережной. Там стена без окон. Не люблю окна.
— О’кэй! — сказал я. — Я думал, что вы сволочь.
— Ну, а я продолжаю так думать о вас. Три ноль восемь.
— О’кэй, мы еще выпьем с вами. Вы все еще носите темные очки?
— У меня глаза разного цвета. И солнце здесь яркое. Постарайтесь не напиться.
Боже! Какая сказочная страна! Все вспорхнуло вокруг, переливаясь оперением райских птиц. Их щебетанье врывалось в окна, как первозданная музыка природы. Я уже понимал зовущие ритмы местных танцев, я готов был кружиться в экстазе, исступленно прыгать под звуки барабана, самозабвенно вертеть туловищем. Я уже понимал цроотодушно открытые сердца детей джунглей, с которыми заключил освященный любовью союз. Я налетел на своего эбенового Геракла и расцеловал его. Он подумал, что теперь уж я действительно пьян, и поволок меня в номер, но я был трезв, как папа римский, и счастлив, как нищий, нашедший бумажник. И я подарил негру свой бумажник со всем содержимым. Но он, каналья, оказывается, засунул мне его обратно в карман.
Я шел по вестибюлю и улыбался всем. Даже коммунистические советники показались мне милыми…
Потом я мчался, сидя за рулем джипа с опознавательными знаками нейтральной державы.
Дорога сверкала, она казалась расплавленной, в ней отражалось солнце, протягивая по асфальту золотистую дорожку, как луна на воде. Такие дорожки, по поверью, верут к счастью. Я мчался за своим счастьем.
Вдруг руль потянуло вправо. Я нажал на тормоза.
Над ухом раздался свист. Это была стрела…
Пришлось остановиться. Опустили сразу обе шины. Я проехал ярдов двести, чтобы быть подальше от стрел, и порядочно «изжевал» резину.
Я посмотрел на часы. Время неумолимо!
Три ноль восемь!!.. Он сказал не «три ноль-ноль», не «три с четвертью», а именно «июль восемь». Этим подчеркивалась точность. А я сидел под жгучими лучами африканского солнца и рассматривал разрезы — да, да! — не проколы, а разрезы в баллонах. Эти проклятые черномазые поставили на шоссе ловко прилаженные ножи. Оказывается, я пролетел, не останавливаясь, через контрольный пункт.
Черные солдаты, трое с луками, двое с ружьями, подошли ко мне и выразили, пощелкивая языками, свое сожаление. Не разобрали, что я американец.
Двое стали помотать мне.
Резина была бескамерная, приходилось ремонтировать покрышки на месте.
Вероятно, я был изобретательно красноречив, но мое красноречие разбивалось о невежественную глухоту черных солдат.
Мы уже починили одну шину, другое колесо заменили на запасное. Можно было ехать. Было три часа ноль семь минут.
Я живо представил себе детектива в темных очжах, скрывавших разный цвет его глаз. Он расхаживал около стены без окон и ждал меня.
Небо было эмалево-синим. Под таким небом все люди должны быть счастливыми. Я слышал или читал где-то, что облака в небе — это упущенное людское счастье. Чем более затянуто небо, тем несчастливее люди под ним. А когда людям особенно хорошо, небо совсем чистое.
Я был уверен, что разноглазый в темных очках ощущает то же самое: есть же у него жена, мать, невеста, может быть, дети. Он показал себя человеком, позвонив мне. Он не мог уйти, он дождется меня. Я буду читать записку, написанную ее рукой, буду мысренйо слышать сводящий меня с ума ее голос!..
Небо было синим и чистым. В нем что-то блеснуло. На большой высоте шел самолет. На некотором расстоянии от него тянулись белые расплывающиеся хвосты сразу нескольких комет. Я понял. Это были догоняющие ракеты. Они несли смерть отважному пилоту, но казалось, что кто-то хочет украсить небо, рисуя на его эмали эти белые следы, словно отделывая его под диковинный синий мрамор.
Кажется, догоняющие ракеты сбили самолет… слишком пюедио.
От самолета у спета отделиться белая точка. Может быть, пилот успел выпрыгнуть с самолета? Нет! Самолет пошел вниз, оставляя за собой черный след, уже на горизонте. Пилот не мог выброситься заблаговременно…
Черные солдаты и я смотрели из-под ладоней на растущую белую точку, вернее — на пятнышко.
Все ниже, ниже, ниже…
Я поймал себя на том, что не дышу.
А черные солдаты пересмеивались. Они ничего не понимали.
Мне нужно было вынуть фотоаппарат, но у меня окостенели руки. Лоб стал потным. Я только успел надеть черные очки.
Вспышка была ослепительной. Я понимаю рассказы о слепых от рождения, которые на единый в жизни миг видели такой адский свет.
До этой секунды нестерпимо сверкавшее африканское солнце потускнело, стало красным…
Лицо опалило лучами другого вспыхнувшего светила, неизмеримо более яркого, жгучего, бьющего испепеляющей жарой, пронизывающего живые клетки, свертывающего листья деревьев, иссушающего травы… Я услышал крики. Черные солдаты выли от боли. Лучевой ожог! Не я ли читал о том, как в Нагасаки или в Хиросиме, на расстоянии нескольких километров выгорали черные буквы афиш, напечатанные черной типографской краткой?… Черный цвет поглощает тепло лучей!
Меня спас белый цвет кожи, подобный бумаге афиш. А черные лица солдат уподобились типографской краске и оказались обожженными. Впрочем, это только предположение.
Негры выли, скорчившись, закрыв лица руками, согнувшись в поясе, а я вскочил в джип и понесся вперед.
Солдаты кричали, может быть, хотели остановить…
Я сам не понимал, что делал. Самым глупым будет признаться, что я думал о маленьком листке бумаги, который держал в кармане разноглазый детектив.
Я видел, как вскипала ножка черного гриба.
Сначала она была белой, сложно пар вырвался из-под земли. Потом она стала темиеть, поднимаясь все выше, выше и выше… куда выше, чем летел обитый самолет.
Я мчался по шоссе и видел, как стала расплываться в небе головка черного гриба безобразной темной шляпой. Ножка была неровной и извивалась…
И только теперь на меня обрушился звук.
Я нажал на тормоза. Скрип их был не слышен. Я откинулся на спинку сиденья, полова разрывалась от обрушившегося на меня удара.
Это ли испытал Том Стрем?
Нужно было или поворачивать назад, или разделить участь Тома Стрема, видевшего Руан после ядерного взрыва.
У меня не хватило ума бежать. Вероятно, я выполнял свой бизнес, чтобы стать очевидцем и иметь возможность все описать, но я, клянусь, думал совсем о другом. Я хотел только добраться до Национального банка…
Но у меня хватило ума достать из багажника защитный костюм.
Говорят, я был первым человеком, появившимся в пострадавшем городе в противоядерном костюме.
Я походил на тех самых «марсиан», которые когда-то пугали рабочих в Ньюарке.
Сначала я встретил толпы бегущих и, казалось бы, непострадавших, только панически испуганных людей.
Они бежали по шоссе, и мне пришлось почти затормозить машину, чтобы не раздавить кого-нибудь.
Они бежали, вытаращив белки глаз, что-то крича. Они несли на руках детей, тащили узлы, катили нагруженные велосипеды и коляски. Некоторые из них падали, другие ступали по упавшим.
Я отчаянно сигналил. Мой вид «марсианина» пугал их. Они шарахались в сторону, и я мог ехать дальше.
А дальше… был ад.
Нужно было быть помешанным, чтобы двигаться дальше. Я и был помешанный. У меня была маниакальная идея найти детектива с запиской. Только предоставив это, можно было понять, почему я так поступал.
Сначала мне встретились сметенные хижины.
Вернее, я видел пустыри, начисто очищенные от того хлама, который стоял на них. Валялись лишь ноги, головы, тела мужчин, женщин, трупы детей, обломки кроватей, тазы, ведра…
У меня было ощущение, словно я впервые узнал о том, как приготовляется зелье беззубых старух… Меня чуть не вырвало, как когда-то Ральфа Рипплайна.
Я увидел на земле маленькую черную перчатку. Я поднял ее. Это оказалась оторванная детская кисть… Я зарыл ее в пепел.
Здесь никто не помогал друг другу. Тут были только мертвые или умирающие.
Дальше стало еще хуже, если это возможно себе представить.
Я добрался до домов европейского типа, то есть до их развалин. Бесформенные холмы битого кирпича, вывороченные бетонные плиты, из-под которых там и тут торчали черные руки или ноги…
Я остановил машину. Мне хотелось откопать хоть кого-нибудь.
Со мной радом оказалось несколько солдат и один здоровенный, испуганный негр, напоминавший моего Геракла. Мы стали вместе разбрасывать камни.
Мы откопали белую женщину, блондинку с наклеенными длинными ресницами. Она смотрела на меня умоляюще. У нее была раздавлена грудь.
Я отвернулся.
Мы еще откапывали, переносили несчастных, складывали вдоль тротуара.
Какой-то европеец, которому неведомо как оторвало обе ноги, требовал пристрелить его.
Я должен был это сделать, но не сделал…
Это был могучий, статный, рыжеволосый человек, он смотрел на меня злыми глазами, он требовал, он просил, он встал бы на колени, если бы они у него были… Он хотел только одного — смерти.
Я не дал ему ее. Смерть сама скоро возьмет его без меня. Это было малодушие.
Да, я был малодушен.
Я двигался по ужасному, развороченному, уничтоженному за доли секунды городу, полному едкого дыма. Я видел столько трупов, словно раздался трубный глас Страшного суда… и все могилы раскрылись, покойники встали… и упали в позах кричащего страдания, задавленные, обезглавленные, четвертованные, заживо зажаренные, изуродованные изощренной сверх-исианской инквизицией… Но я знал, что и те, кто вместе со мной вытаскивали из-под развалин еще дышащих людей, так же, как и «спасенные», все равно умрут в страшных мучениях, пораженные неизлечимым лучевым недугом.
Спасет ли меня мой костюм?
Я ехал дальше.
Меня принимали за ядерного комиссара. От меня ждали указаний, распоряжений.
И я давал эти указания, приказывал, действовал энергично, словно я впрямь был командиром в лагере пострадавших. Я поступал непроизвольно, может быть, уже не от ума, а просто от сердца…
Я достиг кварталов, где бушевали пожары. Нечего было и думать их тушить. Оставалось лишь помочь чудом уцелевшим уйти от моря огня… Трудно было понять, что горит. Горели руины, огонь вырывался из груд щебня…
Кание-то безумцы вытащили из подземного гаража пожарную машину и поливали бущующее пламя из беспомощной кишки. Я похвалил их.
Я все время ехал вперед по кругам дантова ада, сквозь дым, смрад и огонь…
Эпицентр катастрофы казался мне самым страшным, я стремился к нему.
В центре города уцелели деревья, они лишь потеряли кору и сучья, торча обожженными столбами. Многие дома стояли без крыш, с проломленными межэтажными перекрытиями… Но дома стояли, смотря на творящийся вокруг ужас пустыми глазницами окон, из которых там и тут вспышками гнева вырывались клубы дыма.
Автомобили были вдавлены в мостовую на тех местах, где застал их взрыв.
Трудно было узнать в железном ломе, загромождавшем асфальт, еще минуты назад мчавшиеся машины. На них словно обрушился чудовищный молот, расплющивший их на наковальне… Из-под них растекалось масло с радужными разводами. А рядом высыхали мокрые пятна, оставшиеся, вероятно, от проходивших по тротуару людей…
От людей!..
Никому никогда я не пожелаю увидеть что-либо подобное.
Дроклятье всем! Проклятье Богу в небесах. Проклятье человеку на земле! Горе Всевышнему, допустившему все это сдаюей высшей властью! Горе земным рабам его в своей бевысходной дерзости добившихся тощ, что случилось!..
Я продолжал отдавать распоряжения. Откуда-то появившиеся люди, уцелевшие или примчавшиеся выполнять долг, за который они расплатятся жизнью, пытались что-то сделать.
Одну из улиц заливало водой. Прорвало водопровод.
Другая улица была полна зловонья, под гору стекала мутная жижа из разбитой канализации.
Я ехал дальше. Иногда выходил из машины, чтобы сесть на щебень и рыдать.
Зачем создан человек? Зачем развивается культура? Чтобы найти свой конец? Эллен говорила, что всему есть начало и всему есть конец. Так неужели же это конец мира, и мне, простейшему из смертных, дано его видеть, чтобы самому встать в процессию идущих за последним решением?
Меня спасла Эллен, спасла тем, что существует. Меня спасло мое чувство, заслонившее от меня наступавший со всех сторон ужас. Я сошел бы тогда с ума, ибо невозможно было не сойти с ума, не имея света во тьме. У меня был этот свет. Знала ли Эллен, узнает ли она когда-нибудь, чем она была для меня в эти минуты!
Страшные минуты, бесконечные минуты. Высохшая кровь, щебень и пепел…
Я знаю, будет написано в газетах, что репортер агентства «Ньюс энд ньюс» Рой Бредли проявил находчивость, энергию, самоотверженность…
Что все это значит по сравнению с тем, что я видел, проявляя все эти бесполезные качества?…
К вечеру я добрался до набережной, на которой стоял когда-то Национальный банк.
Теперь там лежал огромный холм щебня, обрывавшийся с одной стороны отвесной стеной без окон.
Я шел по мостовой, с трудом передвигаясь в своем громоздком костюме… Будут ли у меня дети? Зачем? Чтобы их вытаскивали из-под развалин, чтобы они исчезали на дне радиоактивного кратера?
Под ногами хрустело стекло. У банка одна стена была сплошным окном. В другой стене окон не было.
Где-то здесь он стоял в три часа ноль восемь минут пополудни.
Мерзше мысли заползают в мой мозг в самые неожиданные и неподходящие минуты. Гадкая мыслишка терзала меня.
Да, я хотел отыскать труп разноглазого… пусть заваленный обломками небоскреба, лишь бы в истлевшем кармане сохранился бесценный для меня клочок бумаги!
Я старался представить его себе, сутулого, в шляпе набекрень, в темных очках, каким я видел его на аэродроме.
Дрожь пробежала у меня по спине. Я не верил себе. Я видел его…
Я видел его тень на стене, на остатке стены, обрывавшей холм щебня.
Вот здесь он стоял, когда его осветила сбоку вспышка взрыва, тень его упала на стену и отпечаталась на ней. Сутулая, с шляпой набекрень, с острыми уголками заметных сбоку очков… Тень была, а человека, превратившегося в газ, испарившегося вместе с клочком столь желанной для меня бумаги, его, живого, ждавшего, вредившего и делавшего добро, добивавшегося блага себе и даже подумавшего обо мне, его… не было.
Было отчего сойти с ума.
Может быть, я и сошел с ума, смотря на чудовищную, насмехавшуюся надо мной, обвиняющую весь мир, запечатленную на отене тень человека, который еще сегодня был живым.
Глава седьмая ВСТРЕЧИ В АДУ
За мной ухаживали, как за героем. Никому даже в голову не пришло вспомнить об отравленных стрелах и женевских соглашениях. Оставшиеся в живых горожане, солдаты, врачи, все — и белые и черные — помнили лишь о моем якобы героическом поведении в уничтоженном городе.
Меня даже заставили пройти медицинское освидетельствование в спешно организованном «лучевом госпитале». Поселили в палатке вблизи него.
Там я и встретил Лиз, свою очаровательную соотечествеяницу. Она была в костюме сестры милосердая и ходила с опущенными глазами.
Она провела меня через знакомые коридоры загородного отеля, где я недавно жил, превращенного теперь в госпиталь. В коридорах прямо на полу лежали больные. Нам приходилось перешагивать через них.
Лиз сказала мне, что прилетела из Штатов, чтобы помочь несчастным. Я знал, что за последние дни сюда прибыло множество иностранцев, самоотверженно предлагавших свою помощь. Они создали интернациональную бригаду спасения.
О, ирония судьбы! Меня, Роя Бредли, придумавшего отравленную стрелу, использованную в ультиматуме, меня за мои непроизвольные и бесполезные действия зачислили бойцом этой интернациональной бригады за номером первым.
Лиз тоже входила в эту бригаду.
Идя но коридору, я посматривал на искаженные страданием лица, белые и черные.
Я видел здешних черных женщин. Они брили себе головы… Это было привычно, но видеть рядом таких же гологоловых белых женщин… Я запомнил одну из них, сидевшую на матрасе и расчесывавшую волосы. Они оставались на гребенке. Половина головы ее была лишена волос, волосы были лишь спереди, где она их расчесывала, но они оставались на гребенке.
Лиз наклонилась, попыталась завязать у нее на голове косынку, но женщина отстранилась, она хотела видеть себя с волосами, ей не было видно в маленьком зеркальце, что на затылке их нет.
Некоторые из лежащих казались мертвыми. Провалившиеся щеки, мерцвенный цвет лиц, негры светлели, белые темнели, как бы сближаясь цветом перед переходом в иной мир.
Страшны были лица, покрытые коростой, распухшие, все в пятнах или в ожогах.
Лиз правела меня к русскому доктору. Он только что осмотрел могучего, оказавшегося вполне здоровым парня с русыми волосами, скорее всего, шведа, тоже прибывшего, видимо, с бойцами интернациональной бригады спасения. Он насмотрел на меня прищуренным глазам, с какой-то хитрецой. Я кивнул ему и попросил подождать меня.
Он согласился, говоря по-английски с забавным скандинавским акцентом. У меня проверили кровь.
— Не знаю, будут ли у меня дети, — сказал я, выходя вместе со шведом из госпиталя, — но в палату к очаровательной Лиз я, по-видимому, не попаду.
— Когда гора не идет к Магомету, Магомет идет к ней, — услышали мы сзади звонкий голос.
Магомет был в узких темных брюках и облегающем, тоже темном свитере. Сестра милооердия несколько неожиданно преобразилась.
— Оценивающе смотрите? — сказала догнавшая нас Лиз. — На мне лишь защитный костюм, уверяю вас, не уступающий но качествам вашему марсианскому балахону, спасшему вас, но лишь более элегантный. Как вы думаете? — спросила она шведа.
Швед усмехнулся.
Я слышал о таких костюмах и знал, что они баснословно дороги.
— Я еду в город, — сказала Лиз. — Наша команда продолжает раскопки. Может быть, вы, Рой Бредли, наденете свой костюм и отвезете меня на своем джипе?
Она говорила это, а смотрела на шведа.
— Мне тоже надо быть там, — сказал он.
— Но я не пущу вас без костюма! — воскликнула Лиз.
— Он уже на мне, — просто сказал швед.
Мы с Лиз удивленно посмотрели на завидную фигуру атлета в элегантном белом костюме спортсмена. Признаться, я потом плохо понимал, чем он занимался, этот швед. Может быть, он тоже был корреспондентом? Он всегда мало говорил. Но к нему приходили какие-то люди за указаниями. Он много ездил, часто вместе со мной, нередко вместе с Лиз, во всяком случае Лиз не упускала такой возможности.
На этот раз мы поехали втроем.
У меня в моем допотопном балахоне был идиотский вид, Лиз напоминала в черном облегающем одеянии дьяволенка… Швед был Вергилием, в белом костюме спокойно прогуливающимся по аду, все знающим, все угадывающим…
У нас были радиометры, но у шведа он был какой-то особенный. И мы словно состязались в треске своих приборов, иногда тревожно захлебышающихся.
В разрушенном городе работали спасательные команды интернациональной бригады. Лиз знала места, где сосредоточивались те больные, которыми еще можно было заниматься.
Город остался тем же адом, каким я уже видел его в первые минуты после взрыва. Только трупов теперь было больше. Их извлекали из-под камней, складывали на асфальт.
— Не знаю, что страшнее, — сказала Лиз, — что произошло или что произойдет?
— Вы ждете еще чего-нибудь? — спросил я.
— Многого, — сказала она. — Эпидемий.
— А я жду… знаете, что я жду? — спросил я, оглядываясь вокруг.
Удивительно, как долго могут дымиться развалины! Хотя это, может быть, оттого, что никто их не тушил… Город догорал, тлел, как дымящаяся головешка, расстилая смрад по улицам, ограниченным горами битого камня… На этих улицах словно остались только отвалы пустой породы, а домов, которые окружали их в другом африканском городе, здесь уже не было.
— Я написал в газету, что присутствовал на первом дне Страшного суда, — сказал я. — Мне показалось, что все покойники вышли из могил и, корчась, ползли между камнями. Я написал о том, что здесь видел.
— Бели б я могла, я выколола бы глаза всем, кто это видел. Этого нельзя видеть! — сказала Лиз.
— Может быть, надо лишить зрения тех, кто сделал это, — заметил швед.
— Они уже лишены зрения. Более того — разума.
— Но не власти? — насмешливо напомнил швед.
Лиз странно посмотрела на него.
Швед делал какие-то измерения. Может быть, он ученый, что-то изучающий здесь? Не пойму себя, но я не могу задавать ему вопросов. Мы все трое, помогавшие эвакуировать из города еще живых, словно были связаны чем-то.
Говорят, древние римляне, побеждая особо непокорных, сносили их города до основания и перепахивали землю…
В своей статье я предложил перепахать землю, на которой стоял город. Не надо, чтобы что-нибудь напоминало о его существовании. Этой «статьи ужасов» не напечатали. Это была моя первая отвергнутая статья.
Я рассказал это своим новым приятелям.
Мы сидели на куче щебня. В санитарную машину люди в марсианских балахонах грузили больных.
В грузовик складывали мертвых. Из кузова торчали их руки и ноги.
Ко всему в жизни привыкаешь.
Нужно было вывезти несколько десятков тысяч трупов!.. Многие из тех, кто их вывозил, без специальных костюмов — а их не хватало, — сами должны были скоро стать трупами, ведь каждое тело, которое они грузили в кузов машины, излучало смертоносные гамма-лучи, незримо поражавшие живых…
Я сказал:
— Во всем виноваты русские.
— Вы это написали в своей статье, и ее на этот раз приняли? — ехидно поинтересовалась Лиз.
Я кивнул головой.
— Почему же виноваты русские? — спросил швед.
— Потому что своей «моральной помощью» они мешают принять ультиматум. Ведь война продолжается. Разве можно допустить еще один такой же ужас? Я ведь это видел.
— Вы тоже это написали?
— Я написал о теории двух атомных взрывов. Только два взрыва ставят на колени строптивый народ. Так было в Японии. А ведь можно было бы не ждать второй бомбы.
— Вторая бомба взорвалась во всем мире, — сказала Лиз. — Нет человека на Земле, который не взорвался бы от гнева. Общественность клокочет, негодует… Все негодуют…
— Кроме тех, кто готовит вторую атомную бомбу, — вставил швед.
— Значит, вы, Рой, снова подбрасываете командованию новую мысль — теорию второго взрыва.
— Вы считаете, что я подлец?
— В вас, Рой, видимо, два человека. Одного я способна ненавидеть, с другим могу ходить, сидеть рядом, разговаривать, Одного печатают газеты треста «Ньюс энд ньюс», другого благословляют люди, бывшие при жизни в аду. Боли бы я была царем Соломоном, я разрубила бы вас пополам: одру часть я втоптала бы в землю, другую… может быть, другую кто-нибудь даже смог бы полюбить.
Мы разговаривали уже вечером, сидя перед отелем, превращенным в госпиталь.
Я предложил шведу свою палатку, и он согласился, а Лиз, окончив дежурство, пришла к нам.
— Полюбить… — горько сказал я. — Мир стоит на несчастной любви. Вот вы, Лиз… Вы счастливы?
— Я не знаю, в чем счастье. Быть нужной? Я всегда искала и нашла завидного жениха, но не стала счастливее. А вот здесь.
— Здесь вы почувствовали себя нужной, — сказал швед. Мы уже знали, что его фамилия Сербург, по крайней мере так обращались к нему те, кто являлись за его указаниями. Вместе с ним они говорили о радиоактивности.
Лиз благодарно посмотрела на него, потом положила свою руку на его огромную ручищу. Я отвернулся.
— А вы, Рой? Разве вы способны любить? — спросила она меня.
— Любить я способен. Но быть счастливым… я не знаю, есть ли в мире способные. После всего, что я видел… Может быть, счастье — это оказаться в грузовике с торчащими вверх ногами?
Подошел мой эбеновый Геракл. Он принес нам ужин: разогретые консервы — свиную тушенку с бобами.
У меня была припасена бутылочка виски.
Сербург предложил Гераклу остаться. Мы с Лиз переглянулись.
Геракл стеснялся. Но он не ушел.
Моя бутылка виски словно растворилась в вечернем воздухе. Мы ее и не почувствовали. Тушенка была чертовски вкусной. Чем страшнее вокруг, тем яростнее хочет жить твое проклятое тело.
Я спросил Геракла, что он думает обо всем случившемся. Он ответил по-французски:
— Я стыдился своих предков, мсье, которые подстреливали из луков воинов и ели их мясо. Теперь я стыжусь, мсье, своих современников, кушающих бифштексы. По сравнению с ними мои предки были святыми.
— Ах, если бы так рассуждали президенты! — воскликнула Лиз.
— Надо еще выпить, — сказал я. Лиз поддержала меня.
У шведа нашлась какая-то бутылка. Он разлил ее по стаканам. И мы выпили.
Дух захватило у меня. Это был огонь без дыма. Только раз в жизни я пил такое! И мне показалось, что рядом сидит не Лиз, а Эллен. Я сжал руку Лиз, она ответила пожатием.
— Это «Столичная», — сказал я.
Сербург удивился моей осведомленности и налил всем еще по стаканчику.
— Я бы сжег тех, кто это придумал, — сказал на этот раз по-английски мой эбеновый Геракл, показывая рукой на зарево тлеющего города.
— Неужели разум не победит безумие? — воскликнула Лиз. — Может быть, это сделает любовь? Только она и страх будут царствовать в последний день.
Она ушла в палатку, где жила с другими сестрами. Ее провожал, как исполинский телохранитель, эбеновый Геракл.
Сербург посыпал вход в палатку специальным порошком, чтобы к нам не попали бесчисленные насекомые, хозяева джунглей.
Я вспомнил о нашем с Эллен шалаше. Видимо, запах трав и орхидей, которыми тогда заполнили шалаш наши маленькие помощники, защитил нас от всех неприятностей африканской ночи.
Какая была тогда сумасшедшая, пьяная, яркая ночь!
Я не мог уснуть, переживая снова каждое мгновение.
Сербург лежал рядом и мирно спал. Или мне только казалось так? Чтобы проверить, я тихо спросил:
— Сербург! У вас есть девушка?
— Я люблю, Рой, удивительную женщину, но у меня нет «моей девушки». А у вас, Рой?
— Я люблю, Сербург, удивительную женщину, и ее нет у меня.
— Какая она?
— Разве можно ее описать? Она — изваяние и она — вихрь. Никогда нельзя угадать, что она сделает в следующее мгновение.
— Наверное, это присуще настоящей женщине. Я тоже никогда не мог угадать.
— А какого цвета глаза у вашей, Сербург?
— Стальные. А у вашей?
— Серые… и бездонные…
Мы замолчали. Каждый думал о своем… или об одном и том же. Великая Природа заботится о людях: когда вокруг них смерть, они думают о любви.
Я подумал о Лиз, о ее нежном пожатии. Я вздрогнул. Я вдруг понял, что она придет. Как никогда прежде, я испугался, так ударило мне в голову. У меня началась галлюцинация. Мне казалось, что придет не Лиз, а Эллен.
И я услышал тихий голос:
— Рой!
Она взяла меня за руку, потянула из палатки. Ночь была звездной, до звезд можно было достать рукой.
Сердце у меня бешено колотилось. Это была не Эллен, это была Лиз. Она пришла. Как мне совладеть с собой?
— Рой, — прошептала Лиз, — будьте хорошим другом. Уйдите.
И вдруг я понял все. Мне стало смешно, легко на душе, хотя и немножко обидно.
Я чмокнул Лиз в щеку, встал, потянулся, обратил лицо свое к звездам.
Как она пела тогда? «Нас венчали не в церкви». Я не завидую сейчас жениху Лиз.
Я отошел от палатки.
Лиз, пожалуй, слишком запоздала. Начинало светать. А светает здесь без рассвета, яркой вспышкой, взрывом прорвавшихся из-за горизонта солнечных лучей.
Они осветили палаточный город близ госпиталя. Палатки стали золотыми.
Здесь стояла лагерем интернациональная бригада спасения, штаб негритянской армии, здесь же расположились и оставшиеся в живых беженцы, медленно угасавшие под банановыми листьями.
Ко мне подошли Сербург и Лиз. Вот тебе и на! Их-то уж я никак сейчас не ожидал увидеть.
Лиз была непринужденной, Сербург замкнутым.
— Леди и джентльмены, — сказал я, — не кажется ли вам, что все покрыто какой-то дымкой? Утренний туман?
— Нет, — сказал Сербург. — Это не утренний туман.
— Что же? — спросила Лиз. Сербург усмехнулся.
И тогда мы все трое одновременно увидели в утреннем эмалевом небе сверкнувшую точку.
Мы переглянулись. Я почувствовал в одной своей руке руку Лиз, в другой — ручищу Сербурга. Он крепко пожал мою кисть, словно успокаивал. Пальцы Лиз дрожали.
К сверкающей в небе точке тянулись хвосты комет. Успеют ли догоняющие ракеты сбить преступника, прежде чем он сбросит?…
— Теория двух атомных взрывов?! — истерически крикнула Лиз, бросилась к Сербургу и спрятала лицо у него на груди.
Он гладил ее волосы и смотрел вверх. Я видел все сквозь дымку, словно мы оказались в центре газовой атаки.
Лиз посмотрела вверх в лицо Сербургу заплаканными глазами:
— Я говорила вам, что скоро конец. Почему вы?… — она не договорила.
Сербург усмехнулся.
От сверкавшей в утренних лучах точки отделилось белое пятнышко.
Я понял, что все кончено.
Атомная бомба спускалась прямо на наши головы.
Я вспомнил, что в ответ на теорию двух атомных взрывов в западной печати раздались голоса, требующие гуманности, слышались советы, чтобы вторая атомная бомба была сброшена на то же место.
В то же место! Почти в то же самое, с отклонением в сторону госпиталя, лагеря бригады спасения, к убежищу несчастных беженцев!.. Но не в сторону домов, заводов и рудников, представляющих собой ценность…
Пятнышко приближалось, такое невинное, красивое.
Можно было различить, что половина парашюта белая, а половина оранжевая.
— Сербург! Вы — человек? — крикнула Лиз. — У вас пульс нормальный…
Я ждал истерики.
Сербург спокойно ответил:
— Я просто знаю, что произойдет.
Я тоже знал, но мой пульс лучше было не измерять.
Парашют был уже ниже, чем ему надлежало быть в момент взрыва.
— Рой, поедемте на вашем джипе к месту падения бомбы, — предложил Сербург, словно хотел прокатиться со мной до бара.
В таком аду возможно любое помешательство.
Какие-то люди отозвали Сербурга в сторону.
Лиз, как завороженная, смотрела на совсем близкий парашют, под которым болтался черный предмет.
Множество людей высыпало из дома, некоторые убежали в джунгли, уподобившись страусам, но некоторые смотрели, превратившись в соляные столбы.
Слышались крики, завывания, плач.
— Я еду с вами, — сказала Лиз, смотря на Сербурга высохшими восторженными глазами.
— Без костюма нельзя, — отрезал он.
Только теперь я заметил, что Лиз была в ночном халатике.
Она смутилась.
— Вы наденете мой запасной костюм, — предложил я. Сербург пожал плечами.
Мы уже стояли около моего джипа, я и Лиз облачились в топорщившиеся балахоны.
Подъехала русская машина, в которой сидели загадочные помощники Сербурга с какими-то приборами.
Сербург сел к нам с Лиз.
Мы помчались без дороги к тому месту, где, как казалось, должен был упасть парашют.
Мы видели, как он опускался на летное поле аэродрома.
Нам предстояло перескочить через канаву, ограничивавшую летное поле. Это была та самая канава, в которой я рыдал, когда самолет Эллен отрывался от взлетной дорожки.
Мы перескочили через канаву, и я затормозил джип.
Парашют со странным грузом был совсем низко.
Работники аэродрома в форменных робах бежали от него по летному полю, стараясь спастись хоть в канавах.
Мы вышли из машины.
— Сербург, — сказала Лиз, — сейчас будет взрыв. Поцелуйте меня.
— Я поцелую и вас и Роя, — сказал Сербург. — Бомба не взорвется.
Он был прав. Бомба не взорвалась. Бывало так, что атомные бомбы срывались и падали с патрулирующих бомбардировщиков и не взрывались, лежа потом мирно на полях американского фермера или где-нибудь еще. Руанская бомба, та взорвалась. Но как могла не взорваться бомба, предназначенная для взрыва?
Бомба лежала на бетоне взлетной площадки. Здесь должен был бы образоваться радиоактивный кратер.
Сербург и его помощники, два ловких молодых человека и один толстяк, уверенно шли к замершему на бетоне чудовищу.
Лиз и я, взявшись за руки, шли следом…
…На атомной бомбе, упавшей на аэродром, были опознавательные знаки, как на самолетах Малой Америки, это была африканская бомба.
Глава восьмая «АТОМНЫЕ ПАРУСА»
Яркие пики света пронзили ночные облака и словно подняли их над океаном.
Красный край солнца всплыл над горизонтом и стал уверенно расти раскаленным островом.
В небе полыхал пожар. Оранжевыми становились все более высокие облака.
Солнце поднималось овальное, словно приплюснутое тяжестью ночи. Тьма последней змеистой тучей обвилась вокруг рожденного солнца и перерезала его петлей пополам. Но солнце не погасло, не уступило. Разделенное на два светила, оно поднималось все выше и выше. Не выдержала тьма, задымилась тонкой тесьмой, испарилась, исчезла. Сомкнулись два юных солнца, слились воедино и сразу удвоился, стал нестерпимым ослепительный свет.
Солнце, пламенное и неистовое, щедрое ко всем, но не терпящее рядом никого, поднималось над океаном, погасив несчетные звезды, заставив побледнеть луну.
Темный ночной океан просветлел.
Как на фоне пожара, встал на горизонте силуэт парусного корабля. Освещенные сзади паруса и флаг на мачте казались черными.
На борту яхты красовалось название: «Атомные паруса».
На палубу выбежал поджарый, мускулистый человек, сложенный как древнегреческий бегун. Это был ее хозяин — мистер Ральф Рипплайн, кумир и надежда «свободного мира».
Ральф делал два своих обязательных круга по палубе. Он радостно улыбнулся своему другу и помощнику, приземистому человеку с мрачным лицом, который приветствовал его поднятой рукой.
Тренер, величественный, как гофмейстер двора, в голубом тренировочном костюме с инициалами Ральфа, благоговейно нес две пары боксерских перчаток.
Мистер Джордж Никсон, прозванный государственным сверхсекретарем, не спавший всю эту ночь, с тем же мрачным лицом деловито снял пиджак и стал надевать перчатки.
Подбежал Ральф и, припрыгивая то на одной, то на другой ноге, протянул свои руки тренеру.
Тот ловко надел на него перчатки и покровительственно похлопал по спине.
Ральф и Малыш стали боксировать. Ральф был выше, тяжелее, но Малыш выступал когда-то профессиональным боксером. Он щадил хозяина и, принимая удары, ловко заставлял его «набирать очки», однако один раз «для памяти» бросил его в нокдаун. Ральф шумно дышал, стоя на одном колене.
Тренер ударил в гонг.
Ральф легонько ударил Малыша перчаткой по плечу:
— О’кэй, Малыш. Вы всегда в форме!
Не дождавшись ответа, он упругим шагом побежал на корму к бассейну.
Мистер Никсон вытерся мохнатым полотенцем и деловито надел поданный ему тренером пиджак. Он совершенно не устал от этой традиционной утренней встречи с хозяином, но лицо его продолжало оставаться озабоченным.
Он видел, как на вышке для прыжков в воду показалась гибкая фигура Ральфа, на миг застыла и исчезла.
Мистер Никсон направился под тент, где должен был завтракать с Ральфом. Он наблюдал, как повара в белых колпаках собирали на палубе попавших на нее летающих рыб.
Он взял у повара одну из рыб, рассматривая ее прозрачные плавники-крылья, думая о чем-то своем. Навстречу ему шла миссис Амелия, ведавшая на яхте нескончаемой программой празднеств.
— С милым утром, дорогой! — сказала она, подставляя напудренную щеку для поцелуя. — Какая прелесть эта рыбка.
— Утро, — пробурчал мистер Джордж Никсон, по привычке проглатывая слово «доброе».
— Сегодня — день сенсаций, полет на крыльях счастья. Но я так встревожена, дорогой. До сих пор нет мисс Лиз Морган.
Мистер Никсон ничего не ответил. Навстречу супругам шел сияющий Ральф Рипплайн.
Его обаятельная улыбка, размноженная в миллионах экземпляров, была знакома каждому американцу, многие из которых мечтали походить на ее обладателя.
— Хэлло! — сказал Ральф, приподнимая только кисть руки.
— Хэлло! — отозвалась миссис Амелия, мило улыбаясь и поднимая руку в оранжевой перчатке.
Мистер Джордж Никсон с озабоченным видом, держа рыбу в руках, пошел с Ральфом под тент.
— Яичница с ветчиной! Кофе! Сливки! — скомандовал Ральф.
— Немного мармеладу, — добавил Джордж Никсон. — И поджарить летающую рыбу. Сегодня день полетов…
— Коньяк? — спросил Ральф.
— Лучше виски.
Они сидели за столиком, уплетая яичницу, и смотрели на искрящееся море.
= Вас сегодня не тревожит качка, Малыш? — любезно осведомился Ральф, откидываясь на спинку стула и обнажая зубы.
— Это мой барометр, сэр… Он показывает на «худо».
— Вот как! Ждать плохой погоды? Не люблю туч.
— К сожалению, небо осталось безоблачным.
— Туча не появилась? — настороженно спросил Ральф.
— Мало только малевать опознавательные знаки… надо еще уметь пускать механизмы.
Глаза Ральфа стали холодными:
— Не кажется ли вам, что не сработали не только механизмы, но и вы, Малыш?
Малыш смело посмотрел в глаза хозяину:
— Я не уклоняюсь от ударов, сэр, перед тем как бить насмерть.
— Насмерть? Это любопытно, — процедил Ральф Рипплайн, вытягивая ноги и смотря мимо Никсона.
Тот неторопливо налил себе виски, разбавил его содовой водой.
— Ну? — поторопил Ральф. Малыш выпил.
— Вместо одного самолета теперь полетят экскадрильи.
— Старо. Это годилось для прошлых войн.
— Самолеты будут без бомб.
— Ах, они будут сбрасывать цветочки! — насмешливо сказал Ральф.
— Не цветочки, а ягодки упадут под ними.
— Откуда они возьмутся?
Малыш подцепил на вилку летающую рыбу и выразительно приподнял ее над тарелкой.
— Вы шутите, Малыш. Через океан? Вам обязательно хочется впутать Америку?
— Боже, спаси наши души! Ягодки можно приписать только летящим самолетам эскадрильи.
Ральф мальчишески расхохотался:
— Вы — чудо, Малыш! Недурно задумано. Баллистические ягодки! Гуманно!
— Гуманность, сэр, в скорейшем завершении конфликта. Мы с вами боремся за мир. Конфликт разжигают коммунисты. Они подняли шум на весь мир. Мировая общественность подобна развороченному муравейнику. Печать сошла с ума. Митингов протеста куда больше, чем богослужений. И они метят туда. Сейчас там уже интернациональная бригада спасения, завтра там окажется армия добровольцев со всего красного мира. Они уже добились разрыва дипломатических отношений большинства стран с Малой Америкой, добились экономических санкций. Пора кончать.
— Еще в первом раунде. Нужен нокаут.
— Так в чем дело? Я не замечал, чтобы вы долго размахивались перед нокаутом.
— Да, сэр, не в моих правилах колебаться, но…
— Ах, боже мой, не будьте скучным!..
С палубы слышался женский смех. Несколько хорошеньких девушек в развевающихся купальных халатиках бежали мимо тента.
— В праздничной программе сегодня полет на крыльях счастья.
— Да, да. Надеюсь, Лиз не запоздает.
Малыш наклонился к Ральфу:
— Мисс Морган сейчас в Африке, сэр. В том самом месте…
Ральф приподнял брови, глаза его насторожились.
— Какая чепуха! — холодно рассмеялся он. — Я этого не слышал, дорогой.
— Но тем не менее, — настаивал Малыш.
— Пойдемте посмотрим, как они купаются. Они так смешно барахтаются и визжат.
Ральф Рипплайн непринужденно поднялся и упругой походкой направился к бассейну. Мистер Джордж Никсон тяжелым выжидающим взглядом смотрел ему в спину. Ральф почувствовал взгляд и обернулся. Рот его улыбался, но не глаза…
Мистер Джордж Никсон уже знал, что делать, Он деловито зашагал по палубе.
На нее сейчас выкатили небольшую платформу с глыбой мрамора. Прославленный скульптор, итальянец, приглашен был сделать статую Ральфа.
Наступил час, когда Ральф позирует ему.
Вся яхта тогда священнодействовала. Люди, затая дыхание, смотрели на оригинал и выступающую из мраморной скалы застывшую, но совершенно живую копию великолепного Ральфа, баловня судьбы, успеха и счастья.
В запыленном мраморной крошкой синем халате, в берете, с трубкой в зубах, с зубилом и молотком в руках, маленький носатый скульптор мерно откалывал от мрамора крохотные кусочки, ставляя воплощенное в мрамор великолепие здоровья и удачи. Само собой разумеется, мрамор не запечатлевал старых зарубцевавшихся ран, напоминавших о скверной «марсианской ночи».
Наступал кульминационный момент праздника. По судовому радио миссис Амелия огорченно объявила, что мисс Элизабет Морган, занятая приготовлениями к свадьбе, прибыть на яхту не сможет, но просит мысленно представить ее в воздухе на крыльях рядом с любимым.
Миссис Амелия умиленно вздохнула.
Автоматы убирали паруса. Яхта шла малым ходом.
На воду спустили скутер. Мистер Ральф Рипплайн, бронзово загорелый, стоя на водных лыжах, летел за пенной струей скутера, выпрямившись во весь рост. Он готовился к предстоящему полету.
— Как он красив! Как ловок! — слышались женские голоса.
Скутер делал круги вокруг яхты. Ральф, держась одной рукой за буксирующую его веревку, делал в воздухе пируэты, мчался на водных лыжах то лицом вперед, то назад.
Он наслаждался быстротой, солнцем, соленым ветром и брызгами.
С кормы яхты бросили тонкую нейлоновую нить. На скутере поймали ее. Потом с палубы на скутер спустили огромные черные крылья, напоминающие крылья исполинского грифа. Скутер отошел от яхты, натянув незаметную на фоне воды и неба нить, которая была прикреплена к крыльям.
Ральф, стоя на водных лыжах, надел черные крылья.
На яхте защелкали автоматы. Исполнительные механизмы совсем убрали паруса.
Яхта быстро набирала ход, она шла против ветра, со спущенными парусами. И тем не менее скоро она уже неслась, едва касаясь воды.
Ральф мчался на водных лыжах по волнам следом, незримо связанный с судном, с ее атомными двигателями, заменившими сейчас паруса. Он взлетал на гребни волн, перелетая между ними.
Но вот, прыгнув с очередного гребня, он уже не опустился на следующий, он стал подниматься на крыльях, косо поставленных к встречному ветру.
Крики восторга прокатились по яхте.
Черный демон взлетел выше мачт. Он клонил крыло то вправо, то влево, вздымая вверх, опускался почти к самой воде, едва не касаясь пенных гребней, потом снова летел, играл своей силой, ловкостью.
Озабоченный мистер Джордж Никсон получил новую депешу. Сидя один в каюте, он в бешенстве ударил кулаком по столу.
Но он уже не в силах был ничего сделать.
Он представил, как десять черных тел, напоминая гигантских летающих рыб, выскочили из глубины океана и, подобно черным демонам, поднявшись в воздух — нет! выше воздуха! — ушли по плавным кривым за атмосферу, чтобы упасть в строго рассчитанном месте на черном континенте.
Он уже не мог их остановить.
Бессильно сжимая кулаки, мистер Джордж Никсон метался по каюте.
Яхта убавляла ход. Ральф Рипплайн ловко опустился на воду и несся теперь по ее поверхности на водных лыжах.
Скоро яхта «Атомные паруса», выключив двигатели, легла в дрейф.
Скутер догнал ее и подвез Ральфа Рипплайна к судну. Он не пожелал снять свои исполинские крылья. Вместе с ними гордо поднялся он на сверкающую палубу, где его встречали аплодисментами восхищенные гости.
Среди них был и Малыш с непроницаемым лицом.
— Ну как полет? — весело крикнул ему Ральф.
— О, полет был изумительный! — воскликнула за мужа миссис Амелия.
— Мы все в восторге! Какой расчет!
— Какая смелость! Какая красота!
Окружавшие Ральфа девицы старались завладеть его вниманием.
— О’кэй, девочки! В следующий раз я полечу с кем-нибудь из вас.
— А как же мисс Лиз?
— Она, кажется, нездорова, — сказал Ральф и испытующе посмотрел на Малыша.
— Она совершенно здорова, сэр, — тотчас отозвался мистер Никсон. — Я только что получил известие.
— Ах, как жаль, что она не смогла приехать, — огорчилась миссис Амелия.
Ральф изменился в лице. Он сбросил с себя крылья и оттолкнул их ногой. Он подошел к Никсону.
— Совершенно здорова? — спросил он.
— Все, абсолютно все там совершенно здоровы.
— Все?
Малыш кивнул.
— Как это может быть?
— Вам нужно отдохнуть после полета, сэр, — сказал мистер Никсон.
— Это было упоительно! — воскликнула одна из девиц, но увидела лишь загорелую мускулистую спину Ральфа Рипплайна, направлявшегося в свою каюту.
— Он сейчас переоденется, он сейчас выйдет к ленчу, — старалась сгладить неловкость миссис Амелия Никсон.
Ее муж ушел вслед за Рипплайном.
Ральфу подали халат. Зябко кутаясь в него, он ходил по каюте.
Мистер Джордж Никсон стоял около иллюминатора.
— Ну! — хрипло сказал Ральф. — Как это могло случиться, чтобы все десять?…
— Я знал, что это случится, но не мог остановить. Они уже вылетели из-под воды, как летающие рыбы…
— Обойдитесь без аллегорий. Если знали, то ответите за это.
— Я получил ценнейшее донесение агента.
— Это что? Утешение?
— Это козырь, который дорого стоил нам. Вот что сообщает наш агент. — Понизив голос, мистер Джордж Никсон прочел выдержки из донесения, которое так поздно было расшифровадо:
— «Советский физик Сергей Буров, отыскивая причину прекращения работы термоядерной установки „Подводное солнце“ в Проливах, обнаружил, что перед извержением подводного вулкана через дно стала просачиваться особая доатомная „Б-субстанция“, обладающая способностью поглощать нейтроны. В присутствии всепроникающей „Б-субстанции“ цепные реакции (атомные взрывы) становятся невозможными, как невозможна и термоядерная реакция. Сергей Буров получил доатомную „Б-субстанцию“ искусственно в лабораторных условиях. Метод ее получения известен и сообщается в приложении, он очень прост и не требует сложной аппаратуры. Физик Сергей Буров после взрыва атомной бомбы в Африке куда-то вылетел, взяв с собой необходимую для получения „Б-субстанции“ аппаратуру. Агент N 724».
Ральф старался раскурить сигару. Но дорогая безотказная зажигалка забастовала.
— Мой репортер Рой Бредли, — продолжал ровным голосом мистер Джордж Никсон, — пишет, что в Африке появился некий физик Сербург, который был уверен, что вторая бомба не взорвется. Бредли сообщает, что его осведомленность и фамилия подозрительны.
— Но это провал! — повысил голос Ральф Рипплайн.
Мистер Джордж Никсон потряс в руке донесением:
— За такие сведения можно заплатить и провалом. Теперь мы знаем, с чем и с кем имеем дело.
Яхта «Атомные паруса» с выключенными двигателями и спущенными парусами неуверенно поворачивалась то носом, то бортом к волне.
Глава девятая «MADE IN USA»
Я шел по летному полю аэродрома и не мог прийти в себя. Я должен был превратиться в газ, оставив лишь тень на бетоне взлетной дорожки. Но я шел по ней, видел солнечный свет, дышал пряным воздухом джунглей, все чувствовал и все помнил…
Мне следовало бы сфотографировать невзорвавшуюся бомбу, взять интервью, хотя бы у того же Сербурга… Но я ограничился лишь короткой депешей боссу, восхищаясь в ней поведением этого скандинава.
Я дал телеграмму из аэровокзала, потом прошел в бар. Черномазый бармен узнал меня и предложил мне русской водки и анчоусов.
Я сказал подсевшему ко мне знакомому репортеру, что соседний табурет занят.
Я воображал, что на нем сидит… Эллен.
Я смотрел на нее через прозрачную жидкость в бокале.
Потом я пошел с ней той же самой дорожкой, которой мы шли тогда. Я держал ее пальцы в своих…
Лианы задевали меня, когда я пробирался по узловатым корням. Я задерживался на полуистлевших поваленных стволах и вдыхал аромат сумасшедших африканских цветов, которые, как тогда, были яркими, зовущими, кричащими… Да, да, они приветливо вскрикивали, взлетая попугаями. Обезьяны щелкали мне языками, как старому знакомому.
Я шел без тропинки, но тем же самым путем, который вывел меня к шалашу.
В шалаше была такая же пахучая трава и орхидеи… Я забрался в него и лег. Закрыв глаза, я мог протянуть руку и почувствовать прохладную свежесть березки…
Я услышал голоса снаружи. Мне не хотелось никого видеть, и я решил не выдавать себя.
Скоро я установил, что это были Сербург и Лиз, я сразу не позвал их, а потом было уже неудобно…
— Я задыхаюсь в этом ужасном марсианском наряде, — услышал я голос Лиз. — Я не буду шокировать вас, Сербург, если сниму балахон? Ведь здесь безопасно?
— Я могу отвернуться.
— Сербург, не надо. В Африке люди ходят нагими. И это красиво. В другом месте вы меня такой не увидите.
— Разве что на пляже.
— Вы этого хотите? Выбирайте: Лонг-Бич, Майами, Антильские острова… Или Тихий океан? Таити, Полинезия… Там женщины делают ожерелья из цветов. Я надену пьянящую гирлянду вам на шею.
— А в Африке пусть взрываются атомные бомбы?
— Почему проклято мое поколение! — с горечью воскликнула Лиз. — Мы ведь не живем, мы все время доживаем последние минуты, подобно смертникам, которым предоставлен свободный час перед казнью… Нас упрекают в безверии. А во что верить, если те, кто был до нас, отняли у нас все, во что можно верить? Нас упрекают в распущенности. А для кого беречь себя, кому хранить ненужную верность, во имя чего? Чтобы радиоактивностью было поражено непорочное тело? Чтобы ничего не познать, ничего не почувствовать? Люди прошлого были счастливы, они могли думать о будущих поколениях, о потомках. У нас не будет потомков… Или они будут дикими, обросшими шерстью, беспалыми, одноглазыми, проклинающими тех, кто жил до них и дал им жизнь!
— В ваших словах слишком много яда, Лиз.
— Возможно. Это потому, что против нашего поколения применено отравленное оружие, не предусмотренное никакими женевскими соглашениями. Раньше чем убивать нас атомом, нам отравили сознание неизбежностью конца.
— Но ведь вы приехали сюда, Лиз. Что заставило вас сделать это?
— Ах, Сербург!.. Я ненавижу тех, кто говорит так, как я. Я не хочу так думать, но я думаю. Я убежала от самой себя, от роскоши и удовольствий, чтобы, рискуя собой, принести хоть какую-нибудь пользу. Вы сами сказали — я хотела быть нужной. Но, Сербург, мы с вами видели здесь такое… Вот Рой проклинает бога, богохульствует… А кого нам надо благодарить за невзорвавшуюся бомбу, за то, что мы с вами живы?
— На вашем месте, Лиз, я благодарил бы не бога, а вон тех людей, которые устанавливают решетчатые башни.
— Что это? Радиолокаторы?
— Не думаю…
— Зачем они?
— Они стоят повсюду.
— Я всегда считала их язычниками. Они устанавливают решетчатых идолов.
— А главное, заставляют их излучать что-то фиолетовое.
— Правда! Мне показалось утром, что поднялся фиолетовый туман. Вы еще сказали, что это не туман.
— Это был не туман, — подтвердил Сербург.
— Сербург, я покажусь вам ужасной свиньей, если сознаюсь…
— В чем, Лиз?
— В том, что очень богата. Мы могли бы с вами уехать, куда бы вы ни пожелали. Хоть в вашу Швецию.
— А если я живу не в Швеции?
— Куда угодно. Но только не думайте, что я хочу купить ваше внимание. Я кое-что уже в вас понимаю. Вы мне кажетесь очень сильным. Это смешно, но мне показалось… мне показалось, Сербург, что вы приказали бомбе не разорваться.
— Это так и было.
— Вы хотите свести все к шутке. Сейчас вы скажете, что живете где-нибудь в Гималаях или в России.
— Именно это я и хотел сказать.
Я подскочил в своем шалаше, не веря ушам. Что это? Словесный пинг-понг? Сербург возвращает мячи?
— Я вам не нравлюсь? — непоследовательно спросила Лиз.
Я вспомнил, как мы говорили с Сербургом о любимых женщинах. Конечно, Лиз очень хороша. Оказывается, богата и без ума от Сербурга… Из какого теста он сделан, чтобы вести себя как каноник?
— Леди и джентльмены! — крикнул я. — Вы нарушили границы сеттльмента и вторглись в мои владения. Здесь у трав запах любовного напитка.
— Ой, Рой! — кржмнула Лиз. — Не выходите! Я не одета!
— Не прикажете ли мне завидовать Сербургу?
— Не стоило бы. Он сидит спиной ко мне.
Я выбрался из шалаша и убедился, что Лиз уже надела защитный костюм.
Мы пошли мимо аэродрома к отелю.
По дороге видели решетчатые параболы. Отстав от Лиз и Сербурга, я подошел к ажурной башне, веселю приветствуя негров, и присел на корточки.
Они решили, что я один из помощников Сербурга, и, обнажая белые зубы, стали показывать мне полированный щиток управления с кишками. На нем не было привычной для меня надписи «Made in USА», надпись была сделана не на латинском алфавите, хотя кое-какие буквы и были похожи…
Мое подозрение крепло.
Я догнал Лиз и Сербурга.
Время близилось к полудню. Солнце стояло прямо над головой! Экватор!
В небе беззвучно летела эскадрилья бомбардировщиков. Грохот их двигателей обрушится позже, когда, они уже пройдут.
Небо расцветилось белыми хвостами догоняющих ракет.
Подбитые бомбардировщики снижались.
Выше и ниже них кружили истребители двух враждующих лагерей.
Воздушный бой нельзя было рассмотреть. Все совершалось с непостижимой быстротой. Кто-то продолжал лететь, кто-то падал дымящей свечой.
— Какой ужас, — сказала Лиз. — Почему они не сбросили бомбы?.
Сербург указал на небо.
В нем вспыжнула звезда. Она сверкала в лучах солнца, круто снижаясь.
Бомбардировщики еще виднелись на горизонте.
— Что это? Что? — воскликнула Лиз, бросаясь к Сербургу, словно он опять мог приказать бомбам не взорваться.
— «И пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, павшую с неба на землю, и дан ей был ключ от кладезя бездны»… — со странным выражением в голосе сказал Сербург.
— Что это? — совсем испугалась Лиз. — Апокалипсис?
— Но не выйдет из кладезя дым, как из большой печи, и не помрачится солнце и воздух от дыма из кладезя, и не выйдет из дыма саранча, чтобы жалить людей, подобно скорпионам!
Сербург замолк. Я знал, что он не так прочитал библейский текст, но не успел ему возразить.
Продолговатое, сверкавшее в лучах солнца серебристое тело, напоминавшее исполинскую летающую рыбу, врезалась в джунгли.
Я не знал, чего ожидать: взрыва, смерти, землетрясения или трубношо гласа Страшного суда.
Негры около параболоида запрыгали, размахивая руками.
— Рой, — сказал Сербург, — собирайте своих газетчиков. Вам будет на что посмотреть. Я жду в джунглях на месте падения.
— О’кэй, — сказал я. — Дело пахнет сенсацией.
— Лиз, — продолжал Сербург, — откройте свое инкогнито и возьмите на себя труд собрать представителей ООН, которые есть поблизости. Приведите их к шалашу. Кажетад, ракета упала где-то рядом с ним.
Я посмотрел на Лиз.
— Да, — сказала она. — Я Элизабет Морган.
Я свистнул.
— Это была ракета? — спросила мисс Морган.
Сербург усмехнулся.
Я не стал терять времени. Мой джип стоял около канавы, ограничивающей летное поле. Мы сели в него с мисс Морган, на которую я теперь посматривл с искренним удивлением, и помчались к отелю-госпиталю.
Вепюртеры бежали кю мне навстречу.
Я узнал, что в разных местах континента упало с десяток баллистических ракет. Вое они не взорвались…
Я не хотел верить ушам. Я считал, что конфликт был локальным, что его нельзя было расширять… Кто и как мог на это решиться?…
Репортеры ехали, пока это было возможно, на моем джипе.
Все взрослое население негритятекой деревни ушло в глубь джунглей, очевидно, к месту падения ракеты.
Просека, на которой росли банановые деревья, была полна возбужденных негров.
Она показалась мне знакомой, но я не видел шалаша. Неужели ракета попала именно в шалаш?
Нет, вероятно, это была совсем не та просека. Мы ведь долго ехали по дороге.
Ушедшую в землю ракету откапывали. Здесь уже находились помощники Сербурга, которых я зиал в лицо. Подъехала мисс Морган в сопровождении представителя Госдепартамента Соединенных Штатов, индийского генерала, командовавшего здесь отрядом войск ООН, наблюдателя ООН, рыжебородого исландца и посла одного из арабских государств.
Негры работали на славу, они выкопали искусственный кратер, обнажив с одной стороны ушедшую в землю головку ракеты… боеголовку с термоядерным зарядом.
Репортеры спрыгивали в яму, пачкая свои костюмы в жирной земле.
Сербург показывал внизу отливавший синью, как лезвие безопасной бритвы, металлический защитный конус головки, нагревшийся при прохождении атмосферы. На нем отчетливо видны были буквы:
«Made in USA».
Мороз прошел у меня по коже. Я механически фотографировал невзорвавшуюся водородную бомбу и толпившихся около нее людей.
Я вылез из ямы и подошел к мисс Морган.
У нее было заплаканное лицо. Это поразило меня едва ли не больше того, что я видел вокруг.
Люди разговаривали вполголоса.
Представители ООН вместе с индийским генералом, сидя на поваленном ударной волной дереве, составляли протокол.
Человек из Госдепартамента открыл пресс-конференцию. На моем веку это была первая пресс-конференция, проводимая в джунглях под открытым небом, в тени банановых листьев.
— Джентльмены! Я уверен, что вы заинтересованы в сохранении мира на нашей планете.
Автоматические ручки забегали по раскрытым блокнотам.
— Государственный департамент уполномочил меня заявить, что США не имеют никакого отношения к чудовищному недоразумению, свидетелями которого вы являетесь. Только враги человечества могши провоцировать конфликт между Великими ядерными державами, использовать в своих целях некоторые детали аппаратов, изготовленные в США.
«Made in USA» — сделано в Америке! Миллионы фотографий с этой надписью обойдут все газеты мира!
Я подошел к мисс Морган. Может быть, эта ракета с термоядерной боеголовкой сделана на одном из заводов, контролируемых ее семейством. Я не оказал ей об этом.
— Скажите, сэр, — спросил один из моих приятелей, — могла ли эта ракета прилететь сюда с границы между Европой и Азией?
Мне стало не по себе. Еще вчера, пожалуй, я сам мог бы задать этот гнусный вопрос.
Представитель Госдепартамента ответил, что не располагает сейчас никакими баллистическими данными, позвойяющими точно судить о том, оттуда прилетела ракета, но считает очень важным подучить донесения от радарных станций, которые могли засечь полет ракеты.
— Почему не взорвалась боеголовка? — спросил мрачный чедовек с висячими усами.
Представитель Госдепартамента пожал плечами. Тогда вышел Сербург и сказал, что он хотел бы ответить на этот вопрос.
Репортеры оживились. Сербург поднял руку.
— Леди… — поклонился он в оторону мисс Морган, — и джентльмены! — обернулся он к репортерам. — Позвольте мне продолжить пресс-конференцию по поручению Советского правительства.
Да, я ждал чего-то подобного!.. Я смотрел на мисс Морган. У нее было бледное, почти прозрачное лицо, на котором неестественно горели глаза.
— В эту минуту весь мир слушает Заявление ТАСС, содержание которого я вам сообщу.
— Что это, Рой! — увидела маня Лиз и вцепилась мне в руку. — Кто он?
— Кто вы такой? — грубо выкрикнул тот самый репортер, который опрашивал, не с территории яи СССР запущена сюда ракета.
Сербург развел руками:
— Я советский физик, обыкновенный ученый, задачей которого было помешать атомным бомбам здесь взрываться. Мое имя Сергей Буров.
— Сергей Буров! Сербург… — прошептала Лиз.
— Я уполномочен сообщить, что усилиями советских ученых найдена субстанция дротовещества, обладающая свойством поглощать нейтроны. Мы назвали ее «Б-субстанцией». Как известно, для цепной реакции атомного взрыва требуется, чтобы из разбитого ядра атома вылетели свободные нейтроны, которые разрушали бы соседние ядра атомов, откуда, в свою очередь, вылетали бы стремительные снаряды-рейтроны. В присутствии «Б-суботанции» эта реакция попросту невозможна. «Б-субстанция» захватывает нейтроны, которые могли бы разрушить ядра. Поглощая нейтроны, «Б-субстанция» способствует обратному превращению вещества в протовещество. Получить «Б-субстанцию» крайнє просто. Вы видели несложную облучающую аппаратуру. Достаточно облучить с ее помощью воздух — и вся округа будет прикрыта «атомным щитом», невидимым, если не считать чуть заметной фиолетовой дымки. Именно «Б-субстанция» насыщает сейчас окружающую атмосферу. Она и не дала сегодня взорваться второй атомной бомбе и баллистическим ракетам с термоядерными зарядами.
Репортеры молчали. Bce были ошеломлены.
Наконец все тот же бойкий парень решился задать вопрос:
— Мистер Буров, что грозит вам но возвращении на родину за разглашение военных секретов?
Буров-Сербург улыбнулся.
— Я ведь уже сказал, что говорю по поручению Советского правительства. В сообщении ТАСС, которое передается сейчас на всех волнах и на всех языках, подробно рассказывается, как получить «Б-субстанцию». Это может сделать любая страна, будь она размером с Сан-Марино или с Соединенные Штаты Америки. «Атомный щит» над каждой страной ничего не будет стоить, отныне он поднимется над всем земным шаром, наполнит земную атмосферу…
— И исключит ядерную войну? — звонко опросила Лиз.
— Да, мисс Мортан, — сказал Сергей Буров. — Ядерные взрывы становятся невозможными на Земле, тем самым исключаются атомные войны, ненужным становится атомное оружие. Это и уполномочен вам я заявить от имени ряда стран, давно предлагавших отказаться от ядерного вооружения.
Я смотрел на господина Бурова и не мог осознать все, что произошло. Вместо того чтобы попытаться представить себе, что будет теперь в мире, я вдруг вспомнил, что все, кто здесь находятся, и Лиз Морган, и я, Рой Бредли, и другие американцы, так же как и летчики посланных сюда эскадрилий, были обречены на гибель. От всей страны не осталось бы ничего… Тот ужас, который я видел в уничтоженном городе, где кто-то двигался, умирал или помогал друг другу, этот ужас показался бы свидетельством жизни но сравнению с той мертвой пустыней, которая осталась бы на месте пышных джунглей, рудников и городов, на том месте, где жили миллионы людей, у каждого из которых были свои заботы, свои мечты и желания…
Ничего бы не осталось. И меня бы не было. А мисс Морган? Ее тоже не было бы… не было бы ее ненужной Сергею Бурову любви…
Ошеломленные репортеры не расходились, хотя Сергей Буров ответил на все вопросы и объявил пресе-конференцию законченной.
Сергей Буров подошел к мисс Морган и ко мне. Он по-приятельски улыбнулся нам.
Лиз протянула руку Сергею Бурову и застенчиво улыбнулась:
— Я никогда не думала, что коммунисты такие.
— А я подозревал, что мистер Сергей Буров коммунист, — признался я. — Я не знаю, нужно ли вас благодарить от имени всего человечества, но от имени одного человечишки, оставшегося в живых, я благодарю вас, кем бы вы ни были.
Сергей Буров рассмеялся и похлопал меня по плечу.
— Что же теперь будет с моим поколением? — с горькой иронией опросила Лиз Морган. — Оно не обречено?… Как бы оно не возмутилось, что вы связываете ему руки, ограничиваете свободу чувств и желаний, вдруг устранив близкий, привычный и все извиняющий конец мира!
— И все-таки конец ядерным войнам лучше ядерного конца мира, — сказал Буров.
— Вы не будете меня уважать? — тихо спросила Лиз.
— Буду, — сказал Буров и крепко пожал руку сначала Лиз, потом мне.
ЧАСТЬ 3. АНТИЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ
Глава первая БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
Как бы мне хотелось закончить на этом свое повествование! Наука дала в руки человека ядерную бомбу, наука же дала ему и щит от нее. Извечная борьба меча и щита, снаряда и брони…
Но нет!.. Остановитьоя на этом — это солгать против законов истории. Никогда не могут быть решены ее повороты только техническими изобретениями. Этими изобретениями владеют люди. И они будут поступать с ними так, как будет выгодно тем группам людей, которые захватят изобретение. Но разве можно использовать во вред обществу «ядерный щит»? Сколько горечи познало человечество прежде, чем поняло это!..
Пожалуй, первой познала горечь нового открытия одна из наших героинь, которой я и передаю сейчас слово, поскольку располагаю написанным ею когда-то письмом. Вот оно:
«Москва, апрель…
Дедушка, милый, родной! Ты ужаснешься моим мыслям. Выдержу ли я, окажусь ли достойной твоего замысла?
Я достигла многого, вошла в их науку, оказалась на решающем участке. Мне не дано совершить подвиг на миру. Я иду на смерть в темноте. Из этой темноты я сообщила о самом их сокровенном, что могло сделать их сильнее нас. Я была горда, даже счастлива… И все оказалось прахом. Нелепым, широким жестом они вдруг обнародовали то, что, кроме них, известно было только мне одной. И подвиг мой оказался ненужным, пустым…
С тяжелым чувством въезжала я в твой родной и любимый пород. Я хотела бы увидеть его именно таким, каким ты помнил его, о каком рассказывал мне еще в детстве. Ню где эти занесенные снегом переулки, трогательно кривые, с уютными особняками, в которых жили твои Зубовы, Шереметьевы, Шаховские?… Где бесчисленные маковки церквей, темные богатства икон и пестрая нищета на паперти? Где санки с медвежьим пологом, где лихачи в лакированных шляпах, подпоясанные кушаками, угодливые половые в ресторанах, бородатые купцы в поддевках, зазывающие в лавки с пахнущей материей, где звонкий цокот копыт по булыжной мостовой?
Я въезжала в город с аэродрома. Я не воспользовалась подвесной железной дорогой, которая вела прямо в центр, мне хотелось въехать по старинке, хотя бы на автомобиле.
Улица, расточительно широкая, как площадь, была едва ли не прямее нашей Пятой авеню и тянулась на десяток миль. Она казалась мне единым монолитом тысячеглазых домов, в которых живут люди иного времени, иной страны. Страны, где повернуты вспять реки, орошены пустыни, разлились по дерзкой воле новые моря, где решено было отказаться от сжигания топлива для получения энергии и где изобилие началось с энергии. Старые тепловые станции дорабатывают свой век, как когда-то забытые теперь паровозы. Здесь отказываются и от сжигания нефти. Уголь и нефть оставляют потомкам, чтобы делать из них ткани и меха, пластмассы, дамские чулки и медикаменты. Здесь почти жертвенно заботятся о будущих поколениях. Ради них люди десятилетиями отказывались от насущного, отдавали жизнь в боях, экономили, строили, воспитывали новых людей для жизни по-новому. Это новое невозможно постигнуть.
Можно еще понять, что электричество применяют повсюду, заменяя им и бензин и газ, не жгут больше дров даже в деревнях, можно еще понять, как небольшой электрической автомашиной, аккумуляторы которой заряжаются у любого фонарного столба, может воспользоваться каждый, взяв ее прямо на улице и оставив потом заряжаться у тротуара для следующего желающего на ней ехать, можно понять начавшееся расселение жителей городов ближе к природе — быстрые средства транспорта позволяют им жить среди лесов и полей, да и места их работы, цеха заводов часто строят теперь не за общей заводской оградой, а рассеянными вдоль шоссе, вблизи новых поселений, — все это можно еще понять, но невозможно постичь их психологию. Для них главным стал не достигнутый комфорт, не устойчивое благополучие, а работа, которая у нас может быть лишь средством достижения всего этого. У них она возводится в ранг потребности. И эта потребность призвана заменить такой естественный стихийный регулятор, как страх безработицы или разорения, наказания или загробной жизни.
Девочка, смешная и милая, еще бутон, полный грядущей силы и прелести, сидя рядом со мной, наивно гордилась всем этим, вместо того чтобы думать о танцах или выпивке за стойкой, как, увы, делают ее сверстницы у нас.
Первый небоскреб, на который она мне указала, целый город этажей, вместительнее нашего Импайр-стейт-бильдинга, был расположен очень удачно, его капризный зубчатый контур напоминал воздушные замки, которые я в детстве представляла себе, глядя на летящие облака.
И такой же сказкой детства показалась мне симфония красок, которая словно звучит с недавнего времени в городе. Они применили цветной асфальт на мостовой и цветные плиты тротуаров. Машины на улицах встречаются только ярких цветов, их пестрый мчащийся поток в разноголосом шуме города играет красками, как мечтал об этом когда-то Скрябин. Своеобразно использован цвет в домах, архитектура которых пересмотрена теперь в общем плане цветовой симфонии Порода.
Я убеждала себя, что хочу видеть только старину, ее благородный темный налет… Я внутренне протестовала против того, что старое и прекрасное отодвинуто было на задний план, прикрыто новым и чуждым. Это чуждое наступало на меня, теснило со всех сторон, смущало… Мне нужно было собрать все свои силы, чтобы противостоять ему, помнить о долге, приверженности только твоему пути, по которому должен все же пойти наш народ-богоносец, каких бы успехов он ли добился на пути ложном и мнимом. И я оказалась сильнее коварного искуса, смогла посмотреть на вое это холодными главами.
Поперечные улицы то и дело ныряли в туннели, здесь все пересечения сделаны на разных уровнях.
Наконец улица стала узкой, уже не прямой. Где-то рядом чувствовались твои переулки… Мелькали высокие ажурные краны, железные руки, перестраивающие город, но переулки еще были, были… Я только не успевала заглянуть в них…
Но вот мы выехали на мост через совсем неширокую реку, и меня ослепило играющее на солнце золото куполов. Старинные башни, непревзойденные по своей красоте, стены, знавшие следы ядер, соборы, хранившие останки властителей Руси…
Мне предстояло работать в огромном институте, требовалось пройти формальности. Я страшилась. У меня были для этого основания… Не потому ли я так легко оказалась в суете лабораторий Великой заполярной яранги, что работы там умышленно не скрывались?
Я проходила по улице, которую ты знал еще с бульварами, ныне уничтоженными, и рядом с особняком певца, твоего друга, видела высокое здание, где люди говорили на привычном мне языке, но куда я не смела ни зайти, ни говорить, как они…
Мне нужно было оправиться после удара, требовалось вновь найти себя.
Когда-то ты говорил о Великом расколе, повторенном ныне историей с удесятеренной силой, рассказывал о неистовой силе женщины, на которую я должна походить… Я захотела увидеть ее. И я пошла в художественную галерею, крепко сжав зубы. Я искала нужный мне зал и вдруг замерла, словно перед распахнутым окном. Я увидела за ним заснеженную улицу с санной колеей, толпу народа…
Она сидела в розвальнях, грозно подняв руку с двуперстым окрестным знаменем…
И я, раскольница конца двадцатого века, позавидовала ей — она могла перед всем народом поднять закованную в цепь руку, звать народ на истинный путь… Я же должна была таиться и молчать…
Я всматривалась в лица окружавших ее людей. Ужас и сочувствие женщин, материнское горе нищенки, благословение сидящею на снегу юродивого… Я увидела даже тебя, спокойного, углубленного в себя, тебя, странника с посохом, посылающего меня на подвит из чужедальней страны…
Рядом с розвальнями шла сестра и последовательница боярыни Морозовой княгиня Урусова… А кто пойдет рядом со мной?
Я стояла перед картиной, углубленная в свои мысли, и вдруг услышала голоса, говорившие на родном языке.
Я была окружена толпой американцев, которых сразу узнала по произношению и одежде. Их привела маленькая девушка в смешных круглых очках. Она старательно выговаривала английские слова:
— Первые наброски картины позволяют думать, что художник во время работы над картиной видел мрачный кортеж смертников 1881 года. Через Петербург тогда провезли повозки, на одной из которых спиной к лошади сидела на скамейке Софья Перовская с доской на груди, где было написано: „Цареубийца“. Первый набросок боярыни Морозовой художник сделал тоже с доской на ее груди, лишь впоследствии убрав ее.
Дедушка! Ты только подумай! Героиня, которую ты мне ставил в пример, оказывается, списана с цареубийцы!..
— Софья Перовская, прикованная цепью за руки, ноги и туловище к скамье, была в черном арестантском одеянии, на голове ее был черный платок в виде капора, как и на этом этюде, — девушка указала на другую стену зала, где развешены были эскизы к большому полотну. — На ее бледном лице, как говорили, играла уничтожающая улыбка, глаза сверкали. Очевидец записал: „Они прошли мимо нас не как побежденные, а как триумшиаторы, такой внутренней мощью, такой непоколебимой верой в правоту своего дела веяло от их спокойствия“.
Я не мопла стоять, опустилась на стул, который кто-то подвинул мне. С кого мне брать пример? С цареубийцы? Ведь ты так гордился родством с царствовавшим домом!..
— Вам нехорошо? — спросила меня незнакомая красивая женщина.
Я кивнула головой.
— Я провожу вас, вы позволите? В каком отеле вы остановились? В „Украине“?
Я вышла на воздух вместе с нею, она окликнула такси. Мне не нужен был отель, я остановилась на квартире своей руководительницы, которая жила вместе с дочкой и с мужем-летчиком, постоянно отсутствовавшим. Но н все же села в такси.
Я позволила себе быть несобранной, воображая, что не занята сейчас делом!
Какая это бышва страшная ошибка!..
Мы обменялись с невнакомкой несколькими фразами, и вдруг я поймала себя на том, что говорю по-английски. Она была американкой из той группы, которую привела к картине девушка в очках. И теперь она вела меня в отель „Украина“, воображая, что я такая же, как и она, туристка.
— Как вам нравится наша Москва? — спросил на хорошем английском изьике шофер такси.
Я поразилась его произношению. Моя спутница приняла это ікак должное и ютала выражать восторг: ей понравился Кремль, Оружейная палата, она пленена университетом, мечтает поступить на последний курс, она окончила Колумбийский университет.
Я спросила шофера, какое он имеет образование, так владея английским языком.
Шофер ответил, что высшее.
— Вам не удалось найти работу по специальности? — удивилась моя спутница.
Мы стояли перед красным светофором, и шофер мог обернуться. У него были тонкие черты лица, он носил очіки в модной оправе. Он улыбнулся.
— Нет, — сказал он, — я работаю по специальности, Я химик-почвовед.
— Простите, мы все же не донимаем…
Шофер рассказал об удивительном обычае, зарождавшемся в этой непонятной стране, в которой, по словам химика-шофера, многие якобы хотят быть учеными, писателями, художниками… Молодежь поставила вопрос о том, кто же должен заниматься тяжелым физическим трудом, который пока требуется, и обслуживать других? Ведь у всех здесь равные права заниматься трудом чистым и приятым. И вот среди молодых людей нашлись многие, пожелавшие в свободное от основной работы время выполнять самый обыкновенный обслуживающий труд: кто-то работает на канализации, кто-то ухаживает в больницах за больными, кто-то спускается в шахты, а наш знакомый водит такси.
— Мне это доставляет радость, удовольствие. Я люблю водить машину, — говорил он. — Но я и ремонтирую ее…
Он снова удивил нас, отказавшись взять плату за проезд. Плата за проезд у них отменена давно на всех видах городского транспорта, в том числе и за такси.
Мне стало неловко.
— Неудобно, — сказала я, — что мы взяли такси. Мы могли бы доехать на автобусе.
Моя спутница тоже была смущена.
— Конечно, такси берут, когда торопятся или когда едут с вещами. Но ведь вы иностранки, — извиняюще сказал нам на прощание шофер и уехал.
Моя спутница настояла, чтобы я зашла к ней.
— Меня все удивляет здесь, — говорила она, когда мы поднимались на лифте. — Автомашинами здесь пользуются, как у нас лифтами.
Хорошенькая лифтерша улыбнулась.
Американка снимала в отеле неуютный трехкомнатный номер.
— Мне уже не по себе здесь, — говорила она, переодеваясь. — Я не сразу понила, что номера в отелях здесь бесплатные, как и квартиры для всех… Платить нужно лишь за роскошь, за лишнее, чем не принято здесь пользоваться.
Американка обязательно хотела, чтобы я пообедала с нею, но я боялась сидеть в ресторане с иностранкой, достаточно я уже допустила оплошностей.
Решили обедать в номере, имея в виду мое недомогание. Ей не хотелось утруждать меня принятым здесь повсюду самообслуживанием. И она позвонила.
Пришел благообразный официант с лицом мыслителя. Мы уже готовы были принять его за профессора, отдающего дань общественному долгу, но он оказался обыкновеннм официантом, почти не говорящим пю-английски.
Я не решилась выдать свое знание русского языка, и мы объяснились с официантом с большим трудом. Американка просила подать самые дорогие кушанья и напитки. Она хотела щедро платить за услуги в стране, где принято обслуживать себя самим. Когда дело дошло до армянского коньяка и шампанского, официант наконец Bce понял.
Я не помню, когда я пила крепкие напитки. Кажется, только после катастрофы в Проливах…
Моя новая знакомая пила очень много.
— Зовите меня просто Лиз, — сказала она, — Я вовсе не туристка. Я приехала сюда потому, что не могла не приехать.
— Вы из Штатов? — осторожно спросила я.
Она отрицательно покачала голошей, смотря в налитую рюмку. Потом подняла на меня глаза:
— А вы?
— Я уезжаю в Штаты, — не задумываясь ответила я.
— Я много пью, потому что… потому что видела такое… Я не хочу, чтобы вы видели что-нибудь подобное.
У меня закралось подозрение:
— Вы из Африки?
Лиз кивнула головой, показала глазами на спальню, одна стена которой была огромным шкафом.
— У меня там висит защитный противоядерный костюм… У него, у того ученого, тоже был костюм, но он выглядел в нем не как в марсианском балахоне, а элегантно. У него был щит в руке, которым он прикрыл целую страну. Я могла пойти за ним на край света. И вот я здесь.
— Вы видели ужас? — спросила я.
Лиз кивнула головой.
— Вы знаете, — сказала она, — смертельный ужас очищает, перерождает… Я внала одного журналиста. Я мечтала разрубить его пополам. Одна его половина злобно измышляла… Это он придумал, будто дикарской стрелой были нарушены женевские соглашения об отравленном оружии, это он придумал теорию второго атомного взрыва. Но, к счастью, у него была вторая половина. Я не хотела бы поверить, что это он придумал то, о чем кричат сейчас наши газеты.
— Простите, Лиз, мне не удавалось здесь следить за нашими газетами.
— Ах, боже мой! — с горьким сарказмом сказала Лиз. — Все поставлено на свои места. Что такое „ядерный щит“, которым коммунисты прикрыли африканскую страну, секрет которого обнародовали, исключив тем возможность применять ядерное оружие? Что это? Высший гуманизм?
— А что же? — нахмурилась я.
— Оказывается, это вовсе не гуманизм, не забота о человечестве, а новый наступательный шаг коммунистов. Они, видите ли, хотят нанести цивилизации последний сокрушительный удар, они лишили „свободный мир“ священного оружия, которое до сих пор сдерживало разгул коммунизма, призрак которого бродит ныне по всему миру.
Лиз выпила и со стуком поставила рюмку на стол.
У меня сжалось сердце. До меня не доходил наивный сарказм ни в чем не разбирающейся туристки! Я воспринимала сущность ею сказанного. И я ухватилась за эту ясную сущность, как утопающая за спасательный круг. Так вот каково истинное значение сенсационного сообщения, унизившего, уничтожившего меня!..
— Наши газеты кричат, что теперь мир накануне гибели, ибо нет больше сдерживающей силы атомного ядра, — закончила Лиз.
Я залпом выпила рюмку, налила новую. Лиз с интересом смотрела на меня. Вероятно, я раскраснелась и глава мои горели…
Так вот оно что! Я была лишь жертвой начавшегося наступления на свободный мир. Моя информация оказалась зачеркнутой, но это было лишь мое поражение, но не проигрыш битвы. Я должна остаться на посту. Я почти знала, догадывалась, была уверена, кто протянул мне руку через пропасти океанов, через стены гор и расстояний.
— Эту мысль мог бросить только Рой Бредли! — воскликнула я, в упор глядя на Лиз.
Она усмехнулась:
— Вы, конечно, знаете это имя. Кто его не знает? Слишком много шума. Но я по-настоящему знаю его… и мне не хотелось бы, чтобы это было его идеей…
Ей не хотелось бы!.. А я была уверена, что это сказал именно он!.. Если бы он знал, мой Рой, если бы он знал, как это было мне сейчас нужно! Узнает ли он когда-нибудь, кем он был для меня в трудные минуты сомнений?
Чем-то я выдала свое состояние. Лиз вдруг спохватилась и захлопотала вокруг меня. Она догадалась, что я жду ребенка. Возможно, она была права, объясняя этим, почему мне стало плохо в художественной галерее.
Женщины иной раз бывают непонятно откровенными с первыми встречными. Лиз опять заговорила об ученом, с которым повстречалась в Америке.
— Я не знаю, придет ли он ко мне, — продолжала она, не отпуская моей руки. — Я известила его о своем приезде… Он оказался русским. Вы не осудите меня, ведь вы современная женщина, не ханжа. Если бы вы его знали! В нем буйная сила. Я приходила к нему в палатку… Вам опять нехорошо?
Неужели я побледнела?
Только сейчас я поняла, о ком шла речь, кто держал в руке „ядерный щит“, спасший африканцев, в ком была „буйная сила“! Она приходила к нему в палатку… конечно, не для того, чтобы применять там прием джиу-джитсу.
Я почти выдернула свою руку.
Вот так обманываешься в людях! Он сидел на медвежьей шкуре, а я смотрела ему в глаза, вцепившись пальцами в его буйные седеющие волосы, говорила, что никогда не полюблю его. Он казался потрясенным… Однако… только до того момента, когда к нему в палатку пришла ищущая американка!..
Я не могла больше быть с нею. Но если она встретится с ним, она неизбежно столкнется и со мной… Как мне тогда выпутаться?
Я просила не провожать меня, обещала позвонить ей, снова приехать к ней в отель. Я забыла, что сказала о своем скором отъезде в Штаты.
Она стояла в дверях своего номера, смотрела мне вслед.
В лифте меня подташнивало. Вероятно, оттого, что он проваливался и я теряла вес. Голова кружилась. Я проходила через вестибюль, ни на кого не глядя.
— Лена? Вы здесь? — услышала я знакомый голос и прислонилась к холодному мрамору огромной четырехугольной колонны.
Мимо проходили негры и индусы в тюрбанах.
Он взял меня под локоть.
— Лена, — сказал он, — ты?
Это был Буров.
Что мне оставалось делать? Я бросилась ему на шею и расцеловала его. Он шел к Лиз…
Но он повез меня к Веселовой-Росовой. Он взял такси, сидел рядом со мной и держал мою руку в своей.
Я не думала в эту минуту ни о „ядерном щите“, ни о конце цивилизации. Я сидела с закрытыми глазами. Мне было хорошо.
Надеюсь, он не привезет мисс Морган в институт?…»
Глава вторая ПРЕВРАЩЕНИЕ
Мария Сергеевна, Люда и Елена Кирилловна прилетели из Проливов на Внуковский аэродром. На летном поле их встречал Владислав Львович Ладнов, физик-теоретик, худой седовласый человек с молодым костистым лицом и злыми глазами. Он казался Люде насмешливым и высокомерным, делил мир на физиков и остальных людей, а физиков — на соображающих и сумасшедших, то есть тех, кто выдвигал неугодные Ладнову идеи, о которых он говорил с яростью и презрением. Люда подозревала, что несумасшедшим считался только сам Ладнов и, может быть, еще академик Овесян, задержавшийся пока в Арктике, да еще Мария Сергеевна Веселова-Росова.
Ладнов взял вещи Марии Сергеевны, критически осмотрев Елену Кирилловну. Та ответила ему открыто неприязненным взглядом.
Люда заметила это, но не подала виду. Ее-то радовало сейчас все: и то, что их встретил Ладнов, и то, что он такой умный и злой, и что вагончики бегавшего по летному полю поезда выглядят игрушечными, и что небо синее, и солнце светит, о котором она так соскучилась за полярную ночь.
Люде хотелось прокатиться на подвесной дороге, но Елена Кирилловна непременно хотела ехать на автомашине.
Владислав Львович сам вел машину. Мария Сергеевна сидела рядом с ним, и они беседовали о физике. Ладнов говорил о редчайшем случае в науке, когда теоретики не предсказали открытия «Б-субстанции» и что тут что-то не так. Не будь «Б-субстанция» уже применена для защиты от ядерных взрывов, теоретики никогда бы не поверили в ее существование. Он сказал, что Буров не только типичный сумасшедший, но еще и «сумасшедший-счастливчик», который вытащил лотерейный билет, и что на скачках всегда везет новичку, ничего не понимающему в лошадях.
— Москва! Москва! — воскликнула Люда, схватив Елену Кирилловну за руку, хотя никакого города, если не считать университета, еще не было видно.
Елена Кирилловна смотрела на причудливый контур университета, на россыпь его сверкающих на солнце окон и мысленно сравнивала его с чем-то…
Потом они ехали по Ленинскому проспекту. Елена Кирилловна почему-то интересовалась не новыми районами города, а теми, которые еще не успели снести, ей непременно хотелось посмотреть на кривые улочки Замоскворечья или Арбата…
Люда украдкой смотрела на Елену Кирилловну. Кто же изменился из них? Губошлепик или Русалка? По-прежнему безукоризнен профиль Елены Кирилловны, привычно подтянута фигура, не опиравшаяся на спинку сиденья, загадочен чуть усталый взгляд. Разве не восхищается ею, как раньше, Люда?… Как смешно она ревновала ее еще недавно ко всем… в особенности к Бурову. Бурова не было. Он стал огромным, как его подвиг. Было странно подумать, что Люда знала такого человека, помогала ему, даже сердилась на него, словно можно было быть знакомым с титаном, с Прометеем!.. Если бы Бурова приковали цепью к скале и орел стал терзать ему грудь, Люда не плакала бы, как прекрасные и беспомощные океаниды, а своими руками разбила бы алмазные цепи, приготовленные гневом богов для титана. Титан скоро вернется. Никогда уже не станет он в глазах Люды обыкновенным… А Елена Кирилловна, а ее Русалка с серыми глазами, думающая о таинственном ребенке?.
Серые глаза Елены Кирилловны были словно прикрыты дымкой, а карие яркие глаза Люды были широко раскрыты и по-новому впитывали мир.
Это был весенний мир, невозможно яркий, с пьянящим воздухом, с бездонным синим небом, с радостными и загадочными людьми, полными своих дум, желаний, стремлений, горя и счастья. Еще недавно Люда почувствовала бы, что хочет расцеловать каждого, кто идет под слепящим солнцем, а сейчас ей хочется совсем другого, заглянуть каждому в душу, узнать о нем самое сокровенное… Но самое трудное, самое необходимое и невозможное было заглянуть в собственную душу, в самое себя, где все было таким непонятным… Ах, если бы их встречал сейчас папа!. Но летчик Росов всегда был в полете, а сейчас… сейчас он даже готовится лететь к звездам вместе с молодыми космонавтами, которых сам воспитывал… Папа, огромный, как Буров, только спокойный, даже застенчивый, но отважный… он умел заглядывать в Людины глаза. Посадит ее перед собой на стул, чтобы ее коленки упирались в его большие и жесткие колени, заглянет в ее «миндалинки» и все поймет… Он бы и сейчас все понял, что с ней творится… А сама Люда?. Она только может смотреть по сторонам: на улицу мокрую в тени и сухую на солнце, на последний апрельский снег — белый с чернью, как старое кавказское серебро, на его неубранные еще после прощальной метели гребни по обе стороны проспекта, на поток людей, каждый из которых нес в себе бесценное сокровище чувств, — и замирать от чего-то странного и необъяснимого, ловя себя на том, что ищет в толпе… Бурова.
Опять Буров! Это ужасно!..
И Люда начинала рассказывать Елене Кирилловне о Москве. Она ведь должна была опекать ее.
Шаховская поселилась в квартире Веселовой-Росовой. Люда самоотверженно готова была, как юный паж, повсюду следовать за нею, но Елена Кирилловна решительно уклонилась. Она искала одиночества, и, конечно, Люде это было обидно.
Ждали скорого возвращения Бурова и возобновления работы в лаборатории. Женщины нервничали.
Буров появился, когда Елена Кирилловна ушла в Третьяковскую галерею.
Люда ахнула, когда он вошел в лабораторию, широкоплечий, высокий, чуть насмешливый. Он оглядел лабораторию, конечно, искал глазами Елену Кирилловну.
Ноги у Люды, ее тонкие и сильные ноги, стали свинцовыми, она не могла встать с табурета.
Буров кивнул ей головой.
— Где мама? — спросил он.
— Елена Кирилловна ушла в Третьяковскую галерею. Она ведь впервые в Москве, — ответила ему Люда.
Он посмотрел на часы:
— Я сейчас поеду в гостиницу «Украина». Вечером постараюсь заглянуть к Марии Сергеевне.
— Да, — сказала Люда. — Елена Кирилловна остановилась у нас.
Он снова кивнул головой, смотря поверх Люды. Он даже не поздоровался с ней за руку. И руки у Люды повисли плетьми.
Буров ушел, а Люда, смотря перед собой сухими, невидящими глазами, мысленно произносила страшные клятвы навсегда уйти отсюда. Разве нужна она ему, если он не сделал разницы между нею и табуреткой, на которой она сидела!..
Она уйдет отсюда, чтобы заняться самым тяжелым трудом, как это делают передовые люди. Если знаменитый дирижер в свободное время водит автобус, если Мария Сергеевна Веселова-Росова, ученый с мировым именем, каждый день ездит в оранжерею, занимаясь там черной подсобной работой среди любимых цветов, то Люда пойдет в больницу, в детскую больницу, будет выхаживать там самых тяжелых больных… или станет уборщицей на вокзале, где особенно много проходит людей и где особенно грязно…
Когда Люда вернулась после обеда домой, то застала там Елену Кирилловну и Бурова. Оказывается, они где-то встретились!
Вошедшая перед Людой Мария Сергеевна обнимала Бурова, крепко целуя его в обе щеки:
— Спасибо, родной. Спасибо тебе, богатырь наш от науки.
Буров наклонился и поцеловал у Марии Сергеевны руку.
— Включать в Африке нашу аппаратуру мог каждый. Подвига в этом нет никакого, — шутливо сказал он.
— Подвиг в том, что все в мире изменилось, — ответила Мария Сергеевна, садясь и тяжело дыша после быстрой ходьбы.
— Теперь позвольте и мне, — сказала Елена Кирилловна, вставая и подходя к Сергею Андреевичу.
Она притянула к себе руками голову Бурова, запустив пальцы в его волосы, потом, встав на носки, поцеловала Бурова.
Люда вспыхнула и отвернулась. Она бы выбежала из комнаты, если бы не побоялась выдать себя.
— Очень трудно разобраться, что происходит сейчас на Западе, — сказала Мария Сергеевна. — Представьте, к нам с особой миссией прибыла американская миллиардерша…
— Мисс Морган? — спросил Буров.
— Вы знаете ее? Завтра она посещает наш институт. Она распоряжается моргановским фондом женщин и передает его Всемирному Совету Мира для использования «Б-субстанции» в целях предотвращения ядерных войн.
— Они уже предотвращены, — сказал Буров, усаживаясь в кресло и доставая папироску. — Вы разрешите? — спросил он Марию Сергеевну. Люда заметила про себя, что он начал курить.
— Вы, кажется, близко знакомы с ней, Сергей Андреевич? — безразличным тоном спросила Елена Кирилловна.
— Да, встречались в Африке, — так же спокойно ответил Буров, выпуская клуб дыма.
— Что же она там делала? Удовлетворяла свое любопытство в джунглях и капризы в палатках?
— Она ухаживала за умирающими, работала в госпитале, подкладывала негритянкам, страдающим лучевой болезнью, судна.
Елена Кирилловна поморщилась:
— Что это? Современная эксцентричность американки?
— Я встретилась с нею в Доме дружбы, — вставила Мария Сергеевна. — По крайней мере одета она удивительно просто.
— Эта простота дороже роскоши, — презрительно бросила Лена.
— Это не эксцентричность, а раскол, — сказал Буров.
— Раскол? — повернулась к нему Елена Кирилловна.
— Да. Когда дело доходит до уничтожения апокалиптической саранчи, раскол не щадит и семьи магнатов, — непонятно для Люды сказал Буров. Шаховская отвернулась к окну.
— Итак, друзья мои, приготовьтесь к завтрашнему визиту, — сказала Мария Сергеевна, поднимаясь с кресла.
Елена Кирилловна охватила виски ладонями, видимо, у нее разболелась голова.
— Хорошо, я приготовлюсь, — объявила Люда. Буров не обратил на эту реплику внимания.
— Надеюсь, американка не придет в нашу лабораторию? — поинтересовалась Елена Кирилловна.
— Нет, нет, — заверила Веселова-Росова. — Чисто официальный визит. Принять ее лучше всего в кабинете академика.
— А там рояль, — вдруг сказала Люда.
Мария Сергеевна задумчиво улыбнулась:
— Да… Наш Амос Иосифович любит играть Лунную сонату, если что-нибудь не получается.
— Значит, он часто играет, — снова вставила Люда.
Мария Сергеевна нахмурилась.
— А ты оденься завтра как следует, строго сказала она дочери.
— Может быть, я могу не приходить? — спросила Елена Кирилловна.
— Нет, дорогая, что вы! Она специально интересуется вами, женщиной — участницей открытия. Это связано с какими-то формальностями использования фонда.
Елена Кирилловна пожала плечами.
Буров встал.
— Ну что ж, — сказал он. — Значит, завтра свистать всех наверх. Начнем дипломатическое плавание, — улыбнулся он.
— Я надену домино, а Елена Кирилловна кокошник, — заявила Люда и с независимым видом вышла из комнаты.
Елена Кирилловна проводила ее настороженным взглядом.
— Кокошник! — усмехнулся Буров и, приветственно подняв руку, ушел.
На следующий день заместитель директора института профессор Веселова-Росова принимала американку мисс Морган.
Лиз быстро вошла в ее кабинет, улыбаясь и протягивая руку:
— Я счастлива пожать руку такому видному ученому, который заставляет гордиться собой всех женщин мира, — сказала она.
Мария Сергеевна радушно усадила ее. Лиз рассматривала простое убранство профессорского кабинета, портреты ученых на стенах.
— Великие физики… Я не всех знаю. О! Это Курчатов! Это Эйнштейн… И две женщины…
— Мать и дочь, — подсказала Мария Сергеевна.
— О, да! Мария и Ирэн Кюри!.. Как странно, физика оказывается женской областью. Она была бы страшной областью, если бы не ваши последние открытия.
— Справедливость требует отметить: «Б-субстанция» открыта мужчиной, физиком Буровым, у него была лишь одна помощница.
— О-о! Я уже знаю это… Я должна ее увидеть. Мне просто крайне необходимо! Вы мне устроите это, дорогой профессор?
— Я думаю, что Сергей Андреевич Буров согласится с этим. Вы ведь встречались с ним?
— О-о! Сергей Буров, Сербург… Еще бы!.. Он никогда не видел меня в платье. Противоядерный костюм, монашеское одеяние сестры милосердия… Правда, странно?
— Вы сейчас встретитесь с ним, он ждет вас в кабинете академика. Я лишь от всей души поблагодарю вас, мисс Морган, за передачу вашего фонда для антиядерных целей.
— Так поступила бы каждая женщина, которая видела то, что мне привелось, дорогой профессор. Позвольте мне вас поцеловать.
И американка обняла Марию Сергеевну.
Мария Сергеевна сама провела Лиз в кабинет академика, находившийся в другом конце коридора, — огромную комнату с лабораторными столами, столом для заседаний, роялем, киноэкраном и черной доской.
Буров, сидевший у окна в ожидании американки, поднялся им навстречу.
— Я полагаю, — сказала по-английски Веселова-Росова, — мне не требуется вас знакомить. Мисс Морган выразила желание встретиться с людьми, открывшими «Б-субстанцию». Ей остается познакомиться лишь с вашей помощницей, Сергей Андреевич.
Буров поздоровался с Лиз и направился к телефону, но она остановила его за руку.
— О, не сразу, мой Сербург, не сразу! Мне хотелось бы кое-что вспомнить только вместе с вами.
— Вы извините меня мисс Морган. Я буду рада, если после беседы с нашими физиками вы снова зайдете ко мне, — учтиво сказала Мария Сергеевна.
— О да, дорогой профессор! Я буду счастлива! — воскликнула Лиз, мило улыбаясь.
Веселова-Росова ушла.
Лиз подошла к концертному роялю, стоявшему около исписанной мелом черной доски.
— Формулы… и музыка… — сказала она и открыла крышку рояля. Стоя, она взяла несколько аккордов, потом села за инструмент.
Она заиграла.
Буров слушал, облокотившись о рояль, и смотрел на Лиз.
Зовущая мелодия сначала звучала в мужском регистре, потом отзывалась женским голосом, полным нежности и ожидания, потом сливалась в бурном вихре, рассыпавшись вдруг фейерверком звучащих капель, наконец, задумчивая, тоскующая, замирала все еще звуча, уже умолкнув…
— Лист, — сказал Буров. — Спасибо, Лиз…
Лиз осторожно закрыла крышку рояля.
— Правда, странно? — обернулась она к Бурову. — Взбалмошная американка бросает миллионы долларов и садится за рояль, чтобы сыграть «Грезы любви», словно слова на всех языках мира бессильны сказать что-нибудь…
— Лиз, — сказал Буров, — вы хотели видеть мою помощницу?
— Да, — оживилась Лиз. — Я почти догадываюсь, почему вы защищены не только от радиоактивных излучений. Я хочу ее видеть, Сербург… — и она вызывающе посмотрела на Бурова.
— О’кэй, — сказал Буров и снял телефонную трубку.
— Какая она? — сказала Лиз, смотря на телефон. — Почему в этом аппарате еще нет экрана? Она похожа на Ирэн Кюри? Она любит вас, Сербург?
— Простите, — сказал Буров и заговорил в телефон по-русски. — Елена Кирилловна? Я попрошу вас сейчас зайти в кабинет академика Овесяна. Мисс Морган находится здесь и хочет познакомиться с вами, моей помощницей. Что? Елена Кирилловна! Алло! Что такое? Вы слышите меня? Так вот. Приходите сейчас же. Да что там такое с вами? Слова не может вымолвить! Ждем вас, — и он решительно повесил трубку.
Потом обошел вокруг стола и, усадив американку в мягкое кресло, сам сел напротив нее. Она достала из сумочки сигарету.
— Даже странно видеть вас в обычном платье, — сказал он, зажигая спичку и давая ей прикурить.
Лиз улыбнулась:
— Я многое предугадываю, Сербург. Я знала, что вы так скажете, и я знаю, что значит для вас ваша помощница. Я приехала, чтобы убедиться в этом.
— Вы могли узнать это еще в Африке, милая Лиз.
Лиз протянула руку и коснулась руки Бурова.
— Спасибо, дорогой, что вы так назвали меня. Я не хотела этого знать там… А теперь я хочу ее видеть, — и она, откинувшись в кресле, затянулась сигаретой.
— И не остановились перед затратой миллионов долларов вашего фонда? — усмехнулся Буров.
Лиз стала серьезной, положила сигарету в пепельницу. Она отрицательно покачала головой:
— Не думайте обо мне хуже, чем нужно. Мы с вами вместе вытаскивали из-под обломков умирающих. Я готова отдать все миллионы, какие только есть на свете, чтобы этого не было.
— Все-таки вы молодец, Лиз!
— Правда, Сербург?
Буров взглянул на приоткрывшуюся дверь:
— Ну вот и моя помощница, которую вы хотели видеть, мисс Морган, — облегченно сказал он.
Дверь открылась.
Лиз смотрела на женщину, вошедшую в кабинет академика, и не могла видеть изменившегося лица Бурова.
— Хэлло! — весело оказала вошедшая и бойко, почти правильно заговорила по-английски. — Я очень рада видеть вас, мисс Морган.
— О-о! Вы действительно хороши, как это и следовало ожидать от женщины, которой будут поклоняться все избавленные от мирового несчастья. Скульпторы станут высекать ваши статуи, — сказала американка, светски улыбаясь и протягивая руку.
— Благодарю вас, мисс Морган. Я никогда не мечтала стать натурщицей.
— О-о! Прелестная леди! В женщине всегда живет натурщица, которая позирует во имя красоты, пленяющей мир. Говорят, великий скульптор за деньги делает изваяние моего жениха. Мне смешно. А что бы вы подумали о своем женихе?
— Я думаю, что он уже превратился в каменное изваяние.
— Посмотрите на него сами, мисс Морган, и вы в этом убедитесь.
Обе женщины обернулись к Бурову.
Он стоял, действительно окаменев от изумления, возмущения или растерянности, он смотрел на «свою помощницу» и не верил глазам.
Нет! Перед ним, конечно, была не Елена Кирилловна! Но это была и не Люда, не та Люда, какую он знал, которую никогда не замечал.
Природа знает величайшее чудо: неуклюжая, прожорливая гусеница вдруг преображается, расправляет отросшие крылья и, блистательная в своей неожиданной красе, летит над землей, по которой лишь ползала, взмывает выше деревьев, у корней которых ютилась, летит на аромат прекрасных цветовое которыми соперничает ныне в яркости…
Перед Буровым, смело и остро беседуя с американкой, стояла стройная девушка в модном платье, с искусной прической, с огромными миндалевидными глазами, удачно оттененными карандашом. И сколько непринужденной грации было в ее позе, когда она присела на ручку кресла, сколько уверенности во взгляде!.
Буров поражался всему: и насмешливым ноткам в грудном женском, откуда-то взявшемся голосе, и смелому вырезу платья, и великолепному рисунку ноги в изящной туфелько с высоким каблуком, и полуоткрытому в загадочной улыбке рту с полными, жизнелюбивыми губами.
— Простите, — наконец опомнился Буров и подчеркнуто сказал:
— Мы еще не виделись с вами.
Они действительно «никогда не виделись»!
И, подойдя к Люде, — да, это была Люда… или, вернее сказать, это была та удивительная женщина, которая еще в свою пору куколки или гусеницы была Людой, — он взял ее руку, чтобы церемонно пожать, но она поднесла ее к его губам, и он непроизвольно поцеловал тонкие пальцы.
Американка наблюдала, какой нежный взгляд подарила Бурову его помощница.
Она резко встала, прощаясь…
— Вы извините меня за этот маскарад, Сергей Андреевич, — насмешливо сказала Людмила Веселова-Росова, когда, проводив иностранную гостью, они остались вдвоем. — Меня попросила об этом ваша Елена Кирилловна.
И, новая, гордая, знающая себе цену, она ушла.
Буров крякнул и потер себе лоб.
Глава третья АНТИЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ
Хорошенькая стюардесса в кокетливо заломленной пилотке попросила пассажиров застегнуть привязные ремни и раздала конфетки.
— Нью-Йорк! — мило улыбнулась она.
Самолет кренился, ложась перед посадкой на крыло.
Мне не терпелось. Я спешил. Я знал, что даже в нашем тресте «Ньюс энд ньюс» этой весной начались серьезные затруднения с распространением газет. Мой дневник мог, если его печатать фельетонами, оказаться спасительной гирей, которая перевесит чашу деловых весов. В нем есть все, как хотел того босс: и ужас, и интимность, и правда, какой я ее видел почти год назад, и даже в самом пекле… Бесценные странички лежали в несгораемом портфеле, который словно был набит долларами. Он будет для меня защитным костюмом против всего, что началось сейчас в Америке!
Я выскочил из самолета первым, сбежал по ступенькам приставленной к фюзеляжу лестницы и протянул паспорт полицейскому чиновнику.
Нас почему-то встречала толпа людей. Они бросились ко мне, наперебой крича:
— Великолепное авто, сэр! Совсем новенькое!..
— Шевроле, сэр! Последней марки. Уже обкатано!
— К черту, к дьяволу всех! Нет лучшей машины, чем кадиллак! Не упустите, парень! По цене велосипеда… Комфорт, изящество, скорость! Скорее! Скорее, мой мальчик!
Мне не давали сделать и шага.
Полицейский чиновник, возвращая мне паспорт, усмехнулся.
Действуя локтями, я пробивался через толпу комиссионеров и коммивояжеров, которые предлагали мне коттеджи, яхты, обстановку для новобрачных, полный мужской гардероб и, конечно, автомобили, великолепные американские автомобили!. Я приятно ощущал портфель под мышкой, сознавая, что скоро смогу купить все это, не размышляя. Мы будем жить с Эллен в сказочной Калифорнии на берегу ласкового океана. У нас будут безмолвные слуги. Мы будем охотиться и скакать на взмыленных лошадях, собирать цветы и купаться в лесном бассейне. Я куплю ей самый звучный рояль и научусь понимать ее любимые пьесы Листа и Бетховена…
Я проходил через удивительно пустынный, словно вымерший аэровокзал. Сумасшедшие комиссионеры атаковали отставших от меня пассажиров.
Какой-то хорошо одетый джентльмен распахнул передо мной двери, просительно протягивая руку.
Со всех сторон на меня ринулись парни в форменных фуражках. Я видел разъяренные лица, расширенные глаза, открытые рты. Они отталкивали друг друга, наперебой предлагая мне свои такси. Я улыбнулся, не зная кого выбрать. Едва я сделал шаг к одному из шоферов, как остальные накинулись на него и сбили с ног. Я отступил и оказался под защитой огромного детины, вставшего в оборонительную позу. Он пятился к своей машине, делая знак следовать за ним. Мне это не удалось. Я едва вырвался из свалки, поплатившись пуговицами пиджака.
Я спасся от этой охоты за пассажирами в аэровокзале и попал в объятия комиссионера, предлагавшего кадиллак по цене велосипеда.
— Я жду тебя, мой мальчик, — прошептал он, беря меня под локоть.
В конце концов я мог себе это позволить, держа под мышкой неразмененный миллион. И я истратил все свои дорожные деньги, я оставил лишь мелочь, чтобы доехать до редакции, доехать в новом собственном автомобиле… На аэродроме было все необходимое для того, чтобы оформление заняло не более получаса.
Кар был просто великолепен, в нем не стыдно было проехаться и с самой Эллен!..
Я уже слышал, что Нью-Йорк бьет лихорадка, но ее проявления показались мне странными.
Я доехал быстро, поток машин был непривычно редким. Зато у тротуаров их стояло несметное число и чуть ли не все с надписями: «Продается»…
Поистине паника, начавшаяся на бирже, подобно радиации, поразила здесь всех, кроме меня. Я-то был в защитном костюме удачи.
Остановиться около небоскреба треста «Ньюс энд ньюс» оказалось невозможно, я проехал две мили в тщетной надежде где-нибудь пристроиться около тротуара. Наконец, плюнув, на грозивший мне штраф, я оставил машину во втором ряду.
На панелях бесцельно толкалось множество людей. Витрины сверкали товарами и наклейками с перечеркнутыми старыми ценами. Повсюду огромные буквы: «Дешевая распродажа».
Через стеклянные или распахнутые двери я видел пустые магазины. Продавцы и хозяева стояли на пороге, зазывая прохожих, хватая их за рукава, как на восточных базарах. А некоторые из них, уже потеряв надежду, смотрели на толпу унылыми глазами. Тревога закрадывалась мне в сердце.
— Что, парень? Тоже в Нью-Йорк за работой? — спросил меня крепкий детина моих лет, стоявший, засунув руки в карманы, у счетчика платной автомобильной стоянки.
— Я из Африки, — сказал я, — плохо понимаю, что здесь происходит.
Безработный выплюнул окурок на тротуар:
— Что ж тут понимать? Закрылись атомные заводы. Шабаш. Кому они теперь нужны, если бомбы не взрываются? А мы, которые на них работали, кормились на будущих несчастьях, оказались за бортом. Ну, и примчались сюда в надежде схватить работенку, а здесь…
— Но ведь здесь никогда не было атомных заводов!
Парень усмехнулся.
— Все одной веревочкой связано. Порвалась веревочка, вот все и развалилось. Оказывается, не только мы там, но и все тут работали на войну. Автомобиль военной гонки на всем ходу затормозил, а мы все вылетели из кузова…
Мне стало жутко. Я подходил к тресту «Ньюс энд ньюс», замедляя шаг.
Все было уже ясно. Существовала ли хоть одна фирма, которая так или иначе не была связана с военным производством? Экономика наша была уродливой. И вот — аннулирование военных заказов, замораживание средств, отсутствие кредита… Владельцы фирм хватаются за головы. Нечем платить в очередную субботу рабочим и служащим. И они увольняли их, хотя те и должны были производить самые необходимые, совсем даже не военные вещи. Цепная реакция краха распространялась с ужасающей быстротой, парализуя организм цветущей страны.
Мы отмахивались от устаревших, как нам казалось, выводов Карла Маркса о неизбежности промышленных кризисов. У нас в последние годы бывали только временные спады производства. Их всегда удавалось компенсировать военными заказами. В такие дни мы, журналисты, особенно старались разогреть деловую конъюнктуру на угольках военного психоза. Оказывается, военная истерия, страх, балансирование на грани войны нам были необходимы, как наркотики, без которых не могло жить дряхлеющее тело мира свободной инициативы… И вот теперь шприц сломался… И словно выпал из арки запирающий ее центральный кирпич, арка нашего хозяйства рухнула, рухнула, как после взрыва. Да, да! Это был антиядерный взрыв, бесшумный, бездымный, но не менее разрушительный, чем тот, который я видел в пекле. Вся страна лежит сейчас в развалинах своего былого благополучия. Так неужели же перспектива ядерной войны была спасительной силой нашего хозяйства? Неужели без нее нельзя обойтись?
Лифт в вестибюле небоскреба не работал. Только в Нью-Йорке можно понять, что произошло, если перестают работать даже лифты!..
Знакомый швейцар грустно улыбнулся мне. Он признался, что не знает, служит он или нет:
— Все вокруг сошли с ума. Фирмы лопаются, как мыльные пузыри, сэр. Сына выбросили на улицу. Он пекарь. Перестали выпекать хлеб. У хозяина не стало кредита на покупку муки. Мука гниет. Ее владельцы тоже разоряются. Не могут ее сбыть. Небо обрушилось на нас, сэр.
Воистину так! Небо обрушилось.
Газеты треста «Ньюс энд ньюс» не выходили. Рабочие были уволены, помещения закрыты.
И тут я увидел босса. У меня потемнело в глазах, словно меня нокаутировали. Он шел через вестибюль.
Я бросился к нему. Ведь я могу оказать его тресту решающую помощь. Здороваясь, я протянул ему портфель.
Он тускло посмотрел на меня исподлобья. Его глаза казались сонными.
— Это дневник, мистер Никсон, — неуверенно начал я, расплываясь в улыбке. — Здесь все описано… Здесь ужас…
Он усмехнулся.
— Ужас там, — показал он глазами на окно и отстранил портфель. — Ужас валяется повсюду, он дешево стоит. Вот так, мой мальчик. Идите к дьяволу и можете использовать свой дурацкий дневник для подстилки, когда будете ночевать в сквере на скамейке или под нею.
И он отвернулся. У него была узкая спина и крепкий, как у тяжелоатлета, затылок, переходящий прямо в шею.
Я не существовал для босса. Он не оглянулся.
Я выскочил за ним на улицу, но рука не послушалась, не ухватила его за полы пиджака. Он сел в кадиллак, почти такой же, как и мой новый, никому теперь не нужный кадиллак, и уехал. Куда? Зачем?
Неужели и он раздавлен в развалинах «антиядерного взрыва»? Я видел улицы руин, которые лишь казались домами, толпы людей, которые лишь казались живыми, город, который лишь казался существующим, страну, которая лишь считалась богатой и сильной, страну, у которой отказался работать мозг… Да работал ли он когда-либо? Ведь у нас все было построено на стихийном регуляторе, на звериной борьбе, на конкуренции, на страхе быть выброшенными на улицу.
Я мог размышлять сколько угодно, мог стать нищим философом или философствующим нищим… Куда идти? Домой, где домовладелец поспешит предъявить мне счет за квартиру, который мне не оплатить?
Начались страшные дни.
Из газет выходили еще «Нью-Йорк таймс» и несколько старых газет. Я тщетно старался сбыть свой товар.
Один редактор, возвращая мне рукопись, покачал головой и посоветовал продать «дневник» в Москву…
Я был ошеломлен. Мне казалось, что мои симпатии сквозили в каждом моем слове. Я всегда был предан свободному миру.
Я ночевал в своем проклятом кадиллаке, на который я истратил столько денег. С ними можно было бы протянуть, а теперь…
Я не смел и подумать о том, чтобы попросить помощи у отца. Каково-то ему теперь?
Пособия по безработице отменили. Государство не могло принять на себя весь удар «антиядерного взрыва». Голодным толпам все еще пока выдавали бобовый суп.
Да, я опустился и до этого…
Я часами стоял в длиннейших очередях, чтобы получить гнусную похлебку.
Но в кармане я сжимал в потной руке несколько своих последних долларов…
Мы ели похлебку стоя, прислонившись к столбу или к стене с плакатами, призывавшими посетить модный ресторан…
Мы не смотрели друг другу в глаза. Я испачкал похлебкой свой серый костюм, но несомел показаться домой, боясь домовладельца.
Я ничего не делал. Оказывается, я ничего ее мог делать, я решительно никому не был нужен со своими мускулами, со своими знаниями… Я ничем не отличался ни по своей судьбе, ни по мраку впереди от миллионов людей, безнадежно толкавшихся на панелях Нью-Йорка, по бетонным дорогам и улицам других американских городов.
Если я не сошел с ума в городе, разрушенном атомной бомбой, то я терял теперь рассудок в городе, парализованном «антиядерным взрывом».
Перестал работать сабвей. Взбешенная толпа однажды переломала турникеты, отказалась платить за проезд, взяла штурмом станцию «Сентральнпарк»… и поезда перестали ходить. Биржевикам придется выбирать другие места для самоубийств… А может быть, не только биржевикам?
Обросшие, голодные люди бродили но великолепному и жалкому параличному городу.
Я брился электрической бритвой, сидя в своем кадиллаке. Его аккумуляторы еще не разрядились. В баке еще был бензин. Я берег его, словно он мог пригодиться. Может быть, для того, чтобы разогнать машину до ста миль в час и вылететь на обрыв Хедоон-ривера?
Я понял, что должен напиться.
Я поехал во второразрядную таверну со знакомой развязной барменшей с огромными медными кольцами в ушах. Она видела меня с Эллен. Мы сидели тогда на высоких табуретах, и я сделал Эллен предложение за стойкой.
На табурете сидела какая-то подвыпившая женщина. Я взобрался на соседний и вжазал виски.
— Хэлло, Рой!
Я вздрогнул. Мне показалось… Голос был так знаком.
Да, знаком! Но это была всего лишь Лиз Морган. Она была почти пьяна.
— Рой, — сказала она и обняла меня за шею. — Выпьем, Рой.
Я обрадовался ей.
Мы выпили и заказали еще по двойной порции.
Барменша наливала стаканы и ободряюще взглянула на меня.
— Снова вместе, — оказала Лиз, смотря на меня сквозь бокал.
— И основа после взрыва, — мрачно заметил я.
— Все плохо, Рой.
— Bce плохо, Лиз.
— Мне нужно напиться, Рой.
— И мне тоже, Лиз.
— Я рада вам, Рой. Вы единственный на Земле, кого я хотела бы видеть.
Я промолчал, выпил и потом спросил:
— А как поживает миотер Ральф Рипплайн?
— К дьяволу старых женихов, Рой. Хотите жениться на мне, Рой? Что? Скажете, что предложения не делают за стойками? Я такая плохая и некрасивая? Вы тоже так думаете?
— Я плюнул бы в глаза тому, кто так думает.
— Вы никогда не плюнете в глаза Сербургу, Рой.
— Ему?
— Да, ему… — она замолчала и пригорюнилась. — Так хотите на мне жениться? — снова обернулась она ко мне. — Дешевая распродажа… Миллионы за бесценок. Налейте мне еще. Можете пока собираться с мыслями…
— Вы считаете, что меня надо разрубить пополам.
— А меня? Меня уже разрубили на части. Соберите их, Рой, и вам повезет…
Повезет? Гадкая мыслишка заползла мне в мозг. И всегда у меня так бывает!.. Лиз! Обладательница огромного состояния. Стоит ли слушать пьяную женщину? Трезвая, она не узнает меня, как это показывал еще Чарли Чаплин. Впрочем, почему же не узнает?… Мы кое-чем связаны… И ей ничего не стоит издать мой дневник. Она получит лишь прибыль… Я возмещу ей все затраты.
Она предложила отправиться в веселую поеэдку по злачным местам Нью-Йорка. Я мужественно хотел расплатиться с барменшей, но Лиз не позволила. Барменша нехорошо подмигнула мне. Я сгорал со стыда, но не стал спорить с Лиз. Рука в кармане комкала долларовые бумажки.
Лиз пожелала кутить. И мы кутили с ней, черт возьми! Ведь я не пил еще в Америке со дня возвращения. В моем организме — черт возьми! — осела горчайшая соль, которая требовала, чтобы ее растворили в алкоголе.
Я уже не могу припомнить, где мы побывали за эту ночь. Лиз бросила свою машину у первой таверны, мы ездили в моем кадиллаке. Лиз похвалила его и сказала, что мы поедем в нем в наше свадебное путешествие.
Я гадко промолчал, а она положила мне голоду на плечо. Ее волосы нежно пахли. Я поспешил остановиться около какого-то клуба.
Это был тот самый клуб, в который нас с Эллен не хотели пускать.
Нас и сейчас не пустили бы, если бы скандаливший тогда со мной распорядитель не узнал в моей спутнице Лиз Морган. Он пятился перед нею, его согнутая спина, напомаженный пробор, плоское лицо — все превратилось в липкую улыбку.
Лиз заставила меня сплясать. Тысяча дьяволов и одна ведьма! Она умела плясать, как Эллен!.. Им обеим могли позавидовать черные бесовки, дразнящие телом, они могли разжигать воинственный пыл у боевых костров, приводить в исступление чернь, воющую у подмостков, они могли бы быть жрицами Вакха или Дьявола, разнузданными юными ведьмами в вихре шабаша.
Она хотела, чтобы я взял ее с деньгами. На ее деньги мы издадим мой дневник… Я переживу этот ужас «антиядерного взрыва»… Какой гнусный расчет! Злоба предков, проклятье потомков, наваждение!..
Я сидел за столом, не обращая на Лиз внимания. Я пил виски, джин, ром, пунш, коктейли. Пьяно требовал африканского зелья беззубых старух… И содрогался от воспоминаний об Африке… Я боялся этих воспоминаний… всех воспоминаний…
Лиз приказала принести орхидеи и засыпала ими наш столик. Она что-то объявила во всеуслышание, и к нам подходили респектабельные, сытые люди и поздравляли нас.
Потом она, шатаясь, подошла к роялю.
Музыканты вскочили, прижались спинами к стене, слились с нею.
Я никогда не слышал такой игры, никогда!..
Лиз упала столовой на клавиатуру и заплакала.
Я отпаивал ее содовой водой, но она снова потребовала вошки.
Выпив, она успокоилась и оказала:
— Мне сталю нехорошо… совсем так, как одной американке, которой я помогла в московской галерее. Только она ждала ребенка…
Я вздрогнул.
— У нас будут с вами дети, Рой? — спросила Лиз.
Я опять гадко промолчал. Уж лучше бы я заговорил об издании своего дневника.
— Она удивительная, Рой, эта американка. Она пила, как мы сейчас, но была свежа, как после утренней ванны. Мы говорили о вас. Она назвала ваше имя, верила в вас. У нее была изумительная фигура, но она ждала ребенка. Я догадалась. Она сказала о картине, которую мы смотрели в галерее, что она хотела бы ехать по снегу в санях… Она была экстравагантна, Рой… Она говорила, что признает только звездный алтарь…
Испарина выступила у меня на лбу. Так говорить могла только она!.. Значит, Лиз встретила ее там, в чужом мире… И она ждет ребенка… нашего ребенка!..
— У меня обязательно будут дети, Рой! Я хочу быть самой обыкновенной женщиной, счастливой, не отвергнутой…
Я протрезвел. Только два раза случалось со мной такое. Когда босс приказал мне лезть в пекло и когда позвонил превратившийся потом в тень детектив…
— Слушайте, Лиз, — сказал я, кладя свою руку на ее тонкие, покрытые кольцами пальцы.
Она нежно улыбнулась мне и положила вторую свою ладонь на мою руку.
— Слушайте, Лиз… Я был бы свиньей, если бы не сознался, что… женат.
Лиз отдернула руки.
— Вы? Вы женаты, Рой?
— Да, Лиз. Перед богом.
— Это чепуха! Вы разведетесь. Кто она?
— Вам это надо знать? Она… она смела и отчаянна, она нежна и прекрасна… и она ждет ребенка… Мы обвенчались перед звездами…
— Молчите. Ваше лицо говорит все без слов. Оно сияет, как реклама «Кока-кола». Я ненавижу вас.
Она встала и пошла пошатываясь.
Я ее не удерживал. Она не оглядывалась.
Подскочил лакей. Я отдал ему все, что у меня оставалось в кармане, все до последнего цента.
Лиз вышла из зала вместе с моими надеждами издать дневник.
Я догнал ее в вестибюле. Хотел все-таки отвезти даму в своем кадиллаке.
— Уйдите! Вы вернули меня Ральфу Рипплайну. Этого я вам не прощу, — сквозь зубы процедила она, не попадая рукой в рукав манто, которое подавала ей смазливая гардеробщица.
Швейцар сбегал за такси.
Мне нечего было дать ему на чай.
Глава четвертая СТРАХ И СОВЕСТЬ
Никто не организовывал этот поход, в этом можно положиться на меня! Меньше всего здесь виноваты коммунисты, на которых пытались потом возложить всю ответственность.
Я стоял на панели в очереди за проклятой бобовой похлебкой. Голодные и промокшие, мы дрожали под проливным дождем. Я не мог спрятаться в своем кадиллаке, он пристроен был у тротуара где-то на 58-м стрите, а пригонять его к очереди было неловко: слишком он был великолепен для жалкого и голодного безработного, ожидающего своей миски супа.
А тут еще объявили, что похлебки на всех не хватит. Вчера случилось то же самое. Многие из нас не ели более суток. У меня от голода кружилась голова. В кармане не было ни цента. Надежды выручить что-нибудь за пиджак, автомобиль или его запасное колесо не было никакой. Никто не хотел расставаться с деньгами. Нужно было родиться таким олухом, как я, чтобы рискнуть это сделать…
Голодные, узнав, что суп кончился, начали кричать. На панели собралось много народа. Даже счастливчики, которым досталось пойло, не уходили и кричали вместе с нами. Они заботились о том, что будут есть завтра. Да и сегодня своей порцией они насытиться не могли и тоже были голодными.
И мы двинулась по улице.
Поток людей рос, стихийно превращаясь в демонстрацию. В окна нижних этажей на нас смотрели прильнувщие к стеклам клерки, которых еще не успели выгнать с работы.
Хозяева магазинов закрывали двери и опускали жалюзи на витрины. Боялись.
Мы незлобиво разгромили несколько магазинов и аптек. Конфервы передавали из рук в руки. Их тут же раскрывали и жадно пожирали, обходясь без предметов сервировки.
Полиция держалась от нас подальше.
Мы беспрепятственно двигались сначала по 48-му стриту, потом вышли на Пятое авеню.
Толпа гудела и катилась вниз к Даун-тауяу. Кто-то с горькой иронией потребовал открыть подвалы Уолл-стрита, где хранятся уже не консервы… Эту идею повторяли громко, насмешливо и даже злобно.
Мне не хотелось принимать участие в таком деле даже в шутку, но нечего было думать о том, чтобы выбраться из «голодного потока».
Кто-то запел «Янки-дудль».
Это было здорово!
Толпа подхватила. Мы сияли шлдаы и шли под моросящим дождем, вылизывая украденные банки из-под свиной тушенки и распевая американский гимн.
А что нам оставалось делать?
Беспокойная толпа жалких, голодных и промокших людей подходила к Уолл-стриту.
В узенькой улочке банков стояли полицейские броневики, очевидно вызванные «в шутку». Полицейские дружелюбно перемигивализсь с нами.
Недалеко от закрытой сейчас Фондовой биржи мы остановились.
Толпа сзади напирала, она заполнила все прилегающие улицы.
Магазинов больше не громили, да их и не было в деловой части города. Люди просто стояли и чего-то издали, словно пред нами мог предстать сам президент.
Тогда-то и стали появляться ораторы. Они говорили с полицейского броневика, превращенного в трибуну.
Полисмены оказались на редкость славными парнями. Они помогали ораторам взбираться наверх, любезно подсаживали их.
Сначала туда поднялись джентльмены, указывавшие рукой на церковь, которой славно запиралась улочка Уолл-стрит. Это была черная церковь с острым контуром. Проповедники что-то бубнили о боге и терпении. Но собравшиеся здесь люда хотели есть. Молиться они предпочитали на сытый желудок.
Потом на машину взобрались молодчики с хриплыми голосами. Они требовали еды и денег, предлагали взломать подвалы банков, около которых мы стояли.
Может быть, полисмены ждали, когда мы наконец цослушаем этих подстрекателей, чтобы начать действовать по инструкции…
Но тут на машине оказался рыжий парень, который попросту столкнул вниз провокаторов, их поймали на руки и выкинули на тротуар.
Рыжего Майка узнали, приветствуя криками и свистками. Это был красный сенатор Майкл Никсон, восстановленный в своих правах нашумевшим решением Верховного Суда США. Полисмены хотели было стащить его за ноги, но им не дали этого сделать.
— Ну, что ж, ребята, — запросто начал Майк. — Один старый и лукавый мыслитель сказал, что всякий народ заслуживает своего правительства. Но дело не в правительстве, а в том строе, который оно представляет. Выходит дело, мы с вами «заслуживаем» капиталистический строй, который выкинул всех, здесь собравшихся, на улицу и который мы все же терпим. А что это за строй? Это мир частной инициативы! Это мир свободного предпринимательства, это мир свободной конкуренции, это мир свободного угнетения, это мир страха. Да, это мир страха и стихии. Мы живем всегда под страхом потерять работу, под страхом конкуренции и разорения, даже под страхом потери прибылей. Получается, у нас страх — главная действующая сила, подгоняющая плетью рабочего, заставляющего напрягаться инженера, принуждающая коммерсанта лучше торговать и хитрее обманывать, промышленника лучше организовывать работу и крепче выжимать из рабочих пот. Все мы в «свободном мире» живем и работаем, как говорят в народе, «за страх». Никому у нас в голову не придет, что можно работать «за совесть»!.. Какая совесть? У кого есть совесть во время бизнеса? Один только страх есть! И вот случилось самое ужасное… Страна парализована. Вчерашние капиталисты оказываются вашими сегодняшними товарищами по несчастью. Разорение — и они или кончают с собой, или идут в очередь за бобовой похлебкой. Это и есть лицо страха. Вчера еще страх был организующим началом, направлял стихийную жизнь общества, создавал видимость рациональной организации и благоденствия. А сегодня, превратившись из пугала в действительность, он из направляющей стихию силы становится сам силой стихии. И эта стихия ураганом пронеслась по всей стране!..
Я слушал Рыжего Майка и не мог подобрать возражений. Чертовски ловко пользуются коммунисты положением. Да, я всю жизнь боялся потерять место. Я хотел заработать миллион, чтобы избавиться от страха, потому и старался работать лучше. И мне никогда не приходила мысль, что можно работать за совесть. Это что же? Без выгоды? Не так устроен человек!.. И, словно отвечая мне, Рыжий Майк продолжал:
— Теоретики и защитники «свободного мира» твердили, что наш строй (который мы терпим, а потому и заслуживаем) более соответствует существу человека, чем строй коммунистов. Если разобраться, то выходит, что наш строй рассчитан на худшие черты человека, на лень и непорядочность, на волчью злобу и ненависть к другому, каждый член общества считается наделенным самыми плохими качествами, которые и компенсируются только страхом. Таким же страхом, по существу говоря, удерживались в повиновении и древние рабы… А ведь можно строить жизнь совсем на иных основах. Не на страхе, а на совести, то есть на высоком самосознании людей, готовых отдать обществу все, что они могут, получая взамен все необходимое, но не больше необходимого. Разве нельзя представить себе общество, которое рассчитывало бы не на худшие стороны характера людей, а воспитывало бы в людях лучшие стороны. Совесть — это ведь проявление всего того хорошего, что может и должно быть в человеке, это любовь и долг, это справедливость и милосердие и это — Разум. В таком обществе не случай и слепая стихия будут главными вождями, а Разум и научный Расчет. Мне кричат сейчас: «В чем выход?» Выход в том, чтобы сменить в нашей стране Страх на Совесть, Стихию на Разум и Расчет! Чтобы справиться с болезнью, охватившей страну, нужно уничтожить микробы, ее породившие, — микробы капитализма. Выход — в социальных изменениях, в перемене устоев нашего общества, в изменении принципа его управления. Поймите, что беда не в том, что не будет больше войн, из-за того что коммунисты придумали «Б-субстанцию», а в том, что благо для всего человечества становится несчастьем для страны с уродливой экономикой, работавшей на войну и не могущей существовать без войны. Ведь не было бы этого страшного кризиса, если бы планомерно переключили силы страны с удовлетворения военных нужд на строительство домов и школ, если бы в конечном итоге позволили людям меньше работать, больше отдыхать…
Больше Майку не дали говорить. Сенатора, несмотря на парламентскую неприкосновенность, арестовали бравые парни из полиции, арестовали за «призыв к свержению власти»…
Мы сами заслуживаем своего правительства: мы молча смотрели, как увезли Майка в полицейском автомобиле. Но его дерзкие мысли остались, их уже нельзя было увезти в броневике.
После Майка выступил правительственный чиновник, который сообщил, что благодаря щедрому пожертвованию семьи Морганов и Ральфа Рипплайна, в свази с предстоящим бракосочетанием мисс Элизабет Моргай с мистером Ральфом Рилплайном, выдача похлебки будет увеличена…
Итак, благодаря Лиз, которую я сам же толкнул в объятия ее жениха, я смогу снова хлебать на панели свою порцию пойла.
Стадо голодных людей, слушавших правительственного чиновника, выло. Газеты потом писали, что правительственное сообщение о заботе финансовых магнатов о народе было встречено восхищенным гулом. Нет! Воем…
Во всяком случае, я выл… Выл от отчаяния, от унижения, оттого, что проклятый Майк разбередил мне ум и душу.
Мы расходились после голодного похода на Уолл-стрит, как побитые собаки.
Майк отравил меня…
Да одного ли меня?
Мне теперь действительно казалось, что я жил всегда в Мире Страха. А я не хотел быть трусом, рабом, извивающимся под ударами бича Страха… Страх-надсмотрщик, Страх-каратель, Страх-учитель…
Проклятый Майк!
Не может быть, чтобы из создавшегося в стране положения не было иного выхода, кроме капитуляции перед коммунизмом…
Есть же у нас прогрессивные умы! Есть!
И тогда я решил взять напрокат свое былое имя репортера, получить «последнее интервью» у прогрессивного капиталиста, которого уважали даже коммунисты, у мистера Игнэса.
Но я не мог явиться к мистеру Ишэсу в таком жалком виде, в котором околачивался по улицам. Мне пришлось заехать к себе домой…
Я мечтал проскользнуть незаметно, переодеться и отправиться в свое последнее репортерское плавание. Но случилось так, что домовладелец тоже околачивался на улице, только у своего дома.
Я снимал квартирку во втором этаже его небольшого коттеджа во Фляшинге. Мой кадиллак произвел на него ошеломляющее впечатление. Он подскочил к машине, подобострастно улыбаясь, едва увидев меня, сидящего за рулем.
— Хэлло! — небрежно помахал я ему рукой. — Я прямо из Африки. Вот купил себе еще одну таратайку на радостях, что вернулся домой.
Домовладелец завздыхал, открывая мне дверцу машины. Это был кругленький плешивый человек с грустными глазами.
— О, мистер Бредли! Уж лучше бы мне быть в Африке вместе с вами, чем терпеть то, что происходит вокруг.
Я вышел из машины. Лицо домовладельца вытянулось. Должно быть, слишком ощипанный у меня был вид.
Я стал выгружать из багажника свои вещи. Они так и болтались там со дня моего возвращения. Но не мог же я напялить на себя тропический шотюм или, что еще хуже, «марсианское одеяние», чтобы тащиться в таком виде к миллионеру за интервью.
Домохозяин подозрительно наблюдал за мной, не помогая. Это был плохой признак.
Он проводил меня до дверей. Я увидал на своей квартире добавочный наружный замш.
Я посмотрел на хозяина. Он без улыбки протянул мне счет. Я не глядя взял бумажку.
— О’кэй, — сказал я, — переоденусь, съезжу за деньгами, я мы с вами выпьем.
Домовладелец кивнул и трясущимися руками стал открывать замок.
У меня кружилась голова. Смертельно хотелось не столько есть, сколько курить.
Я обшаривал все углы комнат, как детектив.
И я был счастлив. Я нашел две пачки сигарет, начатую бутылку виски и сыр…
Я пожирал этот сыр, как изголодавшийся тигр отшельника. Потом выпил бутылку обжигающего зелья до дна и на минуту забыл все невагоды.
Побрившись, переодевшись, свежий и бодрый я сбежал с лестницы, угостив домовладельца сигарой, — завалялась с хороших дней в ящике стола, — и вскочил в свой великолепный автомобиль.
Хозяин семенил рядом с тронувшейся с места машиной. Я отправился в свой рейс. Бензин был лишь на дне бака. Я боялся, доеду ли…
Но я доехал до оффиса мистера Игнэса и остановился у тротуара.
С сигарой в зубах, великолепно одетый и чуть пьяный, я вбежал в вестибюль, похлопав по плечу открывшего мне дверь негра-швейцара. Тот расплылся в улыбке.
Я угостил быстроглазую и белокурую секретаршу леденцами — тоже остались от прежних дней, — и она, обещающе опуская ресницы, скрылась за пластмассовой дверью своего босса.
Мое имя еще действовало. Мистер Игнэс принял журналиста Роя Бредли, которого недавно поминали в ООН.
Я сразу узнал Боба Игнэса, крепкого, уже седого, худого и лощеного человека, поднявшегося навстречу:
— Хэлло, мистер Бредли! — протянул он мне руку.
Но я узнал и другого человека. Он сидел в кресле, выставив острые колени и огромную челюсть, когда-то прозванную лошадиной. Это был знаменитый строитель подводного плавающего туннеля, Арктического моста, соединившего коммунистический мир с Америкой через Северный полюс, инженер Герберт Кандербль. Он кивнул мне головой.
Я вынул блокнот и автоматическую ручку, пристроившись у журнального столика. Мистер Ипнэс прохаживался по кабинету.
— Итак? Вы не будете рассматривать сигарный дым, мистер Бредли, как газовую атаку на вас в нарушение женевских соглашений? — сказал мистер Игнэс, предлагая мне сигару.
Я мог бы многое ответить мистеру Игнэсу по поводу дикарских стрел и дикарских атомных бомб, но отшутился:
— Если отравленные стрелы дикарей вызвали атомный взрыв, то «антиядерный взрыв» в Америке вызван стратами пропаганды, мистер Игнэс.
— «Антиядерный взрыв»? — повторил мистер Игнэс. — А вы по-прежнему изобретательны! Очень здорово сказано!
— Не так здорово сказано, как здорово сделано, — отозвался я. — Я пришел к вам узнать, что вы по этому поводу думаете. В чем выход из этой антиядерной катастрофы?
— Выход? — переспросил мистер Игнэс и прошелся по кабинету. — Выход диктуется законам выгоды, который я открыл и который управляет миром…
— Но разве выгодно закрывать фирмы, выпекающие хлеб, прекращать жизнь страны даже в областях, не имеющих к военным никакого отношения?
— Э, мой мальчик! Не мне вас учить, вы стреляный зверь. Несчастье человечества в том, что оно не понимает своей выгоды. Наш свободный мир настолько богат…
— Богат? — быстро переспросил я.
— …Настолько богат возможностями, силами, средствами, что вопрос лишь в том, куда их приложить, чтобы вернуть стране преуспеяние.
— И что же думаете вы, как промышленный магнат и как философ, открывший закон, управляющий человеческим обществом?
— Лучше спросим сперва, что думает об этом инженер Кандербль. Он пришел ко мне с кучей проектов. Будет полезно написать о них.
Я повернулся к старому инженеру. Кандербль заговорил отрывисто, резко, как бы выплевывая слова.
— Мир не может быть рассечен. Это не яблоко. Каменные стены строили в древнем Китае, а железные занавесы — в воображении политиканов. Человечество едино и если погибнет, то от смертельной дозы радиации в атмосфере. К счастью, атомные бомбы уже не будут больше взрываться.
— К счастью ли, мистер Кандербль? — перебил я. — Ведь для американского народа это стало несчастьем.
— Потому что вместо бомб, ракет и атомных заводов нужно строить другое.
— Что же?
Кандербль поднялся. Он был худ и тощ, как Дон-Кихот. И проекты его показались мне дон-кихотскими.
Он расстелил на столе карту мира. Океаны на ней пересекались прямыми линиями проектируемых им трасс.
— Плавающий туннель, прямое железнодорожное сообщение на примере Арктического моста зарекомендовало себя. Мир нуждается в дешевой и надежной связи между всеми континентами. Можно в первую очередь проложить такие трубы-туннели под водой между Америкой и Европой, между Америкой и Африкой. Мир сжимается. Города становятся пригородами один другого. Темп жизни возрастает. Быстрота, скорость, взаимообмен товарами, идеями, людьми! Две тысячи миль в час по безвоздушному пространству внутри труб. Это лучше, надежнее, дешевле ракет! К черту ракеты…
— Нет, нет, не торопитесь, Кандербль, — остановил его Игнэс. — Ракеты нам с вами еще пригодятся.
Инженер Кандербль развивал свои фантастические проекты. Континенты сдвинутся вплотную, океаны перестанут существовать как разделяющее препятствие. На стройках будут заняты десятки, сотня миллионов человек, они будут работать на сближение разрозненных частей человечества. Огромные выгоды, прибыли, перспективы…
Я с удивлением смотрел на него. Он уже не казался мне Дон-Кихотом, он говорил, как поэт, вдохновенно, возвышенно, искренне…
Можно ли это напечатать?
В трубах, погруженных на сто метров под воду, где всегда царит покой морей, и удерживаемых от всплытия системой канатов и якорей, без сопротивления воздуха, в вакууме, несутся электрические снаряды-поезда, пересекающие океаны за считанные минуты.
И никакой безработицы! Никаких очередей за людским пойлом…
— Вы фантазер, Кандербль, — сказал Ипнэс. — Это великолепно! Подлинный инженер — это строитель своей фантазии. Но я практический деятель. Я поддерживал, как мог, строительство Арктического моста. Я готов пюддержать все предлагаемые вами трассы, чтобы крепко связать разваливающиеся части мира. Слава богу! Больше нет опасности атомных взрывов. А с «антиядерными взрывами» можно справиться…
— Красный сенатор Майкл Никсон арестован за требование социальных преобразований, он хотел воспользоваться «антиядерным взрывом» и сделать Америку коммунистической.
— Майкл славный парень, с умной головой. Я его знаю давно. Мы с ним никогда не сходились в убеждениях, но всегда находили общность действий. Я отнюдь не за то, чтобы у меня отобрали все мои заводы и деньги. Можете этому поверить, но я согласен с его критикой нашего строя. Да, страх — наш двигатель. Это вытекает из моей теории закона выгоды. Майкл ошибается, что мой закон можно обойти социальными преобразованиями. Совесть не может быть двигателем выгоды. Поэтому бесполезно пытаться спрятаться от страха. Выгода будет существовать всегда, и только она будет направлять действия людей. Поверьте, нутро каждого человека таково, что он никогда не поступит вопреки выгоде, даже если совесть его будет ему это твердить. Так что славный нарень Рыжий Майк просто утопист. Его нечего брать в расчет. В расчет надо класть тюлько выгоду. Приемлемы ли планы мистера Кандербля? Они станут приемлемы, когда будут выгодны. А что нужно для этого? Прежде чем сблизить разъединенные часта мира физически с помощью сети плавающих туннелей, надо сблизить сперва их интересы. И здесь нам пригодяться ракеты, джентльмены. Надо их все скупить у правительства! Надо продолжать их строить…
— Зачем? — удивился Кандербль.
Игнэс расхаживал по кабинету, жестикулируя:
— Мажете написать в газетах, Рой, что у всех частей мира сейчас есть одна общая цель — это выход в космос. Он требует огромных усилий, и это великолепно! Это даст занятость всем тем, кто оказался сейчас за бортом деловой жизни. Надо строить корабли, организовывать дерзкие экспедиции на другие планеты, для этой цели приобрести все баллистические ракеты обанкротившихся генералов, переоборудовать их для космических целей. Для этого направить все освободившиеся и замороженные сейчас средства! Оживить труп, восстановить дыхание, снова перейти на бег! Любая цель бизнеса хороша. В этом выгода.
Я смотрел на «прогрессивного капиталиста» восторженно. У меня было ощущение, что я сытно пообедал в хорошем ресторане, я смотрел в будущее бодро.
Нет, все что здесь говорилось, не могло остаться втуне. Я должен был это опубликовать. Найден выход для деловой инициативы, найден выход из ужасающего тупика.
На последних каплях бензина я мчался к боссу. Он должен понять все, он должен опубликовать мое интервью. Мной руководил уже не только страх, меня вела сейчас совесть. Ведь я любил свою страну, свой несчастный народ, я хотел выхода не только себе, но и ему…
…Мистер Джордж Никсон допустил меня до своей особы. Его оффис интенсивно работал, хотя газеты и не выходили.
Он внимательно выслушал меня, иногда вскидывал казавшиеся всегда сонными, но сейчас жадные глаза.
— О’кэй, мой мальчик! Я знал, что из вас выйдет толк. Тут что-то есть… тут что-то есть… — проговорил он, встав из-за стола и расхаживая по кабинету почти точно так, как делал это мистер Игнэс.
Сердце у меня застучало, лицу стало жарко:
— Вы напечатаете это? Я могу это интервью сделать заключительной главой дневника. Дневник расскажет, как мы попали в тупик, и в то же время покажет выход из него.
— Идите к дьяволу, приятель! Мы никогда не опубликуем ни вашей стряпни, ни этих бредней выжившего из ума идиота…
Из жары меня бросило в холод.
Босс остановился передо мной, чуть наклонив голову, как, вероятно, прешде делал на ринге, посмотрел исподлобья:
— А вот мысль скупить все баллистические ракеты у правительства… Тут кое-что есть…
Что он задумал, этот человек, так недавно называвшийся сверхгосударственным секретарем? Пытается ли он восстановить свое пошатнувшееся положение… и что у него на уме? Что он задумал?
Он дал мне чек. Мне противно было его брать, но я взял. Мной владел страх. Была ли совесть у босса?
Глава пятая «SOS»
В довершение всего в июле ко мне из деревни нагрянула родня.
Первым в холл влетел весшущатый гангстер Том и повис у меня на шее. Когда только мальчишка успел так вытянуться?
За ним как-то боком проскользнула, смущенно улыбаясь и завистливо подгладывая вокруг, тонкогубая сестрица Джен.
Отец, громыхая тяжелыми подошвами, ввалился последним. Он тащил огромный пакет, перевязанный бечевой.
— О’кэй, мой мальчик! — сказал он. — Хорошо, что ты вернулся. Окрестные фермеры присылали мне газеты, где упоминалось твое имя.
В пакете были кое-какие продукты и даже картофель…
— Кто знал, что тут у вас творится, — оправдывался отец. — Впрочем, надеюсь, что у тебя «все о’кэй», мой мальчик? Не могу сказать этого про себя. Чертовски необходимо внести проценты по ссудам, иначе банк потребует займы обратно, — и он выжидательно посмотрел на меня.
Я промолчал.
Том умирал от восторга, разглядывая мою африканскую коллекцию страшных масок, луков и стрел. Я крепко ударил его по руке, чтобы он не тянулся к наконечникам. Они были вымазаны чем-то коричневым.
Джен тоже умирала, только от другого чувства. Она все вздыхала, переходя из одной комнаты в другую, словно в моей тесной квартирке холостяка их было не три, а добрый десяток. Она открыла все шкафы и, как полицейский чиновник, взяла на учет жалкую дюжину моих костюмов, которые я с радостью сбыл бы хоть за четверть цены. Ведь после получения чека от босса мне пришлось заплатить домовладельцу.
Рассыпаясь в благодарностях за заботу, я заставил Джен готовить обед из привезенных продуктов. Том чистил картофель.
Два дня можно было протянуть. Но не больше… Было от чего прийти в отчаяние!
И тут еще эта «самая скандальная свадьба двадцатого века» и снова мелькнувшая на миг Лиз…
Я повел Тома в город показать, как Пятое авеню превратили для свадьбы Лиз в «венецианский канал». Резиновые заводы Рипплайна, поставлявшие прежде противогазы и антиядерные костюмы, изготовили теперь огромные резиновые ванны, занявшие авеню от тротуара до тротуара. Ванны были склеены в стыках, образовав длинный резиновый канал, заполненный водой из Хедсон-ривера. И все это ради зрелища, которое должно было убедить американских Джонов и томов, что все в этом мире «о’кэй»!..
И как в лучших фильмах в царственно убранной черной гондоле дожей, доставленной на самолете из Венеции, сидели счастливые новобрачные.
Увы, там сидела Лиз, которую я сам, по ее словам, толкнул в объятия Ральфа Рипплайна, прозванного Великолепным.
Позади плыли «счастливцы всех времен». Любимец шпаги и фортуны, ловкий д’Артаньян фехтовал со стоящим на носу соседней гондолы пиратом Морганом, впоследствии губернатором Ямайки и родоначальником банкирского дома. Енох, взятый на небо живым, стоял рядом со знаменитым изобретателем Эдисоном, ставшим из продавца газет миллионером. Боксер Джо, убивший на ринге своего противника Черного Циклопа, играл в карты с удачливым Синдбадом-мореходом. В узких клетчатых брюках по гондоле метался Янки, показавший американскую деловитость при дворе короля Артура. Аль-Капоне, великий чикагский гангстер, награждал призами за красоту кинозвезд, обмеряя портновским сантиметром претенденток, которым вовсе не следовало бы показываться в таком виде перед Томом…
Толпа напирала на резиновые берега канала, которые доставали Тому до плеч. Возможно, людей привело сюда не только великолепие свадебной процессии, но и слух о том, что воду из канала опустят и, как пообещала якобы невеста, наполнят канал похлебкой.
Ай да Лиз!..
Она узнала меня в толпе около особняка Рипплайна и потребовала, чтобы я принял участие в свадебном пире.
Тома отправили ко мне домой в роскошном мюргановском автомобиле. Бедняга Том! Отныне фермерские ребятишки будут считать его отчаянным лгунишкой…
Оказывается, я был очень нужен Лиз. Она представила меня равнодушно изысканному Рипплайну, а потом отвела в сторону и шепнула:
— Рой, вы записали в Африке номера невзорвавшихся боеголовок?
— О’кэй! — отозвался я.
— Тогда сверьте. — Она сунула мне в руку конверт и с улыбкой обернулась к счастливому супругу, позируя перед фоторепортерами.
Я прочитал письмо одного из директоров мюргановских заводов, который перечислял номера боеголовок, приобретенных мистером Ральфом Рипплайном. Я сверился со своей записной книжкой, подошел к Лиз и сказал:
— О’кэй.
Она резко повернулась к супругу и, сошурясь, видимо, продолжая разговор, спросила:
— Значит, вы знали, Ральф, что я была тогда в Африке?
— Конечно, — очаровал всех своей знаменитой белозубой улыбкой Ральф Рипплайн. — Я всегда думал о вас.
Ай да Лиз! Без всякого перехода от пиано к форте она взрывоподобно разыграла великосветский скандал в чисто американском темпе. Пробыв целых сорок минут замужем, она потребовала немедленного развода, отнюдь не считаясь с деловыми расчетами финансовых семей Морганов и Рипплайнов…
Ральф Рипплайн был ошеломлен, но респектабелен и даже ироничен. Если он и понял, что раскрыла Лиз, то не подал вида. Молодой финансист терял куда больше, чем очаровательную супругу.
Сам мэр Нью-Йорка пытался убедить разбушевавшуюся юную леди, что немедленный развод невозможен, нет повода для него… и нет таких законов в штате Нью-Йорк.
Тогда Лиз, вперив в злополучного супруга сверлящий взгляд, заявила, что повод есть… и пусть мистер Ральф Рипплайн попробует его опровергнуть.
Мистер Ральф Рипплайн улыбнулся и пожал плечами.
Тогда она сказала, что не желает быть женой евнуха турецкого султана или кастрата папского двора.
Рипплайн побледнел. Вое ахнули. Рипплайн не мужчина?
Лиз крикнула:
— Расскажите-ка о загадочном ранении в марсианскую ночь в Ньюарке.
Рипплайн молчал. Мог или не мог он опровергнуть свою взбесившуюся супругу? Или боялся новых разоблачений? Зачем только на боеголовках проставляют номера и пишут традиционное «Made in US А».
Так или иначе, повод был найден, а причина… Не будем ее касаться!..
За деньги можно сделать все. Я еще раз немного помог Лиз хлопотами, и развод был тут же оформлен.
Ко мне сквозь изнемогающую от сенсации толпу великосветских зевак протиснулся боос, мистер Джордж Никсон.
— Я всегда считал, парень, что в вашей голове работает хороший фордовокий мотор, — шепнул он, вцепившись в мой локоть клешней.
— У меня не форд, а кадиллак, — огрызнулся я.
— Не важно, что у вас, важно, что у меня. А я хочу ваш фюрдовский мотор вместе с вашей головой.
— Прикажете отрезать и подать под соусом? — осведомился я, словно обладал пухлым текущим счетом в банке.
Он усмехнулся:
— Нет, она нужна мне на вашей шее вместе с воротничком и туловищем на длинных ногах. Зайдите утром, есть бизнес.
И он сунул мне в руку чек.
Когда только он успел его выписать!..
Бизнес есть бизнес! У меня не было миллионов мисс Лиз Морган, снова получившей свое девичье имя.
У босса всегда был размах в работе. Он возобновлял выпуск газет и поручил мне «завещание астронома».
На беду тяжело заболел Том. Грипп в своей новой, не поддающийся лечению форме вечно приходит после каких-нибудь бед и несет беду еще большую… Скопление безработных, беспросветность и голодные походы — все это способствовало появлению новой эпидемии. Люди валились, как кегли после удачного удара, и умирали, как мухи поздней осенью.
Том схватил проклятую заразу во время дурацкого свадебного кортежа. Не помогали ни антибиотики, ни патентованные средства… Мальчику было худо. Он лежал на моей постели в спальне, исхудавший, совсем маленький, какой-то сморщенный, и покорно смотрел провалившимися взрослыми глазами…
У меня разрывалось сердце. Я рассказывал ему сказки и… даже про завещание астронома Минуэлла.
Отец зашел посидеть около больного.
— Никогда не принимал всерьез звездочетов, — глубокомысленно сказал он. — Может быть, морякам и надо знать расположение звезд, да и то лишь самых крупных, которые видны простым глазом. Я человек практический. Выращиваю кукурузу. Другой делает автомобили, третий должен лечить вот таких мальчуганов… Зачем нам далекие звезды?
— Нужно же знать, отчего они горят, — сказал я, сдерживаясь. — Мистер Минуэлл занимался нашим солнцем.
— Делать ему было нечего, — проворчал старик. — Что оно? Погаснет, что ли?
— Нет, дедушка, — вмешался Том, двигая спекшимися губами. — Солнце не погаснет, оно разгорится, станет белым карликом…
— Сказка про белого карлика? А какую сказку он рассказывал тебе перед этим?
— Про Синбада-морехода.
— Ну, тогда можно и про белого карлика, — сказал отец и поднялся, чтобы уйти. Но остался.
А я рассказывал мальчику, что звезды проходят фазы развития и могут превращаться в белых карликов, когда их вещество так сжимается, что квадратный дюйм его будет весить больше любого небоскреба.
Старик крякнул, махнул рукой, но так и не ушел. Он, конечно, не понял, что сжавшееся вещество звезды представляет собой лишь ядра атомов, утративших оболочку, слипшихся в одно исполинское ядро какого-то немыслимото космического элемента.
— И когда солнце сожмется в белый карлик, — продолжал я, — то так ярко вспыхнет, что сожжет все живое в околосолнечном пространстве.
— Постой, постой! — забеспокоился старый фермер. — А Земля как же? Что же, у нас засуха, что ли, будет?
— Если б засуха! — усмехнулся я. — Я пишу сейчас очерк, посвященный завещанию Мияуэлла, и назвал его «Тысяча один градус по Фаренгейту».
Старик свистнул.
— Я понимаю — тысяча один градус, тысяча одна ночь… Сказки для больного… А читатели вашей газеты тоже больные? — строго спросил он.
— Это же не сказка, отец! Это открытие ученых.
— Веселенькое открытие. Будь моя воля, я ввел бы средневековый костер как высшую премию для ученых за такие открытия.
Я покосился на старика. Поистине устами простаков глаголет истина! Вчера — ядерный взрыв, сегодня — «антиядерный», завтра — «сковородка белого карлика»…
— После нас хоть потоп, после нас хоть космическое пекло. Так сказал бы теперь веселый французский король.
— Вся беда, отец, в том, что Минуэлл предупреждает: это будет не после нас, а при нас…
— Как так — при нас? — изумился старый Бредли.
— По Минуэллу катастрофа будет в двадцатом столетии.
Глаза у маленького Тома блестели. Недаром он с таким восторгом привык смотреть гангстерские фильмы, проглатывал комиксы, воспитывался на ужасах, убийствах и бедствиях… Он был настоящим маленьким американцем.
— Ух, как здорово! — сказал он. — Вот бы посмотреть, что получится тогда в Нью-Йорке при тысяче одном градусе!
— Будет как в горне у кузнеца. Могу тебе это показать, — пообещал я.
— Не знаю, у кого из вас температура сто одни градус: у мальчика или у журналиста? — проворчал старик.
На самом деле у мальчика была температура сто два градуса, а у меня, у отца, у мистера Джорджа Никсона, девяносто восемь, так же как у всех европейцев — 36,6 по Цельсию. Возможно, мистер Джордж Никсон рассчитывал несколько повысить температуру у живущих на Земле и решил сопроводить мой очерк о завещании Минуэлла «документом из будущего». Чтобы его изготовить, он предоставил в мое распоряжение лучших фотографов, фотомонтажеров и мастеров комбинированной съемки… нашел бы и фальшивомонетчиков, если бы понадобилось.
Фотография получилась на славу. Я показал ее внуку и деду. Вошла Джен и, ахая, тоже рассматривала ее.
Так будет выглядеть Нью-Йорк с птичьего полета, когда на Земле не останется птиц…
Нью-Йорк можно было узнать. Многие небоскребы остались стоять, образуя знакомые улицы. Но город был расположен не на берету океана, а словно на горе. Остров Манхеттен выглядел как скала начинающегося горного плато, разрезанного ущельем высохшего Хедсон-ривера.
Том сразу заметил, что Бруклинский мост провалился, его мягкие остатки валялись на дне ущелья. Так же выглядел и мост Вашингтона, свалившийся на бывшее дно Хедсон-ривера. Он словно был сделан из воска, который нагрели до ста двух градусов, до температуры Тома.
— Да, все железное после вспышки солнца по Минуэллу размякнет, осядет, потеряв всякую прочность. Железные башни сникнут, завернутся, искривятся…
— Спаси нас, всевышний, — оказала Джен. — Что же будет с людьми?
— Видишь ли, сестрица, — сказал я. — В нас свыше восьмидесяти процентов воды. Вода испарится. На Земле останется много сухих корочек…
Джен ахнула и убежала на кухню, боясь, как бы бифштексы не превратились в сухие корочки.
Отец презрительно морщился. Том жадно разглядывал фотографию. Нельзя было предположить, что она снята не с натуры.
Что ж, немало людей, узнав о завещании Минуэлла, будут презрительно фыркать, как мой старик. Пожалуй, большинство будут подобны сестрице Джен, искренне ужасаясь грядущему и тотчас забывая об этом в повседневных заботах. Ну, а двойники моего Тома всех возрастов будут наполнены возбуждающим страхом…
Газеты раскупались, как никогда…
Из них можно было узнать, что мистер Ральф Рипплайн скупил у правительства вое межконтинентальные ракеты. Правительственные заказы на ракеты были восстановлены. Вновь заработали заводы, а вместе с ними словно проснулось от спячки и множество обанкротившихся или почти обанкротившихся фирм. Рабочие вернулись к станкам. Убавилось людей на панелях, сократились очереди за бобовой похлебкой. Акции на бирже стали не только падать, но и подниматься. Биржевики перестали кидаться на рельсы подземки.
Газеты славили Рипплайна, который после великосветского скандала снова стал сенсацией номер один. В это время и состоялся помпезный запуск к Солнцу ракетной армады.
Я исписал целую газетную полосу, во всех подробностях сообщая, как происходил этот запуск, как автоматические приборы опровергнут теперь европейских и американских ученых, усомнившихся в завещании Минуэлла, как одиннадцать ракет из двенадцати — одна упала-таки в Тихий океан! — вышли на свои орбиты и помчались к Солнцу. Они должны были доказать близкий конец мира, согласно завещанию Минуэлла, которого теперь именовали «пророком Самуэлем».
Отправка ракетной армады к Солнцу была обставлена загадочной формальностью. Международной коллегии нотариусов были предъявлены несгораемые вымпелы с надписью «SOS», а впоследствии и официальные показания обсерваторий, подтвердивших, что все одиннадцать ракет с вымпелами упали на Солнце, которому предстояло теперь стать белым карликом.
Босс постарался, чтобы одновременно с моей статьей газеты поместили портрет пьяной Лиз Морган, которую выводили из только что открывшегося ночного заведения «Белый карлик», где люди спешили повеселее дожить свой век.
— Ну, сынок, — сказал мне отец, откладывая газету в сторону, — кажется, дело идет на лад. Теперь можно и домой. А то мы и без того задержались у тебя.
Я помог отцу деньгами, и он уезжал довольный. К тому же возвращался он на ферму не в своем стареньком форде, а в моем прежнем открытом каре, в котором мы когда-то совершали с Эллен идиллическое путешествие на ферму.
Я провожал родичей в своем кадиллаке. Том сидел рядом со мной и жадно рассматривал здания, которые мы проезжали, воображая, что с ними случится при тысяче одном градусе по Фаренгейту. Фонарные столбы, как он утверждал, должны были непременно согнуться, как гвозди после неумелых ударов, и напоминать ландыши…
Мы с Томом на моем кадиллаке и отец с Джен на моем бывшем каре подъехали к Хедсон-риверу, чтобы переправиться на ту сторону на пароме, древнейшем из всех суденышек, когда-либо плававших по мореподобному Хедсон-риверу, которому по пророчеству новоявленного «святого Самуэля» предстояло превратиться в высохшее ущелье.
В предвкушении этого мы плыли на «Ноевом ковчеге», модернизированном, как я шутил когда-то с Эллен, двумя тоненькими трубами «раннего геологического периода». В воде по-прежнему отражались небо и облака.
Радио, передававшее джазовую композицию под названием «Белый карлик», вдруг замолкло. Диктор объявил, что сейчас будет передано экстренное и очень важное сообщение.
Отец почему-то с упреком посмотрел на меня. Том вцепился в мой рукав. Я стоял, опершись о фару кадиллака. Джен красила губы, смотрясь в карманное зеркальце. Какой-то коммивояжер делал вид, что любуется ею, наверное, хотел ей всучить новую помаду. Пожилые супруги, ехавшие в соседнем автомобиле и едва не ободравшие краску с моего кадиллака, полезли в свою машину, чтобы слушать непременно собственное радио.
Мы все на пароме терлись около своей собственности. И нечего было удивляться, когда мы услышали по радио о новой собственности — об Обществе спасения, созданном Ральфом Рипплайном.
И все же мы удивились. Даже я, вполне уверенный, что это очередная затея моего босса.
Вначале по радио было передано сожаление главы Общества спасения мистера Ральфа Рипплайна, что его обращение к правительствам, всех стран о грядущей опасности для человечества, угаданной покойным мистером Минуэллом (святым пророком Самуэлем) не возымело желанного действия. Большинство правительств даже не ответило, некоторые сослались на мнения своих ученых, считавших, что никакой опасности нет. Даже правительство США ограничилось лишь заверением, что оно будет настаивать на включении вопроса о завещании Минуэлла в повестку дня очередной сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций сто тридцать седьмым вопросом. Мистер Ральф Рипплайн склонен был к немедленным действиям. Первым его шагом, оказывается, и был запуск ракетной армады к Солнцу. И назначение этих ракет было вовсе не в подтверждении пророчества мистера Минуэлла, в чем Ральф Рипплайн не сомневался, а в доставке на Солнце заявочных вымпелов Общества спасения, которое отныне будет называться «Service of Sun» (система обслуживания солнцем), или сокращенно «SOS».
Эта организация объявляет, что согласно протоколу международной коллегии нотариусов, зафиксировавших впервые в истории человечества падение вымпелов «SOS» на Солнце, на основе существующих международных соглашений о географических открытиях и преимущественных правах заявителей на обнаруженные ими месторождения, по аналогии с существовавшей до сих пор практикой, солнце провозглашается собственностью организации «SOS», которая отныне берет на себя обслуживание солнцем населения Земли.
Кто-то громко расхохотался. Многие недоуменно переглядывались.
— Что же, они теперь солнечные счетчики поставят, что ли? — предположил седовласый джентльмен из соседней машины.
— Общество «Сервис оф Сан», создающее систему обслуживания солнцем, — продолжал диктор, — сообщает, что это обслуживание будет безвозмездным, чисто христианским, проводимым с благословения святой церкви, во имя любви к ближним…
— Тут что-то не то… — пробормотал мой старик.
— Общество «SOS», являясь не только коммерческой, но и благотворительной организацией, возлагает на себя тяжелое бремя заботы о бесперебойном обслуживании Земли солнечными лучами, готовое принять для этого все необходимые меры.
— Они будут управлять солнцем, вот что это значит, — решил коммивояжер, пододвигаясь к сестрице Джен.
Отец вопросительно посмотрел на меня. По радио снова загремел залихватский джаз «Белый карлик».
На пароме оживленно обсуждали радиосообщение, хотя никто к нему серьезно не отнесся.
Я провожал своих милых родичей по бетонному шоссе миль тридцать. Мы прощались около рельсового пересечения, не огражденного, как это принято в Европе, шлагбаумом. Перед рельсами полагалось останавливаться, все равно — есть поезд или нет.
Мы остановились. Том перебрался из моего кадиллака к деду и матери в открытый кар.
Не знаю, жаль ему было покидать великолепную машину или расставаться со мной, но он плакал.
Отец выбрался на шоссе и отвел меня в сторону.
— Спасибо за все, мой мальчик… Когда она вернется…
Я вздрогнул.
— …непременно приезжайте вдвоем снова к нам на ферму. Я все-таки поговорю с Картером, с соседом. О’кэй? Если будут засухи… из-за этого «карлика»… вдвоем нам легче будет.
Мы трясли друг другу руки, потом обнялись.
Я долго смотрел вслед уменьшавшемуся автомобилю. Потом развернулся на шоссе перед железнодорожным полотном и поехал обратно в Нью-Йорк.
Глава шестая ДИКОЕ МНЕНИЕ
Газеты были сложены высокой стопкой перед киоском. Прохожие брали пахнущие типографской краской листы, тут же разворачивали их, усмехались и шли дальше.
Елена Кирилловна, с приближением родов гулявшая каждое утро, тоже взяла свежий номер газеты.
Едва пробежав глазами первую страницу, она побледнела.
— Вам нехорошо? Позвольте помочь вам, мэм? — услышала она рядом английскую речь.
Она отрицательно замотала головой, посмотрела исподлобья. Где она видела это лицо? Очки… умные глаза… высокий лоб…
Она пошла, тяжело ступая по тротуару. Сердце у нее готово было остановиться. Почему он заговорил по-английски? Елена Кирилловна провела рукой по влажному лбу. Она знала, он идет сзади. Обернулась. Нет, стоит на углу. И тут она узнала его. От сердца отлегло. Это был тот самый шофер, который возил ее вместе с Лиз Морган, говорил с ними по-английски. Кажется, он был еще химиком и ездил на такси, как здесь говорят, «в общественном порядке»… Как много у них здесь делается в общественном порядке! У них нет полиции. Порядок охраняют общественники с красными повязками на рукавах. Они же регулируют движение на улицах…
Елена Кирилловна оглянулась. Шофер-общественник стоял на углу, а за Еленой Кирилловной, видимо желая нагнать ее, быстро шел человек с красной повязкой на рукаве…
Суды у них тоже общественные. Наказание — общественное мнение. Самое страшное — всеобщий бойкот…
Наверное, тот, с красной повязкой, хочет перевести через улицу группу детей!
Елена Кирилловна свернула за угол, сделала крюк в несколько кварталов. Никто не преследовал ее…
Когда Шаховская вошла в переднюю своей небольшой трехкомнатной квартиры, Калерия Константиновна насторожённо встретила ее:
— Что с вами, Эллен? На вас лица нет.
— Прочитайте, — протянула ей газету Шаховская.
Калерия Константиновна надела очки и, подсев к окну, прочитала нечто поразительное.
Возглавляемая американским миллиардером Рипплайном так называемая организация «SOS», якобы из христианских побуждений стремясь предотвратить предсказанное «пророком Самуэлем» вспышку Солнца, решила послать к светилу группу ракет, заряженных «Б-субстанцией». Так как в ее присутствии ядерные реакции невозможны, то попадание на Солнце «Б-субстанции» снизит активность светила и тем самым задержит превращение Солнца в белый карлик. Правда, Солнце начнет тускнеть, но организация «SOS» готова отложить запуск спасительных ракет, если у нее будет уверенность, что страны — потребители «принадлежащего „SOS“ солнечного тепла» смягчили гнев божий и сошли наконец с богопротивной стези, упорядочив у себя отношение к священной частной собственности. Чтобы помочь в этом упорядочении — имелась в виду, конечно, ликвидация всяких «социалистических» преобразований, — организация «SOS» готова направить правительствам стран-потребителей своих советников.
Это был незамаскированный ультиматум. Правительства социалистических и коммунистических стран должны были допустить советников «SOS», которые помогут торжеству частной собственности, иначе… иначе к Солнцу будут посланы ракеты с «Б-субстанцией», и оно начнет гаснуть…
Елена Кирилловна видела на улице, как искренне смеялись люди, читавшие газеты. Они считали это сообщение бредом, обреченной гангстерской авантюрой и небрежно засовывали газеты в карман.
Калерия Константиновна положила газету и сняла очки.
— Помолимся, Эллен, — вполголоса сказала она. — Теперь для нас начинается самая ответственная пора. Будем достойными нашей великой миссии.
Елена Кирилловна отобрала у Калерии Константиновны газету и снова развернула ее.
Перечитывал вслух газету и академик Овесян.
Ученые собрались в его кабинете на экстренное заседание.
— Правительство хочет знать наше мнение, — закончил академик.
— Мне кажется, что это не имеет отношения к нашей специальности. Мы только физики, а не психиатры, — заметил старейший из присутствовавших ученый с густой белой бородой.
Овесян кивнул головой.
— Я считаю, — взяла слово Мария Сергеевна Веселова-Росова, — что лучше всего будет математическое сопоставление. Какое количество «Б-субстанции» может быть доставлено в ракетах на Солнце? Достаточно сравнить это количество с массой Солнца. Это все равно что капнуть в океан чернил и утверждать, что все моря после этого почернеют. Мы дали задание группе наших теоретиков подготовить к нашему заседанию, так сказать, «математический анализ» угрозы…
Затем слово было предоставлено физику-теоретику Ладнову. Исписав доску формулами, он язвительно заключил:
— В этой авантюре, пожалуй, сказывается чрезмерное признание заслуг нашего уважаемого собрата Сергея Андреевича Бурова. Замораживание ядерных реакций в объеме небольшой боеголовки, умещающейся на грузовике, порождает безрассудное желание «заморозить» светило, несопоставимое по размерам с боеголовкой. С тем же успехом, как видно из приведенных вычислений, можно утверждать, что зажженная в космосе спичка подогреет межзвездное пространство.
Собравшиеся в кабинете Овесяна физики с единодушным сарказмом и раздражением реагировали на сумасшедший «ультиматум» Вселенной, рассчитанный на невежд.
Тем более странно прозвучало выступление Бурова:
— А я не склонен отмахнуться от опасности попадания на Солнце «Б-субстанции».
Мы узнали, что группа авантюристов, связанная с монополиями, шантажирует мир использованием наших же достижений, грозит забрасыванием на Солнце нашей «Б-субстанции». Что это? Пустая угроза? — Буров подошел к доске, около которой обычно выступали ученики Овесяна на научных коллоквиумах. — Конечно, мой друг Ладнов прав, доказывая, что на Солнце можно забросить лишь ничтожное количество «Б-субстанции», если сравнивать это количество со всей массой Солнца. Однако, чтобы оценить последствия попадания на Солнце «Б-субстанции», надо первоначально решить, что же такое «Б-субстанция».
— Почетная задача для будущего, — усмехнулся Ладнов. — Но люди прекрасно пользовались солнечным теплом, не зная, как оно получается на Солнце, пользовались электрическим токами, не подозревая, что это такое. Так же применили мы в антиядерных целях и «Б-субетанцию», не разгадав ее природы. Вам просто повезло, Сергей Андреевич, когда вы ее открыли.
— Можно и в темноте пройти комнату, задевая за все предметы, — возразил Буров, — но лучше зажечь огонь, чтобы все видеть. Я против слепого метода исследования, я против слепого прогноза.
— Любопытно, — сказал недовольным голосом Овесян. — Надеемся, что вы просветите нас, — и он скрестил руки на животе, откинувшись на спинку кресла.
— Да, я против слепых методов. В исследовании нужна ведущая гипотеза, в прогнозе нужно исходное предположение. Гипотеза о протовеществе, о «Б-субстанции», как одном из свойств материй, помогло нам получить эту субстанцию. Для того чтобы оценить последствия забрасывания на Солнце «Б-субстанции», надо понять законы развития Вселенной. Некоторые ученые, обнаружив общеизвестное теперь разлетание галактик, сделали вывод, что Вселенная произошла от первичного взрыва некоего первоатома. Римский папа Пий XII объявил, что это и был акт творения. Процесс расширения Вселенной рассматривался как односторонний, ведущий к концу мира. Однако этот вывод произвольный. Ведь можно рассматривать замеченное расширение объектов Вселенной лишь как один из процессов пульсации, состоящей из расширения и потом — сжатия. Взрыв первоатома был не актом творения, а крайней точкой пульсации, переходом сжатия в расширение. Но не только в этом дело…
Овесян, заинтересованный, переглянулся с Веселовой-Росовой.
— Вселенная бесконечна не только в своих размерах, но и во времени. Более того, различные части Вселенной, возможно, переживают одновременно различные фазы пульсации — расширение и сжатие могут происходить одновременно, притом в самых различных стадиях. Словом, переход протовещества в вещество происходит и в наши дни и вполне может быть, что и повсюду. «Б-субстанция» — это проявление концентрирующей силы сжатия. Она не просто захватывает нейтроны, она уплотняет вещество, стремится перевести его в состояние непостижимой плотности. «Б-субстанция» существует. Она нами получена, ее можно удержать в магнитном поле, ее можно послать на Солнце. Ее мало по сравнению с массой Солнца, но мы не можем эту субстанцию ни взвесить, ни измерить. Мы знаем только ее свойство захвата нейтронов и концентрации вещества. Мы встретились с такими процессами при сравнительно низких земных температурах. А что произойдет при миллионах градусов в недрах Солнца? Ведь получение с помощью «Б-субстанции» протовещества в чудовищно нагретых недрах Солнца может привести к тому, что это протовещество само станет носителем «Б-субстанции», то есть оно само начнет поглощать вещество, потребляя при этом огромную энергию. Словом, образно выражаясь, я вижу в отправке на Солнце ракет с «Б-субстанцией» опасность заражения Солнца раком. Да, да… раком! Ракеты с «Б-субстанцией» будут подобны тлетворному началу солнечного заболевания. Правда, рак Солнца будет связан не с опухолью, а с некоей ее противоположностью, вещество в месте заболевания Солнца будет не распухать, а уплотняться, поглощая энергию, превращаясь в протовещество. Но светило начнет гаснуть.
Буров закончил и сел.
Ученые шептались, выражая неодобрение. Снова поднялся Ладнов и развел руками.
— Неслыханно! — сказал он. — Непостижимо! На месте руководителей «SOS» я провозгласил бы Бурова пророком наряду с пресловутым Самуэлем. Сергей Андреевич слишком увлечен гипотезами. Гипотеза вещь хорошая, но ей можно доверять не больше, чем когда-то доверяли прогнозам погоды. Пусть гипотеза помогает искать, но чему помогает сейчас новая буровская гипотеза? Она помогает не объективному научному выводу, не здравой оценке очередной заокеанской авантюры, а разжиганию всемирной паники. Здесь уже пахнет политикой. А в вопросах политики позвольте нам, ученым, руководствоваться прежде всего политическим чутьем и выводами математики, если хотите, а уж никак не воображением. Кому выгодны страхи «SOS»? Капиталистам? Чего хотят добиться своими угрозами гангстеры «SOS»? Реставрации капитализма в странах коммунистического лагеря. Не выйдет, товарищ Буров! Не удастся вам вызвать панику, лить воду на мельницу авантюристов из «SOS». Впрочем, к чему излишние споры! Простым голосованием можно быстро выявить общественное мнение ученых по этому вопросу. Гипотеза Бурова слишком невероятна, чтобы ее поддержало большинство.
Буров встал, упрямо, по-бычьи, опустив голову.
— Научные истины устанавливаются не голосованием, — начал он. — Методом голосования пришлось бы отвергнуть все идеи Ломоносова, теорию Эйнштейна, проекты Циолковского. Отмахиваясь от проблемы, вы хотите закрыть ее, но она от этого не перестанет существовать. Мой подход, напротив, заставляет рассмотреть проблему, пусть даже с сомнительной стороны, но рассмотреть. Я зову к деятельности и к бдительности. Вы — к высокомерной беспечности.
— Это уже слишком! — не выдержал Овесян. — Сергей Андреевич высказал, признаюсь, любопытную, но очень спорную гипотезу. Мы внимательно выслушали, и никто ни в чем его не обвинял. Почему же вы, Сергей Андреевич, кстати, пренебрегая математической логикой, обвиняете своих коллег?
— Потому, что их может обвинить народ, к которому я обращусь через общую печать.
— Так!.. Теперь вы угрожаете! Вы кто? Ученый или спекулянт на научных сенсациях? Вы хотите научного спора? Пожалуйста, пишите вот на этой доске формулы, показывайте в таблицах результаты ваших опытов, говорите с теми, кто в состоянии понять вас и должным образом оценить ваши выводы, а не обращайтесь к людям честным, но неподготовленным. Научные споры должны решаться только учеными. Народ должен знать результат спора, а не участвовать в его процессе.
— Гамбургский счет в науке? — презрительно бросил Буров.
— Что вы хотите этим сказать? — взъерошил рукой седые, словно наэлектризованные сейчас, волосы Овесян.
— В былые времена существовали профессиональные борцы, которые за деньги боролись перед публикой. Но настоящая борьба происходила раз в год в Гамбурге при закрытых дверях. Там на ковре решались подлинные споры, а потом публике демонстрировались уже готовые результаты схваток. Не к такому ли гамбургскому ковру для научных схваток вы призываете?
— Неуместное сравнение, — отрезал Овесян. — Призывая к закрытым научным спорам, я не предлагаю потом демонстрировать «на ковре общей печати» ловкие приемы спора. Я считаю, что в общей печати должны публиковать только результаты, к которым пришли спорившие ученые.
— Ученые редко приходят в споре к общим результатам, — упорствовал Буров. — Великий физик Макс Планк говорил, что новые идеи никогда не принимаются. Они или умирают сами, или вымирают их противники.
— Теперь он уже готов нас похоронить во имя торжества своих ничем не доказанных идей!.. Нет, я действительно вынужден прибегнуть к голосованию. Есть желающие поддержать мнение Бурова? Нет?… Таким образом, большинство ученых института, основываясь на математическом анализе, отвергает авантюристические угрозы «SOS». Однако поскольку есть диаметрально противоположное мнение Бурова, о нем следует доложить Академии наук.
Ученые расходились, с подчеркнутой вежливостью раскланиваясь с Буровым.
К Сергею Андреевичу подошла Веселова-Рооова и ласково попросила зайти к ней. Буров, словно проснувшись, поднялся и пошел следом за Марией Сергеевной. Столпившиеся в коридоре научные сотрудники поспешно сторонились, уступая им дорогу.
Буров ни на кого не глядел.
— Сергей Андреевич, голубчик, — мягко сказала Веселова-Росова, усадив Бурова на диван и сев рядом, — ведь мы все вас любим. Вы напрасно заняли такую дон-кихотскую позицию. Надо уважать чужое мнение, прислушиваться к нему.
— А разве мое мнение уважают?
— Ну вот, вы опять!.. Не надо так, — Мария Сергеевна погладила Бурова по рукаву. — Я хочу отговорить вас от попытки вынести научный спор по нерешенной проблеме на суд неподготовленных читателей.
— Мария Сергеевна! В какое время мы живем? Это на Западе люди интересуются светской и уголовной хроникой. У нас — наукой! Научные проблемы близки людям со школьных лет. И есть проблемы, которые надо решать не в тиши кабинетов, а опираясь на опыт и инициативу народа. Например, проблемы биологические, проблемы сельского хозяйства, естествознания, проблемы, нуждающиеся в массовом наблюдении, в постановке массовых опытов. Нет! Переход к коммунистическому обществу характерен не изоляцией от народа секты жрецов науки, а привлечением к проблемам науки народа, признанием его высокого интеллектуального уровня. Со временем расцвет науки станет у нас таким, что почти каждый человек будет делать в нее свой вклад, будет ученым.
— Ах, Сергей Андреевич, это же утопия! Нам не надо столько ученых!.. Когда-нибудь… через тысячу лет… Ведь мы пока что достигли лишь всеобщего среднего образования.
— Те, кто заканчивают это среднее образование, — самые интеллигентные, самые восприимчивые люди. Они еще не отвлечены повседневными заботами жизни, они еще пытливы, горячи, неравнодушны, каждый из них может стать солдатом науки.
— Но зачем же дезориентировать их? Вот вы были против голосования среди ученых. Так ведь общее голосование неспециалистов еще бессмысленнее! Поймите, что вы, объективно говоря, удовлетворяете, сами того не подозревая, довольно низменную жажду сенсации. Вместо уголовной — научная…
— Значит, молчать во всех случаях, когда наука не сказала еще последнего слова? Мы не знаем точно происхождения солнечной системы — следовательно, молчать о тех точках зрения, которые выдвигают ученые, споря друг с другом? Значит, молчать, скрывать от народа, скажем, значение нуклеиновых кислот, управляющих развитием всех частей организма, поскольку вчерашние ученые отрицают кибернетическое начало жизни? Значит, молчать о теориях рака, поскольку их несколько и нет единой? Значит, передать науку в храмы, переименовать профессоров в жрецов, перейти им на тайный жреческий язык, латынь или санскритский, скрывать в темноте научных капищ живую мысль от людей? Подумайте только, к чему вы призываете! Ведь, по-вашему, теорию Эйнштейна нельзя было публиковать, потому что существовали ее противники. А ведь теория Эйнштейна в свое время стала пробным камнем идеологии! Папа римский не боялся оперировать научной гипотезой, провозглашая ее как откровение перед сотнями миллионов католиков! А вы? Вы отвергаете воинствующий стиль, цепляетесь за научное единогласие, которое означало бы застой в науке и торможение прогресса.
Веоелова-Рооова зажала уши:
— Довольно, довольно, Сергей Андреевич! Я не хочу с вами ссориться. Вы способный экспериментатор, но…
— Способный экспериментатор! — с горечью перебил ее Буров. — Всяк сверчок знай свой шесток. Разрешите уйти?
Мария Сергеевна встала. Она задержала руку Бурова, когда он прощался:
— Мы еще поговорим с вами, Сергей Андреевич. Я ведь очень ценю вас.
Буров вежливо склонил голову, поцеловал ее руку. Когда дверь за ним закрылась, Мария Сергеевна тотчас подошла к телефону, набрала номер:
— Леночка, это вы? Ну вот… Вас сейчас нельзя волновать, вы в отпуске, а я назойливо лезу с просьбами. Только на вас вся надежда… — и она заговорила тихим, убежденным тоном. — Я ведь женщина, Леночка, — закончила она. — Я знаю, какое вы можете оказать на него влияние.
Сергей Андреевич не сразу пришел домой, долго бродил по Москве. Дома ему бросилась в глаза красная лампочка на автомате, подключенном к телефону и записывавшем в отсутствие хозяина все, что ему хотели передать. Включив магнитофон, Буров с радостью услышал голоса друзей, до которых дошел слух о конфликте между Буровым и сотрудниками его института. Некоторые ученые советовали ему быть выдержанным, некоторые, в том числе совсем незнакомые, поддерживали его право на собственное мнение. Редакции нескольких центральных газет просили связаться с ними, если он согласен дать интервью.
И вдруг зазвучал низкий, волнующий Бурова голос:
— Сергей Андреевич! Мне сейчас лучше всего было бы прятаться от вас… а я прошу… я прошу прийти ко мне. Вы знаете адрес. Я очень жду… Сразу же, как только вернетесь домой.
Буров даже не стал звонить в газеты, помчался к ней…
Он впервые входил в ее квартиру. Знал, что она живет не одна, с этой странной Калерией, которую так решительно отстранил от себя в последнее время Овесян.
Лена сама открыла дверь, чуть смущенно улыбаясь. Она оставалась привлекательной даже в ее положении, в ней была красота грядущего материнства.
— Здравствуйте, Сережа, — сказала она, протягивая руку.
Как редко она называла его так!
Она сразу провела его через общую гостиную в свою спальню. Там все дышало изяществом и женщиной. Чувствовался легкий аромат духов. Перед зеркалом были разбросаны таинственные пузырьки и баночки, у стены стояла еще не занятая, аккуратно прибранная детская кроватка. Шторы на окнах были приспущены.
— Здесь нет медвежьей шкуры, придется вам сесть со мной рядом на диван, — сказала Лена с улыбкой.
— Мне бы сейчас что-нибудь пожестче, — угрюмо отозвался Буров, — каменный пол пещеры или поваленный бурей ствол дерева, в крайнем случае обрывистый берег реки, — и он тяжело опустился на низкий и широкий, покрытый мягким ковром диван.
— Опять у вас, Буров, налитые кровью глаза бизона, опять вы ломаете изгородь коралля, — совсем не с упреком сказала Шаховская.
— Вы слышали, что произошло в институте?
— Мне звонила Мария Сергеевна.
— Ну вот!.. И вы тоже против меня?
— Нет, не против. Но я знаю, о чем вы думаете.
— Колдовство?
— Нет, просто я помню наш разговор об апокалипсисе, о ядре и броне.
— О двух противоположных, всегда борющихся началах?…
— Да, о них. И если есть «Б-субстанция», должна быть противоположная ей «А-субстанция». Не так ли?
— Лена, черт возьми! Кто вы такая? Сколько раз я задаю себе этот вопрос!. В средние века вас сожгли бы на костре.
— Я согласна взойти на костер. Но только вместе с вами…
— Если вместе со мной, то… зачем на костер?
Он взял ее обе руки в свои, посмотрел в глаза.
— Знаете, зачем мне нужно было вас увидеть? — сказала она, чуть отодвигаясь.
— Чтобы по поручению Марии Сергеевны отговорить от выступления в общей печати.
Лена кивнула головой:
— А знаете, зачем я вас позвала?
Он молчал, выжидательно глядя на нее.
— Чтобы восхититься вашей принципиальностью, вашим упорством, вашей силой бизона науки.
— У женщины есть страшное оружие против мужчины. Похвала и лесть подобны ножницам, которыми Далила срезала кудри Самсона, лишив его силы.
— Нет, Буров, вас нельзя лишить силы. Может быть, вас можно сломать, но сломить… Нет, сломить нельзя!..
— Сломать — это уничтожить. Для этого пришлось бы отнять у меня возможность трудиться. Такая казнь у нас невозможна.
— Как много людей на Западе обрадовались бы «такой казни», с радостью отказались бы от труда…
— Да ведь это все равно что перестать дышать!..
— Но дышать иногда трудно.
— Да, когда взбираешься на гору. Но тем больше хочется вдохнуть воздуху… тем больше хочется сделать, Лена.
— Тогда дышите, Буров, всей грудью дышите! И взбирайтесь… к самым звездам.
— Хочу, Лена, добраться до дозвездного вещества. И вместе с вами… Я знаю, вы друг. Мне было очень важно сейчас убедиться в этом.
Буров поцеловал у Елены Кирилловны обе руки и ушел. Он спускался по лестнице через три ступеньки, ему хотелось вырвать столб из земли, забросить на крышу дома.
Калерия Константиновна ждала Шаховскую в гостиной.
— Милая, — сладко сказала она, — если бы это доставило вам удовольствие, я расцеловала бы вас.
— Подите прочь, Марта, — сквозь зубы сказала Шаховская и заперлась в своей комнате.
На следующий день в газетах было помещено неожиданное интервью физика Сергея Бурова, открывшего «Б-субстанцию». Он предупреждал о серьезных последствиях авантюры «SOS», если будет выполнена угроза посылки на Солнце ракет с «Б-субстанцией».
Интервью было перепечатано во всех газетах на Западе под сенсационными заголовками.
Глава седьмая КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ
В кабине космического корабля было тихо. Такая тишина бывает только в пустоте, без звона в ушах, без далекого лая собаки или гудка прошедшего вдали поезда, без жужжанья мухи или стука дождевых капель за окном, тишина полная, глухая, «глухонемая»…
Перед пультом сидел космонавт. Широкая спина, чуть опущенные тяжеловатые плечи, оттененное сединой загорелое лицо, широкое с резкими морщинами и усталыми, но внимательными глазами.
Полярный летчик Дмитрий Росов, воспитатель молодых космонавтов, давно отстаивал право опытных пилотов на вождение межпланетных кораблей, считая, что, кроме силы и отваги, ценны еще знания, опыт и летный талант звездолетчика. Сам он был немолод, но здоров, за его плечами, кроме пятидесяти лет, было более пяти миллионов километров, более пятидесяти вынужденых посадок, восемнадцать аварий и столько же ранений, из которых неизлечимой осталась только боль утраты погибших товарищей. Полететь в космос ему привелось раньше своих учеников.
В последний раз, приехав проститься с женой и дочкой, он встревожился: Губошлепик стала другой — модная прическа, напускная веселость, горечь в уголках глаз и обидчивая припухлость губ. И еще Шаховская… Жила она у них в доме и ему не понравилась. Красива, умна, но… как-то холодна и неспокойна. Люда сказала — ждет ребенка. Еще при Росове переехала на другую квартиру, чтобы жить с Калерий Константиновной, сухой истерической дамой сомнамбулического типа, дружбу с которой трудно было понять. Смену настроений Люды тоже было трудно понять. Тут был замешан Буров… Росов устроил с ним встречу в мужской компании и исподволь разглядывал ученого. Да, когда-нибудь этому парню отольют памятник из чистого золота, а пока что он не пропускает футбольных матчей и сам не прочь ударить по мячу, автомашину не только водит, но и умеет забраться под нее, не боясь перепачкаться. Сказал: если понадобится, готов лететь в космос. Что ж, Дмитрий Иванович такого парня взял бы к себе в воспитанники. А у «космического дядьки Черномора» это было высшей оценкой человека. Но о Люде они ни слова не сказали… Впрочем, Росов и жене о ней ничего не сказал. Только в космосе, во время полного одиночества смог он поделиться с собой своими тревогами.
Воспитывая космонавтов, Росов немало прочел рассказов о грядущих полетах и одиноких звездолетчиках, беседовавших со специально созданными разговорными машинами, возражавшими собеседнику и даже бунтовавшими. Он не относился к этому всерьез. Но в долгие часы патрулирования в космосе он вспомнил о фантастических «спутниках в полетах». На его корабле был центральный автомат, призванный управлять всеми приборами и вовсе не предназначенный в «приятные собеседники». Но он был снабжен «магнитной памятью» — воспроизводимой записью всевозможных сведений — и рассчитан на обучение, обладал, как и все электронные устройства этого типа, способностью логически «мыслить», то есть делать обоснованные выводы и четко отвечать… Росову захотелось поболтать с таким устройством. Ведь говорят же люди с собаками, которые лишь немного понимают их. Автомат же не только понимал, но и отвечал, жадно воспринимая все новое, что не было заложено в его памяти. Вот ему и поведал Росов, как другу, свои тревоги, связанные с Людой, Буровым и Шаховской, рассказав о «неразрешимом уравнении с тремя неизвестными».
Вешение автомата восхитило Росова:
— Люди с меньшим количеством лет должны решать свои дела без участия других людей с большим количеством лет.
— Правильно! Умница! — воскликнул Росов, похлопав ладонью по теплой полированной панели.
— Умница? — спросил автомат. — Ум — это способность запоминать, сопоставлять, вычислять и делать выводы. Умница — это ум женского рода?
— Машина — тоже женского рода. Но у тебя логика мужская, — рассмеялся Росов.
— Следовательно, женская логика — способность делать правильные выводы без промежуточных вычислений и умозаключений, — определил автомат.
— Чертовски верно! — снова восхитился Росов. — Как тут посоветуешь дочери, если у нее такие способности!..
Резко зазвенел над самым ухом сигнал тревоги. Замигали красные лампочки.
— Внимание! Ракеты справа, — предупредил автомат.
Росов нахмурился. Плечи его поднялись, тело напряглось. Едва он пожелал повернуть вращающееся кресло, как оказался лицом к экрану локатора.
— Даю координаты цели, — бесстрастно сообщил автомат.
Электронно-вычислительная машина, минуту назад размышлявшая над неразрешимым людским треугольником, сейчас выбросила на пульт перфорированную карточку с отпечатанными цифрами.
Росов нажал несколько клавишей, словно играл на безмолвном инструменте, потом наклонился к микрофону и дал задание своему кибернетическому другу:
— Вывести корабль к точке встречи с ракетами.
Теперь нужно было ждать. Автомат все сделает сам.
На экране локатора видны были три ракеты, шедшие на разных расстояниях от корабля.
Автомат доложил, что ракеты идут по крутой орбите к Солнцу и упадут на него. Встреча корабля и ракет произойдет через двадцать семь минут восемнадцать секунд.
— Что, друг, сейчас скажешь? — спросил Росов своего электронного помощника. — Что скажешь, если ракеты несут «Б-субстанцию», чтобы погасить Солнце? Как до этого можно было дойти?
— Запуск ракет к Солнцу людьми вполне логичен, — ответил автомат.
— Где же тут целесообразность? Как ее вычисляешь?
— Запуску ракет с «Б-субстанцией» предшествовали другие запуски в космос.
— Кораблей с аппаратурой, с людьми? Что-то ты тут…
— Нет, — бесстрастно поправил автомат, — магнитных иголок, нарушающих радиосвязь с наземными объектами.
— Так. Космическая диверсия номер один.
— Номер два — взрыв в космосе ядерных устройств в целях разрушения структуры ближнего к Земле космического пространства.
— Так. Это два.
— И третьей логической ступенью для людей стал запуск ракет, вредящих Солнцу, — закончил автомат.
— Людей? Вернее было сказать «не люди».
— Не люди, — согласился автомат, — индивидуумы, одержимые логикой уничтожения.
— Снова прав, друг, — вздохнул Росов.
— Внимание, — предупредил автомат, — включаются боковые дюзы руля.
Росова прижало к стенке кресла, все тело налилось нестерпимой тяжестью. Автомат счел нужным изменить курс корабля. Ускорение превысило даже взлетное.
Росов подумал, что нужно повернуть кресло. Автомат снова среагировал на биотоки Росова, привел в действие механизм поворота кресла. Перед глазами Росова оказался экран радиолокатора.
Боковые дюзы выключились. Росов вздохнул свободнее. На лбу у него была испарина. Он подумал, что нужно вытереть пот и что хочется пить.
Манипулятор подал Росову полотенце и грушу с водой для питья в условиях невесомости.
— Спасибо, — непроизвольно сказал Росов.
На экране появились ракеты, уже не три, а четыре неярких звездочки. Их трудно было отличить от остальных звезд. Но Росов слишком хорошо знал звездное небо, чтобы ошибиться. Четыре новые звезды стали быстро расти, наконец достигли яркости звезд первой величины.
Росов доложил на Землю о замеченных объектах, потом связался по радио с соседними кораблями-перехватчиками.
Сосед слева, француз Лорен, сообщил, что в его секторе идут две ракеты, но, к счастью, добавил он смеясь, они не подобны двум зайцам, и он рассчитывает все же догнать их черев тридцать пять минут.
Сосед справа, один из первый советских космонавтов, гнался сразу за пятью ракетами. По расчетам он сможет догнать их лишь через час.
Автомат доложил:
— Вторая группа ракет обнаружена сзади.
Росов сделал усилие, чтобы кресло повернулось, и оказался перед экраном заднего обзора, увидел шесть звезд.
Росов дал задание автомату найти наилучший вариант перехвата новой группы ракет.
Сосед сзади вызвал Росова по радио. Это был чех Пахман. Он сообщил, что уже не может перехватить эту группу. Надеется только на Росова.
Росов сближался с первой группой ракет. Теперь они были видны в переднем иллюминаторе. Две из них походили на крохотные серебристые месяцы, две другие — на продолговатые звездочки.
Пора было выпускать космические торпеды. Четыре штуки по числу ракет. Они сами найдут цели и пристроятся им в хвост. Тогда надо взорвать их все разом, чтобы преждевременный взрыв не раскидал ракет, вместо того чтобы уничтожить.
Но прежде необходимо было уйти из опасной зоны.
Снова тело налилось свинцовой тяжестью, перед глазами замелькали зеленые мухи.
Когда Росов пришел в себя, на экране четко виднелись четыре пары ракет и торпед.
Росов дал сигнал о готовности к взрыву.
Все три соседа ответили, что готовы и находятся на безопасном расстоянии.
Росов решительно нажал красную кнопку.
В кабине было по-прежнему тихо. Тройной взрыв, превративший преследуемые ракеты в рассеивающийся газ, не нарушил тишины.
В правом иллюминаторе в нижнем правом углу сверкнула вспышка.
На радиолокационном экране расплывалось облачко.
Все четыре пиратские ракеты были уничтожены.
Скоро сообщил об уничтожении еще двух ракет весельчак Лорен.
Так как же? Покушение на Солнце — логическое продолжение прежних диверсий в космосе? Как дошли люди до того, чтобы интернациональный космический патруль должен был перехватывать пиратские ракеты, летящие к Солнцу.
Впрочем, при чем здесь люди?! «Индивидуумы, одержимые логикой уничтожения!..».
Организация «SOS» сделала неслыханное по наглости и безрассудству заявление, объявив, что на Солнце будут запущены ракеты с «Б-субстанцией» и светило начнет гаснуть, если правительства стран Земли не допустят советников «SOS», которые помогут ликвидировать богопротивные социалистические преобразования. Европейские страны вежливо обратили внимание США, что именуемая «SOS» организация допускает неприкрытую угрозу космической диверсии.
В ответной ноте США говорилось, что филантропическая организация «Сервис оф сан» пока не нарушает никаких установлений, регламентирующих ее деятельность. Обращение же организации, произвольно именуемое «ультиматумом Вселенной», не выходит за рамки допустимой свободы слова.
Печать западных стран стала уверять, что вся эта история с покушением на Солнце и ликвидацией социалистических преобразований не стоит прошлогодних апельсиновых корок.
Однако, когда в советской прессе вдруг появилось интервью физика С. А. Бурова, его перепечатали все газеты мира. Угроза безумцев из «SOS», предупреждал Буров, вовсе не так безобидна. С «Б-субстанцией» шутить нельзя. Попав на Солнце, она станет не только поглощать нейтроны, но и будет способствовать «обратному звездному процессу», превращению солнечного вещества в дозвездное протовещество с одновременным поглощением гигантской энергии. Это действительно может повлиять на Солнце, на его баланс энергии, на течение ядерных реакций…
Правда, следом за тем появились опровержения точки зрения Бурова. Известный теоретик Ладнов выступил с резкой отповедью Бурову, называя его «фантазером от гипотез». Опубликовано было также вежливое, но решительное письмо академика Овесяна и профессора Веселовой-Росовой, крупнейших физиков современности, которые це признавали опасений Бурова, предлагая экспериментальным путем установить, насколько опасна для Солнца «Б-субстанция».
Но ждать было нельзя. Организация «SOS», повторно объявив, что не имеет других целей, кроме спасения мира от гнева божьего, подтвердила срок ультиматума, истекавший 15 августа.
Ответом было повышение курса акций на нью-йоркской бирже.
Ральф Рипплайн обратился к папе римскому с просьбой благословить его на безвозмездную заботу о человечестве.
Папа после церемоний внесения его в кресле в собор св. Петра обратился ко всем верующим, сказав, что забота о людях — долг каждого христианина.
Тогда христианин Ральф Рипплайн объявил, что во имя спасения заблудшего человечества 15 августа он отправляет к Солнцу первую партию ракет с «Б-субстанцией».
Гнев и возмущение охватило всех людей доброй воли, в том числе и в Соединенных Штатах. Перед Белым домом состоялись демонстрации, особняк Рипплайна пикетировался рабочими, но Рипплайна там не было, возможно, он находился на своей яхте «Атомные паруса», откуда и руководил своей безумной авантюрой.
Президент США на пресс-конференции в Белом доме заявил, что одновременно с принятием отставки губернатора Нью-Йорка мистера Ральфа Рипплайна, являющегося отныне лишь частным лицом, он направив к нему лучших психиатров страны.
Специалисты по душевным болезням не нашли бывшего губернатора Нью-Йорка.
«Ультиматум Вселенной» остался без ответа.
Но никакая возможная диверсия не должна была застать мир врасплох. Человечество не могло позволить маньякам хозяйничать в космосе. И если существовал хоть какой-нибудь шанс действительной опасности, как на том настаивал физик Буров, то этот шанс должен был быть учтен.
15 августа, когда с одной из подводных баз «SOS» состоялся запуск ракет, несущих к Солнцу «Б-субстанцию», их уже ждал на высоте в сотни километров заслон. В космос поднялись добровольцы на ракетах-перехватчиках. Начал свою службу интернациональный космический патруль.
Автомат доложил Росову, что шесть ракет, которые прошли сзади, догнать уже невозможно.
Росов помрачнел, он не поверил автомату.
— Что ты докладываешь, друг, — сердито сказал он. — Если корабль может развить скорость большую, чем ракеты, то он догонит их. Это и без электронной техники ясно.
Машина сухо ответила рядом цифр. Это были координаты точки встречи корабля с ракетами.
— Ну вот. Так-то лучше, — проворчал Росов. — А то получалось, что точки встречи с ракетами не существует.
— Точка встречи существует, но недостижима, — бесстрастно ответил автомат.
— Хочешь сказать, что наш корабль…
— Наш корабль будет захвачен в точке встречи солнечным притяжением и не сможет вернуться.
— Так, — сказал Росов. — По твоей логике из этого следует, что точка встречи недостижима?
— Недостижима, — подтвердил автомат.
— И шесть ракет упадут на Солнце?
Машина выбросила на стол перфорированную карточку с цифрами, характеризующими траекторию полета ракет и время их падения на Солнце.
— Шесть ракет с «Б-субстанцией»… Это много или мало для Солнца?
Капля «Б-субстанции»! Ничтожная по сравнению с исполинской массой Солнца. Но… чем больше образуется с помощью «Б-субстанции» протовещества, тем больше проявится «Б-субстанции». Что такое геометрическая прогрессия? Старая задача про древнего мудреца, который придумал шахматы и в награду потребовал у восточного владыки зерна для народа: на первую клетку шахматной доски — одно зерно, на вторую — два, на третью — четыре… На последнюю клетку потребовалось бы больше зерна, чем было во всей стране…
Автомат решил математическую задачу с «Б-субстанцией» и протовеществом мгновенно и выбросил на панель новую карточку.
Росов только взглянул на нее и нажал на клавиатуре несколько клавиш.
— Идти к точке встречи, — приказал он.
— Противоречащие логике задания не выполняются, — строго, как показалось Росову, сказал автомат.
— Черт тебя подери! — крикнул Росов. — Твоя магнитная память знает что-нибудь про амбразуру, которую закрывают телом?
— Амбразура? — повторил автомат. — Закрывается телом? Тело может быть из бетона, стали, из песка, заключенного в мешки…
— Нет! Из живого тела, чувствующего, но понимающего, что такое долг!
— Долг? То, что надо отдать, перед тем взявши.
— Да, получив жизнь, ее отдают. Эх, друг! Тебе не понять, не вычислить! Прости, но я отключаю тебя, перехожу на ручное управление.
Раздался тревожный звонок. Красные лампочки неистово мигали. Автомат сопротивлялся, он протестовал против недопустимого, с точки зрения его железной логики, поступка космонавта.
Росову некогда было толковать с машиной, даже думать о чем-нибудь… Он должен был один заменить всю автоматическую аппаратуру, которую отключил вместе с управлявшим ею автоматом.
Автомат был поставлен в тупик. Если бы он мог, то стад бы препятствовать космонавту, мешать его нелогичным действиям. Но, отключенный, он в состоянии был только неистово звонить и метаться по панелям красными огнями.
У Росова зарябило в глазах, и он выключил электрическое питание автомата. Но автомат неожиданно заговорил:
— Фиксирую обрыв сети. Перешел на аварийное питание от батарей. Требую включения в основную цепь управления. Корабль еще может вернуться.
Росов не слушал своего электронного друга. Он твердо знал, что делает.
Соседи справа и слева запрашивали по радио, что с ним. Вместо него ответил автомат. Он «донес» на него, сообщил, что человек для того, чтобы уничтожить летящие к Солнцу ракеты с «Б-субстанцией», намеренно повел корабль в опасную зону тяготения Солнца, откуда не сможет вернуться.
Соседи справа и слева молчали. Они уже ничего не могли предпринять.
Может быть, они благоговейно сняли шлемы в своих кабинах…
Управлять кораблем без помощи автомата было очень трудно. Но это было необходимо. Следовало подвести к каждой ракете по торпеде… потом взорвать их все вместе.
Групповой чудовищный взрыв не нарушил космической тишины. Она была в кабине Росова полной, глухонемой, какой бывает только в пустоте, без звона в ушах, без далекого лая собаки, без стука дождевых капель за окном…
Росов послал по радио донесение и включил автомат. Автомат щелкнул и выбросил на панель карточку.
— Что это? — спросил Росов, рассматривая цифры. — Приговор тяготения.
Автомат, словно обиженный, молчал.
— Прости, друг, не мог поступить иначе, — понизив голос, сказал Росов.
— Нужно дополнить магнитную память, — наконец ответил автомат.
— Что имеешь в виду?
— Амбразура может быть закрыта телом. Тело может быть стальным, бетонным, песчаным или живым.
— Умница! Мне приятно, что меня понял. Останемся друзьями… до конца.
Автомат снова выбросил карточку.
— Что это? Координаты конца? А знаешь… может быть, амбразуру все-таки закрыть собой легче. Сразу конец. А тут будет становиться все жарче… у тебя расплавятся предохранители.
Снова карточка лежала перед Росовым. Если бы он захотел, он мог бы узнать, по какому закону и в какие сроки будет повышаться температура в кабине.
Ему сразу стало жарко, пот выступил на лбу. Автомат уловил его биотоки, и манипулятор протянул ему полотенце и грушу с водой.
— Лишь бы Маша и Люда поняли меня, — прошептал Росов.
Автомат сказал:
— Женщины способны делать правильные выводы без промежуточных вычислений и умозаключений.
Росов похлопал ладонью по теплой панели:
— Кажется, мы с тобой тоже научились этому. А знаешь… все-таки вдвоем легче…
…Корабль-перехватчик Росова, неумолимо притягиваемый Солнцем, летел навстречу ослепительно яркой смерти.
Глава восьмая ГОЛУБАЯ ТЕТРАДЬ
Да, я пишу дневник! Настоящий дневник, который буду прятать под подушку, в который стану заносить все, что думаю, что чувствую. Это уже не школьная тетрадка, куда я записывала бог весть что…
Говорят, дневники ведут только для самих себя или… рассчитывают, что они будут прочитаны всеми.
Я пишу в этой голубой тетради с бархатным переплетом вовсе не для себя и уж во всяком случае не для всех… Я хочу, чтобы только один человек прочитал его когда-нибудь, проник в тайники моих мыслей и чувств и, может быть, по-мужски пожалел об упущенном, о том, что никогда — повторяю, никогда! — ему не достанется…
Я открываюсь перед Вами, Буров! Заглядывайте в глубину, если у Вас не закружится голова. Я бы хотела, чтобы она закружилась. Мне будет смешно, что она у Вас кружится, потому что когда Вы будете читать эти строки, Вы мне будете совершенно безразличны.
А теперь я постараюсь забыть, что разговариваю с Вами. Я хочу быть такой же гордой и холодной, какой была в кабинете академика, когда Вы принимали свою колючую американку. Это был единственный раз, когда Вы поцеловали мне пальцы. И ничего-то Вы не понимали! Я потом исцеловала себе эти пальцы… Как бы мама сердилась, если бы узнала, что я утром левую руку не вымыла!.. Я ведь протянула Вам левую руку… Это было тогда смешно. Мужчина, огромный и прославленный, казался совсем растерянным. И я чувствовала себя сильнее мужчины…
А сейчас я вижу, что это было просто ребячество — с мытьем рук!
Я сейчас переживаю удивительное время. Я словно обладаю фантастической «машиной времени». Хочу, поворачиваю рычаг — и становлюсь такой, какой была недавно. И снова могу молиться на Шаховскую, считать ее сказочной Русалкой, а потом играть… с моей любимой чернокожей Томочкой. Она забавна до невозможности, резиновая, надувная, уморительная и кокетливая. Она как бы закрывает ресницами глазищи. На самом деле — это только оптический эффект: куклу чуть повернешь — и глаза ее кажутся закрытыми.
Но я могу повернуть рычаг «машины времени» и… смеяться над собой. Елена Кирилловна перестает быть богиней. Слишком ясны ее приемы жадного кокетства. Ей нужен Буров, ей требуются все мужчины мира, словно она может сложить их всех у своих точеных ног. И глаза ее вовсе не щурятся кокетливо! Это всего лишь оптический обман! Я не могу понять: неужели все-таки ребенок у нее от Бурова, и я была такой дурой, что ничего не заметила? Как гадко! Самой противно перечитывать свои «зрелые» мысли. Уж лучше верить, что у куклы закрываются глазки, чем расточать подобные «рентгеновские взгляды» с закрытыми глазами; лучше прижиматься щекой к бархатному переплету, лучше прятать дневник под подушку или совсем сжечь его, чтобы никто не прочитал…
Голубая тетрадь… Наивный альбом далекого детства, которое было больше двух недель назад. Я снова берусь за этот дневник только для того, чтобы записать в него то страшное и огромное, бесконечно тяжелое и жестокое, что обрушилось на меня, навеки излечив от нелепого девичьего недуга, о котором я собиралась повествовать…
Вот уже две недели для меня не существует ничего… Не светит солнце… Для других оно светит, потому что он хотел, чтобы оно светило. Но для меня все серо, все пусто… Я хожу, вернее, передвигаюсь, как в темноте, отвечаю людям на пустые вопросы и ничего не чувствую… У меня нет желаний, нет веры в будущее, нет любви ни к кому на свете, даже к маме… И я даже не могу себя за это презирать!..
Я читала правительственное сообщение о присуждении ему звания Героя Советского Союза, как неживая, словно это обо мне говорилось посмертно… Автомат, который передавал с борта корабля последнюю радиограмму, был более живым, чем я. Он сообщал, что температура в кабине стала выше ста градусов, что пульс космонавта сначала очень повысился, а потом…
Автомат горел, у него плавились предохранители, н он передавал что-то странное об амбразуре и о новом виде логики без промежуточных вычислений. У меня тоже сгорело… сердце. В груди теперь пустота и боль. Я не знала, что такое горе. Я воображала, что в горе можно биться головой о камни, рвать на себе волосы, плакать, кричать… Теперь я знаю, что горе — это пустота, отсутствие жизни, всего, что существует…
А зачем она мне, эта жизнь, если я не могу сесть напротив него, чтобы мои коленки упирались в его жесткие колени, смеясь, смотреть в его щурящиеся глаза с лапками морщин, думая о самом заветном и радуясь, что он узнает это без всяких слов? Зачем, если он никогда больше не придет, если я никогда не услышу его голоса, не ощущу его запаха, отдающего табаком, кожей и немного бензином?… Зачем?
Я хожу как с закрытыми глазами, натыкаясь на предметы и на людей, иногда на Бурова в лаборатории, и тогда с ужасом отстраняюсь. Ведь он открыл «Б-субстанцию»… более того, он уверил, что она опасна на Солнце, побудил корабли-перехватчики лететь к Солнцу.
Впрочем, ведь я сама помогала ему: мыла посуду, таскала тяжелые катушки проводов, вела журналы наблюдений… А если он неправ и никакой опасности Солнцу не было? Если страшная жертва напрасна?
Две недели я жила во мгле. И мне страшно теперь, что мгла начинает рассеиваться, что жизнь вопреки всему существует и может затянуть меня своими неумолимыми зубчатыми колесами…
Мама сказала, что я не имею права быть такой парализованной. Папа отдал жизнь во имя жизни.
Да, это так! Перестал биться измеряемый автоматом пульс, и вскоре на Земле затрепетал новый пульсик беспомощного существа, которое словно пришло взамен.
Оно родилось, это слабенькое крохотное существо, которое ни в чем не было повинно, родилось в одном из московских родильных домов… И вот, оказывается, подчиняясь условностям жизни, я обязана, понуря голову, идти и приветствовать появление нового человека, рожденного далекой и чужой мне теперь женщиной.
Я подчинилась, потому что мне было все равно. И мне было все равно, что Владислав Львович Ладнов не отходит от меня. Куда только делась его насмешливость и злость. Он стал трогательно внимателен ко мне. Если бы я переключила рычаги своей «машины времени» на вчерашнюю девчонку, я вообразила бы, что он старается из-за моей убитой горем мамы, но сейчас из своей пустоты я вижу все насквозь. Но мне все равно.
Ладнов пошел за мной в родильный дом. Мы купили по дороге уйму цветов. Я прятала в них лицо, чтобы но было видно, когда реву. Со мной это случается сейчас каждую минуту. Ладнов покорно шел рядом — я не захотела ехать в его машине — и говорил, говорил, говорил… Я только слушала его далекий голос, не распознавая слов, но угадывая мысли, которые он, может быть, не решался высказать. Он жалел меня. Оказывается, я была нужна ему. Он и Бурова недолюбливал потому, что я была нужна ему.
А мне был нужен только папа, единственный человек, похороненный на Солнце. Неужели в этом виновен Буров?
В приемной родильного дома мы встретились с Буровым. Я пожалела, что Ладнов остался ждать меня на тротуаре…
Я отдала Бурову цветы, чтобы он передал их вместе со своими. Я боялась смотреть на него.
Значит, он вее-таки пришел сюда!.. Несмотря ни на что, не отступает от Елены Кирилловны. И где она взяла такое привораживающее зелье?
Вошла, как сушеная цапля, Калерия Константиновна.
— Как трогательно, что Лену на работе так все любят, — сказала она, величественно кивнув нам.
— Как ваш ревматизм? — едко осведомилась я. Ревматизм ее был выдуман, чтобы подчеркнуть «арктические заслуги».
Калерия Константиновна сделала страдальческое лицо и посмотрела на меня.
— Я в отчаянии. Не знаю, когда смогу вернуться к роялю. Ах, дитя мое, — продолжала она. — Что в моей трагедии! Ведь у вас такое горе. Какой ужасающий несчастный случай.
Слезы у меня высохли.
— Это не несчастный случай, — резко сказала я. — Он сделал так, чтобы не погасло Солнце.
— Ах, боже мой! Я до сих пор не могу принять этого всерьез. Солнце, и вдруг погаснет. Ученые ведь не согласны с этим.
— Да, погаснет, — упрямо сказала я. — Может погаснуть.
— Ах, так же говорили про радиоактивную опасность. Но ведь мы живем.
Я ненавидела ее.
Буров был каменным, словно его это не касалось. Именно таким он и должен был быть.
— Я все решила, — объявила Калерия Константиновна. — Ребенка буду воспитывать я. Леночка должна вернуться к работе. Моргановский фонд женщин прославил ее на весь мир.
Вышла няня в белом халате, забрала цветы и коробки, которые принесли мы с Буровым. Калерия Константиновна передала изящную корзиночку, плотно запакованную.
Няня провела нас в гостиную. Здесь лежали дорогие ковры, стояла мягкая мебель, цветы и почему-то несколько телевизоров. На один из них и указывала няня.
— Сейчас вы можете повидаться с вашей мамой.
Я не поняла ее. Почему мама? Разве она пришла?
Но речь шла о Елене Кирилловне.
— Можно пройти к ней? — глухо спросил Буров.
— Вы отец? — простодушно спросила няня. У нее было удивительно знакомое лицо. Только потом и поняла, что это известная киноактриса, которую я обожала.
Буров не ответил. И это было невежливо. Няня-кинозвезда подвела нас к телевизору:
— Сейчас увидите ее. И она вас увидит. Поговорите, но только недолго.
На телеэкране появилась Елена Кирилловна. Изображение было цветным и объемным. Из-за чуть неестественной контрастности лицо ее выглядело усталым, но поразительно красивым, неправдоподобным, нарисованным. На подушке отчетливо виднелись разбегающиеся от головы складки.
— Лю, милый! Как я рада… — услышала я ее голос. Сердце у меня сжалось, слезы заволокли глаза. Она заметила только меня, хотя мы стояли перед экраном все трое.
— Как бы я хотела тебя обнять…
— Вы рады? Он мальчик, — сказала я, чувствуя, как была неправа к этой изумительной женщине. Она ничего не знала о моем несчастье. И хорошо! Не надо ее волновать, хотя… хотя, кажется, они с папой не очень друг другу нравились. Но все равно она была чудесной, она должна была кормить малютку, ее нужно было беречь.
— Я так боялась, — говорила она. — Я не верила, что у него все в порядке, что есть и ручки, и ножки, и пальчики… А у него даже волосики вьются.
— Ах, теперь все боятся, — вздохнула Калерия Константиновна. — Эта ужасная радиоактивность подносит омерзительные уродства.
— Вы же не верили в радиоактивность, — буркнула я. — И в гаснущее Солнце не верите…
— А мы уже все решили, — не обращая на меня внимания, веседо сказала Холерия. — Мальчик будет жить у меня. Я буду… я буду его…
— Кормилицей, — подсказала я, бросив взгляд на доскоподобную фигуру чопорной дамы. Холерия ответила мне сверкнувшим взглядом.
— Работа ждет, — выдавил из себя Буров, пожирая глазами экран телевизора.
Елена Кирилловна скользнула по Сергею Андреевичу равнодушным взглядом.
— Нет, Буров, — сказала она, — я не вернусь к вам.
Калерия резко повернулась.
— Я не понимаю вас, Лена, — сухо сказала она. — Я никак не ожидала услышать ваш отказ от работы… в особенности в марте, — добавила она многозначительно.
Тень скользнула по лицу Елены Кирилловны.
Почему она говорит о марте? Мое отношение к Холерин стало болезненным. Наверное, у меня появилась разновидность истерии. Надо было обо всем рассказать папе. Рассказать… Теперь уже никогда не расскажешь…
— Почему ты плачешь, Лю? — послышался участливый голос Елены Кирилловны. — Ты плачешь, что не будешь видеть меня на работе? Но ты будешь приходить ко мне, глупенькая.
— Почему вы не хотите работать… со мной? — снова выдавил из себя Буров.
— Не с вами, Буров… Я просто больше не могу. Помните, мы говорили с вами о науке… Вы открыли средство против ядерных войн. Воображали, что одарили человечество. И что же? Вашей «Б-субстанцией», которую я помогала вам добывать, теперь гасят Солнце. Я не хочу больше в этом участвовать… даже в марте, — добавила она, твердо глядя на Калерию Константиновну. — Лучше патрулировать в космосе…
Калерия Константиновна делала мне многозначительные знаки. Она не хотела, наверное, чтобы я сейчас сказала ей о папе. Я не сказала.
Буров стал мрачнее тучи. Должно быть, Елена Кирилловна попала ему в самое сердце. Она всегда била без промаха.
А я вдруг сказала:
— Еленочка Кирилловна, милая… У меня к вам огромная просьба.
— Да, мой Лю.
— Назовите мальчика… Митей…
Она пристально посмотрела на меня с экпана:
— Я слышала по радио сообщение, Лю. Я все знаю. Я горюю вместе с тобой. Но я не могу назвать сына именем твоего отца. Я уже назвала его.
— Вот как? — оживилась Калерия. — Как же?
— Друзья мои, — сказала подошедшая нянечка. — Мы уже утомили мамочку.
— Как же будет он называться? — строго спросила Калерия.
— Рой, — ответила счастливая мать. — Просто — Рой. Во имя роя чувств, надежд…
— Рой? — удивился Буров.
— Ну да, Рой. Разве это плохое имя?
Лицо Калерии покрылось пятнами.
Няня выключила телевизор, и я едва уловила лукавую улыбку на усталом, но прекрасном лице, растаявшем на светлом, матовом стекле.
— Поразительные капризы! — пожала плечами Калерия Константиновна и заторопилась к выходу.
Мы вышли вместе с Буровым. Я старалась понять, что он чувствует. Ведь ему в лицо было брошено обвинение. Я, потерявшая отца… и может быть, из-за него… я этого не сделала, а она… она отказалась работать с ним.
Я считала, что должна сказать что-то очень важное.
— Сергей Андреевич! Это неверно, что она сказала… Может быть, вам совсем не нужна моя помощь, но я хочу работать с вами. Я верю вам так же, как верил папа… Я постараюсь быть полезной… Я уже поступила на заочный факультет, но я не успела вам сказать… Я все стерплю от вас, буду делать все и за себя и за нее…
Буров посмотрел на меня, словно видел впервые. И улыбнулся. Не насмешливо, как раньше, а по-хорошему. У меня защемило сердце, я покраснела и тут же готова была себя возненавидеть. Ведь папа летел к Солнцу!.. А я? Я переживаю от улыбки мужчины.
Он сказал:
— Спасибо, Лю…
Мне было немного неприятно, что он так назвал меня.
— Спасибо, Люд, — словно поправился он. — Иной раз полезно сравнить двух женщин.
— А что вы… что мы теперь будем делать? Что искать?
Он взял меня за руку. Ой, кажется, мне придется неделю не мыть пальцы!..
— Знаешь, Люд, что такое движение вперед?
— Движение вперед — это борьба противоположностей, — услышала я голос Ладнова. Он догнал нас. Я и забыла, что велела ему ждать меня на тротуаре. — Простите, но, кажется, вы переходите на физику, и я могу оказаться не лишним.
Буров посмотрел на него не очень приветливо.
— Борьба противоположностей! — мрачно повторил он. — Чтобы заставить их бороться, нужно найти противоположное. Вы, Ладнов, теоретик. Взяв на себя тяжесть прогнозов и даже облачившись в мантию «судьи от физики», вы зачислили меня в паникеры… И все же я не перестаю уважать вас как теоретика.
— В восторге от этого. Чем могу служить?
— Допускаете ли вы, что у «Б-субстанции» должна быть ее противоположность? Не вытекает ли это из ваших же формул?
— Допустим, что вытекает. Я даже допускаю симметричную парность во всем, что существует в мире. Мы с вами хорошая этому иллюстрация.
— Может быть, в том, что мы противоположны — залог движения вперед?
— Остроумно.
— Так вы не думали об этом?
— Допустим, думал. Но мне не хотелось связываться с вами, Буров. А надо было засесть вместе, ругаться…
— Это я могу.
— Я тоже, — огрызнулся Ладнов.
— А если бы мы засели? — спросил Буров.
— Пришлось бы отказаться от многого. Наши нынешние теоретические представления о физических процессах слишком грубы. Вы счастливец! Вы допускаете умозрительные выводы. У меня не может существовать ничего, математически не доказанного.
— Вот потому-то вы и нужны мне. Ругайте меня, зовите паникером, сомневайтесь во всем… Но если вы в чем-то согласитесь, это будет истиной!
Я с восхищением смотрела на Бурдва.
— До сих пор мы оперировали с узенькой полоской явлений, законов, действующих сил, — продолжал Ладнов. — Взаимодействие электрических зарядов и электромагнитных полей, гравитационные силы. Грубо! Первое приближение. Нет! Ответ, почтенный мой Сергей Андреевич, нужно искать в незнаемом. Надо угадать природу внутриядерных сил с одной стороны и сил взаимодействия галактик — с другой. Разгадать циклопическую кухню в ядре галактики, откуда вырывается струя всего того, из чего строятся миры… Именно там взаимодействует ваша, буровская «Б-субстанция» и еще не открытая, ей противоположная анти-субстанция, если хотите «А-субстанция»!
— Верно, черт возьми! Именно там! Эх, если бы дотянуться дотуда руками, — крякнул Буров.
— Выше, выше берите, экспериментатор Буров! Куда не хватают руки, дотянется мысль. Нужно воспроизвести кухню рождения миров, воспроизвести здесь, на Земле.
— Черт вас возьми! Мне нравится такая моя противоположность! — восхищенно воскликнул Буров.
— Я, теоретик, могу только вообразить, в лучшем случае представить в формулах, а вы… если бы вам не мешали ваши гипотезы, могли бы воссоздать эту кухню на Земле, чтобы потрогать руками… любую субстанцию.
— Пожалуй, мало этих рук, — сказал Буров, рассматривая свои огромные руки.
— Маловато, — процедил Ладнов. — Тут нужны руки всех физиков мира, не загипнотизированных никакими гипотезами. Нужны мозги всех математиков, искусство всех химиков…
— Но проверять-то они все же будут гипотезу об «А-субстанции»?
— Проверять нужно все, сомневаться во всем.
— Черт возьми! В вас, Владислав Львович, я бы не сомневался. Свою ругань вы в формулы не перенесете.
— Нет обозначений, — усмехнулся Ладнов.
— А что если поставить такую задачу на Лондонском конгрессе?
— Там многие будут против вас, но… искать будут.
— Так ведь только это и надо!..
Глава девятая «РАК СОЛНЦА»
Солнце висело над морем. В багровом небе не было ни облачка, но на потускневшем красном диске, почти коснувшемся горизонта, появилась тучка и стала увеличиваться, словно разъедая светило изнутри.
Корабль шел вперед, а впереди… умирало Солнце.
За этой небесной трагедией, опершись о перила палубы, наблюдал седой джентльмен с устало опущенными плечами, старчески полнеющий, но еще бодрый, с чистым лицом без морщин, в очках с легкой золотой оправой.
О чем думал этот старый человек с поникшей головой, глядя на закатное солнце? О закате цивилизации? О своей роли в жизни?
Леонард Терми, знаменитый физик, друг Эйнштейна, соратник Лео Сцилларда, Бора и Оппенгеймера, один из создателей атомной бомбы, который помогал Ферми и Сцилларду запускать в Чикаго первый в мире атомный реактор, а Сцилларду и Эйнштейну писать письмо президенту Рузвельту, чтобы высказать тревогу о возможности появления атомного оружия в гитлеровской Германии и необходимости создания атомной бомбы прежде всего в Америке. Может быть, Леонард Терми, стоявший теперь на палубе и наблюдавший закат, тот самый Терми, имя которого упоминалось во всех секретных документах Манхеттенского проекта, вспоминал о том, как много было им сделано для того, чтобы в пустыне Невада произошел первый в мире испытательный атомный взрыв.
После открытия второго фронта в Европе Леонард Терми был направлен в оккупированные зоны, чтобы установить, как далеко продвинулись ученые гитлеровской Германии по пути создания атомной бомбы.
Вернувшись в Америку, Леонард Терми стал торопить Лео Сцилларда дать на подпись Эйнштейну второе письмо Рузвельту о том, что у Гитлера нет ядерной бомбы, ее не разработали для него немецкие ученые и потому созданная в Америке бомба не должна существовать, не может быть применена.
Как известно, письмо это не было прочитано Франклином Делано Рузвельтом. Во время его похорон оно лежало на столе президента в Белом доме.
За этот стол уселся мистер Трумэн. Прочитав письмо ученых, он не замедлил вскоре отдать приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, погубив сотни тысяч жизней, не солдат, а мирных жителей, женщин, стариков и детей, родившихся и еще не родившихся, но уже обреченных… И в течение следующих десятилетий взорванные бомбы неотвратимым проклятием продолжали губить в госпиталях несчастных людей.
С тех пор Леонард Терми потерял покой. После тщетных обращений к военным и гражданским властям с требованием контроля над использованием энергии атомного ядра, поняв, что эта запретная сила попала в руки ни с чем не считающихся политиков и генералов, Леонард Терми проклял их… и самого себя, помогшего получить ядерную бомбу. И подобно Лео Сцилларду, он оставил ядерную физику, которой занялся еще в ту пору, когда она считалась «бесперспективной областью». Он перешел теперь на биофизику, едва делающую свои первые шаги и, казалось бы, ничего не сулящую…
Леонард Терми на многие годы порвал со своими былыми коллегами. Они знали его непреложность в суждениях и поведении, и все же на этот раз они сумели настоять на его поездке в Лондон для участия в мировом конгрессе ядерных физиков.
Корабль возвращался в Америку. Путь был долгим, и времени для мучительных раздумий у Леонарда Терми было достаточно.
Неподалеку от него, лежа в шезлонгах, беседовали две дамы. Одна из них была все еще интересной, неустанно следившей за собой, одетая и причесанная по последней моде, увешанная кричащими бриллиантами. Другая была скромна, не боролась с сединой и полнотой, но что-то было в ее облике такое, что заставляло многих оглядываться на нее и спрашивать: кто она? Временами стареющая дама с участием и затаенной тревогой поглядывала в сторону ученого, недвижно стоящего у палубных перил.
Женщины всегда находят общий язык, и особенно в дороге.
— Вы не представляете, миссис Никсон, как мой муж заботит меня…
— Зовите меня просто Амелией, миссис Терми.
— Благодарю вас, милая Амелия. Я преданная жена, не рискующая не только осуждать, но и обсуждать поступки такого человека, как мой муж. Ведь и вы, милая, не рискуете это делать?
— Еще бы! — сказала миссис Амелия Никсон, вспоминая свою направляющую руку в карьере мистера Джорджа Никсона.
— Мой муж, по существу говоря, отказался от Нобелевской премии, неожиданно покинув область физики, для которой так много сделал. Не скрою, мы очень нуждались. Если бы не помощь друзей, мы бы лишились и неоплаченного полностью дома и всей обстановки. Мой муж перешел в другую область науки на пустое место. Я всегда подозревала, что он хочет, отвернувшись от смерти, которой служил, работать на жизнь, тем самым компенсировать хоть в малой дозе вред, принесенный человечеству.
— Это так благородно, — заметила Амелия.
— Мой муж всегда несправедлив к себе. Ужасные открытия все равно были бы сделаны даже без него… Но мой муж был сам себе судьей. И мне трудно было бы его узнавать. Он стал другим. Конечно, не внешне. Он так же задумчив и сосредоточен, по-прежнему предупредителен ко всем, такой же, как и раньше, джентльмен! Но… он стал другим, стал печальным…
— Это так трогательно, дорогая миссис Терми. Но чем можно в наше время помочь людям, кроме выражения скорби и печали? Нашему поколению остались только слезы и молитвы.
— Ах нет, дорогая! Мой муж вскрывает сейчас структуру самой жизни, как вскрывал когда-то структуру атомного ядра. Вы подумайте только! Когда он начинал, в науке не было ни малейшего понимания того, как развивается все живое, почему из зародыша вырастает человек, а не лягушка и не оса… почему у нас два глаза и по пяти пальцев?
— Это ужасно, миссис Терми! Газеты то и дело пишут о рождении детей без пальцев… или с одним глазом.
— Мой муж говорит, что науке теперь стали яснее законы развития живого. Как бы вам сказать… оказывается, все живое развивается «по записанной инструкции», запечатленной в молекулах нуклеиновых кислот, в комбинациях этих молекул на ясном и точном языке Природы, который можно прочитать, запечатлено все, все… и сколько пальцев, сколько волос должно вырасти у живого существа… Мой муж говорит, что организм развивается при считывании одними комбинациями молекул соответственных строк, запечатленных на других комбинациях молекул «нуклеинового кода» Природы. Я, по правде сказать, не все здесь понимаю, миссис Никсон, однако кое-что даже мне ясно: радиоактивность может стереть одну только букву, одну тольку строчку в этой нуклеиновой инструкции, и развитие живого существа будет идти неправильно, появится урод.
— Это ужасно! Хорошо, что у меня нет детей.
— Но они могут быть у других, моя дорогая.
— Ваш муж должен в принципе восставать против деторождения, не правда ли, миссис Терми?
— Почему же, напротив, моя дорогая. Он мечтает о счастье разрастающегося человечества, о долголетии людей.
— О долголетии? Фи!.. Говорят, что все люди умирают преждевременно. Но это было бы ужасно, если бы весь мир был населен преимущественно стариками и старухами. Я покончу с собой прежде, чем состарюсь.
— Благодарю вас, моя дорогая.
— Ах, нет, нет. Простите! Это не относилось к вам, моя милая миссис Терми. Вы чудесно выглядите, и мне хотелось бы на вас походить. Как же хочет ваш муж продлить жизнь людей?
— Победить рак.
— Что? — едва не подскочила в шезлонге миссис Амелия Никсон.
— У него свод точка зрения на возникновение рака, от которого умирает людей больше, чем от любой другой причины, включая войны.
— Миссис Терми! Вы не представляете себе, в какое мое больное место попали. У меня перехватило дыхание… Знаете ли вы, что мой супруг… О! Это железный человек, бизнесмен, газетчик… был прежде спортсменом… человек клокочущей энергии, неиссякаемый, но… даже у великих людей бывают свои слабости… Одним словом, он замучил меня, миссис Терми, дорогая! Вам я могу признаться. Умоляю вас, познакомьте моего супруга с вашим…
— Ах, я не уверена, дорогая… Мой муж стал таким необщительным.
— И все же, все же! Вы окажете мне неоценимую услугу.
— Чем же я помогу вам?
— Мистер Джордж Никсон, мой супруг, каждую минуту, каждую секунду думает о том, что у него рак чего-нибудь.
— Вот как? Он болен?
— Напротив. Он совершенно здоров. В этом согласны все медики мира. Он болен только мнительностью. Каждый день он находит у себя все новые и новые симптомы рака. Рак преследует его, угнетает, отравляет существование и ему и мне… Он переплачивает бешеные деньги всем знаменитым онкологам… и даже знахарям…
— Как это неожиданно для столь знаменитого рыцаря печати, как мистер Джордж Никсон.
— Утром, едва проснувшись, он начинает ощупывать себя, заглядывать к себе в горло… Ему постоянно мерещатся затвердения кожи и опухоли внутри живота. Он рассматривает себя в зеркале часами. Приобрел рентгеновский аппарат и, никому не доверяя, просвечивает себя сам. Он весь покрыт шрамами, потому что постоянно отправляет в лабораторию кусочки собственного тела.
— Ему очень хочется жить, — заметила миссис Терми, поджав губы.
— Вы пообещаете мне, дорогая, познакомить моего Джорджа с мистером Терми?
— Охотно, дорогая, но ведь он только физик… биофизик, но не врач. Он не лечит.
— Но вы сказали, что он хочет победить рак.
— Да, ему кажется, что он докопается до его причины.
— Это зараза? Это микробы? Это вирус?
— И да и нет. Это совсем не так, как обычно представляют.
— Мы непременно должны их познакомить!..
Миссис Терми уступила. Женщины решили, кого из всего человечества должен прежде всего спасать мистер Терми, ухвативший тайну рака.
Но мистер Терми, смотря на скрывающееся солнце, думал о совсем другом раке, о «раке Солнца», о котором говорилось на конгрессе физиков в Лондоне.
Лондон! Город его юности. Там он мечтал стать певцом. Он унаследовал от итальянских предков дивный голос, который мог бы принести ему мировую славу. Там, в Лондоне, ему был устроен друзьями и покровителями дебют в театре «Конвент-гарден». Но… лондонская сырость… Он осип и не смог петь в опере, завоевывать лондонцев… И вместо оперы попал однажды в скучный Кембридж. Он встретился там с самим лордом Резерфордом, оказывается, знавшим о его студенческих работах. Великий физик был вне себя от негодования, узнав, что автор известных ему статей по физике собирается петь со сцены. Лондонская сырость и гнев лорда определили дальнейшую судьбу Леонарда Терми. Он стал физиком.
И вот он снова был в Лондоне, снова поражался, как в юности, необычайному количеству зонтов, старомодных котелков, даже цилиндров и своеобразных домов, разделенных, как куски сыра, по всём этажам сверху донизу на отдельные квартиры с самостоятельными подъездами в первом этаже. Что-то неизменно солидное, незыблемое было в этой манере жить в своих частных крепостях и даже красить в собственный цвет свою половину колонны, разделяющей два подъезда. И вдруг… город с такими подъездами и двухцветными колоннами, которые, видимо, еще не успели перекрасить, примкнул к социалистическому миру, сделал это, конечно, по-английски солидно, парламентским путем после предвыборной борьбы, но…
В старинном здании, покрытом благородным налетом старины, или, иначе говоря, многими фунтами лондонской сажи, собрались физики всех стран мира. Патриарха науки Леонарда Терми здесь встречали с подчеркнутым уважением. А ведь уважения заслуясивал не он, а молодой русский физик Буров, открывший «Б-субстанцию» и тем исправивший непоправимое, что помогал создавать когда-то Леонард Терми.
Леонард Терми познакомился с Буровым в узком и темном коридоре. Их свел веселый француз с острым носом, ученик Ирэн и Фредерика Жолио-Кюри. Он был огромен и приветлив, этот русский. Не всякому удается завоевать такое признание, какое сразу же получил он в научном мире. Ему уже сулили Нобелевскую премию; но он заслужил большего!..
И это большее было выражено в том внимании, с которым весь конгресс, стоя, слушал каждое слово его выступления…
Он был скромен, этот физик. Отнюдь не все ученые отличались в прошлом скромностью, не прочь порой были подписаться под работами своих учеников… Буров сказал, что не считает открытие «Б-субстанции» научным открытием, это лишь «научная находка». Один человек может счастливо найти что-нибудь, но один ученый не может научно осознать столь сложное явление, как действие «Б-субстанции» на ядерные реакции. А сейчас, когда «Б-субстанция» использована безответственными элементами для диверсии против Солнца, осознать это становится необходимым. Для этого нужно, чтобы «ученые всего мира»…
И Буров поставил перед собравшимися четкую задачу. Для того чтобы спасти Солнце, нужно понять, что там сейчас происходит, а для этого понять, что такое «Б-субстанция». Идти вслепую здесь нельзя. Нужно выдвигать гипотезы, чтобы потом, может быть, отвергнуть их, заменить или же… подтвердить. Буров далек от мысли высказывать нечто непреложное, он скорее рассчитывает, что возражения помогут найти истину… Его друзья, теоретики, направили его мысль экспериментатора на… тайны космической первоматерии. Как известно, для объяснения процессов, происходящих в ядрах галактик, некоторые ученые допускают существование «дозвездного вещества» непостижимой плотности. Все дальнейшие катаклизмы образования звезд и туманностей связаны с делением этого сверхплотного вещества и освобождением при этом несметной энергии. Булавочная головка, сделанная из такого дозвездного вещества, весила бы десяток миллионов тонн. Ее можно представить себе как скопление примыкающих плотно друг к другу элементарных частиц, в том числе и нейтронов. Какая же сила до поры до времени удерживала эти нейтроны и позитроны вместе? Не имеет ли к этому отношение открытая случайно «Б-оубстанция»?Не является ли она той субстанцией, которая была когда-то «цементом» дозвездного вещества? Дозвездное вещество при известных обстоятельствах разрушается, спаивающая сила, быть может принадлежащая «Б-субстанции», преодолевается силой противоположной. То, что эта противоположная антисубстанция существует, доказывают все протекающие и наблюдаемые процессы образования и развития галактик: протовещество распадается, порождая вещество, находящееся в знакомом нам не сверхплотном состоянии, из которого и состоят все звезды и туманности, а также планеты ненаселенных и населенных миров.
Что может происходить сейчас на Солнце? Туда искусственно доставлена «Б-субстанция». Появится ли там протовещество, начнется ли процесс, обратный образованию звезд, который нарушит установившийся цикл солнечных реакций? И как следует помешать этому обратному процессу, если он начнется? Чтобы решить, как это сделать, надо ответить на вопросы: что способствует делению протовещества, превращению его в наше обычное вещество, что нарушает связи, носителем которых является «Б-субстанция» и можно ли искать субстанцию ей противоположную?
Решить такую титаническую задачу может только весь научный мир. Здесь удача экспериментатора, на которую в лучшем случае считал себя способным Буров, — капля в океане исканий.
Эти искания на Лондонском конгрессе решено было начать, едва его делегаты достигнут своих лабораторий.
Что же теперь должен сделать Леонард Терми? Снова вернуться к проблемам ядерной физики? Должен ли он вернуться к ядерной физике, оставив свою биофизику, вернуться, но уже не просто к ядерной, а к доядерной физике, которая начала существовать после выступления Бурова на Лондонском конгрессе.
А рак?
Можно ли говорить об этом сейчас, когда Солнце тускнеет, когда раку человеческого тела противостоит «рак Солнца»?
Леонард Терми вздрогнул. Он почувствовал на своем плече руку жены.
— Мой друг, — сказала миссис Терми, — позвольте познакомить вас с почтенным джентльменом.
Солнце уже зашло, на палубе зажгли огни. Леонард Терми ничего этого не заметил и был несколько удивлен произошедшей на палубе переменой.
Он обернулся и увидел неподалеку показавшуюся ему издали красивой и элегантной молодую даму, а с нею рядом низенького плотного человека, нетерпели во переступавшего с ноги на ногу.
— Мой дорогой, это мистер Джордж Никсон, владелец газетного треста «Ньюс энд ньюс»…
— И правая рука Ральфа Рипплайна, руководителя организации «SOS», или, как они называют себя, «Service of Sun»? — добавил Леонард Терми.
— Я, право, не знаю, дорогой.
Мистер Терми не успел ничего сказать. Джордж Никсон с присущей ему развязной напористостью атаковал ученого:
— Хэлло, док! Как поживаете? Кажется, у нас с вами найдется о чем поговорить. Пройдемтесь. Вам не улыбается перспектива встать во главе великолепного исследовательского института? Директор… Можно и совладелец. Мы с вами поладим, не так ли? Моя жена что-то тут тараторила о раке. Сейчас много шарлатанов занимаются этой проблемой. Но вы-то не из их числа. Мы с вами знакомы еще по отчетам генерала Гровса о Манхеттенском проекте. Ха-ха!.. Я тогда таскал горячие угли сенсации из вашей атомной кухни. Как поживает папаша Оппи?
— Я не уверен, что вас очень интересуют мои дружеские привязанности, — сухо сказал Леонард Терми.
— К черту! — признался Джордж Никсон. — Деловые отношения куда устойчивее. И я вам их предлагаю. Если вы на пути к тому, чтобы поймать рака за хвост… то сколько вы хотите, док? Миллион я могу вам предложить сразу… Конечно, в акциях нашей совместной компании. Хотите выпить, док? Скажите, алкоголь предохраняет от рака? Я твердо в это верю. Мне было бы очень горько разочароваться.
— Я боюсь разочаровать вас в ином, мистер Никсон.
— Не бойтесь, старина, не бойтесь. Только не разочаруйтесь сами. Вам мало миллиона? Но я сперва должен узнать, как далеко вы зашли с раскрытием тайны рака.
— Я еще только собираюсь ею заняться, сэр.
— Вот как? Так какого же черта…
— Я совершенно не осведомлен, сэр, какого черта…
Мистер Джордж Никсон сдержался. Он угадил старого профессора за столик и приказал принести коктейль. Леонард Терми мрачно молчал.
— К делу, старина. Не надо водить меня за нос. Я-то уж все знаю. Вы подобрались к самому сердцу проблемы рака. Если узнать, что такое рак, то ему крышка. А за эту крышку я вам заплачу черт знает сколько… дам в придачу голову Ральфа Рипплайна.
— Вот именно, — повторил Терми, — Ральфа Рипплайна…
— Он чем-нибудь вам не нравится?
— Он… и не только он, заставляют меня именно сейчас заняться проблемой рака.
— Опять только заняться?
— Да. Заняться проблемой «рака Солнца».
Никсон присвистнул и откинулся на спинку кресла.
Он откусил кончик сигары, которую достал из жилетного кармана, сплюнул на палубу и достал зажигалку.
— О’кэй, — сказал он. — Значит, проблема рака, которым я могу заболеть, вами не решена?
— Не решена. И я буду заниматься иной проблемой, которую, если не ошибаюсь, сэр, поставили перед миром вы сами.
— К дьяволу! — заорал мистер Джордж Никсон, но сразу умолк, сдержавшись.
Подошел стюард и принес коктейли.
— Выпьем, старина, может быть, договоримся? Не умирать же мне от этого гнусного рака, который лезет ко мне оо своими клешнями со всех сторон! Выпьем!
Леонард Терми медленно поднялся с кресла, взял в руки бокал и выплеснул его в лицо Джорджу Никсону.
Джордж Никсон побагровел и кинулся на старого ученого. Но на руке его повисла Амелия:
— Мой дорогой, что, вы! Опомнитесь!.. Ведь он же спасет вас от рака!..
— Старая падаль, — прохрипел Джордж Никсон. — Он хочет спасти от рака их всех. — Он обвел налитыми кровью глазами собирающихся вокруг пассажиров. — Это ему не удастся!
Пассажиры удивленно смотрели вслед уходящему коренастому человеку с шеей атлета.
ЧАСТЬ 4. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Глава первая СУГРОБЫ НЬЮ-ЙОРКА
…Когда-то за этот злосчастный дневник босс обещал мне миллион… лишь бы я побывал в африканском пекле.
Я готов был хоть в пекло, но по возможности без надгробных монументов, считал, что меня рогами дьявола не запугаешь, если из-за них выглядывают доллары, которые можно выменять на столь необычный товар, как искренность.
Однако монета оказалась неразменной. А не меняли ее просто потому, что она никому не требовалась.
Впрочем, может быть, она все-таки нужна хоть одному человеку на Земле? Например, славному парню тридцати лет, шести футов ростом, но уже не двухсот фунтов весом, с великолепным подбородком, выносящим не только удары кожаных перчаток, но и затрещины судьбы, с волнистыми, уже седеющими волосами, которые больше не застревают в колечках, нанизанных на тонкие пальчики. Что еще? Ах да, усики! К черту усики! Они сбриты в знак изменений, которые произошли в человеке, видевшем не только преисподнюю, встречаясь там с Гаргояой гаргон, с собственной совестью, но и заглянувшим по ту сторону ада, в страну, где нет завтра, где нет надежды…
Теперь дневник пишется уже не для бизнеса. Не знаю, выиграет он или проиграет? А кому от этого будет жарко или холодно? Впрочем, холодно теперь всем.
Гнуснейшая зима выпала нам на долю. Можно подумать, что вся эта болтовня о тускнеющем Солнце, с помощью которой мы делали в почтенной организации «SOS» свой бизнес, имеет под собой хоть малейшую почву. Господь ли наказал нас за грехи, или Солнцу впрямь не понравилась капля попавшей на него дряни, именуемой «Б-субстанция», но светило наше стало ныне так скупо, словно получило в старости крупное наследство.
Не знаю, когда отмечались в Нью-Йорке такие морозы! Черт возьми, ведь Соединенные Штаты, хоть и «Северо-Американские», но государство все-таки южное, и такой «северный» город, как Нью-Йорк, расположен «южнее» Неаполя…
Авеню и стриты всех номеров заметены ныне снегом. Ветер воет в ущельях между небоскребами, поднимая поземку, а порой и буран. Пурга слепит глаза, залепляет фары, заносит снежные колеи и ухабы, в которых буксуют несчастные автомобили.
Впрочем, большинство из них давно замерзло. Американцы не подозревали, что воду из радиаторов в холод надо сливать. И вода замерзла, радиаторы лопались, испорченные автомобили заносило снегом. Вдоль тротуаров выросли безобразные сугробы, погребя испорченные и неиспорченные автомобили, которые не удалось завести на морозе.
Никто не задумывался, что снег можно и нужно вывозить из города. Говорят, так делают… в Москве.
Мы, американцы, не приспособлены к чему-нибудь необычному, мы — рыцари налаженной жизни, устоявшегося стандарта и бесперебойного массового производства. Ставить нас в непривычные условия, скажем, непочтительно сбрасывать на наши города бомбы (я уже не говорю об атомных!) или угощать нас в собственном доме арктическим климатом, просто бестактно! Не знаю, испытывает ли почтенная леди Природа угрызения совести по этому поводу, но мы клянем все на свете, веруем в Бога… и мерзнем.
На улице, отворачиваясь от колючего ветра, бредут закутанные во что попало прохожие, напоминая известные картины: «Отступление французов из России» и «Немцы под Москвой», которые я до сих пор именовал красной пропагандой.
Едва Солнце стало греть скупее, как все вдруг вспомнили запуск нашей организацией «SOS» ракет с «Б-субстанцией» к Солнцу. В свое время эту спасительную акцию, которая должна была «предотвратить вспышку Солнца по Мануэллу», высмеивали, а теперь в снегопадах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Марселя и и Соррешгто увидели кару Господню, обрушив на организацию «SOS» обвинения в диверсии против Солнца.
Правительство США, являя пример беспристрастной справедливости, реагировало на всеобщее возмущение тем, что пренебрегло заслугами организации «SOS» во времена антиядерного кризиса и специальным актом закрыло ее. И даже возбудило против ее руководителей судебное дело.
Мистеру Ральфу Рипплайну пришлось отдать вместо себя под суд служивших у него отставных генералов, которые, оказывается, самовольно выпустили к Солнцу ракеты вместо того, чтобы держать их, как то подобало, в боевой готовности.
Вот вам логика нашего времени! Почему не отдали в свое время под суд тех же генералов, которые производили ядерные взрывы в космосе, создав вокруг Земли действительно ощутимый пояс искусственной радиации, никак не сопоставимый с проблематическим «гашением» Солнца!..
К счастью, наши генералы смогли выделить из своих скудных пенсий достаточные средства, чтобы нанять не только лучших адвокатов, но и наиболее крикливые газеты, заплатили огромный денежный залог и теперь гуляют на свободе по заснеженным улицам, прилежно смотря за тем, чтобы ракеты оставались готовыми к действию.
Надо думать, что озябшие на Земле люди побаиваются этих ракет и… конца света. Многие теперь пытаются согреться молитвами в нетопленых храмах, воображая, что с Солнцем действительно что-то происходит.
Когда босс вызвал меня к себе, я был уверен, что разговор пойдет о всеобщем религиозном психозе, к которому, конечно, были несколько причастны и наши газеты.
Оффис закрытой организации «SOS», созданный для ликвидации ее дел, помещался в деловой части города, в небоскребе Рирплайна.
Меня сразу же поразило, что старые таблички сменились новыми, где огненные буквы на космически черном фоне сообщали, что здесь теперь находится не организация «Сервис оф Сан» (система обслуживания Солнцем), а «Спасение от Солнца» — богоугодное сообщество… Сокращенно все так же «SOS»…
Я поднялся на двадцать первый этаж и предстал перед боссом, сидевшим в просторном кабинете из пластмассы и пустоты. Не было даже стула для посетителя. Оказывается, босс при появлении гостя теперь смиренно вставал ему навстречу, за исключением тех случаев, когда он доверительно садился, радушно кладя ноги на стол.
У нас с ним были давние отношения, и он встречал меня в оффисе нового богоугодного сообщества отнюдь не в богоугодной позе.
Я присел прямо на стол рядом с подошвами мистера Джорджа Никсона.
— Хэлло, сын мой, — сказал он, пододвигая мне коробку с сигарами. — Дело идет неплохо.
— Немножко холодно, — заметил я, косясь на электрический камин, единственный предмет обстановки, кроме стола и креста.
— Ничто так не располагает к религии, сын мой, как ухудшение жизни. Если папа римский взял бы меня в свои святые советники, я бы научил его, как быстро сделать все население Земли добрыми католиками.
— Я полатаю, сэр, что вы уже посоветовали мистеру Ральфу Рипплайну, как сделать их всех хорошими членами нашей секты «Спасение от Солнца».
— Не секты, — поморщился босс, — а ордена, богоугодного сообщества.
— Bce равно, — сказал я, — вазню привлекать новых членов.
— Они уже стремятся к нам, сын мой, слетаются, гонимые ветром времени… Люди теперь понимают, кто наследовал права и обязательства организации «SOS», предупреждавшей о гневе Божьем.
— Значит, их гонит к нам страх Божий, насколько я понимаю, — заметил я, раскуривая сигару и бросая спичку на паркет.
— Вот именно, «страх Божий». Еще недавно они и слышать не хотели о наших благочестивых советниках при правительствах европейских стран.
— Как? — поразился я, вынимая сигару изо рта. — А теперь?
— Теперь… вам придется написать серию статей, мой мальчик. В Европе произошли большие перемены. Когда-то там предательски изменили свободному миру, левые завладели парламентским большинством. Но зато теперь… Читайте, парень!..
Он передал мне последние сообщения, переданные по телетайпу.
— Так! — свистнул я. — Переворот? Правые ухватились за «страх Божий»?
— Как видите, сын мой, страх Божий оказался тем самым рычагом с точкой опоры, о котором мечтал еще язычник Архимед.
Из сообщений явствовало, что новые правительства на западе Европы обратились с просьбой к сообществу «SOS» направить к ним благочестивых советников, выражая надежду, что организация «SOS» впредь воздержится от посылки к Солнцу ракет с «Б-субстанцией».
Я пытливо посмотрел на босса. Смиренно опустив глава, он оказал:
— Как вы смотрите, сын мой, на то, чтобы стать помощником Верховного магистра «SOS», то есть моим помощником?
— Благодарю вас, сэр, — сказал я, прикидывая в уме, что означает такое повышение. — Будет ли мне выдана какая-нибудь мантия и потребуется ли от меня обет безбрачия?
— Никакого безбрачия и никаких мантий или балахонов, мой мальчик. Хватит с нас воспоминаний о марсианской ночи. Руководители нашего сообщества должны быть не менее респектабельны, чем высший свет на съемках в Голливуде.
— О’кэй, — согласился я, — я вызову своего портного.
— Позаботьтесь заказать черные дипломатические пары. Вам предстоит уехать.
— Куда? — насторожился я, вспоминая злосчастную Африку.
Босс встал и принялся расхаживать по пустому кабинету с видом Наполеона, получившего во дворце от Талейрана сообщение о капитуляции Европы.
— Они капитулировали, — сказал босс. — Вам предстоит поехать благочестивым советником в любую из европейских стран по вашему выбору.
Я вздрогнул. Европа! Там была лишь одна страна, притягивавшая меня.
Босс изучал меня исподлобья:
— Ну? Англия? Франция? Или другая страна?
— Да, сэр, другая! — выпалил я, соскакивая со стола и с достоинством вытягиваяь, как наполеоновский маршал перед императором. — Но мне кажется, что еще не все страны капитулировали.
— О’кэй, парень, пока еще не все… Но я полагаю, что разум восторжествует. Никому не захочется, чтобы к Солнцу полетели еще новые ракеты с «Б-субстанцией». Так какую страну вы выбираете?
— Россию, сэр, если можно.
Я вымолвил свое сокровенное. Я хотел быть только там, где Эллен.
— Что ж, — ничем не смутившись, сказал Джордж Никсон. — И за этим дело не встанет. Идет игра нервов. Но она должна кончиться. Никому не любо замерзать на новых ледниках, даже русским, хотя, вероятно, они… капитулируют последними.
— Почему последними, сэр?
— Возможно, потому, что они более привычны к холоду. И потом… они самые упорные. Так что лучше вам не ждать. Работы хватит всюду. Нужны хорошие советы, чтобы восстановить священную собственность и свободу частной инициативы, дать доступ нашим капиталам, чтобы произошло чудо. Вы будете в числе чудотворцев «SOS», мой мальчик.
— О’кэй, сэр. Но если возможно, я подожду, ковда это чудо надо будет делать в России.
Брюс улыбнулся.
— О’кэй, — сказал он, снова садясь в кресло и доверительно показывая мне подошвы ботинок, взгроможденных на стол. — Россия так Россия! Там особенно много полей, где трудно выращивать хлеб… под ледниками.
— Да, сэр. Вы полагаете, что «рак Солнца»…
— Не болтайте чепухи! Мы регулируем накал светила, чтобы оно не вспыхнуло, как предугадал пророк Самуэль. И никакого рака там нет. И зарубите себе на вашем подбитом носу — никогда не говорить при мне ни о каком раке! К черту Солнце!. Если понадобится, то для вразумления русских коммунистов мы угостим старую накаленную сковородку новой порцией прохладительного субнапитка, так удачно изобретенного русскими.
Я привык верить в босса, как в мир частной инициативы или в Господа Бога. Босс мог сделать все, что угодно, вернее, все, что ему выгодно. Надеюсь, упорство на Европейском континенте не протянется слишком долго и нашей планете не будет нанесен опасный ущерб. В конце концов все мы на Земле заинтересованы, чтобы все утряслось возможно быстрее.
Босс милостиво отпустил меня, довольно неуклюже благословив только что цридуманным знаком Верховного магистра ордена — поклоном со скрещенными на груди руками.
Я шел по улице, кутаясь в пальто. Я мысленно был в Москве, я разыскивал свою Эллен.
Россия! Я знал, что Эллен была русской, ведь ее великолепный предок был царским князем и фамилию его нужно было выговаривать не Сехевн, как у Эллен, а Шаховской. У нас в Америке любят упрощать фамилии, произнося их на свой лад. Ню я предпочел бы, чтобы Эллен выговаривала свою фамилию, как мою.
Итак, Россия! Непонятная страна, столько десятилетий служившая пугалом свободного мира. Понадобилось дотянуться до Солнца, чтобы, наконец, поставить ее на колени. Впрочем, я, пожалуй, несколько забегаю вперед. Конечно, мне приходилось немало писать о коммунистической России, и я даже считался в газете специалистом по русскому вопросу, но, если говорить начистоту, то что я знаю о русских? Если я попаду в Россию и стану руководить этими малопонятными скифами, то… Кстати, у них ведь уйма народов. Они говорят чуть ли не на ста семидесяти языках. Какое-то вавилонское столпотворение!
Конечно, можно было бы посоветоваться с другими специалистами по русскому вопросу, но я хорошо представлял себе, что они мне скажут. Сто семьдесят языков! Значит, надо преобразовать эту опасную страну в сто семьдесят враждующих между собой государств, связанных лишь общностью вложенных в них капиталов, надо полагать, преимущественно капиталов «SOS». Собственность будет новым цементом, который удержит в состоянии равновесия враждующие племена.
Но… это все не то, не то, не то…
Кто действительно знает, как обходиться с русскими? Конечно, только Эллен могла бы направить меня…
И тут меня осенило. Так ведь есть же ее дед, старый русский князь, мистер Кирилл Шаховской!
Я уже не брел, а летел к знакомому дому, вблизи которого словно по наитию оказался. 47-й стрит, 117, 14-й зтаж…
Я благословлял, что в Нью-Йорке хоть лифты еще не замерзли. Впрочем, я взлетел бы на любой этаж, как ракета с «Б-субстанцией».
Я рассчитывал, что надменный предок моей русской княжны сам откроет мне дверь, давно отвыкнув от лакеев, но мне долго никто не открывал. Наконец я услышал за дверью шаркающие старческие шаги.
Я почтительно снял шляпу, пригладил волосы и натянул на лицо светскую улыбку.
Дверь открыла пожилая леди в одеянии сиделки.
— Князь очень плох, — печально сказала она.
Я снял пальто, отряхнул снег с ботинок и, ступая на носки, пошел следом за сиделкой.
— Очень холодно в доме, — оказала она. — Прибавилось еще и воспаление легких.
Я почтительно вздохнул, подумал об остывшем Солнце и неприспособленных нью-йоркских квартирах.
Квартирка у князей Шаховских в Нью-Йорке была убогая. При Эллен я этого не замечал, она умела придать блеск и нищете…
Самым дорогим здесь были почерневшие иконы, висевшие в изголовье больного. Я подумал, что им нет цены. Но они красовались здесь отнюдь не как шедевры живописи. Должно быть, старый князь был богомолен. Я иронически подумал, что это, пожалуй, не так уж современно, но поймал себя на том, что имею, кажется, отношение не то к секте, не то к ордену «SOS», но тотчас утешил себя, что это лишь мой бизнес, а не убеждения.
Под иконами лежал изможденный старик. Он умирал.
На подушке виднелись только одни брови… брови бывшего придворного красавца, двойной кривизны, приподнятые у переносицы в обратном талибе темной волны. Надеюсь, он не красил их.
Под бровями едва тлели бесцветные глаза. Он узнал меня.
Я сел у изголовья.
Иссохшие губы зашевелились. Мне пришлось наклониться. Кажется, он говорил о ней.
— Мы с ней поженились в Африке, — сказал я.
— Она не там, — прошептал он.
— Знаю, — кивнул я.
— Она… назвала… правнука… Роем.
Сердце у меня заколотилось. Кровь прилила к лицу.
Он знал все о ней! Он, а не я!..
Сиделка подошла и дала выпить старику капель.
Он обессилел от нескольких сказанных слов.
Тяжело умирать в сознании. Почему врачи не настолько гуманны, чтобы помогать людям, если не приятно, то хотя бы незаметно уходить из жизни?
Брови снова зашевелились. Сиделка склонилась над кроватью.
— Князь хочет остаться с вами наедине, передать вам свою последнюю волю, — сказала она и, шурша юбками, вышла.
— Я поеду в Россию, найду Эллен и сына, — сказал я.
Брови протестующе задвигались.
— Я не должен этого делать?
Брови утвердительно кивнули.
— Но кто послал ее туда? Кто?
Брови взметнулись.
— Вы? — догадался я.
Брови подтвердили.
— Но зачем? — прошептал я.
Горькие складки легли возле опущенных губ. Больной сделал усилие приподнять голову с подушки, но бессильно уронил ее.
Непостижимо как, но я понял князя Шаховского и просунул руку под подушку. Там хрустнул конверт.
Я достал конверт и вынул из него листок, написанный уже дрожавшей, неверной рукой тяжелобольного.
Это было письмо Елене Шаховской:
«…Княжна! Бесцѣнная боярышня моя! Съ дѣтства я направлялъ тебя на тернистый путь подвига, передавъ въ руки тѣхъ, кому меньше всего нуженъ былъ твой подвигъ…»
Я старательно изучал в последний год русский язык и мог прочесть все, что было написано в этом письме, хотя меня и затрудняла непривычная для меня, по-видимому, старая орфография. Я посмотрел на князя. Он лежал с закрытыми глазами.
«…Ты должна была помочь намъ вернуть многострадальный русскій народъ-Богоносецъ на прежній его путь, съ котораго онъ овернулъ въ безумьи революцій. Я воспиталъ тебя, какъ русскую Жанну д’Аркъ, я послалъ тебя съ острѣйшимъ мечомъ современности — съ познаніями физика въ самую кузницу вражеской силы. Ты совершила тамъ невероятное…
Аленушка, родная моя! Всё невѣрно, всё! Я умираю, всё пересмотрѣвъ, всё переосмысливъ. У насъ было слишкомъ мало силъ, чтобы сдѣлать Россію прежней, мы вынуждены были полагаться на мощъ страны, воплощавшей въ нашемъ представленій прогрессъ… Я боялся, что ты и я на делѣ будемъ служить противъ нашего народа. Но въ жизни получилось еще хуже… Всѣ мы оказались на службѣ у гангстеровъ, которыхъ такъ почитаютъ въ странѣ, гдѣ я воспиталъ тебя. Мы, оказывается, помогли имъ замахнуться на Солнце, поставить не только нашъ русскій народъ, но и всѣ народы Земли передъ ужасной катастрофой новаго ледниковаго періода.
Увы, но въ этомъ заключена глубочайшая внутренняя логика. Мы дѣлали безумную ставку на ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ, не понимая, что она могла привести только къ своему логическому концу — къ всеобщему холоду, къ новымъ ледникамъ на Землѣ.
Я слишкомъ поздно понял это, но я утѣшаюсь, что вмѣстѣ со мной и даже раньше меня это поняли многіе… И, можетъ быть, поняла уже ты сама.
Моя забота теперь въ томъ, чтобы передъ смертью снять съ тебя клятву, которую потребавалъ съ тебя, клятву служения вздорнымъ идеямъ, служенія, по существу, противъ великаго русского народа, которому я хотелъ бы отдать свое последнее дыханіе…»
Я посмотрел на старика.
Он был мертв.
Рука моя дрожала. Я почти с ужасом смотрел на конверт с именем Эллен. Что я должен сделать с ним? Что хотел от меня этот старый джентльмен, который под влиянием близкой смерти, потеряв рассудок (или обретя его?), пересмотрел все свои идеи?
Стоило ли ждать смерти для того, чтобы начать мыслить?
Должен ли мыслить помощник Верховного магистра «SOS»?
Я тихо вышел из комнаты.
Сиделка все поняла по моему лицу.
Глава вторая ЧЕРНАЯ МАГИЯ
Я проснулась в холодном поту.
Не страшное пугает во сне, пугает правдоподобие ощущений, реальность всего того, что, словно наяву, происходит с тобой, когда беспомощность и сознание неотвратимости порождают ужас…
Я лежала на кровати с широко открытыми глазами и дрожала. Я только что видела дедушку. Я была около его постели, чувствовала запах лекарств, видела его изможденное лицо, но не могла расслышать ни единого слова… А он говорил с кем-то бесконечно знакомым, кто находился рядом и на кого я не смела оглянуться. У дедушки гневно хмурились брови, выразительно взлетали, утвердительно опускались… и вдруг застыли в скорбном вопросе. И я поняла, что его уже нет… и что он только что говорил обо мне.
Я проснулась, нисколько не сомневаясь, что это произошло на самом деле.
Марта заметила, что я встала. Она шпионит за мной даже по ночам. Я сказала, что уж лучше бы она последила за мальчиком.
Маленький Рой блаженно спал. А первое время он очень страдал животиком.
Мне нечем было дышать, я оделась и выбежала на улицу.
Город еще не просыпался. Горели редкие фонари. Работали снегоочистительные машины. Дугообразными лапами они загребали снег на транспортер, снежная струя сыпалась с его ленты в кузов грузовика.
Я шла, распахнув шубку, не ощущая холода, вдыхала обжигающий морозный воздух и старалась внушить себе, что это был лишь дурной сон. Ощущение сна исчезло, но не образ дедушки. Я уже готова была верить, что видела его не во сне… Я начала замерзать и вспомнила, как замерзали в России во времена Наполеона и Гитлера непрошеные гости. Генерал Мороз всегда был союзником русских. А теперь… Теперь, кажется, кто-то рассчитывает, что русские не выдержат мороза.
Я во всяком случае не могла его выдержать, хотя и была русской по рождению, по своим предкам, по великой цели, которой посвятил меня дедушка и которую словно заслонило теперь от меня потускневшее Солнце…
Я так замерзла, что, как безумная, побежала домой. Да и пора было кормить малыша.
Марта, гневно гремя посудой, подогревала в горячей воде бутылочки с молоком, чтобы кормить Роя баз меня. Наряду с этой показной заботой она не уцускала возможности отравить мне минуты кормления. Она все время требовала, чтобы я вернулась работать к Бурову. Ей, конечно, снова были нужны сведения о том, что делается в его лаборатории.
Я все еще никак не могла согреться.
Марта остановилась, пытливо смотря на меня. Что-то хищное было в ее костлявой фигуре, чуть сгорбленной сейчас, как у бабы-яги.
— Я видела дурной сон, — сказала я.
— Сейчас же расскажите, — потребовала она.
— Может быть, у вас найдется толкователь снов? — усмехнулась я.
— Глупо говорить о суевериях, когда речь, может быть, идет… о внушении на расстоянии.
— Уж не думаете ли вы, что кто-нибудь навел на меня кошмар? — ядовито спросила я.
И все же мне пришлось уступить ей и рассказать все, что видела ночью.
Марта отнеслась к этому с излишней серьезностью. Она мерила мою комнату большими шагами и говорила по-английски:
— Слушайте, Эллен. Вы не понимаете значимости виденного, не можете связать воедино различные явления. Я проверю правильность вашего ведения.
— Вызовете по телефону моего дедушку?
Она остановилась передо мной:
— Я… я откроюсь вам сегодня, мисс Сэхевс. Кажется, это единственное, что может еще повлиять на вас.
Рой уснул. Я уложила его в кроватку. Марта вышла из комнаты. Мы с ней занимали небольшую квартирку всего лишь в три комнаты. Из нашей общей гостиной двери вели в ее и в мою спальни.
Поцеловав мальчика в крохотный лобик с такими же залысинами, как у отца, я вышла в гостиную. За окнами было еще темно, но в доме напротив начали загораться окна. Я люблю смотреть на огни в окнах, всегда пытаюсь представить себе, кто их зажигает, кто тушит… в каком мире живет.
Дверь в комнату Марты была открыта. Там тоже был свой мир… тайный и страшный.
Вышла Марта, неся в руках бокалы и бутылку.
Я удивилась. Марта никогда не злоупотребляла напитками, тем более с утра.
— Приближается час евши, — сказала сна.
— И вы наконец покажете мне свой таинственный радиопередатчик, который прятали даже от меня.
— Надо привести себя в нужное состояние.
— Пейте «Кровавую Мэри». Понравитесь мужчинам.
— Вы видели важный сон, Эллен, — сказала Марта, потом наполнила бокалы, но не притронулась к своему.
Я только пригубила бокал, наблюдая за своей «дублершей». Так представили ее мне еще в самолете на далеком африканском аэродроме. С тех пор мы, почти ненавидя друг друга, не расставались, попали на советское побережье, потом на ледокол, в Проливы, наконец, в Москву… И даже числились под одним именем…
— Возможно, что это был не сон, а «дальновидение», — сказала она.
— Разновидность телевидения? — с насмешкой осведомилась я.
Марта оставалась серьезной:
— Не телевидения, а телепатии. Она готовила себе какое-то лекарство.
— Что это? Коктейль «Деревянная нога» или «Содранная кожа»?
— Это пейотль, моя дорогая. По латыши «Eshinocactus williamsii», хлюроформенная вытяжка из мексиканского кактуса «пейотль». Доза два грамма, если когда-нибудь решитесь попробовать. Спустя полтора часа обретете удивительную способность. Закрыв глаза, будете видеть яркие картины… Сильное и длительное возбуждение зрительной области мозговой коры…
Я закурила сигарету и, щурясь, смотрела на Марту, выпуская дым. Мне хотелось напомнить ей, что ведьмы, которых сжигали на кострах, под пыткой признавались в том, что втирали себе в кожу сильнодействующие снадобья, которые переносили их в мир демонов, позволяя летать по воздуху на помеле или на козле, кружиться нагишом в пьяном хороводе во время шабаша, общаться с похотливыми бесами, убеждаясь, что у них ледяное семя…
— Я знаю, о чем вы думаете, — сказала Марта, тоже закуривая, но какую-то особую пахучую юигарету. — Должна напомнить вам, что все те, кто отмахиваются от телепатии, остались в дураках.
— Вот как? А те, кто гадал на кофейной гуще… или у цыганок… наконец, на гадальных автоматах?
— Приходилось ли вам испытывать на затылке чей-нибудь взгляд? Оборачивались ли вы на смотрящего на вас сзади?
Я утвердительно кивнула головой. Марта странно посмотрела на меня и вышла в свою спальню. Она вернулась с конвертом в руках:
— У нас в Штатах давно беспокоились, как бы русские не опередили нас. — Она достала из конверта газетную вырезку. — Писали, что никто «…не предвидел, что именно русский университет в Ленинграде организует первую лабораторию „мозговой связи“». Наши военные эксперты писали, — она вынула новую вырезку. — «Для военных сил США без сомнения очень важно знать, может ли энергия, испускаемая человеческим мозгом, влиять на расстоянии тысяч километров на другой человеческий мозг… Овладение этим явлением может дать новые средства сообщения между подводными лодками и наземной базой».
— Я что-то слышала об этом, — небрежно отозвалась я.
Марта усмехнулась:
— Могу напомнить. — И она достала из конверта новую вырезку, — Летом 1959 года на американской атомной подводной лодке «Наутилус», лежавшей на дне океана на расстоянии сотен или даже тысяч километров от базы, находился один из участников «телепатической пары». Дважды в день в строго определенный час он общался с другим участником, оставшимся в Америке. По внушению на расстоянии подводник выбирал одну из пяти фигур: волнистые линии, крест, звезду, круг или квадрат, которые выбрасывались на берету машиной, исключающей какой бы то не было сговор. Было зафиксировано 70 % полных совпадений, Конечно, сейчас это напоминает лишь первые опыты беспроволочного телеграфа по сравнению с современной радиотехникой.
— Вы хотите сказать, что все это серьезно?
— Пренебрегать наблюдаемой связью явлений — такое же суеверие, как и выдумывать несуществующие связи. Сколько мы знаем случаев, когда мать или жена с помощью необъяснимых чувств или снов узнают на расстоянии о смерти близкого человека, как-то принимают усиленный и обостренный в миг смерти телепатический сигнал умирающего. Об этом писал выдающийся ученый: «Явления телепатии не могут подлежать сомнению… чуть не каждый поживший семьянин не откажется сообщить о лично им испытанных телепатических явлениях. Почтенна попытка объяснить их с научной точки зрения».
— Кто так говорил?
— Циолковский.
Марта рассказала, как еще на заре научного исследования явлений телепатии были проведены опыты внушения на расстоянии… рисунков. Русский приват-доцент Я. Жук наблюдал воспроизведение таких сложных фигур, как рисунок зайца, лодки с веслом, сердца, бутылки. Он даже изучал характерные ошибки воспроизведения, которые оказались такими, как в рисовании мельком увиденных предметов. Еще в 1928 году Афинским обществом психических исследований были приведены опыты внушения рисунков из Афин в Париж, в Варшаву, в Вену, на расстояния от тысячи до двух тысяч километров. Оказалось возможным даже усыплять на расстоянии. Французские психиатры Жане и Живер в Гавре еще в 1885=1886 годах неожиданно для перципиентки усыпляли ее на расстоянии в 1–2 километра.
— Уж не впасть ли и мне в транс? — заметила я. — Еще немного, и я поверю в спиритизм и в духов.
— Можете поверить, что советские ученые спиритическими приемами не пользуются и с духами не общаются, но именно у них были проведены сенсационные опыты усыпления на расстоянии свыше тысяяи километров, из Ленинграда в Севастополь. И сделал это советский профессор Васильев, член-корреспондент Академии медицинских наук, организовавший первую в мире лабораторию телепатии.
— Бедные марксисты! — воскликнула я, осушая наполненный Марной бокал. Она к своему так и не притронулась.
— Нелегко объяснить все это? Электромагнитные излучения? Радиопередатчнк и радиоприемник мозга?
— Как раз это и опровергли марксистские ученые. Тот же Васильев, находясь в полностью экранированной от радиоволн металлической кабине, усыплял своих пациентов на расстоянии. Подводная лодка, не говоря уже о слое воды, тоже была великолепным экраном для радиоволн.
— Так что же такое телепатия? — уже не выдержала я, оставив свой иронический тон.
Марта усмехнулась:
— Особая форма информации или общения живых существ без посредства известных нам органов чувств, влияние на расстоянии нервно-психических процессов одного существа на такие же процессы другого.
— Так это и есть наша с вами секретная связь?
Марта посмотрела на часы.
— Вы будете при этом присутствовать, — сказала она и только теперь залпом выпила бокал, снова наполнила его и опять выпила.
Глаза ее неестественно заблестели. Не знаю, что здесь действовало: алкоголь или пейотль?
Марта принесла из соседней комнаты пишущую машинку. Споткнувшись о ковер, она чуть не упада вместе со своей ношей. Поставив машинку на столик, она виновато улыбнулась.
— Конечно, для черной магии не хватает курений, — сказала она, посмотрев на золотые часики.
Если бы в воздухе плыли клубы дыма, если бы слышались какие-нибудь бесовские постукивания и над горящими углями колдовала бы страшная старуха, а не элегантная подвыпившая дама, то, пожалуй, все выглядело бы естественнее.
Где-то в Америке другой участник телепатической пары в эту минуту тоже готовился к сеансу. Я попыталась представить себе скучную комнату разведывательного оффиса, залитый чернилами стол и пишущую машинку на чернильном пятне… Я настолько ярко представила себе все это, словно я, а не Марта, приняла дьявольское индейское средство. Неужели вокруг меия все так заполнено тайной силой внушения, что я против своей воли вовлечена в это «научное колдовство» и вижу внушаемые моей соседке галлюцинации?
Я не сказала об этом Марте, но она, странно усмехнувшись, произнесла заплетающимся языком:
— Известно много случаев, когда внушаемое на расстоянии принималось… другим человеком.
Мне стало не по себе.
— А это не опасно? — непринужденно опросила я и добавила: — Для нас…
Марта рассмеялась:
— Неужели увиденные кем-то сны или записанные ни с того ни с сего пришедшие на ум строки могут быть признаны даже чекистами разоблачительным материалом? Нет, мисс Эллен!..
Я не ответила.
Не докуренная Мартой сигарета дымилась, источая дурманящий запах. Марта сидела за машинкой, полузакрыв глаза, словно прислушиваясь.
Что же будет? «Автоматическое письмо», о котором я читала, будто бы внушаемое медиуму на спиритическом или телепатическом сеансе? С помощью чего же это делается, если не посредством электромагнитного излучения? Нечто, не знающее расстояний и препятствий, подобно тому, как не знает их тяготение? Или, может быть, здесь причаотен поток частичек «нейтрино», пронизывающих космос со скоростью света. Они не имеют ни электрического заряда, ни массы покоя, не знают ни преград, ни расстояний!
Марта, застыв в сомнамбулической позе, все еще не начинала сеанса. Вдруг она открыла глаза с неестественно расширенными зрачками:
— Он передал мне сейчас, что сеанс откладывается на несколько минут. Ждут важного сообщения, — сказала она, замедленно произнося слова и смотря куда-то поверх моей головы.
— Кто передал? Кто «он»? — спросила я, силой воли отгоняя уже знакомое видение канцелярии со столом и пишущей машинкой на чернильном пятне.
— Кто он? — переспросила Марта. — Индуктор… Внушающий… А я — перципиент, принимающий внушение. Но наша телепатическая пара особенно ценна тем, что мы можем меняться ролями. Я передаю, он принимает. Потому мне и платят так много.
— Сколько же надо платить, скажем, крысам, бегущим с корабля в предвидении его гибели?
— Я не крыса, — процедила Марта, сверкнув на меня глазами. — Предчувствия и гадания — это чепуха и невежество, ничего общего не имеющие с телепатией. Телепатия — это свойство реального, материального мира. Но люди одарены шестым «телепатическим» чувством в разной степени, порой и не подозревая о нем. Оно атрофировалось у человека на протяжении тысяч и тысяч поколений.
— У животных оно было развито сильнее?
Марта перегнулась через стол. Губы у нее запеклись, словно у нее был жар, глаза сузились:
— Не у животных! Это чувство мы получили не от низших по развитию существ, а от высших!..
— Ах, от ангелов!.. Простите, сразу не догадалась.
— Отбросьте суеверную чепуху. Вы же ученый, физик, материалист, как здесь говорят. Лучше поймите, что мозг наших предков был более развит, чем наш.
— Обезьяны будут в восторге! — объявила я.
Марта покачала головой:
— Человек не произошел от «земной» обезьяны.
— Несчастный Дарвин!.. Кто только его не опровергает!..
— Дарвина глупо отрицать. Его теорию эволюции надо распространить и на другие планеты, помимо Земли. Только тогда можно дать ответ, почему мозг пещерного человека не отличается от современного, как и мозг ученого и дикаря, которые, увы, оба, подобно пещерному человеку, не в состоянии использовать все возможности дарованного им природой мозга. А ведь Природа слишком скупа, чтобы наделять живое существо органом, которым оно не в состоянии пользоваться. Вам, конечно, известно, что современные люди в малой доле используют свои десять миллиардов мозговых клеток даже к концу жизни.
— Что вы хотите сказать? — уже серьезно спросила я.
— Между человеком и животным миром Земли нет связующего звена. Человек произошел от обезьяны, но от инопланетной обезьяны, и он ведет свой род на Земле от космических пришельцев, когда-то не смогших вернуться на родную планету, потерявших связь с цивилизацией… Увы, но они не смогли передать даров цивилизации своим одичавшим в чуждых условиях потомкам. Для этого ведь требовалось «образование», школы, библиотеки, индустрия… Всего этого не могло быть у застрявших на чужой планете пришельцев, занятых лишь только тем, как бы выжить. От былого величия своей культуры они передали правнукам лишь могучий мозг, который те не в состоянии были использовать, мозг, способный вместить несметные знания высшей культуры, до которого еще не поднялось ныне человечество в своем повторном восхождении по лестнице цивилизации.
— Что же выходит… наши предки прилетели на Землю? — сказала я, не веря своим ушам.
— Вполне возможно, — без тени сомнения сказала Марта. — И у нас с вами, дорогая, даже сохранилась память предков.
Бредила она или издевалась надо мной?
— Разве вы никогда не ощущали во сне состояния невесомости, разве не парили в воздухе без всяких мускульных усилий? Откуда эта память предков? Ведь мы не произошли от птиц… скорее, мы произошли от тех, кто летал уже в космосе, ощутив незабываемое чувство невесомости, передающееся в виде воспоминания даже потомкам…
— Потомки… марсиан? — сказала я, стараясь вернуть насмешливый тон. — Что же, наши предки были высланы с Марса и не посмели вернуться?
— Кто вам сказал, что они были с Марса? Между Марсом и Юпитером была еще одна планета. От нее остались лишь обломки, расположившиеся теперь кольцом астероидов. Она взорвалась около миллиона лет назад, это планета Фаэтон… Как раз тогда на Земле внезапно появился человек…
— …обладавший шестым чувством фаэтов?
— Почему не предположить, моя дорогая, что наши предки не сотрясали воздух для того, чтобы передавать звуками свои мысли? Они просто и естественно читали мысли друг друга, как это способны и сейчас делать… влюбленные или близкие друг другу.
— Как же они лгали, как скрывали, что-нибудь, как шпионили?
— А им это требовалось? Впрочем, кто знает, почему взорвался Фаэтон. Может быть, цивилизация фаэтов, выходя в космос, познала и атомную энергию, дошла до своего естественного конца, до… ядерных войн, в результате которых взорвались все океаны планеты, содержащие, как известно, самое опасное ядерное горючее — водород.
Я передернула плечами, как от озноба. Гибель цивилизаций космоса. О них когда-то говорил Буров, считая это столь же редким и исключительным, как самоубийство людей.
Марта снова впала в сомнамбулическое состояние. Должно быть, подошел срок связи. Я поймала себя на том, что с волнением смотрю на нее. Я уже не иронизировала, я, кажется, всерьез верила и в телепатическую связь, и в унаследованное от несчастных предков вместе с неиспользуемым мозгом шестое, телепатическое чувство.
Затрещала пишущая машинка. Марта раскачивалась из стороны в сторону и бойко печатала с закрытыми глазами. Я была уверена, что в этот миг кто-то, сидящий в сером оффисе за залитым чернилами столом, печатает те же самые строчки.
От дымящейся сигареты Марты или от выпитого вина кружилась голова и даже слегка подташнивало, как при беременности.
Марта резким движением переводила каретку.
У меня перед глазами плыли дымные круги. Сигарета Марты лежала прямо на дымящейся бумаге.
Я не могла двинуть ни руками, ни ногами, словно усыпленная на расстоянии…
Марта кончила писать.
Вдруг до моего затуманенного сознания дошло, что она должна ведь проверить мое кошмарное видение…
Дедушка! Что с ним? Как я могла говорить о внушенных рисунках и звездных предках, когда дедушка, быть может, умер!
Вцепившись в ручки кресла, подавшись вся вперед, я смотрела на Марту. Она с трудом раскрыла глаза.
— Что? Что? — спросила я хрипло.
— Не знаю… Ничего не знаю, — устало сказала она. — Я только писала… — Обмякнув, она вдруг сползла с кресла на ковер.
Только сейчас я пересилила себя, опустилась на колени и стала приводить ее в чувство. Когда я давала ей воды, зубы ее стучали о край стакана. С трудом я подняла ее и отвела в спальню, уложила в неприбранную с ночи постель, положила на голову мокрое полотенце. Потом вернулась в гостиную, открыла окно. Оттуда вместе с морозным воздухом ворвались клубы пара. Нужно было выветрить запах сигарет Марты.
В моей спальне жалобно пищал Рой. Я хотела броситься к нему, но увидела пишущую машинку с напечатанной страницей.
Рой надрывался. Я не могла пойти к нему, я читала:
«Мистер Кир Сехевс, русский князь Кирилл Шаховской, скончался в своей квартире два часа назад, завещав внучке выполнить его последнюю волю. Во имя идей, которым служил до последнего вздоха, он приказал ей, находящейся на посту, совершить подвиг до конца, ибо именно сейчас в обострившихся условиях надвигающегося ледникового периода будет сломлено последнее сопротивление коммунистов и великий русский народ-богоносец будет возвращен на свой исторический путь…»
Строки плыли перед глазами. Рой кричал.
Выглянула Марта с завязанной полотенцем головой.
— Неужели вы не слышите? — слезливо спросила она.
— Я пойду… я пойду теперь к Бурову, — мрачно сказала я и пошла к Рою.
Глава третья ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Мой кадиллак, как было уславлено, стоят перед баром «Белый карлик».
Босс сказал, что я должен участвовать в щекотливой операции Билла просто как журналист. Репортер ведь на все должен идти!..
Билл был из тех отчаянных парней, которые держат в страхе целые районы Чикаго или Нью-Йорка, навязывая испуганным клиентам свою «отеческую заботу», и если попадают в тюрьму, то лишь за неуплату налога со своих туманных доходов. Он гордился тем, что среди убитых им в перестрелках людей не было ни одного полисмена. Надо думать, что полиция отвечала ему столь же гуманным отношением, ибо к полученным им ножевым и огнестрельным ранам она отношения не имела.
Это был огромного роста сутулый детина, чем-то напоминавший чисто выбритую гориллу. Вместо левой руки у него был протез с железным крючком, который был очень опасен в драке, заменяя стилет. Но сейчас Билл уже не пользовался им, как в юности, а мирно и величаво восседал в своем фешенебельном оффисе в Даун-тауне, пде помещалась его Ассоциация безопасности, решительно навязывая свои услуги частной охраны магазинов и фирм от… молодчиков, получавших задание от него же самого или от его конкурентов. Охрана эта, конечно, оплачивалась по очень высоким ценам, устанавливаемым самим Биллам. Ныне гориллообразный и респектабельный Билл сидел перед аппаратурой диспетчерской связи на вращающемся кресле и отдавал хрипловатым голосам ясные распоряжения своим младшим помощникам, гангстерам и рэкетирам по одной терминологии или доверенным лицам по другой терминологии, более удобной для деловых людей.
Мне предстояло на этот вечер стать одним из таких доверенных лиц. Я знал, на что иду и ради чего…
Конечно, в этом шаге можно увидеть логический конец скользского и горького журналистского пути…
На улицах во всяком случае было достаточно скользко. Люди падали на льду, автомобили заносило при торможении, в завывании весенней вьюги в городских ущельях то и дело слышался визг сирены скорой помощи.
Однако скорая помощь требовалась не только незадачливым пешеходам. Помогать пора было всему человечеству. Дело складывалось скверно. Кончилась весна, скоро май, а снег едва лишь подтаял. Ледяная корка не сходила с земли. Многие верили, что Солнце остывало. О Страшном суде говорили как о ближайших выборах президента. Правительства, консультировавшиеся с благочестивыми советниками «SOS», объявляли свои страны на чрезвычайном положении.
В числе чрезвычайных мер, по крайней мере у нас, была и забота о повышении нравственности, поскольку на Страшный суд надлежало являться в «чистом белье».
Для проверки чистоты этого нравственного белья по инициативе Ральфа Рипплайна у нас со дня на день должна была быть введена полиция нравов. Ждали принятия билля о морали. Но так как в предвидении этого билля некоторые лица, чья мораль показалась бы на Страшном суде сомнительной, могли скрыться, то… позаботиться о них было поручено Биллу, в доверенные лица к которому я и попал.
Я отлично понимал, для чего я понадобился.
Мой кадиллак стоял перед баром «Белый карлик». Я должен был выйти из бара с дамой, которая, конечно, по-прежнему доверяла мне, по возможности напоив ее там «до отказа». Мне поручалось потам бережно усадить ее в машину… и незаметно уступить место за рулем Биллу.
Я мог вернуться в бар и дописывать свой репортаж… о сенсационном похищении мисс Лиз Морган.
Мы сидели с Лиз за стойкой и пили коктейль «Кровавая Мзри», эту дьявольскую помесь томатного сока со спиртом.
— Вспомнили обо мне, Рой? Не забыли, как делала вам предложение за стойкой, хотела выйти за вас замуж?… — спрашивала Лиз, глядя на меня сквозь недопитую рюмку с густо-красной жидкостью.
Лиз переменила прическу и, как всегда при перемене моды, мне это не нравилось. Удивительная вещь эти моды! Казалось бы, они придуманы для вящего обольщения мужчин, но именно им-то они поначалу и не нравятся. Только привыкнешь к платью-балахону или к туфлям с тяжелой, словно свинцовой, подошвой, к копне разноцветных волос на полове, к мертвенному цвету губ, только привыкнешь ко всему этому и женщины начнут тебе правитися даже и в таком виде, как все опять меняется: платья, шляпы, туфли, губы, волосы и даже цвет кожи, неприятно поражая неожиданностью красок, линий и форм… Что поделаешь! Приходится привыкать и к этому. Или я уже начал стареть?…
У Лиз была новая прическа, волосы хитроумно размещались вверху крыльями бабочки, напудренная шея была обнажена, и я заметил на ней тонкие морщины, которые когда-нибудь станут складками. Впрочем, едва ли природа успеет завершить свою разрушительную работу на этом недурном женском теле. Не знаю только, что или кто этому раньше помешает: тускнеющее Солнце или Билл с теми, кто его нанял?
Лиз делала мне предложение за стойкой… Но я сам еще раньше делал такое же предложение Эллен вот за этой самой стойкой бара, который тогда назывался ее «Белым карликом», а как-то иначе…
— К черту, Рой! Я уже больше не лезу за вас замуж. Я уже побывала замужем, черт меня подери!
— С тех пор, Лиз, вы, кажется, не перестаете пить?
— Не кажется ли вам, Рой, что это неплохой и доступный способ отстраниться от всеобщего сумасшествия?
— Вы позволите отвезти вас домой, Лиз?
— Позволю ли я? Я многое могу вам позволить, Рой… Можете везти меня хоть к дьяволу, если у него есть отель греха.
Я поддерживал Лиз под руку, вернее, Лиз попросту повисла на мне.
В таком неустойчивом виде мы выбрались в гардеробную, где смазливая девушка кинулась нас одевать. Лиз никак не могла попасть рукой в рукав манто и в конце концов ограничилась одним рукавом, волоча дорогой мех за собой по полу.
Я сунул девушке доллар на чай и подхватил свою словно борющуюся с призраком даму.
Мы вышли на освещенный подъезд. Снег искрился в лучах электрического света. Дюжий полисмен охранял порядок и благополучие платежеспособных джентльменов, посещающих «Белый карлик».
Мой кадиллак ждал нас.
За лимузином я увидел сутулый гориллообразный силуэт.
Все разыгрывалось, как по нотной партитуре.
Лиз никак не хотела садиться. А может быть, я делал слишком много суетливых и ненужных движений, мешая ей сесть в машину.
Думаю, что полисмен, Билл и его доверенные лица с изумлением смотрели за моими стараниями. Долго ли усадить подвыпившую даму в удобную машину?!
Но я рассудил иначе, и сначала сам залез через сиденье пассажира на шоферское место. Это была совсем не лишняя предосторожность, потому что Билл уже налегал на запертую ручку с наружной стороны, намереваясь сесть на мое место, как было уславлено.
Когда я сед за руль, Лиз без всякой помощи плюхнулась радом со мной. Теперь надлежало вставить ключ зажигания, открыть левую дверцу, посадить вместо себя Билла и идти в бар расписывать ужасы похищения гангстерами прекрасной Лиз.
Но я сыграл не по нотам.
Мотор моего кадиллака взревел.
Билл, вцепившийся крючком протеза в ручку машины, несколько ярдов волочился по обледенелой мостовой, пока протез не слетел с его культи, так и оставшись висеть в виде людоедского украшения на моем кадиллаке.
Послышались выстрелы.
Одна пуля прошла между моей головой и пышной прической Лиз, пробив лобовое стекло.
Через маленькую дырку с сеткой лучевых трещинок со свистом ворвался ветер.
Сзади надрывались полицейские свистки.
— Куда вы гоните, Рой? — совсем трезво спросила Лиз.
— Куда?… Я это не очень отчетливо себе представляю, Лиз. Но вот от кого я вас увожу, это мне более или менее ясно.
— Вот как? — сказала она и присвистнула.
Оказывается, эта дьявольская девчонка играла не хуже меня и все прекрасно заметила. Ей не слишком долго пришлось объяснять обстоятельства дела.
За углом я резко нажал на тормоза, что недопустимо на обледенелой дороге. Но я сделал это, рассчитывая на то, что произошло.
Машину мою занесло, она повернулась вокруг вертикальной оси и сразу же ринулись в обратном направлении к бару.
Мы пролетели мимо гангстеров, садящихся в автомобиль, чтобы гнаться за нами, мы промчались мимо все еще свистевшего полисмена, выбежавшей из бара смазливой гардеробщицы и неизменных зевак…
Никто не мог допустить, что это наш молниеносно вернувшийся автомобиль мчался сейчас мимо них. Ведь номера на нем заботой Билла были залеплены снегом. Мало ли автомобилей снует взад и вперед по ночному Нью-Йорку!
Но я был уверен, что выехать из города нам не так просто. Все кадиллаки будут перехватывать. Уж об этом позаботятся и Билл и… босс.
Но я не мог поступить иначе. Я знал, чем все это грозит Лиз. Я мог бы объяснить свой поступок даже самому боссу.
Ведь билль о морали подготавливался Ральфом Рипплайном. Новый закон, опиравшийся на церковь, не признавал граждайского развода для брака, заключенного в церкви. А это значило, что полиция нравов, когда она начнет действовать, обязана будет силой водворить блудную супругу Лиз к ее требовательному мужу мистеру Ральфу Рипплайну. Об остальном лучше было не задумываться.
Босс считал, что я должен помочь гангстерам, которые безобидно «попридержат» Лиз до начала действий полиции, похитив ее из бара.
Я выполнил задание босса, но без помощи Билла. Я сам похитил Лиз.
Лиз успела все это себе уяснить из нескольких брошенных мною фраз.
— Рой, я всегда считала вас настоящим парнем.
— О’кэй, Лиз! Я хотел бы сделать в жизни хоть одно настоящее дело.
— У вас были шансы получить в затылок настоящую пулю, — сказала Лиз, указывая на дырку в стекле.
— У нас еще есть эти шансы, Лиз, пока мы не переберемся на тот берег Хедсон-ривера.
— Через туннель?
— О нет, Лиз. В туннеле нас легче всего перехватить. Мы хоть один раз используем остывшее Солнце и в летний месяц пересечем Хедсон-ривер по льду.
Мы съехали на лед мореподобной реки в том месте, где прежде стояли паромы.
По-видимому, такого сумасшествия от нас ганстеры и полицейские не ожидали. Как ни остыло бедное Солнце, но все же днем снег таял, с крыш небоскребов свисали огромные сосульки, которые, срываясь, калечили прохожих.
Лед на Хедсон-ришере был шершавый, как бетонное шоссе. Фар из предосторожности я не зажигал…
Лед хрустел, я всем своим существом ощущал, как проседает он под колесами машины. Спасти нас могла только скорость.
Лиз окончательно протрезвела, сидела, молча вцепившись в мою руку.
Я управлял только одной рукой и гнал, как на треке…
Что ж… погибнуть подо льдом? Немного раньше, немного позже… какая разница!
Пьяных, лунатиков и одержимых бережет великий бог исключений. Погибшие под колесами, сорвавшиеся с карнизов или другим способом сломавшие себе голову об этом не повествуют. Поражают удачей только случайно выжившие, воображая, что исключение, под которое они попали, является «законом».
Мы проскочили через Хедсон-ривер по ломающемуся льду вопреки всем законам и взбирались теперь по крутому берегу штата Нью-Джерси.
Хорошую машину, черт возьми, купил я в дни антиядерного кризиса!
Я благословлял начавшуюся метель. Дырка в стекле верещала, как полицейский свисток. Мы уже выбрались на нужное нам шоссе, где совсем не встречалась машин. Мы мчались в белую муть, которую не могли пробить фары.
Начинало светать. Фары скорее мешали, чем помогали. Я выключил их.
Лиз склонилась ко мне, положив голову на мое плечо, и мирно спала.
Это было то самое шоссе, по которому мы с Эллен ехали к отцу на ферму. Интересно, не приревновала ли бы Эллен меня, увидев сейчас здесь в таком виде и в таской компании?
Впрочем, увидеть что-нибудь было невозможно.
Я не знаю, мчался ли кто-нибудь за нами, но я гнал кадиллак так, словно меня уже хватали гориллы за колеса…
Становилось все светлее, и я ощущал, что слепну. Страх охватил меня. Я ничего не видел в снежных рассветных сумерках. Стеклоочистители лихорадочно работали. Я оказался словно в белом мешке. Все вокруг было тускло-бледным, одинаковым, неясным, слившимся в один рыхлый снежный ком, который обнимал и машину, и шоссе, и, наверное, всю нашу несчастную обледеневшую Землю… В снежном обмане конец стерег меня на каждом ярде. Если бы шоссе делало повороты, я бы уже давно оказался в кювете. И вместе с тем убавитьскорость было нельзя. Я вел машину вслепую, полностью потеряв зрение, не отличая в снежной мгле ничего… Меня выручало какое-то неведомое, никем не учтенное чувстао.
Лиз по-прежнему держала меня за руку, и я боялся высвободить ее и, не сбавляя скорости, управлял одной рукой.
Но я все-таки не ослеп. Оказывается, я видел… И я затормозил. Машину занесло, она сделала полный оборот вокруг вертикальной оси, как его было около бара, чудом не свалившись с насыпи, и остановилась.
На шоссе лежали запорошенные снегом тела людей.
Я не решился на них наехать. Я остановился.
Лиз проснулась.
— Что? Приехали или попались? — спокойно спросила она.
Она все-таки была настоящая девушка!
— Надо посмотреть, что тут такое, — сказал я, открывая дверцу.
Только теперь я заметил, что на дверце висит рука Билла с крючком, но снять ее так и не успел.
Из-под колес на меня смотрело мертвое лицо, с которого ветер сдул снег.
Это была индианка, некрасивая, широкоскулая, худая, изможденная… Черные волосы разметались патлами.
Я подошел к другому телу.
Тоже индианка. Она походила на первую, как родная сестра. Мне даже показалось, что я заплутался в белой мути и вернулся к первому трупу. Но та лежала под самыми колесами автомобиля, будто я сшиб ее.
Неподалеку словно ползла по шоссе и притаилась старуха…
Может быть, у этих, теперь замерзших индианок мы с Эллен когда-то покупали смешную сувенирную дрянь. Что купила тогда у них Эллен? Нож для снимания скальпов и тамагавк, которые, конечно, были изготовлены на заводах «Рипплайн-стилл-корпорейшен», туфли с мягкой подошвой, орлиное перо… Она еще горевала, что в продаже не было головного убора вождя… Она хотела носить его в деревне, но носила там косынку, завязанную под подбородком, стиль «а ля рюсс»… Она оказалась русской, и она ушла в Россию совершать подвиг, выполняя клятву, от которой освободил ее старый русский князь, а я… я даже не мог ей дать об этом знать.
Лиз вышла из машины и рассматривала трупы умерших от голода и замерзших людей.
— Здесь недалеко должна быть резервация, — сказал я. — Как-то я хотел посмотреть ее, но не привелось. Но я все равно знаю, что там нет ванн и клозетов.
— Там нет еды, Рой, — сказала Лиз.
Да, конечно, она была права. Еды в резервациях не было! Она вообще исчезала… не только из резерваций.
Конечно, продуктов питания в мире сейчас было нисколько не меньше, чем год назад, ведь новый урожай поспел бы только к осени, но остывшее Солнце основательно влияло на конъюнктуру рынка, как выразились бы у нас в газете. Надежды на новый урожай могли остаться только у людей, потерявших от голода разум. Лед оставался на полях. О севе не могло быть и речи. Все продукты бешено подскочили в цене. Их еще можно было покупать в Нью-Йорке, их выдавали по введенным правительственным карточкам, но… только тем, кто работал на предцриятиях особого правительственного списка. Остальные… на остальных людей запаоав все равно бы не хватило.
Голодные дни антиядерного кризиса казались мне теперь днями благоденствия. Еще бы! Ведь стоя на панели, можно было дождаться миски горохового супа!..
Признаться, я старался не думать об умирающих с голоду, поскольку я сам не попал в их число.
У меня была работа, у меня был босс… А теперь?
Теперь передо мной на шоссе валялись трупы умерших с голоду. И теперь у меня была Лиз, но не было больше работы у босса.
Должен признаться, что размышления — убийственная вещь при отсутствии перспективы. К счастью, багажник моего кадиллака был предусмотрительно до отказа набит продуктами.
Убирая трупы с шоссе, я сказал об этом Лиз.
Мы сели в машину и тихо поехали сквозь белую мглу.
Впереди нам почудилось темное пятно.
Я еще больше сбавил скорость.
На нас надвигалась толпа людей.
Стало светлее, снег перестал идти, и мы могли рассмотреть странную процессию, которая обходила наш стоявший автомобиль.
Мне показалась, что я схожу с ума. Что это? Последствия снежной слепоты? Галлюцинация, видения?!
К нам в машину заглядывали провалами глазниц трупы… Мимо брели скелеты, на которых висели заснеженные тряпки. Мне показалась, что я снова-перенесся в разрушенный атомным взрывам город… и настал день Страшного суда: все покойники, ссохшиеся, полуистлевшие, встали из могил и бредут на последнюю скамью подсудимых.
У Лиз были круглые от ужаса глаза. Ей, наверное, яоже казалось, что она видит процессию вставших из гроба.
Но она сказала:
— Рой, сейчас же откройте дверцу. Это голодный поход… Они умирают с голоду.
Я открыл дверцу, мы вышли.
Жалкие подобия людей окружили нас. Они смотрели на нас жадными глазами, заглядывали в машину. Мне стало жутко.
Появились женщины, которые тащили на себе живые скелетики детей. Они шли в Нью-Йорк за хлебом. Они уже давно ничего не могли купить… Их были тысячи…
Снег перестал идти. Теперь видна была печальная черная процессия завтрашних похорон, которая растянулась по прямолинейному шоссе, уходя за выпуклость холма.
— Надо что-то сделать.
— Надо уехать, — шепнул я, — пока нас… не съели.
Лиз гневно сверкнула глазами, я прикусил язык.
— Откройте багажник, — скомандовала она.
Я сдвинул шляпу и почесал затылок. Не магу сказать, чтобы я долго сопротивлялся. Я просто стал больше уважать Лиз и меньше себя.
Я доставал из багажника продукты, а Лиз тут же отдавала их сначала женщинам и детям, потом всем, кто тянул к нам исхудалые руки с шевелящимися пальцами.
Люди кричали от радости, на глазах у них были слезы. Я был противен Себе за сказанную фразу о том, что они могли нас съесть.
Банки консервов тут же раскрывались, их ели руками, стоя или сидя на снегу. Ели с плачем, с рыданиями…
Подходили все новые толпы живых скелетов.
В багажнике у меня уже ничего не осталось… Через толпу прорывались новые изголодавшиеся люди, они вырывали куски хлеба, пачки печенья, коробки с сухарями у тех, кто раньше завладел ими.
Я шепнул Лиз, что надо сесть в машину. Но она стояла, не шевелясь, смотрела на начавшуюся свалку, прижав кулаки к подбородку.
И тут голодающие стали надвигаться на нас, требуя еды.
Какой-то старик с вылезающими из орбит глазами и седой щетиной на лице кричал громче всех.
Лиз протнула в машину руку и достала свою кожаную сумочку.
Она вынула из нее деньги и стала совать их шевелящимся мертвецам.
Я видел, как вырвали у нее из рук сумочку… Деньги высыпались на шоссе, но никто не поднимал их. Лиз всполошилась, хотела поднять помаду и пудру, но их втоптали в снег. А сумку, кожаную сумку, разорвали на части… и обезумевшие люди тут же пожирали ленточки кожи.
Сумка была съедена.
И тогда нас с Лиз оттолкнули от машины. К сиденьям тянулись скрюченные руки… сверкнул нож…
Великолепная обивка красной тисненой кожи была изрезана, сорвана, съедена…
Я пытался защитить свое добро, но был избит этими слабыми, едва стоящими на ногах скелетами.
Лиз тоже помяли. Я не знаю, почему с нее не содрали ее мехового манто и не съели его.
И крики, вой, плач, завывания.
И когда в машине не осталось ни кусочка кожи, нам позволили сесть на жалкие, вылезшие пружины…
На ободранной, изувеченной машине с незакрывающимся багажником, крышку которого помяли, когда очищали ею содержимое, мы тихо двинулись через голодную толпу.
Скелеты медленно брели мимо нас, держась друг за друга. Эти ничего не знали, они не ели ни наших продуктов, ни сумочки Лиз, ни обивки кадиллака. Они шли без надежды, гонимые мукой голода, шли в город, где могут быть магазины, где были когда-то магазины.
Лиз плакала.
Черт меня возьми, я тоже не мог совладать с собой.
Глава четвертая ЛЕДЯНОЙ ШАР
У невысокой скалы с косыми слоями, срез которых огибала снежная дорога, я узнал свое любимое место и остановил изувеченный кадиллак.
И у меня и у Лиз затекли ноги. Почти сутки мы были в пути. Кроме того, я предложил Лиз воспользоваться крутым поворотом шоссе у скалы, поскольку природа не предоставила нам большего комфорта.
Уже темнело. С горьким чувством я смотрел на снежное поле внизу. Здесь когда-то было зеленое море кукурузы. Оно всегда служило мне символом американского благополучия: откормленный скот, молоко, масло, консервы, мука, экспорт, текущие счета и поджаренные початки, которые я так любил еще в детстве и которые с таким аппетитом мы уплетали с Эллен на ферме у отца…
Теперь перед глазами в сумеречном свете вечера расстилалось безбрежное мертвое снежное море. Прежде в это время здесь заканчивался сев. Вырастет ли здесь еще когда-нибудь кукуруза?…
Вернулась Лиз, посвежевшая, умывшаяся снегом.
— Я в отчаянии, — сказала она, — у меня не осталось ни пудры, ни помады. Я, вероятно, ужасно выгляжу.
Я усмехнулся:
— А я в отчаянии от этой чертовой пудры, которая покрыла отцовские поля. Они действительно ужасно выгладят.
— Как? Ферма уже так близко?
Я кивнул головой.
Лиз оглянулась на машину, осмотрела мою оборванную одежду. Ее наряд был не лучше. Манто, оказывается, все-таки порвали живые скелеты…
— Я не магу в таком виде показаться вашим родителям, — сказала Лиз.
Я махнул было рукой, но она строго посмотрела на меня:
— Как выглядит ваша машина!.. Вы обязаны завтра утрам заняться ею, надеть хотя бы чехлы на эти гнусные пружины, выправить багажник.
— Утром? — устало спросил я. — Так не лучше ли это сделать на дворе фермы, в гараже?
Лиз решительно замотала головой.
— Нет, — сказала она. — Мы не можем явиться туда, как побитые собаки. Рой, вы не сделаете отого! Будьте мужчиной.
Я не переставал удивляться Лиз. Она вечно ставила меня в туник. Было решено, что мы переночуем в машине.
Мы съехали вниз к тому месту, где мы с Эллен прятались в кукурузных джунглях и где я собирался защищать ее от леопардов, аллигаторов и анаконд. Сейчас мне предстояло защищать Лиз от зверей пострашнее.
Я остановил автомобиль на обочине. Спинка переднего сиденья машины откидывалась и получался матрас двуспального ложа. Надо ли говорить, что вылезшие пружины не делали его особенно приятным. Я не знал еще, чем мне удастся утрем прикрыть эти вывороченные машинные внутренности. Однако утро светлее вечера во всех отношениях. Я чувствовал себя разбитым и дорого бы дал за теплую постель в мотеле.
Лиз принялась устраивать наше ложе с помощью своего манто и всего, что попадалось ей иод руку.
Укрылись мы моим пальто, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть.
Это была неспокойная, но целомудренная ночь. Я несколько раз просыпался, чувствовал трогательное мерное дыхание Лиз, прислушивался к завыванию ночной метели и снова засыпал…
Погони не было, очевидно, мы затерялись в снежном просторе, если нас искали, то в гостиницах. Я снова просыпался, прислушивался. Мне хотелось повернуться, но я считал это неучтивым.
Лиз уютно устроилась на моем плече. Теперь я даже боялся пошевелиться и в конце концов уснул.
Проснулся от ощущения, что кто-то смотрит на меня.
Я открыл глаза, вздрогнул и сразу разбудил Лиз. Мы оба сели, виновато озираясь.
Через лобовое стекло, протерев снаружи его от снега, на нас смотрела знакомая мне веснушчатая рожица моего Тома. Он накрыл нас здесь, лежащих в объятиях друг друга.
Он не скакал на одной ноге, не кричал озорным голосом: «Э-э-э! Как не стыдно! Голубочки, любовники! Кошки на крыше!..» Он только печально и осуждающе смотрел на меня, сразу узнав, что со мной не Эллен.
Я, наверное, покраснел, как баптистский проповедник, уличенный в краже дамских панталон.
— Кто это? — возмутилась Лиз, поворачивая к себе зеркало заднего обзора, чтобы привести в порядок волосы. Они уже не лежали у нее, как крылья бабочки, а скорее напоминали прическу недавней моды, заимствованной у пещерного века.
— Это Том… Мой племянник, Том, — пробормотал я.
— Так представьте меня ему, — сказала Лиз и улыбнулась мальчишке.
Том скривился в гримасе. Я открыл дверцу:
— Хэлло, Том! — сказал я. — Это Лиз… моя жена.
Лиз быстро взглянула на меня.
Том оторопело уставился на нас. Потом по всем правилам этикета шаркнул ножкой:
— Простите, дядя Рой, я совсем не думал… Дедушка подпрыгнет до потолка. Мы совсем не ждали. Позвольте вас поздравить, миссис Бредли.
Лиз мило протянула мальчику руку:
— Мы будем друзьями, не правда ли, Том? В особенности, когда я действительно выйду замуж за Роя, — и она рассменлась.
Том посмотрел на меня, на нее и тоже рассмеялся.
Потом он заинтересовался увечьями, нанесенными моему кадиллаку.
Лиз была удивительно настойчива, и мы втроем кое-как привели машину в относительный порядок, использовав чехол запасного колеса, который Лиз ловко перекроила. Теперь хоть не видно было проклятых пружин, которые всю ночь впивались мне в бок.
Делая вид, что непринужденно веселы, мы поехали на ферму.
Мои пораженные старики обрадовались мне, но Лиз встретили недоуменно.
Мать, оказывается, была очень истощена и не вставала с постели.
Сестра Джен с плохо скрываемым торжеством рассматривала изорванное дорогое манто Лиз.
Мы все собрались около материнской кровати. Я не хотел делать из чего-нибудь секрет. Я рассказал, почему Лиз здесь, правда, не уточнив ее родословной.
Мой старик покачал седой, словно облинявшей, головой:
— Полиция нравов. Это нехорошо. Этим можно было бы возмущаться, если бы… Ты знаешь, Рой… Я совершенно разорен. У меня были подготовлены семена, но я не смог их использовать. Ты видишь, поля покрыты ледяной коркой.
— Это новые ледники, мистер Бредли, — сказала Лиз.
Старик не понял.
— Ледяная корка на полях, — стал он дотошно объяснять. — Я уж думал, нельзя ли посеять все-таки. Пытался вспахать обледенелую землю, сломать ледяную корку. У меня ничего не вышло, Рой. Вот, может быть, теперь, вместе с тобой?. Иначе я совсем разорюсь, Рой…
Бедный старик, несчастный фермер, он не видел дальше принадлежавшего ему, уже несколько раз заложенного и перезаложенного участка… Он горевал о своем разорении, не в состоянии объять мыслью весь обледенелый мир, скованный новым ледниковым периодом.
Настало время второго завтрака. Отец виновато посмотрел на меня:
— Надеюсь, Рой, ты приехал не с пустыми руками?
Джен засуетилась.
— Я могу сбегать к багажнику, — предложила она, накидывая на себя пальто. — Пора готовить ленч.
Мы с Лиз переглянулись.
— Он не дает кукурузы. Бережет на семена, — сказала мать, не то извиняясь, не то жалуясь, и посмотрела на мрачного отца.
Отец отвернулся, чтобы не встретиться со мной глазами.
А я был рад этому. Я тоже не мог смотреть на него. Я сделал знак Джен, и она, удивленная, успевшая надеть пальто, стала раздеваться.
— Нам слишком быстро пришлось уехать из Нью-Йорка, — сказал я, оправдываясь. Любопытно, что я не смел сознаться в единственном приличном поступке, который совершил в жизни, я не мог сказать, что мы с Лиз отдали все продукты голодающим.
Мать встала с постели, несмотря на общие протесты, принялась хлопотать, хотя Лиз уверяла, что мы с ней совершенно не голодны и последний раз великолепно поели в мотеле, где ночевали…
Отец сумрачно смотрел на нее.
И вдруг в дом ворвался Том.
Оказывается, он удирал из дому и носился на мотоцикле по окрестностям.
— Полиция! Полиция! — кричал он, круглыми глазами смотря на меня. — У тебя есть револьвер, дядя Рой? У нас есть дедушкин кольт и охотничье ружье. Мы будем отстреливаться, дадим бой, как индейцам!.
Отец сел за стол и опустил на руки голову.
Полиция! — в отчаянии сказал он. — Я еще вчера слышал, что билль о морали подписан президентом. Полиция нравов рыщет по вашему следу.
— Не беспокойтесь, — сказала Лиз. — Ведь у вас есть револьвер, Рой? Или просить у вашего отца?
— Боюсь, что огневая мощь нашего укрепления будет недостаточна, — усмехнулся я.
— Не беспокойтесь, — повторила Лиз. — Дайте мне оружие.
— Вы можете попасть в апельсин на лету? — осведомился я.
— Нет, я просто застрелюсь, — спокойно ответила Лиз.
Мы с отцом переглянулись. Он спрашивал глазами. Я кивнул головой. Я знал, что она может это сделать. Отец встал.
— Вот что. Пока мать готовит кукурузные блюда из семян, Том должен привезти соседа Картера.
— Он еще не продал своей фермы? — осведомился я. Том бросился к дверям, ожидая последнего распоряжения.
— Он глава нашей общины «искренних евангелистов». Вам придется стать такими же…
— Эта секта прощает самоубийство? — осведомилась Лиз.
— Нет. Просто Картер, как представитель одной из христианских церквей, обвенчает вас. Тогда…
Лиз и Джен захлопотали. Сестра увела ее к себе наверх, чтобы примерить подвенечное платье.
Отец принес мне виски, и я мрачно пил, отгоняя лезущие ко мне мысли.
Мать, еле волоча ноги, накрывала торжественный стол, на который нечего было подать.
Том привез взъерошенного Картера.
— Мир этому дому, — прогнусавил он, простирая руку. — Хэлло, Рой, — сказал он обыкновенным голосом и, шаркая ногами и улыбаясь бабьим лицом, пошел ко мне для рукопожатия.
— Хэлло, Картер! Надо карьером обкрутить одну парочку, чтобы утереть нос полиции, — решительно сказал отец, сжимая свои огромные натруженные кулаки.
Картер оглянулся, ища невесту. Потом, чуть согнувшись в длинной спине, стал потирать руки, хихикая:
— Утереть нос полиции? Я уже утер ей нос, когда она явилась конфисковать за дол-га мой урожай на полях… увы, покрытых льдом.
Вошла Лиз.
Конечно, это была дурацкая выдумка Джен, за что-то мстившей мне. Она нарядила Лиз в свое венчальное платье с фатой. Я готов был плюнуть от злости.
— О’кэй, мисс, мисс… Как жы поживаете, мисс?.
— Мисс Морган, сэр, — сказала Лиз.
Отец удивленно посмотрел на меня.
Ведь мы с Лиз и словом не обмолвились, из какой она семьи.
Мой несчастный старик засуетился. Боже мой! Он, — наверное, думал, что как-нибудь отсрочит разорение с помощью моей нелепой женитьбы… что на будущий год лето будет нормальным… Я не знал, что будет на будущий год… С меня вполне хватало событий этого года.
Лиз показалась бы мне очаровательной, если бы я всеми клетками своего неуклюжего тела и всеми дыминками моего невезучего духа не так ненавидел ее…
Но у меня не было выхода. Только придуманный отцом план мог спасти Лиз.
— Хэлло, Картер, захватили ли вы какую-нибудь там книгу, кроме Библии? — беспокоился старик.
— Я надеялся найти Библию у вас, но я захватил свою канцелярию шерифа, — сказал Картер, умильно гладя на Лиз. — Никогда еще я не венчал столь красивых леди, — добавил он. — Вы позволите начать?
— Если уже не поздно, — буркнул я, глядя в окно. Вдали на дороге виднелись автомобили и мотоциклы.
— Полиция! — крикнул Том, вбегая в комнату с ружьем.
— Приступим, леди и джентльмены, — гнусавым голосом пригласил Картер.
Хорошо, что все процедуры у секты Картера были упрощенными. И хорошо, что этот чертенок Том был так сообразителен, что вытащил трактор и комбайн, поставив их поперек дороги почти в миле от фермы.
Полицейским пришлось идти к ферме пешком.
За это время проповедник, он же шериф, Картер успел принять нас с Лиз в свою дурацкую секту и обвенчать сразу церковным и гражданским браком.
Мы надели обручальные кольца — они тоже нашлись у Джен. Потом мы расписались на какой-то гербовой бумаге.
Картер торжественно приложил к ней печать.
Перед Богом и людьми мы были теперь мужем и женой, черт бы всех побрал!..
Первым на ферму ворвался сутулый верзила. Он в бешенстве вращал глазами, а был настроен отнюдь не миролюбиво. Я понял, что теперь — мой выход.
— Не сообщите ли вы нам, сэр, чем все присутствующие обязаны неприятности видеть вас?
Билл хмыкнул и отступил. Вошел запыхавшийся полицейский и поднял руку:
— Именем Федерального правительства! Кто здесь будет миссис Элизабет Рипплайн, жена мистера Ральфа Рипплайна?
— О’кэй, сэр! Такой здесь нет. Позвольте представить вас, мистер… мистер…
— Комиссар Зейс к вашим услугам.
— Позвольте представить вас, комиссар Зейс, моей супруге миссис Элизабет Бредли, одно время побывавшей замужем за мистером Ральфом Ршгплайном.
— Не болтайте чепухи, — прорычал Зейс.
— Нет, почему же чепуха, господин комиссар? Я бы хотел, чтобы вы вместе с директором-распорядителем Ассоциации безопасности убедились, что моя жена только что сочеталась со мной законным браком, освященным религией. К сожалению, шампанское уже выпито.
— Прошу вас, сэр, — гнусавым голосом вмешался Картер, протягивая комиссару полиции нравов свежеиспеченный им документ.
— Черт возьми! — сказал Зейс, читая бумагу.
— Я просил бы вас, сэр! Я слуга церкви, — почтительно напомнил Картер.
Комиссар Зейс посмотрел на Билла. Тот яростно сжимал свой огромный кулак.
— Заберем их, — предложил он.
— Вы ее имеете права этого делать, как представители полиции нравов, — сказал я, подбрасывая на ладони револьвер.
Полицейский перевел свой взгляд с меня на Картера.
Служитель церкви рассматривал огромный ковбойский кольт, который, оказывается, висел у него сбоку.
И совершенно такой же громоздкий старомодный кольт, словно свалившись с дешевого киноэкрана, был и в руке отца.
Комиссар Зейс круто повернулся к двери.
— Здесь мне делать нечего, — заявил он.
Они вышли и зашагали по шоссе.
Атака была отбита, но…
Там, где не сможет действовать полиция нравов, будет действовать Ассоциация безопасности.
На ночь мы забаррикадировали все входы в дом. Передвинули шкафы, столы, забили досками оконные проемы.
Можно было ждать всего.
Я положил свой револьвер под подушку. Я ночевал в комнатушке Тома, в той самой комнатушке, которая оказалась запертой ночью, когда в ней спала Эллен.
Я вспомнил об этом и тоже закрылся на крючок. Я почти боялся, что… дверь эту попробуют открыть. Нет! Не гангстеры, конечно…
Джен уступила Лиз свою комнату на втором этаже. Комнатушка Тома была на чердаке.
Я поднялся по дьявольски скрипучей лестнице.
Пожелав мне спокойной ночи, Лиз сказала, что никогда не забудет того, что сделала для нее моя семья.
Я думал об этом перед тем как заснуть. И я думал об Эллен. Она бы меня поняла… Потом все устроится… Лишь бы этот проклятый лед… Иначе и устраивать незачем…
На меня наплыли белые снежные сумерки. И я тихо взмыл в воздух, словно потерял вес. Так со мной бывало только в детстве.
Я блаженно уснул.
И вдруг проснулся, просунул руку под подушку и сжал револьвер.
Дверь в каморку пытались открыть совсем так, как я пытался сделать это тем летом…
Пристыженный, я тогда ушел а сейчас… Я слишком поздно понял, что произошло. Шпилька, обыкновенная дамская шпилька, которая удерживала великолепную прическу с крыльями бабочки, эта шпилька оказалась достаточной, чтобы снять крючок с петли.
И она вошла ко мне… Кто? Моя законная жена… перед Боком и людьми, но только не перед моей совестью!..
Уж лучше бы это был Билл! Я по крайней мере знал бы, что делать…
Во сне я взлетел в снежное небо. Наяву я пал, низко пал… как только может пасть мужчина… в свою «брачную ночь».
Утром… утром она встала счастливая. Я никогда не думал, что Лиз может быть такой радостной, такой красивой!..
Но я не мог смотреть на нее, я опускал глаза, я был противен сам себе, я ненавидел себя! В Прекрасные Иосифы я безусловно не годился… Я обзывал себя павианом и двоеженцем…
Лиз стояла у окна, распустив волосы, и изредка оглядывалась на меня счастливыми глазами.
— Милый, я назову нашего сына Роем, — сказала она.
Я готов был кусать подушку, рвать простыни, разбить свою голову о стену.
…В этот день в сумерки, крадучись, пешком, бросив свой автомобиль, мы пробрались с Лиз на ближний железнодорожный полустанок.
Там не было пассажиров, кроме нас. Никто нас и не провожал.
Прощаясь, Том сунул мне холодный апельсин.
Стоял морозный июньский вечер. Электрические фонари были словно окутаны светящимися шарами.
Я передал Лиз апельсин.
— Можешь ты подбросить его? — спросил я.
— Может быть, положить на голову? — спросила она. Она была очень умна.
— Нет. Просто подбросить. Мне хотелось бы попасть в него на лету.
— Он совсем смерзся, как стекляшка, — сказала Лиз и подбросила апельсин.
Я выстрелил. Апельсин упал на перрон. Что-то звякнуло.
Мы с Лиз подбежали к нему.
Нет, я не попал. Апельсин был подобен кусочку льда… каким станет скоро весь Земной шар.
Мы сели в поезд и поехали, сами не зная куда.
Глава пятая «ЯДРО ГАЛАКТИКИ»
Апрель, первого года обледенения…
…В каменную щель смогла пролезть только я одна. Мне было страшно, но я знала, что это нужно. Ведь ради этого я и оказалась под землей, настояла, чтобы меня взяли с собой. И я, не задумываясь, полезла, освещая электрическим фонариком готовые придавить меня каменные глыбы, едва сдерживающие тяжесть полукилометровой толщи. Но об этом нельзя было думать. Я извивалась, как змейка, и проползала все дальше и дальше. Камни были влажные и скользкие. Не знаю, смогла бы я вылезти обратно? Повернуться было невозможно, а при движении вперед приходилось расчищать перед собой путь, отбрасывать мелкие камни назад, отталкивать их ногами, загромождая щель. Отступления не было…
Именно с этого мгновения мне хочется продолжать свой дневник…
Я ползла вперед. Буров и Елена Кирилловна остались ждать в последней пещере, до которой мы добрались за двое суток, проведенных под землей. Дальше идти было некуда, но Буров заметил щель и посмотрел на меня.
Я была тоньше Елены Кирилловны, как бы хорошо она ни была сложена. Только мне удалось бы пролезть в эту щелку. И я, умирая от страха, поползла…
Мой фонарик освещал мрачные черные камни, которых никогда не касался человек. Но тогда я об этом не думала, разгребая каменные завалы, и лишь жалела, что ломаю себе ногти.
Два раза я отдыхала, погасив фонарик и закрыв глаза. Один раз разговаривала с Буровым по телефону. Он сказал, что они расширяют вход в щель. Я слышала позади удары его кирки. Другой раз я слушала музыку из Москвы. У меня с собой был мой любимый транзисторный приемник, умещавшийся в брошке.
Не могла же щель упереться в стену!.. Ведь здесь протекал когда-то ручеек!
Я упрямо ползла вперед. Освещенные камни влажно поблескивали… И вдруг свет фонаря словно провалился куда-то вперед. В первый момент я ничего не поняла, решила, что фонарь погас, стала щелкать выключателем, испугалась… Потом у меня дух захватило совсем от другого. Предо мной была пустота.
Я высунулась из щели, не рискуя выбраться совсем, и ощутила перед собой громадное темное пространство, в котором тонул жидкий лучик моего фонарика.
В телефоне слышался тревожный голос Бурова. Прежде чем ответить ему, я вытащила осветительный патрон и засунула его в ракетницу, которую уже сжимала в руке.
Яркая полоса метнулась вверх. Я зажмурилась, потом жадно открыла глаза.
Ракета шипела где-то вверху. Вправо и влево раздвинулись бородатые из-за волнистых каменных прядей стены подземной бездны, так не похожей на бездну Бурова, этот вертикальный колодец, по которому мы спускались сюда на нейлоновых лестницах.
Блики на влажном полу пещеры тревожно разбегались. Вслед за ними двигались тени от каменных кипарисов, острых минаретов и колонн недостроенных храмов, тянувшихся вверх. А навстречу им, кое-где срастаясь с собственным, отлитым из камня зеркальным изображением, с мохнатого, едва уловимого в высоте игольчатого свода свисали каменные сосульки сталактитов. Они напоминали то исполинский орган, то окаменелые смерчи, то рыцарские замки со стенами, башнями и подъемными мостами…
Бурова, конечно, интересовали прежде всего размеры подземного зала. Я выпустила еще три осветительные ракеты, но противоположной стены так и не рассмотрела. Пещера могла тянуться на километры. Это было как раз то, что искал Буров!
Дрожащим голосом я доложила ему о том, что увидела.
Он сказал:
— Ну, Люд, считай, что на свете есть теперь пещера Люды!
Нет, я не хотела, чтобы пещера носила мое имя, хотя так принято у спелеологов, исследователей пещер.
Я не стала возвращаться. Бурову не терпелось. Его спутники, опытные спелеологи, принялись расширять щель, по которой я прилезла сюда.
Выход из щели был на высоте двух моих ростов от пола пещеры. Смешно, но я долго не решалась спрыгнуть с этой высоты. Не потому, что я боялась ушибиться, а потому, что не могла бы забраться обратно.
Потом я сидела на мокром камне внизу, заставляя зайчик моего фонаря бегать по причудливым сталактитам и сталагмитам, и слушала музыку падающих капель. Где-то журчала вода.
Говорят, под землей люди теряют представление о времени. Оказывается, спелеологи продвигались ко мне шесть часов, а мне показалось, что я просидела одна в пещере только минут двадцать…
Спелеологи назвали эту пещеру «пещерой Росова» в честь папы.
Сидя одна под землей, я размышляла о грандиозном плане Бурова.
Страшные дни Земли после гибели моего папы и потускнения Солнца стали для меня — стыдно подумать! — счастливейшими днями жизни.
Елена Кирилловна отказалась от дальнейшей работы с Буровым, я стала единственной его помощницей. Он оказался прав со своей «безумной гипотезой», как называл ее Ладнов. Солнце потускнело. Возможно, на нем происходили именно угаданные Буровым реакции превращения вещества в протовещество. Я долго не понимала физической сущности такого явления, пока не придумала сама для себя вульгарных аналогий. Мне пришлось зарыться в книги по астрономии и астрофизике. Разные авторы по-разному представляли историю возникновения звезд и галактик. Некоторые считали, что звезды и их скопления образовались в результате сгущения рассеянного в пространстве вещества. Но это не объясняло особенностей звездообразования. Пришлось допустить, что галактики, состоящие из миллиардов звезд, возникли в результате распада, как бы «испарения» какого-то дозвездного тела непостижимой плотности, где ядра и оболочки атомов находились в таком сжатом состоянии, когда масса галактик умещалась в объеме ничтожной планетки.
Ученые ужаснутся, но я представила это себе в виде выдуманного мной «атомного первольда», который может вдруг испариться, образовав облако паров, где каждая молекула — звезда…
Чтобы представить себе такое сверхтвердое состояние «атомного первольда», я воображала существование некоего сковывающего этот «атомный лед» начала. Когда оно по какой-то причине ослабевало, из «атомного первольда» с чудовищной силой вырывалось струей «паров» вещество, образуя звезды и туманности. При этом выделялась несметная энергия.
Процесс этот продолжается и после образования галактик. В их центрах всегда существует ядро из «атомного первольда», все время выбрасывающее, как видно из множества фотографий, исполинскую струю вновь возникающего вещества, сгущающегося в звезды…
«Перволед» в незримых количествах мог сохраниться в любой звезде, даже на остывшей планете.
Буров предположил, что открытая им «Б-субстанция» является не чем иным, как свойством «атомного первольда». Это свойство выражается в способности поглощения нейтронов и концентрации вещества в состояние первоматерии, в «перволед».
Когда в ядре галактики происходит «испарение первольда», «Б-субстанция» побеждается противоположным началом, «А-субстанцией». Представив себе этот механизм, Буров решил создать в лабораторных условиях модель «Ядра галактики», для этого с помощью «Б-субстанции» сгустить вещество в «перволед», а потом найти способ его освобождения, испарения, то есть обнаружить «А-субстанцию», чтобы использовать ее для излечения Солнца от появившихся на нем язв.
Первоначально ему хотел в этом помочь Ладнов, который по-прежнему был влюблен в меня и искал со мной встреч. Я обычно избегала их, но однажды согласилась, чтобы узнать вое о плане Бурова. Мы пошли с ним по лесу на лыжах от кольцевой автодороги в сторону Барвихи.
Ладнов заявил мне, что все рассчитал и убедился в полной невозможности осуществить «бредни протоманьяка»… Я сказала ему, что тотчас уйду, если он будет так называть Сергея Андреевича. Он пообещал быть сдержанным и объяснил, что невозможно провести «Великое короткое замыкание», чтобы на миг создать необходимую Бурову мощность. Это потребовало бы вывода из строя всех энергосетей и электрических станций мира, пришлось бы остановить все заводы, железные дороги, погрузить города во тьму, отбросить мир в энергетическое варварство средневековья… Кроме того, проведение задуманного опыта могло бы повести к гибели всего живого на планете, так как невозможно предусмотреть последствий. Ладнов сказал, что ничто не может помочь Бурову, даже его «сенсационный авторитет» после Лондонского конгресса и присуждения ему Ленинской и Нобелевской премий, от денежной части которых Буров отказался в пользу страдающих от обледенения планеты. Сейчас даже нельзя рассматривать предложений Бурова, потому что академик Овесян выдвинул реальный и обещающий план борьбы с обледенением Земли. Он предложил немедленно использовать опыт работы в Арктике «Подводного солнца», построенного на синтезе водорода морской воды в гелий, и соорудить на всех побережьях подобные установки, зажечь десяток тысяч «Подводных солнц», компенсировав ими недостающее тепло меркнущего Солнца.
Этот план получил название плана «Подводных созвездий».
Вернувшись с лыжной прогулки, я спросила Бурова, что он думает об этом плане.
Буров, всегда сдержанный, взорвался. Он сказал, что план Овесяна — капитуляция перед Природой, приспособление к ее изменениям, а не ее исправление.
— Что будут делать наши потомки, когда Солнце еще больше потускнеет и когда будут сожжены все океаны на Земле? — спросил он.
Потом он признался мне, что пока не вступает в открытый бой с Овесяном. Нужно доказать практическую выполнимость модели «Ядра галактики», найти место, где ее можно создать, а вот тогда…
После конфликта из-за его «дикого мнения» Буров ушел из института Овесяна и работал сейчас в одном из второстепенных физических институтов. Само собой разумеется, что я пошла туда за ним следом, даже не спросив у мамы разрешения. Правда, мама не протестовала… Я была все это время подле него. И я была счастлива.
Руководил этим институтом очень широко мысливший ученый, сразу оценивший приход к нему Бурова. Он предоставил новому сотруднику полную свободу действий, однако возможности института были не по буровским масштабам. Сергею Андреевичу нужно было место для «Ядра галактики». И он вспомнил о своем былом увлечении спелеологией, исследованием пещер. В нем проснулся, как он говорил, «зов бездны», и он устремился на Кавказ, где когда-то при его участии были обнаружены обширные горные полости. Буров сам открыл там подземную пропасть, получившую название бездны Бурова, глубиной в пятьсот шестьдесят метров. В нее спускались на нейлоновых лестницах. Во время спуска погиб один из исследователей, учитель из Читы. Его тело поднимали на веревках. Это несчастье сорвало экспедицию, и «бездна Бурова» так и осталась неисследованиой.
Теперь Буров задумал создать на ее дне модель «Ядра галактики». Группа спелеологов, Буров и я с ним вылетели в Сочи.
Замерзшее впервые Черное море напоминало Арктические проливы.
Из-за гололедицы автомашина еле тащилась по шоссе. Горько было смотреть на заснеженные пальмы с пожухлыми листьями. За бурыми свечками облезших кипарисов на снегу виднелись кабинки пляжа. У самого берега в зеленоватой воде плавали почерневшие льдины. Оторвался припай. Дальше простирались ровные ледяные поля с темными пятнами разводий.
И это Сочи в апреле! С крыш беломраморных санаториев сбрасывали снег…
Здесь нас ждали спелеологи…
Я никого не могла рассмотреть, машинально знакомилась со всеми, лишенная дара речи… Я видела только ее, свою бывшую русалку, Елену Кирилловну, каким-то чудом оказавшуюся здесь…
Видите ли, она передумала, она решила снова работать с Буровым! И он не отказался!.. Он принял ее в экспедацию…
Я не могла прийти в себя. А ведь нужно было не выдать себя. Мы даже расцеловались. И она сказала:
— Ты меня совсем разлюбил, мой Лю.
Что она могла знать о том, кого я разлюбила и кого полюбила!.. На ее лице, конечно, тоже ничего нельзя было прочесть! Все такая же загадочная русалка с глазами цвета тины…
К бездне Бурова наша экспедиция была доставлена на вертолете. Они устроились рядом, а я отсела от них на самое заднее сиденье и смотрела вниз на заснеженные горы.
Потом мы спускались в бездонную пропасть на нейлоновых лестницах. Кто рискнул это сделать, может уже больше ничего на свете не бояться. Полкилометра веревочных лестниц, тысяча шестьсот восемьдесят гибких перекладин, тысяча шестьсот восемьдесят движений, когда нога робко нащупывает в темноте мягкую ступеньку… А ведь по этим лестницам предстояло еще подняться. Хватит ли сил? Но подниматься надо будет к свету, к солнцу, к жизни!.. А спускались мы в темноту, где все было неизвестно, откуда только раз подняли тело смельчака-учителя…
А потом мы двое суток бродили по подземным пещерам, пока не дошли до последнего зала с узкой щелью, ведшей дальше… в открытую потом мною пещеру Росова.
Спелеологи вместе с Буровым и Еленой Кирилловной пробились в эту пещеру, цепочкой проползли по расширенной щели, спрыгнули вниз ко мне, а я уже чувствовала себя здесь хозяйкой.
Пещеру осветили переносными прожекторами. Я ревниво следила за впечатлением, произведенным на Бурова моей сказочной пещерой. Я гордилась ею.
Буров сжимал меня в объятиях, благодарил. Он даже поцеловал меня!.. И Елена Кирилловна видела!..
Потом он, освещенный прожекторами, скрестив руки на груди, сказал:
— Здесь под землей будет город заложен!..
Могучая его фигура отбрасывала на стену со струящимися каменными потоками гигантскую тень.
Я могла бы представить его тень, отброшенную на звездное небо.
И он уже отдавал приказания будущим подрывникам — снести все минареты, колонны и кипарисы, проложить вместо трещины широкий туннель, расширить колодец бездны Бурова, чтобы по нему могли спускаться вертолеты!..
Но подрывников пока не было.
Мы вернулись в Москву.
Буров решил действовать в обход Овесяна, сразу ставить вопрос о «Ядре галактики» в высшей инстанции. В новом институте у нас не было лаборатории. Буров еще не производил экспериментов, все это время он только придумывал свое «Ярдо галактики». Мы занимали с ним вдвоем небольшую комнату, я старалась не дышать, когда он думал, угадывала каждое его желание, бегала на электронно-вычислительный центр, чтобы сделать очередную прикидку, или просила разрешения у физиков-теоретиков, чтобы Буров пришел к ним. Но они сами спешили к нему.
Я безгранично верила в него: у этого полководца еще не было армии, но незримое войско его уже выстраивалось за стенами блиндажа.
Я была счастлива в это время. Я была бы счастлива и сейчас, если бы Елена Кирилловна не вторглась к нам. Комната была рассчитана только на два стола, и она бесцеремонно заняла мой. Я ютилась в уголочке.
Буров ничего не замечал. Он разрабатывал стратегию боевых действий. Добиться права на эксперимент — это завершить его первую стадию, иногда самую трудную, считал он.
Приближались решающие дни. Однажды Бурова срочно пригласил к себе директор института профессор Бирюков. Он никогда не вызывал к себе Сергея Андреевича, слишком высоко его ценя, он сам всегда приходил к нему. Мы с Еленой Кирилловной понимающе переглянулись.
Буров ушел и скоро вернулся. Лицо его потемнело.
— Он здесь, он с Бирюковым идет сюда. Это он вызвал меня.
Нам не надо было объяснять, о ком шла речь. Буров нервно прибрал на своем столе.
Скоро в нашу комнату ворвался Овесян. Бирюков, невысокий, толстый, вошел следом за ним.
— Ага! Вот где штаб заговорщиков! — воскликнул Амас Иосифович, кивая нам с Еленой Кирилловной.
Мы в нерешительности встали, не зная, можно ли нам оставаться.
Вошел Ладнов. Он тоже был тут!..
— Сесть всем некуда, так что проведем нашу встречу а-ля фурше, — смеясь, сказал Овесян. — Не смотрите на меня исподлобья, как разбойник на воеводу, — обратился он к Бурову. — Я знаю все, о чем вы думаете. Вот пришел, дескать, чтобы придавить научных раскольников в их гнезде. Можете ничего не рассказывать. Я все знаю. Ладнов выдал вас с головой, показал мне все ваши расчеты.
— Признателен, — мрачно отозвался Буров.
— Я знаю, что вы хотели обойтись без меня, без обсуждения у нас вашего замысла, снова построенного на гипотезах. Я знаю, что вы видите во мне даже не противника, а врага…
— Амас Иосифович, — вмешался румяный Бирюков, вытирая платком лицо, — нельзя же так.
— Что нельзя? Откровенно нельзя?
— Нет… Стоя нельзя… Я сейчас попрошу принести стулья… Лучше бы ко мне пройти…
— Ничего, братья-разбойники! Мы сядем на столы, — и Овесян первым подал пример, взгромоздясь на наш с Еленой Кирилловной стол.
Я подвинула стул Бирюкову, сами мы с Еленой Кирилловной уселись на один стул. Ладнов завладел буровским креслом, а Буров устроился на столе напротив Овесяна. Поединок начинался.
— Допускаю, что существовали ученые, которые во имя собственного престижа до конца дней отстаивали свои уже отжившие точки зрения, — начал Овесян. — Допускаю, что Макс Планк в какой-то мере был прав, говоря, что новые идеи никогда не принимаются, что они или умирают сами, или вымирают их противники. Но я могу вспомнить высказывание одного из его современников, великого физика лорда Резерфорда. Он говорил: «Когда кончается честность, кончается наука». Некоторые ученые, забыв об этом, в свое время переставали быть учеными, хотя и носили свои ученые звания.
— Да, я хотел обойти вас, Амас Иосифович, — сказал Буров, — чтобы сберечь силы и время. Я предвидел…
— Что вы предвидели? Научные предвидения у тебя лучше получаются, дорогой. Чтобы уважать себя, надо уважать других!..
— Я решил спорить с вами сразу, там, вверху…
— А если я не собираюсь с тобой спорить?
— То есть как так? — ошеломленно переспросил Буров.
— Овесян ударил кулаком по столу:
— Потому что наука не кончилась для меня! Ученый не может быть нечестным!
— Но ведь ваш план «Подводных созвездий»…
— Плохой стратег, у которого нет резервов. Пусть мы с тобой разойдемся лишь в одном, кто у кого будет в резерве? Твой план лечения Солнца так же нужен, как и мой. Я буду поддерживать твою затею с «Ядром галактики».
Елена Кирилловна нашла мою руку и крепко сжала своими длинными, жесткими пальцами. Буров встал.
— Как? Вы не будете против?
Овесян тоже встал. Плохо же мы разбирались в нем. Он принадлежал не прошлому, а будущему!
Они оба склонились над столом, за которым сидел Ладнов, и заговорили все трое на своем языке, который непонятен непосвященному. Ладнов и Буров писали на бумаге формулы, Овесян вырывал у них из рук листки.
Бирюков вышел первым, ступая на цыпочки.
Мы с Еленой Кирилловной тоже выскользнули из комнаты.
Я закрыла туда дверь и прислонилась к ней спиной, словно для того, чтобы никого больше туда не пускать.
Но по коридору спешила моя мама. Она тяжело ступала и дышала с трудом. Ее мне все-таки пришлось пропустить.
Так начал работать штаб «Ядра галактики».
Глава шестая ШПАНГОУТЫ
И снова всю ночь мистер Джордж Никсон не мог уснуть. Мешал надсадный стон шпангоутов. Он метался на мягком губчатом матрасе, вставал, подходил к иллюминатору, плотнее задергивал штору, чтобы проклятый лунный свет не проникал к каюту… Даже курил, чего давно себе не позволял. Пугающая боль то нарастала, то отпускала. Дышать было трудно.
Он оделся потеплее, поднял меховой воротник пальто и вышел на палубу.
Лунный свет, словно удесятеренный платиновыми льдами, сиял над скованным океаном. Конечно, в этом и было все дело, в проклятом лунном свете! У него колдовская сила, он лишает покоя. Полная луна, бледная, как угасшее Солнце, висела над обледеневшими снастями.
На мостике топтался капитан, закутанный шарфами. Не годится этот прогулочный щеголь для полярных рейсов, черт бы его побрал! И чего он торчит ночью на своем дурацком мостике?
И как бы в ответ издалека донесся грозный рокот. Льды наползали на поля, выпучивали их зубчатыми хребтами. Ледяной вал мог докатиться и до жалкой, вмерзшей в лед яхты. Вот тогда и хрустнут окончательно шпангоуты… и не помогут смешные паруса или бесполезные атомные двигатели. Одна надежда на геликоптеры. А этот болван Ральф все цепляется за ненужную скорлупу.
Мистер Джордж Никсон вернулся в каюту, разделся, лег, но не мог согреться под одеялом. Боль стала невыносимой.
Проклиная все на свете, он встал, накинул на себя халат и пошел будить Амелию, спавшую в соседней каюте-спальне.
— Что с вами, дорогой? — спросила Амелия, едва он приоткрыл дверь.
— Все то же, словно вам это неизвестно, — огрызнулся мистер Джордж Никсон.
Амелия зажгла ночник в форме черепахи с вытянутой шеей и светящимися глазами, спустила ноги на мягкий коврик и потянулась за пушистым халатиком.
Мистер Джордж Никсон брезгливо посмотрел на ее ноги:
— Не понимаю, почему пижама должна быть в обтяжку, — буркнул он.
— Малышу не хочется выпить? — спросила Амелия, забираясь с ногами на постель, укутывая их полами халата и обнимая руками. — Джин, коктейль, виски?
Джордж Никсон тяжело опустился рядом:
— Если бы я мог напиться, чтобы никогда не протрезветь! Если бы это могло унять боль!
— Полно, Джо, ведь вас уверяли, что это самовнушение. Боль рождена вашей мнительностью.
Амелия лгала. Вырвав у нее клятву молчания, врачи сказали ей все… И муж стал для Амелии ближе, бедный, обреченный, жалкий. У нее появилось к нему материнское, никогда не изведанное ею чувство.
— Я знаю, — тяжело дыша, сказал он, — ничто уже не спасет меня. Рак разъедает меня изнутри. Я слишком хорошо знал, чем это кончится.
— Если бы вы стали молиться, Джо…
— Молиться? К черту это все, мэм!.. Папа приравнял меня к кардиналам, даже возвысил над ними. Мне ничегонйе стоит, чтобы меня еще при жизни объявили святым. На какой черт мне нужно молиться, хотел бы я знать? Не молиться я хочу, а жить. Понимаете, жи-ить! Дышать, не спать, как сейчас, пить, как вы предлагаете, жрать до пресыщения, уничтожать кого-то, над кем-то возвышаться, заставлять страшиться себя! Словом, наслаждаться жизнью. Я не хочу ее терять, и я ее не потеряю.
— Слава богу, Джо. Наконец-то вы заговорили разумно.
— Я? Разумно? Что вы понимаете в разуме? Разум — это я! Я не хочу умирать, когда кто-нибудь останется в мире после меня. И у меня есть одно утешение: после меня не будет уже ничего. Эта уверенность подобна шпангоутам, которые сдержат любые силы, грозящие мне. Их просто нет, этих сил…
— Что вы, Джо! Вы шутите? — чуть отодвинулась от него Амелия.
Джордж Никсон нагнулся к ней и задышал ей в лицо гнилым запахом:
— После меня не останется ничего, потому что и сейчас уже нет ничего! Ни вас, ни этого халатика, ни этой проклятой постели, ни этой проклятой яхты, ни ее дурацкого хозяина, ни папы римского, ни коммунистов… Все это — плод моего воображения, все это только мои, и только мои ощущения. Вне моих ощущений нет ничего. Я все выдумал: и Землю, и Солнце, и жалкое человечество. Я погасил в своём воображении проклятое Солнце…
Амелии стало жутко, она передернула плечами.
— Я погасил Солнце и выдумал ледники на Земле, — продолжал ее муж. — И я выдумал рак, который пожирает меня, и я выдумаю собственную смерть, после которой не останется ничего: ни Земли, ни Солнца, ни людей, ни страха, ни боли…
Амелия знала, что рак он не выдумал. Если можно собственным воображением привить самому себе рак, то он сделал это, несчастный…
Джордж Никсон уткнулся носом в колени жены, а она гладила его жесткие, коротко подстриженные, как у боксера, волосы. Плечи у него вздрагивали, а сердце у Амелии разрывалось от жалости.
— Я не хочу уступать жизни никому, в особенности этому бесполому красавчику Ральфу. Я ненавижу его только за одно то, что он останется жить, — бормотал Никсон.
— Полно, Джо, — продолжала гладить его по голове Амелия. — Даже против рака есть сила.
Мистер Джордж Никсон резко отстранился:
— Не хотите ли вы призвать на помощь мое воображение?
— Нет, Джо… Я хочу, чтобы вы призвали на помощь профессора Леонарда Терми.
— Этого мерзавца, который выплеснул мне в лицо вино? Дрянного еврея, которого я еще не успел раздавить?
— Он не еврей, а итальянец.
— Это все равно.
— Но он великий ученый, Джо. Если бы он закончил свои работы… Мне все рассказала миссис Терми… Вы были бы снова здоровым, сильным…
Джордж Никсон колючим взглядом: посмотрел на жену:
— Черт возьми! А почему бы не заставить эту дряхлую скотину поработать? Разве я не могу вообразить, что кто-то доставляет его на яхту?
— Я знаю, Джо, кто мог бы это сделать.
— Удивительная осведомленность. Она знает все, что я могу вообразить.
— Я имею в виду вашего репортера Роя Бредли. Вряд ли найдется кто-нибудь более ловкий.
— Этот дьявольский щенок, помесь лисицы с гориллой, который умудрился породниться с банкирским домом Морганов?
— Неплохая деловая характеристика. Если бы он продолжал служить нам…
— Он сам может теперь нанять меня.
— У каждого есть своя ахиллесова «пяточка», Джо. Что вы думаете об этой девушке, которая его занимала?
— У вас змеиная мудрость, Амелия. Я должен был бы чаще вас слушать, черт возьми! У этого парня пята, в отличие от мистера Ахиллеса, помещается в области сердца. Едва ли мисс Морган щекочет ему эту пятку.
Мистер Джордж Никсон тотчас связался с ночным редактором газетного треста «Ньюс энд ньюс».
Уже на следующее утро во всех газетах треста было помещено объявление о том, что бывшего репортера треста «Ньюс энд ньюс» в Африке просят прочесть воскресное приложение.
В воскресном приложении был помещен бездарный рассказ, в котором до неузнаваемости был перевран эллинский миф о Прекрасной Елене и Троянской войне. Троянская война, оказывается, была атомной, а Прекрасную Елену похищал из стана коммунистов бесстрашный репортер треста «Ньюс энд ньюс». Но Елена действительно была прекрасной. Газета даже поместила ее современную фотографию.
Это была фотография Эллен Сэхевс, которую ловкий фотограф облачил в древнегреческую тунику…
И Рой клюнул.
В воскересенье вечером мистера Джорджа Никсона пригласили в переговорную к телевизору.
На голубом экране размером с витрину магазина был нанесен растр, сетка двухгранных ребер, расположенных так, что каждый глаз видел только левые или правые грани, на которых возникали изображения соответственно для левого и для правого глаза. Изображение на экране казалось объемным. И Рой Бредли словно на самом деле сидел за окном, расположившись в мягком кресле и куря сигару, пепел с которой сбрасывал на пол. Он снова отпустил тоненькие усики, виски у него заметно поседели, глаза беспокойно бегали.
Мистер Джордж Никсон некоторое время наблюдал его, не включая своей телевизионной камеры. Он для того и выбрал такое средство связи, а не телефон, чтобы иметь возможность изучать выражение лица противника.
— Хэлло, Рой, мой мальчик! — сказал наконец мистер Джордж Никсон.
Рой вздрогнул. Он увидел на экране босса, сразу заметив нездоровую его худобу.
— Как поживаете, сэр?
— Не хотите ли отправиться в современную Трою и стать героем воскресного рассказа?
— Вы шутите, шеф?
— Я так и думал, что вам это понравится.
— О’кэй, шеф. Я способен забыть все на свете… Лишь бы привезти ее…
— И не только ее, мой мальчик. Нужна определенная последовательность. Сначала вы доставляете на яхту «Атомные паруса» профессора Леонарда Терми. Его не нужно будет утруждать знанием маршрута.
— Я все понял, сэр. Вы попросту предлагаете мне похитить ученого.
Мистер Джордж Никсон поморщился:
— Фи… Не выношу вульгарной речи.
— Но я, как вы знаете, — продолжал, не обращая на него внимания, Рой Бредли, — уже участвовал в похищении одной молодой леди.
— У вас это недурно получилось. Неплохой бизнес.
Рой Бредли поднялся:
— Я сожалею, что передо мной только экран, иначе я разбил бы вам физиономию.
Мистер Джордж Никсон поспешно повернул рукоятку звука. Он видел перед собой гневное лицо журналиста, его шевелящиеся губы, но он уже не слышал всего, что говорил ему возмущенный, еще недавно столь послушный репортер.
Впрочем, можно было не слушать. Неужели Амелия ошиблась и он уже не интересуется своей девчонкой? Или вместе с капиталом он обзавелся и принципами?
Мистер Джордж Никсон в бешенстве выключил экран.
Он тотчас связался с директором Ассоциации безопасности. На экране появилась гориллообразная фигура Билла. Он наслаждался только что полученным усовершенствованным протезом, заменившим ему крючок на левой руке. Он поднял кисть протеза в знак приветствия, а выслушав щекотливое задание биг-босса, выразительно щелкнул искусственными пальцами, которые сработали на биотоки его мозга. Босс мог быть спокоен.
Ночью мистер Джордж Никсон снова не спал и ходил смотреть трюмные помещения, где хотел создать лабораторию для дрянного итальянца. Лишь бы выдержали шпангоуты!..
Он раздраженно мотал головой, всякий раз как вспоминал смотревшие с экрана гневные глаза Роя Бредли.
Каков репортеришка, женившийся на миллионах!..
Он поднялся на палубу утром, когда слабеющее солнце пыталось поднять на красных пиках темную тяжесть ночи.
Прежде в это время на палубе становилось празднично. При общем восхищении Ральф Рипплайн пробегал два обязательных круга. Теперь он не выходил из каюты, злой и небритый, валяясь на диване.
— Не воображаете ли вы, что все должны страдать вашей бессоницей? — раздраженно встретил он Малыша, когда тот зашел к нему. Он даже не поднялся с дивана, а только взгромоздил свои длинные ноги на его спинку.
Мистер Никсон устроился в кресле напротив. Каюта была отделана бесценным черным деревом, цвет ее стен, беспорядок и запущенность делали ее мрачной.
— Что еще придумали ваши иссохшие мозги? — осведомился Ральф.
— О’кэй, сэр! — бодро отозвался Малыш. — Будущее должно быть прекрасным. Мир и счастье человечества. Мне уже подсчитали, что на приэкваториальной части суши, которая не будет покрыта ледниками, установится приятный умеренный климат. Там можно будет выращивать пшеницу, даже кукурузу. Эти земли смогут прокормить около двух-трех миллионов человек на Земле.
— Кажется, их сейчас восемь миллиардов?
— Мы поправим безбожного Дарвина, сэр, толковавшего об естественном отборе. Отбор будет искуственный. Почти все земли приэкваториальной полосы уже стали собственностью «SOS».
— Эту собственность еще придется защищать.
— Миром повелевают те, у кого Солнце в руках. На эти земли мы пустим только лучшую часть человечества, сэр! Это будет Малое человечество! И конечно, без коммунистов.
Ральф встал, казавшийся сейчас тощим и нескладным в неопрятном халате. Он взмахнул рукой:
— Малое человечество! Без коммунистов! Почему я должен заниматься глупейшей философией и судьбой трех миллионов совершенно мне безразличных людей?
— Вы не правы, сэр… Нужны люди, которых можно нанимать на работу и увольнять… Нужны дети, чтобы они подрастали для смены. Только не нужно их учить излишней грамотности и… физике.
Ральф налил себе виски, не предлагая Джорджу Никсону. С некоторого времени тот перестал пить и курить. Ральф потянулся, разгибая ставшую сутулой фигуру.
— Так чего вы хотите, сэр? — спросил его Малыш. Ральф обернулся, снова согнулся. В лице его мелькнуло что-то птичье, ястребиное:
— Не трех миллиардов смертей, а одной! И даже не одной смерти! Этого слишком мало, Малыш. Изысканное удовольствие не в наслаждении смертью, а в волнующем, опьяняющем зрелище быстрого превращения этой ненавистной женщины в дряхлую старуху. Как бы я упивался ее безобразием и ее отчаянием! Вот в чем подлинная изысканность, дружественный враг мой!
— У вас есть вкус, сэр! Смотреть, как у нее седеют и вылезают волосы, как сморщивается кожа, сгибается в три погибели спина, отвисает беззубая челюсть… Ха-ха! Это недурно! Зрелище для джентльменов. И дать ей еще зеркало, чтобы любовалась! Однако, простите, сэр, вы еще не умеете как следует мечтать о мести. Дряхлая старуха вместо очаровательной Лиз Морган? Этого мало! Черт возьми, я хотел бы, чтобы одновременно вы стали вновь не только великолепным, но и распутным! Как до «марсианской ночи».
— Паршивая падаль! Я хотел бы проделать над тобой некоторую операцию коновала, чтобы ты побывал в моей шкуре.
— Зачем так грубо, сэр? У нас есть профессор Леонард Терми, тот, кто научился читать код наследственности в нуклеиновых кислотах, по которым, как по чертежам, строится наш организм. В комбинациях молекул нуклеиновых кислот записано все, что только есть у нас. Он знает этот язык природы, этот старый золотозубый колдун, разгадал ее письмена. Стоит ему только поковырять эти нуклеиновые скрижали, подправить стершиеся буквы и… Ральф Рипплайн снова станет не только великолепным, но и настоящим мужчиной! Тем же способом ковыряясь электронным лучом в «диспетчерской», задающей программу жизни некоей юной и привлекательной особы, он у вас на глазах превратит ее в дряхлую развалину. Недурно?
Ральф сел, тяжело дыша и подозрительно глядя на Малыша:
— Вы говорите сладостные вещи. За них можно платить хоть долларами, хоть распиской кровью. Я буду ваш, как говорили в средневековье.
— Давно устаревшие церемонии, — усмехнулся Малыш. («Ты уже давно мой», — подумал он.) — Но я щедр. Фауст получил еще и Маргариту. Месть только тогда будет полной, если дряхлая Лиз увидит в объятиях великолепного Ральфа не кого-нибудь, а Прекрасную Елену…
Послышался щелчок включенного репродуктора, и голос Амелии почтительно произнес:
— На яхту на геликоптере прибыл лауреат Нобелевской премии профессор Леонард Терми.
Ральф вскочил:
— Я должен побриться. Что нужно для начала операции?
— О, сущие пустяки, сэр. Уговорить старикашку. Можете пообещать ему все что угодно.
— О’кэй, сэр, — сказал Малыш и выбежал на палубу.
Первым человеком, на которого он наткнулся, был гангстер Билл, щелкнувший металлическими пальцами левой руки.
— Где он? — быстро спросил Никсон, не здороваясь.
— В салоне, босс, — прохрипел Билл.
Малыш распахнул двустворчатую зеркальную дверь.
Перед стойкой на высоких табуретах сидели миссис Амелия и Леонард Терми. Радушная хозяйка угощала гостя коктейлем.
— Я была так очарована вашей женой, мистер Терми. Я не встречала в жизни более приятной и проницательной женщины.
— Я несколько не понимаю, мэм… — сердито бормотал старый ученый. — Меня отвлекли…
— Ах, не делайте того, профессор, что смогут сделать и другие. В ваших руках жизнь и смерть миллионов. Вы, говорят, умеете читать книгу, по которой строит людей природа. Вам известна каждая строчка.
— Хэлло, старина! — окликнул Леонарда Терми вошедший Джордж Никсон.
Профессор оглянулся и нахмурился.
— Оставь нас одних, дорогая, — сказал мистер Никсон. — Нам нужно обсудить с Леопардом устройство здесь его лаборатории.
— Здесь? Вы с ума сошли? — эти последние слова старого профессора услышала Амелия, плотно закрывая за собой дверь.
Она стояла на ветру, задерживая дыхание. Ей было очень интересно, чем кончится разговор в салоне. На корме, прислоняясь к реллингам, стоял гориллообразный Билл. Амелия не узнала в нем одного из тех гангстеров, которые когда-то похищали ее. Слишком много времени прошло!..
Расхаживая по палубе, она пожалела, что не взяла темных очков. Эти ужасные льды, покрытые сверкающим снегом, могут ослепить… И глаза щурятся. От этого появляется много лишних морщинок у глаз.
Джордж Никсон вышел из салона, зло захлопнув за собой дверь.
Амелия бросилась к нему.
— Он объявил голодовку!.. — сказал мистер Джордж Никсон и, повернувшись спиной, побрел по палубе.
Где-то близко раздался гневный рокот. На глазах у испуганной Амелии поднялся зубчатый горб льда. Что-то захрустело под палубой.
Это ломались шпангоуты. Ледяной вал дошел до яхты.
Амелия, вся в слезах, бессильно опустилась в шезлонг.
Глава седьмая «ВЕЛИКОЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
Пещера Росова, гигантская полость в глубине Кавказского хребта, открытая в апреле, к концу июля преобразилась. После совместного доклада Овесяна и Бурова, сделанного правительству. Здесь за считанные недели был создан гигантский подземный научно-исследовательский институт.
Люда, стоя на возвышении, пыталась представить пещеру, какой она ее открыла, и не могла. Только свод с остатками свисавших сталактитов да каменные натеки на стенах напоминали ей, что она под землей. У ее ног раскинулось сооружение, похожее на огромный стадион с трибунами, где вместо зрителей виднелись ряды изоляторов. Бетонная беговая дорожка была приподнята над скалистым основанием. По ней могли скакать лошади, мчаться гоночные автомобили. Она обнимала некое подобие цирковой арены с фантастическими аппаратами иллюзиониста.
В центре сооружения в свод пещеры упиралась решетчатая вышка. Еще в июне здесь закончилось бурение пятнадцатикилометровой скважины. Буровая головка во время работы порциями выделяла струю жидкой взрывчатки. Микровзрывы дробили породу и вместе с взрывными газами выбрасывали наверх, углубляя скважину в сотни раз скорее всех известных до сих пор способов.
По замыслу Бурова на безопасной глубине под землей должно было возникнуть ядрышко протовещества, во всем, кроме размера, подобное исполинскому ядру нашей Галактики. И теперь в земные недра нацелено было фантастическое электроорудие, представляющее собой развернутый на пятнадцать километров статор двигателя трехфазного тока, в котором вращающееся магнитное поле превратилось в непрерывно бегущие вниз магнитные волны. В течение последних недель они неустанно нагнетали в глубинную камеру «Б-субстанцию», которая способствовала образованию там протовещества. Его было много меньше булавочной головки, но из-за непостижимого своего веса оно способно было прошить всю земную толщу до самого центра Земли. И лишь могучее магнитное поле удерживало его во взвешенном состоянии. Тенерь предстояло добиться обратного превращения, при котором ядрышко протовещества выбросит струю вещества, как это происходит в ядре Галактики. Буров готовил для этого грандиозный энергетический удар.
Вверху, на пути к бездне Бурова на вершинах гор, подобно вышкам старинного сигнального телеграфа, поднялись над облаками исполинские мачты беспроволочной энергосети. Вместо проводов они соединялись острыми, нерасходящимйся лучами света колоссальной яркости, в миллионы раз превосходившей солнечную. Мечта фантастов о тепловом луче, разрезавшем пополам броненосцы, воплотилась теперь в жизнь не для целей уничтожения, а для передачи энергии на расстояние без проводов. Роль «гиперболоида инженера Гарина» или загадочных марсианских треножников ныне играли синтетические кристаллы, обладавшие многократно умноженной способностью узким пучком направлять квантовое излучение атомов, прокладывая в воздухе нити лучистых каналов. Эти каналы должны были донести до пещеры Росова величайший всплеск энергии, какой только способны были дать все энергосети Европы, Азии, Африки во время «великого короткого замыкания».
Решительная минута близилась.
Сотни научных сотрудников, рабочих и инженеров, затая дыхание, думали о ней. Кто знает, что произойдет во время подготовленного опыта.
Ладнов заблаговременно уехал, заявив, что теоретику надлежит ждать результатов опыта в кабинете. Безошибочные выводы требуют тишины. Люде было досадно, что Буров не мог без него обойтись. Она гневно называла Ладнова крысой, покинувшей корабль.
Но, кроме Ладнова, пещеру Росова должны были покинуть и все остальные специалисты, не занятые проведением опыта.
Люда все еще надеялась, что останется с Буровым.
Накануне дня опыта в пещеру Росова прилетел Овесян. Он совещался теперь с Буровым в бункере.
Люди в комбинезонах собирались группами, смотрели на напоминавшую Великую ярангу «беговую дорожку», словно, прощаясь с ней.
Люда делала вид, что следит за светящимися циферблатами приборов, но на самом деле не спускала глаз с серого черепашьего панциря наблюдательного дота.
И вдруг завыла сирена. Люда вздрогнула. Из-нод свода пещеры раздался усиленный репродукторами, гулкий под землей, энергичный, не терпящий возражений голос Бурова:
— В течение десяти минут всем без исключения предлагается покинуть пещеру Росова и подняться на поверхность земли. — И он еще раз повторил: — Всем без исключения.
Люда встревожилась, но старалась улыбаться, словно к ней это строгое предупреждение не могло относиться.
Из бункера вышли трое. Они стали подниматься по окружающим беговую дорожку ступеням, так похожим на скамьи трибун стадиона.
Люда нерешительно направилась к бункеру. Ей встречались спешащие к выходу подземники. Они с удивлением оглядывались на медлившую почему-то девушку.
С бьющимся сердцем и напускной беззаботностью предстала Люда перед Буровым.
— Люд? — удивился он, потом строго добавил: — Почему ты здесь? Разве ты не слышала предупреждения?
Люда привычно закусила губы, потом, глядя в упор на Елену Кирилловну, непринужденно сказала:
— Я хотела идти вместе с Еленой Кирилловной.
— Иди, мой Лю, иди, — обняла ее Шаховская.
— Я остаюсь с Сергеем Андреевичем.
Буров положил руку на остренькое плечо Люды и сжал его. Женским чутьем Люда поняла, что не должна прощаться. Нужно было уйти, словно выходишь в соседнюю лабораторию.
— Я схожу наверх за сигаретами для Сергея Андреевича, — чуть лукаво сказала она.
Буров улыбнулся ей. И он провожал ее глазами, пока она, не оглядываясь, шла к выходу. Кажется, он догадывался, чего это ей стоило.
Овесян уходил последним. Он крепко пожал Бурову Руку:
— Ну, как договорились, богатырь! Но смотри, при малейшей опасности…
— Будьте уверены, Амас Иосифович, это единственный вопрос, в котором Сергею Андреевичу придется подчиниться мне, — вмешалась Шаховская.
— Ну, ладно, ладно!.. Я царь еще! — полушутливо прервал ее Буров.
Овесян ушел, тяжело ступая, свесив на грудь голову и опустив плечи. Елена Кирилловна подумала, что ему ведь много лет. Буров проводил его до входа в туннель. Рядом с Овесяном он казался огромным, тяжелым, уверенным в себе и во всем, что произойдет.
На обратном пути он задержался у одного из пультов.
Шаховская ждала его, опираясь рукой о бетонную полусферу бункера. Она смотрела на игольчатый свод с остатками сталактитов, ярко освещенных сейчас прожекторами.
И вдруг прожекторы стали гаснуть. Шаховская зябко повела нлечами. Из глубины пещеры на нее двинулась тьма.
Это Буров выключал ненужный уже свет.
Шаховская торопливо открыла тяжелую дверь в бункер и вошла в тесное и светлое помещение, где стрелки приборов, тревожно дрожа, предупреждали о надвигающейся космической буре в недрах земли.
Толстая бетонная броня с прослойками свинца и антирадиационнотю пластика должна была во время дерзкого эксперимента предохранить скрытых в бункере ученых от неизвестных излучений.
Нагнувшись в дверях, в бункер вошел Буров. Ему пришлось сразу сесть в вертящееся кресло, чтобы не упереться головой в свод. Шаховская уже сидела в соседнем кресле, глядя на клавиатуру кнопок перед собой, как пианистка, готовящаяся взять первый аккорд.
Буров подумал, что ему не хватает дирижерской палочки, взмахом которой он начнет «галактическую симфонию». Но надо было ждать, когда «публика наверху займет места».
— О чем думаете? — спросил он.
— О Рое, — ответила Шаховская чуть сдавленным голосом.
— Сколько ему теперь?
— Двадцать девять… — сказала она и поспешно добавила. — Конечно, недель… то есть, что я это! Больше! Одиннадцать месяцев.
— Он как… уже сидит? — рассеянно продолжал спрашивать Буров.
Шаховская улыбнулась:
— Он уже ходит, Буров. А я сейчас думала… будет ли Рой, — она подчеркнула это имя, — когда-нибудь стоять на собствеенызх ногах.
— Ну, если уже ходит, так и стоять будет, — безучастно отозвался Буров.
Через час Овесян сообщил, что всем энергостанциям Евразии и Африки дан сигнал готовности.
Буров подумал, что сейчас все энергетическое вооружение человечества, созданное разными народами в разное время и на разных принципах, должно будет послужить единой цели. Гигантские лидростанции, построенные на великих реках или в морских заливах, где использовалась энергия приливов и отливов, знаменитое кольцо ветростанций с их огромными вращающимися башнями, или дорабатывающие свой век, дымящие, как в старину, тепловые станции, термоядерные установки типа «Подводного солнца», превращающие в электричество энергию синтеза водорода в гелий, и, наконец, гигантские, вымощенные фотоэлементами поля Средней Азии (и Сахары!), снимающие самую богатую солнечную жатву в виде того же электрического тока… — все это всей мощностью установок и энергией магнитного поля сетей, своей колоссальной мощностью обрушится в момент общего короткого замыкания на скрытую в глубинной скважине пружинку искусственного протовещества. Для этого Бурову надлежало лишь нажать неприметную кнопку, напоминающую дверной звонок. Ведь совсем такая же с виду безобидная кнопка могла еще недавно вызвать термоядерную войну и конец цивилизации. Теперь она включала в единый канал всю силу Человека.
И Буров уверенно нажал ее.
На мгновение, условно говоря, как бы накоротко, замкнулись все энергосети мира, защита которых была своевременно отключена. Многие машины задымились, перегорели, вышли из строя… Никогда не виданный электрический удар прошелся по сетям. Бессильно упали на землю провода с оплавленными концами… Но прежде чем это произошло, переданная лучистыми световыми каналами мгновенная мощность успела в ничтожную долю секунды воздействовать на висящую в магнитном поле глубинной камеры крупинку дозвездного вещества…
Энергетический удар яепостижимой силы отразился в бункере лишь скачком стрелок приборов… Буров переглянулся с Шаховской. Она пожала ему руку и глазами показала на один из циферблатов.
Стрелка на нем дрожала.
Что произойдет? Ринется ли по пятнадцатикилометровой скважине «галактическая струя» впервые полученного на Земле искусственного вещества?
Стрелка прыгнула… Да и без прибора было видно, как могучая струя раскаленных газов гейзером вырвалась из-под земли, сорвав, смяв, расплавив ажурную буровую вышку.
Струя газов ударилась о свод пещеры и расплылась облаком.
Буров прильнул к опектоярафу.
— Водород! — прошептал он, — Водород, как в ядре Галактики!..
Шаховская взволнованно наблюдала то за ним, то за гейзером рожденного вещества, бушевавшего в пещере. Врруг взгляд ее упал на сейсмограф. Она схватила Бурова за руку. Впрочем, и без сейсмографа было ясно, что происходит. Пол бункера уходил из-под ног, кресла наклонились.
— Скорей! — крикнул Сергей Андреевич. — Скорей! Асбестовые скафандры!..
Они помогли друг другу застегнуть магнитные швы скафандров.
Бункер треснул. Струи раскаленного газа ворвались в наблюдательный пункт, но герметические шлемы уже защитили исследователей.
Дверь бункера открылась сама собой. Сработали аварийные механизмы. Машины сочли, что людям надо спасаться. Буров и Шаховская в своих неуклюжих костюмах выскочили из бункера. Пол пещеры вздрагивал, со овода сыпались камни, гул доносился из-под земли.
Нужно было бежать, хотя… вряд ли можно было спастись.
А Буров еще возился с переносным электромагнитом, стоявшим у стенки бункера, ведь ради него Сергей Андреевич и находился здесь, а не наблюдал за всем происходящим из безопасного места по телеприборам. Шаховская вспомнила, что именно с таким электромагнитом отправлялся Сергей Андреевич когда-то и к кратеру подводного вулкана. Она восхищалась Буровым…
Они побежали вместе. Водородный вихрь несколько раз бросал их наземь. Лишь бы скафандры не порвались, иначе был бы конец…
Буров, сгибаясь под тяжестью ноши, упрямо шел вперед…
Вот и туннель, пробитый на месте щели, когда-то приведшей сюда первого человека…
Сейчас по этой расширенной щели бежали последние люди…
Шаховская помогала Бурову.
Они остановились перед шлюзом.
Буров в своем проекте подземной лаборатории предусмотрел даже этот исход. Крепкая стена задержала вихрь рожденного в глубинной камере вещества, он не мог пока вырваться наружу.
Сзади грохотало. Кто знает, что там творилось? Может быть, рухнул свод пещеры или разверзлась каменная твердь…
Шлюзом не надо было командовать. Механизмы его сами реагировали на приближение людей в скафандрах. Перед ними открылись спасительные двери… Еще одно усилие…
Шаховская упала на колено, встала, хромая, снова упала. Вихрь ударил ее в спину, закрутил над ней мелкими камнями…
Буров вернулся. Поднял ее одной рукой, не выпуская тяжести из другой, и вошел в шлюз. Там он рухнул на пол рядом с Шаховской.
Словно ожившие, камни в бешенстве бились о стенки шлюза. Автомагические двери закрылись.
Сразу будто наступила тишина, хотя и стены и пол шлюза содрогались от грозного гула.
Буров нашел рукой асбестовую перчатку Лены и пожал ее.
Медленно открывалась противоположная дверца шлюза, который наполнен был сейчас уже обычным воздухом. Теперь можно было встать, лишь для безопасности оставаясь в скафандре, и снова идти… Лишь бы бушевавшие в пещере газы не смели жалкое препятотвие, вставшее у них на пути…
Шаховская не двигалась. Размышлять было некогда. Он схватил обмякшее тело помощницы, поднялся сперва на колени, потом встал и снова нагнулся, чтобы свободной рукой взять электромагнит.
Нужно было пройти всего несколько шагов до подземной электрокары, ждавшей смельчаков.
Лишь бы успеть!..
Глава восьмая ВУЛКАН БУРОВА
Люда, до крови кусая губы, полными слез глазами смотрела на проснувшийся вулкан.
Уж лучше бы она была там и ничего этого не видела!
Вместе с эвакуированными из пещеры Росова научными сотрудниками она оказалась вблизи небольшого занесенного снегом горного селения. Тропинка за голыми скалами вела на обледенелый горный склон, откуда в одной стороне до половины неба поднималась ледяная равнина Черного моря, переходившая в неясной дымке в синеву без привычной линии горизонта, а в другой — виднелся чуждый облику гор мрачный вулкан, огненным смерчем возникший там, где остались они…
Люди назвали его вулканом Бурова.
Гора содрогалась под ногами Люды. Гул несся не только со стороны вулкана, но и, казалось, из-под земли.
Черные тучи вдали подпирались огненным столбом, менявшим окраску. Сверкавшая струя как бы превращалась в остывающий железный стержень и потом снова светлела, пульсируя. Иногда под ней что-то взрывалось, и тогда в черной клубящейся пене внизу сверкали искры раскаленных камней и во все стороны разлетались хвостатые ракеты. Потом на снежном склоне там и тут белыми джинами из разбитых кувшинов взвивались столбики пара. Седловина снежной горы была совсем не конической, как обычно у вулканов, а прогнутой и темной. На исполинского коня словно накинут был черный бархатный чепрак, а на каменном седле высился огненный всадник-великан с черной грибовидной шляпой, скрывавшей загадочное лицо. Багровые потоки магмы, прорвавшись в ущелья, походили на ноги исполина в красных щтанах, пришпорившего грузного каня, гулким топотом содрогавшего землю.
Смахивая слезы, Люда с отчаянием смотрела на это видение, отнявшее у нее самое дорогое, что было у нее в жизни…
По крутой тропинке к наблюдательному пункту, выбранному Людой рядом с готовым к взлету вертолетом, поднимался Овесян. Он торопился лететь к вулкану, осмотреть его склоны, все еще на что-то надеясь.
Люда была уверена, что он не позволит ей лететь с ним. И все же она подошла к нему:
— Амас Иосифович!.. Я не могу не полететь… Я их любила.
— Вот как? — нахмурился Овесян.
— Совсем по-разному, Амас Иосифович, но очень любила.
Люда не поверила сама себе. Овесян приказал ей садиться в машину. Врач вместе с группой инженеров находился в соседнем селении. Овесяну некогда было залетать за ним. А у Люды в санитарной сумке было все для оказания первой помощи.
Пилот включил двигатель. Со свистом завертелся горизонтальный винт.
Научные сотрудники и рабочие подземной лаборатории вместе с горцами, запрокинув головы, провожали взглядами разведчиков, летевших к страшному вулкану.
А словно застывший столб термоядерного взрыва с расплывшейся по небу грибовидной шапкой зловеще возвышался над снежными горами.
…
Пилот, расставив ноги в меховых унтах, с тревогой смотрел в глубь пещеры на поблескивавшую от огней влажную дорожку, За его спиной стоял вертолет с открытой дверцей кабины. Огромный винт словно нехотя вращался, но его свистящий шум, обычно отдающийся в каменных стенах, был не слышен из-за подземного гула. Только аварийные прожекторы освещали сейчас каменные стены бездны Бурова. Свежие изломы камня, следы недавних взрывов, расширявших колодец, оттеняли более темные, отполированные водой и временем отвесные стены пропасти.
Латыш Вилис Драйнис, инженер и летчик-испытатель, ученик Дмитрия Росова, назыввавшего его самым немногословным человеком на Земле, космонавт, участвовавший в космическом патруле, не мог назвать в своей жизни минуту большего волнения. Он сам бы хотел быть там, в пещере, превращенной в подземную лабораторию, откуда доносился сейчас грозный гул…
Вилис Драйнис ощутил, как заколебался под ногами казенный пол. Бетонная дорожка треснула и вздыбилась буграми.
Вилис Драйнис нахмурился, но не двинулся с места. Он понимал, что спустя минуту вертолету уже не подняться… Огромная трещина только что расколола стену пропасти. Даже небольшого камня, упавшего сверху, было бы достаточно… Но летчик ждал.
Подземные толчки усиливались. Каменные глыбы под ногами и над головой качались…
Погасли прожекторы аварийной сети. Должно быть, при растрескивании стен порвало кабели. Теперь свет падал только из окон и раскрытой дверцы вертолета. Пещера, откуда должны были прийти физики, превратилась в черный проем.
Грохот словно мчащегося на Вилиса Драйниса поезда надвигался, рос, оглушал…
Ноги летчика вросли в камень. И сам он уподобился каменному изваянию, опустив голову с устремленным в темноту пещеры взглядом. Эту позу угадал скульптор, который в память подвига героя вырубил из гранита статую, впоследствии установленную в Риге.
Грохот горного обвала достиг физической плотности, он сдавливал летчику голову, душил его. В глубине пещеры появилось яркое пятно.
Окаменелый летчик продолжал стоять. Казалось, приближающийся поезд сейчас сшибет его с ног.
Яркое пятно превратилось в слепящее солнце и вдруг погасло.
Виллис Драйнис ничего не видел. Кто-то тряс его за плечо.
Наконец зрение вернулось к нему.
Гигант в жароупорном скафандре показывал на лежащую в автокаре помощницу.
Виллис Драйнис ожил. Он охватил бесчувственную Шаховскую на руки. Буров, горбясь от тяжелого груза в руке, едва поспевал за ним. До вертолета нуяшо было пробежать лишь несколько шагов. Драйнис бросил в проем двери свою живую ношу и вскочил в кресло пилота, как прыгают на всем скаку в седло скакуна. Буров с кряхтением влез за ним. Он не успел захлопнуть за собой дверцу, а машина уже рванулась вверх.
Требовалось поразительное искусство пилота, чтобы по узкой пропасти подниматься, не задевая лопастями винта за камни стен.
Буров не решался расстегнуть на Шаховской скафандр или хотя бы снять ее шлем. Но она сама зашевелилась и порывисто села. Через очки скафандра на Бурова смотрели ее расширенные глаза.
Она стала растирать колено.
И вдруг страшная тяжесть налила свинцом тела Бурова и Шаховской, прижала их к полу кабины, вдавив и пилота в кресло.
Подземные газы смели шлюз, стоявший на их пути, и вырвались наружу через вертикальный колодец, как пороховые газы в гигантском орудии. Разбуженный вулкан выстрелил вертолетом в небо, как вулканической бомбой. Это была его первая бомба. Вертолет вылетел из колодца впереди устремившихся за ним камней. Только это и спасло машину от полного разрушения. Но вертолет уже не был летательным аппаратом. Горизонтальный винт был сорван потоком газов, хвост фюзеляжа исковеркан. Теперь лишь одна кабина взлетала в последний раз высоко в вшдух над снежными склонами Кавказских гор.
Держа руку Лены в своей, Буров приподнялся на колени, заглянул через окно: «Ну, кажется, теперь все… Лишь бы нашли электромагнит…»-подумал он.
Пилот Вилис Драйнис, напряженно щурясь, смотрел через окно, сжимая, казалось бы, бесполезные рычаги.
Сделанная людьми из металла и пластмассы первая бомба вулкана Бурова достигла максимальной высоты прямо над новым кратером и стала падать…
Когда-то конструкторы вертолетов бились над безопасностью аварийного спуска. Винт рассчитывался так, что при падении с выключенным мотором он вращался струей воздуха в режиме парашютирующего спуска, развивая достаточную подъемную силу для плавной посадки машины. Но это не помогало при катастрофах, когда по какой-нибудь причине разлетались лопасти винта и когда, казалось бы, уже ничто не могло помочь падающим вместе с машиной людям. Знаменательно, что на помощь винтовым машинам пришли конкурирующие с ними реактивные двигатели. Вертолет Вилиса Драйнйса был снабжен аварийными ракетами, которые он и включил сейчас, когда вертолет стал приближаться к земле. Взревели дюзы, резко встряхнув кабину. Пилот регулировал их тяговую силу, чтобы выравнять машину… И осторожно посадил ее на камни.
Открыть дверцу покореженной кабины даже таким силачам, как Буров и Драйнис, оказалось не под силу. Уходили драгоценные мгновения.
Выход нашел Буров: он высадил ударом ноги окно и выбросил в него свой бесценный электромагнит.
Потом в окно выбралась Шаховская, спрыгнула на камни и тотчас молча припала на колене. За ней легко выпрыгнул Буров.
Капитан воздушного корабля покидал его последним. Уходя, он оглядывался на изуродованную машину. Буров с грузом и прихрамывающая Шаховская спускались на снег со скалы, где остался вертолет.
Внизу дымовой завесой вставали клубы пара. Случилось самое страшное: лава опередила беглецов, преградила им путь… Надо было бежать, состязаясь с огненным потоком.
Чтобы выбрать дорогу, они легли на скалу и заглянули вниз, откуда вырывались клубы пара. Сквозь пар был виден густой, тестообразный поток, в котором, словно нехотя, двигались красные, оранжевые, фиолетовые струи. Встречая препятствие, магма лениво останавливалась, набухала и медленно переваливала через камень, оставляя на нем твердую тускневшую пену. Испарения многоцветными клубами поднимались из глубины ущелья.
Если бы это был единственный поток, его можно было обогнать, но там внизу, судя по клубам пара и дыма, двигалось еще несколько огненных ручьев.
Оставаться на скале было невозможно. Раскаленные камни с шипением то и дело падали на нее, отскакивали, рассыпались свистящими осколками. Одна из таких бомб попала в вертолет. Машина вздрогнула, упала набок, из нее повалил дым, и она вспыхнула.
Огонь бушевал повсюду. Ветер понес дым из ущелья. Буров и Шаховская были защищены скафандрами, а Драйнис… Летчик задыхался. И вое же он мужественно продолжал спускаться, помогал хромающей Шаховской, даже хотел взять у Бурова тяжелый электромагнитный сосуд.
Скоро путники убедились, что окружены огненной лавой со всех сторон. Поток смыкался, сужая кольцо. Люди оказались на небольшом каменном островке, постепенно погружавшемся в тестообразную огненную магму.
Можно было поражаться, что Драйнис все еще держится на ногах. Буров стал снимать с себя скафандр, чтобы надеть на летчика, но тот, разгадав замысел ученого, побежал вниз, перепрыгивая через огненные струи лавы. В весрколько прыжков он оказался в недосягаемости. Даже в жароупорных костюмах нельзя было пройти к нему. Лавовые ручьи набухли, разлились, наполняя все вокруг клубами пара и дыма.
И снова стоял каменный пилот в той же позе, как и в пещере, расставив ноги в дымящихся унтах, упрямо нагнув голову.
Так на глазах у потрясенных ученых погиб отважный пилот, который, даже задохнувшись в отравляющих газах, не упал, а лишь прислонился спиной к утесу, словно и сам был сделан из камня. Подобравшаяся к нему снизу лава скрыла его фигуру в клубах дыма, а с утеса на него низвергнулся огненный водопад.
Шаховская, стоя на коленях, рыдала. Буров вытянулся, не отрываясь глядя на стену дыма, скрывшую героя.
Лава поднималась все выше и выше. Ученые понимали, что жароупорные скафандры не помогут им. Они только что видели свою собственную участь.
Радио в скафандрах не работало, нельзя было дать о себе знать.
— И тут Буров вспомнил об электромагните, который с таким трудом вынес из пещеры. Ни при каких обстоятельствах он не разомкнул бы обмотки, не выключил бы бесценное магнитное поле, быть может, удерживающее «А-субстанцию», но… Он решился на другое — использовать часть аккумуляторов для получения электрической искры, которая как радиопомеха будет отмечена любым радиоустройством, подобно тому, как была принята первым радиоприбором Александра Попова.
Буров решился мгновенно. Только он и мог бы оторвать руками часть провода, как бывало гнул его дед подковы. Этим куском провода он стал накоротко то замыкать, то размыкать несколько банок аккумулятора.
Шаховская не сразу поняла, что он делает. Но она заметила, как периодически вспыхивает у него под белой перчаткой электрическая искра.
И вдруг Эллен Сэхевс с омерзением вспомнила, как готовили ее за океаном к секретной миссии, как учили простреливать апельсин на лету, писать тайнописью, передавать шифры по азбуке Морзе…
Она узнала азбуку Морзе во вспышках искры в руках Бурова. Он передавал только одно слово, то самое, которое принял по своему беспроволочному телеграфу Александр Попов.
— Герц… Герц… Герц… — ученый передавал имя ученого.
А лава поднималась, затопляя скалу, послужившую Бурову и Шаховской последним убежищем.
Превозмогая боль в ноге, Шаховская подползла к Бурову.
— Что передать… от вас? — крикнул он ей через шлем.
— Передайте… — вдруг на что-то решившись, сказала она, но потом добавила: — Нет… ничего от меня не передавайте…
И снова вспыхивала искра:
— Герц… Герц… Герц…
Искровые помехи, в которых опытные радисты отгадали слово «Герц», были сначала обнаружены в Армении и почти одновременно в Тбилиси.
Академик Овесян, находившийся в воздухе на вертолете, получил запеленгованные координаты спустя восемь минут после приема первых искровых помех. Еще через шесть минут он уже снижался над огненным потоком, где в клубах дыма едва удалось рассмотреть два белых асбестовых скафандра.
Вертолет застыл в горячем воздухе над лавовым потоком. Спуститься ниже было нельзя, и из кабины сбросили нейлоновую лестницу.
Шаховская стала взбираться первой. Одна нога ее беспомощно висела. Как матрос парусного корабля, она поднималась на одних руках.
Буров же мог использовать только одну руку, в другой он держал свою тяжелую ношу.
Люда и Овесян подхватили и втащили в кабину изнемогавшую Шаховскую.
Вертолет уже поднимался, хотя на лестнице, перехватывая рукой перекладины, еще висел Буров.
Он появился наконец в кабине, когда с Шаховской уже сняли скафандр.
Буров выпрямился и сбросил в себя шлем, шумно вдохнул воздух, расправил плечи.
— Где пилот? — обернулся к ншу стоявший на коленях около Шаховской Овесян.
— Отлит из камня, — сказал Буров, опустив голову.
Овесян понял его. Он поднялся на ноги и сказал:
— Память ему… в сердцах.
— Вот здесь то, что вынесла из ядра галактики струя рожденного там водорода, — сказал Буров, указывая на электромагнит.
— Получилось? — радостно воскликнул Овесян, потом спохватившись стал спрашивать: — Радиация? Каков был спектр излучения?
— За красной чертой, — ответил Буров.
— Счетчик! Счетчик Гейгера! Радиометр! — требовал Овесян.
Люда осматривала ногу Шаховской, оказывая первую медицинскую помощь.
— Лю, милый, — сдерживая стон, тихо сказала Елена Кирилловна. — Как хорошо было, когда ты меня любила…
— Радиометр! — тряс за плечо Люду Овесян.
Люда нашла в сумке прибор.
Едва его приблизили к Шаховской и к Бурову, как он начал неистово трещать, зловещая красная точка загорелась на нем.
Буров и Овесян переглянулись.
— В Москву! — зашумел Овесян. — Сейчас же в Москву! Они получили чудовищную дозу облучения. В госпиталь!
— Буров! — в отчаянии крикнула Люда, бросаясь от Елены Кирилловны к Бурову, прижимаясь к его груди.
— Сейчас же отойти! — резко скомандовал Овесян. — Ты с ума сошла! Они же сейчас источники излучения!.
Неизвестно, действительно это было так, или Овесян этим окриком лишь хотел привести Люду в чувство, но девушка отпрянула, а Овесян встал между нею и Буровым.
Вертолет переменил курс и полетел прямо на аэродром, чтобы пересадить больных в предупрежденный по радио скоростной лайнер, который уже через два часа доставит их в Москву.
Глава девятая МАЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Снова Африка! Милая сердцу Африка, в вечной любви к которой я поклялся на банановой просеке Сверкнувшего счастья.
Знакомый отель, занятый теперь под штаб «SOS», и знакомое место, где была разбита палатка, в которой мы разговаривали ночью с Буровым и Лиз…
Лиз! Она числится моей женой перед Богом и людьми. Увы, несчастливы все браки, аключаемые из долга, жалости или каких-либо других чувств, кроме одного… способного валить столетние дубы.
Лиз преобразилась. Лиз, которую я знавал в одеянье сестры милосердия, в дротивоядерном костюме дьяволенка и в изодранном ясивыми скелетами манто, эта Лиз, сняв одолженное сестрицей Джен подвенечное платье, сидя со мной в купе вагона, сразу же объявила, что отныне наша жизнь будет иной. Мы будем наслаждаться ею на коралловом пляже тихоокеанского островка, где она будет плести мне гирлянды из дурманящих цветов, любуясь на босоногих и загорелых ребятишек, которых мы народим, вопреки всему, что творится в обледенелом мире, где должно хватить экваториального тепла на нас двоих.
Я вспоминал об этих ее рассуждениях, когда с ужасом наблюдал из засохших после морозной зимы джунглей за великим переселением народов, вернее, за попыткой такого переселения…
Я примчался сюда, извещенный о грозящих событиях, и спрятал джип в зарослях, где вымерли уже попугаи и обезьяны.
Вдали на рейде стояло несколько кораблей. Катера буксировали к берегу огромные лодки или маленькие баржи, кунгасы, как их зовут моряки.
Я видел чернокожих, притаившихся в чаще. Они один раз уже освобождались от гнета тех, кто захватывал их дедовские земли, и теперь враждебно смотрели на погруженных в баржи людей и ждали.
Я тоже ждал, затая дыхание, стараясь разглядеть маленькие точки голов над бортами кунгасов. Ведь в каждой из них был целый мир чувств, надежд, страстей.
Что касается моей головы, то в ней надежд и страстей, очевидно, было так много, что для всего остального не осталось места. Потому, верно, я и не бежал с Лиз на купленный ею островок с бронзовыми таитянками на услужении, могущими услаждать танцем живота, а снова стал журналистом, всегда стремящимся в центр событий.
Пекло снова было в Африке, где я оказался одновременно со штабом «SOS», узнав о гибели раздавленной льдами яхты «Атомные паруса».
Да! Я снова впрягся в лямку журналиста, хотя мог бы нежиться под долларовым покровительством своей супруги. Печать отрава! Кто был напечатан хоть раз, всю жизнь будет стремиться напечататься снова!.. Даже если ради этого снова нужно было лезть в пекло.
И я бежал от Лиз в Африку, чтобы все увидеть самому.
На атомных руинах бывшего африканского города должна была вырасти новая столица малого человечества. Оказывается, то, что не могли сделать штыки, пули и даже атомные бомбы, сделали доллары Рипплайна. Чернокожее, неустойчивое, запуганное атомной бомбой правительство охотно пошло на сделку с организацией «SOS», заблаговременно скупавшей приэкваториальные земли. И теперь штаб «SOS» хозяйски готовился править ими.
У меня, у журналиста, была одна цель — наблюдать…
Людская волна на кунгасах приближалась.
Катера из-за мелководья не могли подойти к берегу и разворачивались ярдах в пятидесяти от пенной дорожки прибоя.
Кунгасы еще десяток ярдов шли к берегу, пока не натягивался буксирный канат, заставлявший их повернуться. Они становилась бортом к волне, грозившей перевернуть суденышки. Люди спрыгивали прямо в воду, оказываясь в ней по пояс, и муясчины, и женщины. Малолетних несли на руках.
Толпа людей, вздымая фонтаны брызг, с ликующими криками побежала к берегу.
И тогда раздались выстрелы и засвистели стрелы.
Люди бросались в воду, некоторые доползали до пенной дорожки. Волны прибоя кидали их на берег и тут же стаскивали обратно в воду.
Никто из высадившихся не повернул назад к кунгасам, которых, впрочем, уже и не было.
Я видел озабоченное выражение лиц чернокожих стрелков, а у некоторых даже испуганное.
С разноязычными дикими криками совершенно безоружные люди с жалким скарбом в руках, размахивая палками и зонтами, выбежали на прибрежный песок. Некоторые падали или садились, словно для того, чтобы отдохнуть. Остальные продолжали бежать к джунглям.
И негры дрогнули, не выдержали непонятной безоружной атаки одержимых захватчиков. Они стали отходить в поблекшую чащу джунглей.
Люди на берегу плакали и обнимали друг друга. Им казалось, что они уже достигли всего, чего хотели, что теперь останется только выйти на целинные просторы согреваемой солнцем земли, чтобы скорей начать ее пахать. Увы, они не представляли себе, что в романтической Африке, воспетой в век колонизации, ныне не найти уже невозделанных земель или непроходимых чащ, которые можно корчевать, оставшихся разве что в заповедниках, приобретенных ныне организацией «SOS».
К берегу приближалась новая волна катеров с кунгасами. По воде, уже не падая в нее, бежала новая толпа надеющихся на счастье людей.
На берегу кто-то плакал над трупами или стонал. Но это тонуло в общем ликовании.
Охватив топоры, несколько человек, пошли рубить померзшие лианы для костров и обнаружили меня.
— Хэлло, ребята! — весело сказал я. — С новосельем!
Люди подозрительно посмотрели на меня, может быть, даже не поняв моих слов.
— Добрый день, господин, — все же отозвался один из них. — Вы не чиновник?
— Нет, я репортер.
Я храбро двинулся к берегу, к толпе сгрудившихся там людей.
Их уже были сотни, может быть, больше тысячи… Они бояшись идти в незнакомые джунгли и теснились у воды, представляя великолепную цель для затаившихся в чаще стрелков, которые берегли заряды и стрелы. Едва ли их на всех хватило бы.
На мне был фланелевый костюм с короткими шортами и пробковый шлем. Я выделялся среди мокрых, измученных переездом в трюмах людей, как белая ворона.
Прямой старик с негнущимися ногами и черноволосая бойкая девушка вышли мне навстречу из настороженной толпы.
— Мы мирные люди! Мы мирные люди! — говорил старик по-французски и по-голландски.
— Мы мирные люди, — добавила девушка по-итальянски и, наконец, сказала то же самое по-английски.
— Хэлло, леди и джентльмены! — воскликнул я. — Сожалею, что вам устроили здесь такой нерадушный прием.
— Это потому, что мы не предупредили о приезде телеграммой, — бойко заявила девушка.
— Мы мирные люди, — твердил старик. — Мы ничего не имеем против негров. Мы им поможем возделывать землю.
— Понимаете, дружок, здесь теплее, — пояснила девушка.
Еще бы не понимать! Я все отлично понимал. Но вот все ли понимали эти неочастные?
Меня окружили, стали расспрашивать, наивно делились своими планами…
Что я мог им сказать?
— Можно понять, ребята, зачем вы явились сюда. Человек и прежде отступал перед ледниками… и переселялся ближе к экватору.
— Вот видите! Он нас понимает! — обрадовались несчастные.
— Вы покажете мне ваши джунгли? — взяла меня под руку бойкая черноокая. — Мне бы хотелось прогуляться по лесу именно с таким кавалером. — И она засмеялась, прильнув ко мне плечом.
— Отойди от господина, пакостница! — закричала на нее белобрысая толстуха. — Полюбуйтесь на нее, она собирается обрабатывать здесь не землю, а мужчин.
— А разве вы не откроете здесь, тетушка, для этого заведение?
— Молчи, шлюха!
Напиравшие мужчины оттолкнули от меня женщину.
— Господин! Нас тучи… мы как саранча… С нами лучше договориться, — сказал высокий старик. — Мы знаем, что часть из нас можно убить. Мы идем на это. Вое равно у вас земли на всех не хватит.
В глазах у старика было что-то маниакальное. Я почему-то подумал о Моисее, который вел свой народ к Земле Обетованной.
Я достал пачку сигарет и угощал ими незваных пришельцев.
Все новые и новые отряды их выходили на берет.
Усевшись на камни, я беседовал с ними. Это были крестьяне из Голландии, из Бельгии, из Франции. Были и испанцы, и португальцы, даже итальянцы. Пароходные компании брали огромные деньги, ссылаясь на дороговизну работы ледоколов, которые должны были вести во льдах караваны судов. Это был самый первый караван. Go следующими караванами можно было проехать дешевле, ио ведь может не остаться земли. Они умеют орошать пески и осушать болота. Среди них есть инженеры и врачи, есть юристы и коммерсанты.
— Даже девки! — вставляла черноокая, дымя взятой у меня сигаретой.
Наша беседа была прервана воющим свистом бронированных чудовищ. Это были безгусеничные танки, Со свистящим шипением плававшие на воздушной подушке чуть поднявшись над землей. Они перемещались в неожиданном направлении, порой вертелись волчками на месте.
Стихийные переселенцы, обсыхавшие около разведенных на берегу костров, повскакивали на ноги. С помощью стратегии и тактики саранчи они выдержали первую первобытную охватку за право встать на землю. Предстоял новый бой за право стоять на ней.
Танки не стреляли. Они выпускали огненные струи жидкости, отрезавшие толпу переселенцев от леса. Жидкость смрадно горела на камнях. Опаленные, обожженные люди отхлынули от леса, вошли до колено в воду. Дети плакали.
Меня толкали, пока я тоже не промочил ботинки.
Люди стояли в толпе так плотно, что волны разбивались о спины в крайнем ряду.
Из клубившейся черным дымом огненной стены то и дело вылетали стрелы, поражая кого-нибудь из стоявших в воде.
Танки теснили людей, стараясь отъехать от огня, чтобы самим не вспыхнуть.
Меня поразила организованность туземцев, использовавших самые последние достижения современной техники. Но я, конечно, ошибся. В танках сидели белые.
Офицеры показались из люков, выставив на броню залаявшие громкоговорители:
— Говорят Отряды охраны собственности. Вторжение незаконных переселенцев вопиюще нарушает священную собственность на землю, ныне приобретенную организацией «Спасение от Солнца». Захват принадлежащих ей земель не будет допущен.
В промежутках, кояда громкоговорители замолкли, сшышаля плач детей, стоны раненых и обожженных.
— Однако организация «SOS» исполнена милосердия. Все незаконно прибывшие на побережье должны проследовать в карантинную зону.
Я не мог выйти из толпы, оцепленной водой, танками и огненной стеной. И вместе со всеми побрел в карантинную зону, оказавшуюся кораллем для скота, изгородь которого охранялась плавающими над землей танками.
Некоторые пытались бежать из загона через изгородь. В них даже не стреляли, чтобы не беспокоить собравшихся. Их поливали из огнеметов горючей жидкостью. Огненные факелы некоторое время с визгом бежали к лесу. Догорали они уже лежа и извиваясь на почерневшей траве.
Я узнавал руку босса. Организация дела была великолепной.
У выхода из коралля проводилась селекция будущего Малого человечества. Офицеры Отрядов охраны собственности отбирали тех, кто будет составлять это человечество. Разговор был кратким. Люди стояли в длинных очередях и уже заблаговременно готовили свои аргументы. Кроме ясных ответов о происхождении, специальности, здоровье и продемонстрированной мускулатуры или обнаженного женского тела — так требовали офицеры, заботившиеся о красоте будущей расы, — наиболее убедительным являлась пачка долларов или другой валюты.
Эта гнусная пародия Страшного суда продолжалась несколько часов. Вправо отходили счастливцы, влево отгонялись несчастные.
Я тоже вынужден был стоять в долгой очереди. Черноокая не отходила от меня.
Конечно, «судьи» узнали меня и громко хохотали. Заодно со мной они пропустили направо и охотно оголившуюся черноокую.
Людей, не подошедших для Малого человечества, под угрозой огненных струй погнали к воде.
Там их ждали сердобольно подготовленные для них баржи. До барж нужно было плыть.
Плавать не все умели, но огненные струи заставляли плыть всех…
Набитые до отказа баржи отбуксировали в открытое море. Я не уверен, что их там ждали корабли. Но приплыть обратно к берегу, конечно, никто не мог. Безумные, делавшие такие полынки уже после того, как баржи отплыли от берега, скоро убедились в этом.
С танков стреляли пулеметы с автоматической наводкой. Электронная аппаратура сама наводила свинцовую струю на замеченную в воде точку, точку, которая вмещала в себе цеяый мир чувств, стремлений, надежд…
Я нашел в чаще свой джип. Негры оттащили его вглубь, и он не пострадал от огня.
В голове была пустота. В ней не осталось ни чувств, ни стремлений, ни надежд. Я охотно оказался бы точкой на волнах, притягивавшей к оебе свинцовую струю…
Так иачинало жить Малое человечество, где мне было уготовано место под тусклым солнцем.
Толпу счаотливцев, отобранных для новой расы, гнали в разрушенный атомным взрывом город разбирать развалины и строить новые дома.
Я перегнал их но дороге. Кто-то крикнул мне, замазал рукой, побежал за джипом. Это была, конечно, черноокая.
— Что я мог сделать для нее?
Я проехал прямо к аэродрому. Мой долг сейчас был в том, чтобы как можно скорее опубликовать все то, что я видел, показать перед всем миром истинное лицо «создателей Малого человечества». Для этого мне нужно было немедленно оказаться в Нью-Йорке, в редакциях газет, которым, быть может, и не захочется пугать людей Малым человечеством.
Малое человечество!..
Будь проклято все, что заставляет его стать малым!
Пришлось зайти в бар. Здесь знакомый черный бармен потчевал нас когда-то русской водкой. Я не знаю, что он наливал мне сейчас. Я не мог ощутить вкус. Мне нужно было затуманить голову, мне нужно было лишить себя зрения, памяти, сознания.
Но я не пьянел, хотя все и ходило по кругу передо мной. Может быть, я крутился на высоком табурете?
И конечно, начинались галлюцинации. Явился детектив, тот самый, который превратился в тень на стене, и приказал бармену налить мне какой-то дряни, куда сам что-то накапал.
Я ему сказал, чтобы убирался ко всем чертям, пока я не превратил его снова в тень, и… выпил его дрянь.
Мы шли вместе по бетонной взлетной дорожке. Солнце было неярким, и он не носил сейчас темных очков.
Глаза у него действительно были разноцветными!..
Я понял все! Так вот оно что! Вот почему он назначил мне свидание в три ноль восемь!.. Ему было известно, в какое время упадет атомная бомба. Я слишком много знал, встретившись в джунглях с их агентом, которую они звали Мартой, а я Эллен… В тень должен был превратиться я… а превратился случайный прохожий, которого я принял за детектива.
Кажется, я выразил все это своему спутнику.
— Перестаньте дурить, парень, — сказал он мне. — Считайте, что вам повезло тогда… Постарайтесь, чтобы вам повезло и сейчас. Зачем вы так торопитесь домой?
— Вы снова считаете, что я слишком много видел?
— Дышите глубже, постарайтесь прийти в себя. Я помогу вам добраться до самолета. Не считайте, что у вас двоится в глазах. Самолетов действительно два. В Соединеннее Штаты летит правый. На левом вы никуда не доберетесь. Поняли?
— О’кэй! — эдрачно отозвался я. — По-вашему, в Америку ведут только «правые» пути?
— Мистер Бредли! Мсье Рой, — услышал я великолепный, где-то слышанный мною бас, напоминающий звук органа или огромного поющего колокола. Я оглянулся.
Боже мой!. Мой эбеновый Геракл, старый приятель!
Я бросился к нему и к величащпему возмущению детектива стал обнимать и целовать его.
Бедный Геракл, конечно, решил, что я пьян:
— Хотите, я отведу вас в отель, мсье Рой? Для вас есть депеша.
— К черту депеши, к черту самого босса, мой Геракл! — бормотал я, нахмурившись. Мне не хотелось смотреть на белый свет.
— Вы все-таки прочтите, масса Рой, — убеждал он.
Я со злостью вырвал у него телеграмму. Она оказалась от сестрицы Джен.
«Рой, скорее возвращайся… Схожу с ума. Отец и мать скончались от истощения. Похороны задерживаю. Том болен. Приезжай, Рой».
Я крепко пожал руку негру.
Я был спокоен, ясен, трезв. Я слишком хорошо видел перед собой детектива и самолет, куда он меня приглашал. Я почти уверен, что сейчас «три ноль восемь часа пополудни»…
И я еще заметил гориллообразную фигуру, на миг высунувшуюся из правого самолета, куда меня тащил мой старый разноглазый знакомый. Я сразу узнал мастера похищений Билла, у котрого со мной, как и у его босса, были свои счеты.
Я сел в левый самолет, который направлялся в Америку. Еще одно похищение не удалось, а в Америку вели и левые пути.
Глава десятая КОНЕЦ ВСЕГО
Держа друг друга под руку, осторожно передвигаясь, чтобы не вызвать приступа боли, они добрались до обзорной площадки перед университетом на склоне Ленинских гор. Буров очистил с балюстрады снег, чтобы Лена могла облокотиться.
Они долго любовались городом. На первом плане виднелся стадион, символ силы и бодрости, за ним веселой многоглазой стеной стояли новые дома, и среди них цветным пятном выделялась гостиница «Юность». Дальше в дымку уходил город с возвышающимися над ним башнями высотных зданий.
— Я полюбила Москву, — тихо сказала Лена. — Смотрите, Буров: «бодрость» и «юность»… И мы смотрим на них издали.
Буров повел ее вниз по лестнице на аллею, хотел опуститься еще ниже к «заколдованным» деревьям. Каждая веточка там обледенела, а сверху была еще и запорошена снегом. В солнечных лучах это сверкало и переливалось цветами радуги. Белые сверху пушистые лапы елей стали тяжелыми, пригнулись к самой земле, образовав уютные шатры.
Некоторое время они шли, зачарованные, потом она остановила его:
— Нам не подняться обратно.
Им не встречались лыжники. Снег был липкий. Летнее солнце хоть на это оказалось способным. И может быть, потому вокруг было безлюдно. Лес, всепда полный гуляющих, сейчас словно вымер.
Лена видела, как морщился от боли Буров. Ей самой временами казалось, что она теряет сознание.
Эта боль появилась в самые последние дни, когда они еще были в клинике. Первое время оба возмущались, что их поместили туда. Они бегали друг к другу на свидания под пальмы в зимнем саду, устроенном в широком и светлом коридоре.
Они знали, что полученная ими доза облучения огромна и превосходит все допустимые пределы во много раз. Оставалась надежда, что для неизвестного излучения, быть может, действуют другие нормы.
Приезжал Овесян, навещала Мария Сергеевна Веселова-Росова. И Люда приходила с ней… Даже Калерия Константиновна, элегантная и подтянутая, явилась к Лене, сухо передав ей, что маленький Рой здоров, справил свой первый день рождения, уже бегает и что она присматривает за ним. Она была недолго и ушла. Люда показала ей в спину язык.
Люда не отходила от Елены Кирилловны совсем как раньше, но Буров ловил на себе ее встревоженный пытливый взгляд. Бурову не позволяли вернуться в лабораторию.
Потом начались боли.
Профессор, главный врач клиники, сутулящийся, в накрахмаленном белом халате, в белоснежном воротничке, с седеющей бородкой и с удивительно ясными и в то же время проницательными глазами, подолгу задерживался у своих «особых» больных. Он улыбайся и шутил. Это было плохим признаком.
Однажды он стал рассказывать анекдоты. Буров посмотрел ему прямо в глаза. Они не улыбались.
— Профессор, — сказал Буров; они были вдвоем в отдельной палате, — в отношении меня все врачебные законы неприемлемы.
Профессор кивнул головой.
— Мне нужно знать все, все… Для того, чтобы распорядиться собой.
— Я и сам так думал, — сказал профессор, смотря в пол.
— Я помогу вопросами. Результат облучения?.
Профессор кивнул.
— Рак крови?
— Нет… не крови.
— У Шаховской тоже?
— Да. У нее… странный случай «молниеносного рака». И уже метастазы.
— Она приговорена?
— Да. Спасти не в наших силах.
— Оба случая совершенно идентичны?
— Совершенно.
— Я нарушил закон врачебной тайны…
— У врачей закон: не говорить умирающему, что у него рак. Все знают кругом, а он нет. В нашем случае закон требует противоположного. Истина должна быть скрыта не от больных, а от всех… От всех на свете… кроме обреченных.
— Я вас плохо понимаю.
— Вы должны рассматривать, что вольной не я. Больно человечество, все люди. Их надо беречь, профессор. Они должны думать, что я что-то ищу для них. Я и буду это делать. До последнего вздоха.
Профессор крепко пожал Бурову руку и молча вышел.
Буров сам сказал Шаховской во время их свидания в зимнем саду об их общей судьбе.
Лена тихо плакала, спрятав лицо у него на груди.
Он был суров. Она тоже стала суровой… Она сказала, что во всем будет походить на него. Никто больше не видел ее слез.
Через день их выписали из клиники. Буров непременно хотел вместе с Леной посмотреть на Москву.
Они поднимались по заснеженной аллее к ожидавшей их машине.
Буров помог Лене сесть в машину.
— Я провожу вас, — сказал онг называя шоферу адрес Лены.
Ехали молча. Когда машина остановилась, Лена скаїзала:
— Зайдите, Буров. Как тогда…
— Очень хорошо помню. Это было семьдесят миллионов лет назад, в другую геологическую эру, еще до ледникового периода.
Подняться нужно было всего лишь на второй этаж, но пришлось воспользоваться лифтом.
Когда они раздевадись в передней, Лена слышала, как закрылась дверь в комнату Калерии. Она даже не вышла встретить Лену, вернувшуюся из больницы.
Малейький Рой спал после обеда.
Склонившись над ним, Лена долго смотрела на него. Ей казалось, что за эти месяцы он так вырос!..
Потом, резко отвернувшись, стала прибирать в комнате, переставлять вещи с места на место.
Буров сидел около кровати Роя, смотрел на него и думал: «Вот растет человек. Есть у него будущее?…»
Лена быстро устала или снова почувствовала боль. Она села рядом с Буровым и взяла его руку в свою.
— Помните, Буров, я говорила, что нас с вами надо сжечь?… Я знаю, что и я виновата.
— Не надо, Лена, — поморщился Буров и хотел высвободить руку, но Лена не отпустила.
— Я все-таки была права. Если бы вы не открыли «Б-субсташщю», они не послали бы ее на Солнце.
— Так, может быть, надо сжечь все-таки их?
— Я тогда об этом не думала, Буров. Сжечь их? Я привыкла считать, что людская скверна воегда проявится, если создается подходящая ситуация… Ведь в жизни надо всегда рассчитывать на худшую сторону человеческой натуры. Разве мы не виновны с вами, что дали им возможность проявить себя?
— Нет, Лена. Нельзя рассчитывать на волчью сущность людей. Надо опираться на лучшие стороны и на то, что их всех объединяет.
— Разве есть такое? — устало спросила Лена.
— Да. Стремление жить. Но животные живут вопреки всем остальным, за счет всех остальных.
— А человек? — горько воскликнула Лена.
— А Человек?.Я произношу это с большой буквы. Человек тем и должен отличаться от животного, чтобы не жить за счет чужой жизни, а жить в высшей гармонии со всеми остальными братьями по племени.
— Если бы это было возможно!
— Это возможно, Шаховская! Гармония высшего общества подобна гармонии совершенного и здорового организма, где отдельные клетки и органы не живут за счет друг друга, не пожирают, не уничтожают, а помогают существовать.
— Не хочу быть только клеточкой, не хочу! Не хочу отмирать, уступать место…
Буров выразительно посмотрел на спящего Роя. Лена поняла этот взгляд и смущенно отвернулась.
— Нет. Это не клетка, Лена, — кивнул Буров в сторону ребенка. — Это будущий мир, сверкающий, прекрасный, полный исканий, свершений и красоты.
Лена снова продвинулась к Бурову. Соприкасаясь плечами, они смотрели на спящего мальчика. Он смешно посапывал носом. Его закрытые глаза казались удивительно длинными. И весь он был необыкновенно милый и смешной…
Лена тряхнула головой, повернулась к Бурову и медленно провела рукой по его седеющим волосам.
— Буров, я все решила. Нам осталось жить так мало. Хотите, теперь я сама признаюсь вам?…
Буров отрицательно покачал головой:
— Нет, Лена. Вы могли почувствовать, что я теперь смотрю на жизнь только со стороны.
— Но ведь вы же еще живы, живы, Сережа!..
— Только для того, чтобы жили другие.
И он встал:
— Сил осталось так мало, — словно извиняясь, сказал он.
И это было странно слышать от такого огромного… Лена опустила голову, чтобы скрыть краску, прилившую к щекам.
— Хотите, Буров, — тихо сказала она.
— Завтра вы явитесь в лабораторию. Помните, никто не должен знать.
— Вы не человек, Буров! — повернулась к нему Лена. — Вы хотите быть сильнее всех. Зачем вам это… сейчас?
— Нет. Не сильнее всех. Только сильнее себя. Мы просто до конца должны служить всем. В этом наша сила, Шаховская. Завтра вы придете в лабораторию. Я еще надеюсь на магнитный сосуд. Они еще просто не сумели в нем обнаружить…
— Почему вы надеетесь на сосуд и не надеетесь на людей?
— Я берегу их, Шаховская. Прощайте.
— И вы уходите так? — сказала Шаховская, вставая.
Она долго смотрела в лицо Бурову снизу вверх, потом притянула к себе его большую голову и прильнула к его губам в долгом поцелуе.
— Шаховская, прошу вас, не повторяйте этого, — сказал Буров, осторожно снимая со своих плеч ее руки.
И он поспешно вышел, словно убегая от самого себя.
Лена бессильно опустилась на стул, в отчаянии просунув руки меж колен.
Она слышала, как хлопнула входная дверь, но не заметила, как в дверях ее комнаты появилась Калерия.
— Хэлло, моя дорогая! Прощание состоялось? Это очень хорошо. У меня есть приятные новости для мисс Сэхевс.
Лена вздрогнула, устало взглянула на Калерию и тихо сказала:
— Хэлло, Марта…
Вы могли бы поблагодарить меня за заботу о вашем годовалом отпрыске, если бы эти услуги не оплачивались в вашем оффисе, моя дорогая. Я ничего не требую, кроме…
— Кроме? — подняла на нее глаза Лена.
— Кроме повиновения, мисс Сэхевс. Через тридцать минут состоится сеанс связи. Я должна передать о вашей готовности.
— Какой готовности? — все так уже устало произнесла Эллен.
— О вашей готовности вернуться в Соединенные Штаты, моя милая. Оффис вызывает вас.
Лена усмехнулась.
— Как странно… меня вызывают в Америку?.Разве есть на свете Америка? Какой-то оффис?
— Что вы хотите этим сказать?
— Что не двинусь с места. Что не вернусь в Америку. Что умру здесь.
— Вот это верно. Об этом уж я позабочусь. Вы умрете у стенки под пулями чекистов, как и подобает разоблаченной шпионке.
— Вот как? — безучастно сказала Эллен.
— Если вы сейчас же не одумаетесь, то я разоблачу вас.
— И себя?
— И себя. Во всяком случае вашим разоблачением я куплю себе жизнь. Не так ли?
— Но найдете ли вы себе в жизни место, не покрытое льдом?
— Мисс Сэхевс! Замолчите. И повинуйтесь. Готовьтесь к отъезду. Мы имитируем ваше самоубийство, Я буду заботиться о Рое.
— Самоубийство? Лучше всего вскрыть себе вену. Но тогда много крови…
— Нет. Я дам показания. Ваш труп не найдут подо льдом.
— И снова подо льдом…
— Да очнитесь, негодная! — и Калерия ударила Лену по щеке.
Лена вскочила:
— Как ты смеешь, гнусная змея! Ты ничего не поняла, ровным счетом ничего. И я ничего тебе не скажу, кроме того, что ничего не боюсь! Ни тебя, ни оффиса, ни всей Америки, куда никогда не вернусь.
— Ах так, милочка! Пеняйте на себя, — и Марта подняла трубку телефона, косясь на Лену, которая стояла с пылающим лицом. Она наизусть набрала номер телефона. — Это департамент госбезопасности? Прошу извинить меня, господин комиссар. Говорит агент иностранной державы. Я хотела бы раскрыть одну тайную шпионскую организацию, если мне будет гарантировано…
Марта положила трубку на стол и посмотрела, прищурившись, на Лену. Лена протянула руку к трубке, в которой слышался мужской голос Но Марта перехватила трубку и снова поднесла ее к уху.
— Простите, господин. Если вы пожелаете, то мы встретимся немедленно. Хотя бы на площади Пушкина, был у вас такой баснописец. Скажите номер вашей машины. Я подойду.
И с деланной небрежностью Марта повесила трубку.
— Ну? — сказала она. — Вы довольны, мисс Сэхевс, мать незаконнорожденного ребенка? Может быть, мы прогуляемся до памятника пиита шесте?
Лена плюнула Калерии в лицо. Та вскочила:
— Ты пожалеешь об этом, смрадная шлюха!.. Знайте, что шпионы проваливаются только на связи. Мы бы никогда не провалились, потому что никто не услышал бы того, что я передала бы через шестнадцать минут.
— Вы ничего не передадате в свой гнусный оффис со столом, залитым чернилами.
Калерия удивилась:
— Разве я рассказывала вам об зтом?
— Идите, доносите, змея! Я буду рада, что схватят не только меня, но и вас. Иначе я сообщу сама.
Калерия заторопилась.
Уже в шубе она снова заглянула:
— Вы не одумались, княжна?
— Я попадаю в апельсин на лету, — сказала Эллен, играя в руке маленьким револьвером.
Калерия исчезла.
Лена схватилась за голову.
Она думала не о себе, не о грозящем разоблачении. Она думала о Бурове, каким это будет для него ударом.
Приступ боли заставил ее сесть.
Она посмотрела на часы. Через семь минут Марта снова занялась бы своей черной магией. Почему она так удивилась при упоминании о чернильном пятне? Как она говорила в тот день, когда демонстрировала сеанс связи? «Известно много случаев, когда внушаемое на расстоянии принималось… другим человеком». А если никакой телепатии нет? Если все это комедия, с помощью которой Марта пыталась подчинить Эллен? Нет!..
Лена бросилась в комнату Калерии, стала рыться в стоявшем там серванте. Вернулась с бутылкой вина, бокалом и маленьким пузырьком. Во всяком случае она обязана попробовать!
Пейотль. Может быть, и не надо, но все равно. Нет! Это цианистый калий. Пахнет миндалем. Тем лучше. Растворить в последнем бокале. А сейчас пить и пить. Надо возбудить себя во что бы то ни стало. Буров! В нем теперь все. Он думал о всех людях и отстранялся от них. Он ошибался в этом. Пусть все думают о нем, заботятся… Это смягчит удар. Ах, если бы ее услышали в зтом гнусном оффисе… Если бы ей удалось заменить Калерию в телепатическом сеансе…
Лена пила бокал за бокалом. Голова у нее кружилась. Она с трудом различала стрелку часов. До срока связи остались минуты… Лена высыпала в бокал кристаллики.
…Калерия вышла на улицу, подозрительно огляделась и пошла не к площади Пушкина, а в противоположном направлении.
Через несколько шагов с ней поравнялась машина. Дверца открылась, послышался голос:
— Прошу вас, Калерия Константиновна.
Калерия Константиновна и глазом не повела, независимо идя, как всегда подтянутая и неторопливая.
— Прошу вас, Марта, — повторил голос.
Калерия Константиновна вздрогнула и остановилась:
— Что вам угодно? Вы ко мне обращаетесь?
— Именно к вам. Ведь вы обещавши прийти на Пушкинскую площадь.
— Вы меня с кем-то путаете. Я не в том возрасте, чтобы назначать Свидания у памятников.
Из машины вышли офицер и штатский, оба были незнакомы Калерии, но одного из них Эллен могла бы узнать…
— Все же мы попросим вас проехать о нами. Это не на свидание. Позвольте представить вам. Ваш незнакомый перцепиент, участник вашего телепатического треугольника.
— Добрый день, мадам, — сказал нервный человек с беспокойными глазами. — Вам не приходилось бывать на моих лекциях или сеансах? Нет? Но мне приходилось принимать участие… незримое для вас участие в ваших сеансах.
— Чудовищное недоразумение! Разве можно думать о телепатии всерьез. Вы подслушали шутку, которую я разыгрывала со своей подругой.
— Нет, почему же? — продолжал нервный человек. — Я даже могу напомнить вам, как вы не совсем точно записали передачу о смерти старого князя Шаховского. Вам сообщили, что князь изменил своему делу перед смертью, а вы…
— Никакой телепатии! — упрямо твердила Калерия. Но она покорно села в машину. Она как-то осунулась, потеряла свою подтянутость. Офицер, в котором Эллен узнала бы знакомого таксиста, так хорошо говорившего по-английски, сел за руль.
Машина быстро умчалась.
…Лена сидела, откинувшись на стуле с закрытыми глазами. В спальне плакал ребенок, но она не реагировала.
Страшным напряжением воли она старалась представить себе серую комнату оффиса, которую когда-то вообразила себе.
И ей удалось вызвать галлюцинацию. Она увидела оффис и двух сидящих там людей. Один был военный, другого она не могла себе представить, хотя особенно чувствовала его присутствие.
Лена мысленно твердила одну фразу, исступленно вкладывая в нее всю Свою горечь, всю свою боль.
— У Бурова рак, вызванный облучением. У Бурова смертельный рак. Передайте миру. У Бурова рак. Он смертельно болен. Весь мир должен узнать это. Буров, Буров… Он умрет. Он не должен умереть. Передайте миру…
Лена без чувств упала на ковер. Недопитый бокад скатился со стола и разбился, вино пролилось по паркету, на котором лежал револьвер Эллен.
И в своем бредовом состоянии Эллен видела, как в скучной серой комнате разведывательного оффиса за неряшливым столом с пишущей машинкой сидел ничем не примечательный человек с немного осоловевшими глазами.
— Что она передала, Сэм? — спросил сидевший тут же военный.
— Ничего не понимаю, сэр. Как будто это была не она. Но я отчетливо понял. Я мог бы записать на машинке.
— Запишете потом. Что она передала?
— Буров при смерти. У него рак. Это надо передать всему миру.
— Это очень правильно, Сэм. У нас превосходный агент. Нужно передать эту новость всем газетам. Они подведут черту под концом всего.
ЧАСТЬ 5. ВЕЛИКАЯ ВЕСНА
Глава первая ПРЕКРАСНЕЙШАЯ НОВОГО СОЛНЦА
И этот дневник я хотел опубликовать, чтобы люди, чужие и равнодушные, читали о моем сокровенном, готов был продать за миллион долларов то, что нельзя даже показать другому за все сокровища мира! Для кого я теперь пишу, без всякой надежды прочитать ей хоть строчку, ей, моей недосягаемой Эллен? Быть может, для себя, внезапно впавшего в смешную и трогательную пору юности, когда голубенькие тетрадки в клеточку прячут в тайники… под подушкой?
Лиз приехала на похороны моих бедных стариков. Она плакала больше, чем сестрица Джен.
Отец, отец!.. Оказывается, он был еще крепок, как-то еще тянул, когда мать уже совсем слегла. И он, старый кремень, все еще берег бесполезные для полей семена кукурузы… Хранил их до того дня, когда они были, наконец, описаны судебным исполнителем за долги и вывезены по предписанию банков, все-таки разоривших его… И не от истощения умер мой бедный старик, как телеграфировала сестрица Джен, а от крупнокалиберной пули старого ковбойского кольта, доставшегося ему еще от моего прадеда, на которого я будто бы похожу лицом, но не судьбой…
Представители банков почтили своим присутствием похороны, вежливо ожидая, когда гробы вынесут из дома, чтобы опечатать двери. Сестрица Джен сразу же после похорон должна была увезти совсем иссохшего Тома к мужу, устроившемуся где-то в теплой Флориде, где снег летом все-таки стаял.
Старика похоронили на холме. Если он будет вставать из гроба, то увидит и поля, впервые вспаханные его дедами, и ферму, увы, не перешедшую к его сыну… Мать положили в яму рядом с ним. Старый Картер гнусавым голосом прочитал над могилой псалмы.
Лиз плакала. Она не могла простить себе, что, вынужденная скрываться, не выкупила отцовской фермы…
Можно было не любить Лиз, но нельзя было ее не уважать.
Однажды Лиз играла на рояле, я сидел на низком кресле, сжав виски руками. Я не знал, что она играет, но она играла именно то, о чем я думал, что я чувствовал.
— Это Лист, Рой, — сказала она, осторожно закрывая крышку рояля и проницательно смотря на меня. — Это «Сонет Петрарки»…
Сонет Петрарки!.. Я нашел книжку сонетов Петрарки на низеньком столике в гостиной. Она была необыкновенно умна и проницательна, моя Лиз.
Петрарка, юный Франческо был тогда силен, ловок и красив, со взглядом быстрым и горячим темных карих глаз, уже известный всем умом, талантом и подвигом неустанного труда. Беспримерная его любовь, прославившая имя Женщины в веках, вспыхнула в миг, когда Лаура прошла мимо него, опустив черные гребни ресниц. Внезапно вскинув их, она озарила его светом Прекраснейшей Солнца… И была их любовь беспримерной, выше трагических обстоятельств, разделивших их оковами ее семьи, обетом его безбрачия, долгом, верностью, детьми с обеих сторон. Любовь эту почитали небесной, но была она истинно земной, рожденная земной красотой и земным благородством, хоть и была сильнее всего, что есть на Земле, даже сильнее смерти, смерти, поразившей Прекраснейшую в страшные ночи, когда смоляные гробы несли мрачные люди в смоляных балахонах с узкими прорезями для глаз. Трещавшие смоляные факелы тщетно отгоняли тогда черную чуму, не знавшую жалости к живым, но бессильную деред Любовью. Любовь эта была не только сильнее смерти, но и сильнее времени. Двадцать один год славил коронованный капитолийскимии аврами Поэт образ Прекраснейшей Солнца, которую видел лишь считанные часы на людях и чью непорочную близость познал лишь на миг, когда побледнела она, услышав об его отъезде. И еще четверть века славил он ее, погребенную в закоптевшем от факелов склепе. И еще шесть столетий после того Великая Любовь возгоралась пламенем негаснущего солнца во всех тех, кто сердцем прикасался, подобно вдохновенному музыканту, к бессмертным сонетам.
…Негаснущего солнца!..
Как горько звучит это в наши дни!..
Но какой это немеркнущий пример для моего несочастного чувства, которое хотело быть выше записи в книге гнусавого шерифа, выше ненависти и шпионского коварства, по воле враждующих людских племен разлучивших меня с той, которая для меня была Прекраснейшей Солнца и которую я лишь не умею воспеть в столь же бессмертных сонетах, как флорентийский поэт и гуманист.
Но если я не поэт и бессилен слагать достойные моей любви песни, то разве не могу я посвятить ей подвиг, который совершу во имя человечества, прозревший в тяжелые его дни!..
Американцы — люди действия. Я горжусь, что принадлежу к этой нации.
Конечно, я не мог совершить этот подвиг, я лишь только мог призвать к этому людей, сильных волей и умом.
И я отправился в Беркли, в атомный центр США.
Лиз сопровождала меня, сразу же одобрив мой дерзкий, а может быть, и безумный план.
В Беркли в новом отеле, носившем многозначительное название «Нуклон-отель», Лиз дала обед в честь американских атомников.
Может быть, не стоило всем им оказывать такое уважение после всего того вреда, который они принесли человечеству, но речь шла о возможности загладить перед потомками их вину.
Мы с Лиз стояли у дверей банкетного зала и, как магнитофонные ленты, произносили заученные фразы. Ученые учтиво улыбались нам, стараясь догадаться, что у нас на уме.
В начале своей речи на обеде я сказал о беспримерном бизнесе, дивидендом которого будет продолжение цивилизации. Нужен первый вклад, который в долларах делает моя жена, а своим знанием и гением могут сделать присутствующие здесь физики.
Можно ли создать обледенелой Земле второе Солнце?
Физики переглянулись, положили вилки на стол. Некоторые выпили содовую воду.
Да, второе Солнце! Физики на Земле научились превращать атомы водорода в гелий, освобождая ядерную энергию синтеза, воспроизводя солнечную реакцию на Земле, которая замирает ныне на Солнце. Но ведь в небе есть еще одно тело, состоящее почти целиком из ядерного горючего, из водорода. Нельзя ли с помощью современных технических средств зажечь Юпитер? Зажечь его и регулировать происходящие на нем реакции?
Физики очень серьезно отнеслись к этой безумной идее. Я подозреваю, что она не была для них нова, слишком уж вооружены они оказались цифрами для разговора на эту тему.
Они говорили со своих мест, некоторые вставая, а некоторые сидя за столом, покрывая салфетки цифрами и формулами, тут же объявляя результат.
Масса Юпитера 2х10іє граммов. Земные океаны были бы каплей в этом море водорода. Если весь этот водород превратить в гелий, то освободится чудовищная энергия. Они подсчитали ее — 10 эрг. Ее даже нельзя сопоставлять с энергией взрыва бомб, это энергия взрыва звезды. Но, конечно, такой взрыв нельзя допустить. Он испепелил бы все околосолнечное пространство, но если расходовать энергетические кладовые Юпитера бережно, брать из них лишь столько энергии, сколько давало в лучшие времена Солнце, то, даже погасни оно теперь совсем, новое Солнце на месте Юпитера будет светить 500 миллионов лет! Достаточно для того, чтобы наши потомки снова разожгли наше доброе старое Солнце.
Но оно еще не погасло! Нужно лишь совсем немного помочь ему, засветив в небе звезду нестерпимой яркости, которая изменит лик Земли, не только тем, что растопит ненавистные ледники, но и новой палитрой расцветит зори. И тогда в разных концах небосвода, одновременно с востока и с запада взойдут сразу два светила: одно — огромное, медное, закатное, другое — подобное ослепительной негаснущей вспышке. Двойные, странные тени лягут от всех предметов на земле, и две непохожие зари окрасят небо и облака в одной стороне красными, а в другой буйно-фиолетовыми огнями. Порой, светя вместе, два солнца станут растапливать вековые ледники в Антарктиде и Гренландии, освобождая для людей новые материки с бесценными сокровищами недр, а порой, светя поочередно, не допустят ночной тьмы, сделав ненужными на Земле тусклые электрические лампочки и слепые по сравнению с небом прожекторы.
Я не сказал им, я не сказал никому, что у этого нового Солнца будет своя Прекраснейшая Солнца, любовь к которой пусть не уступит бессмертной любви Поэта к Прекраснейшей старого Солнца.
Физики тоже были поэтами, поэтами цифр. Они считали.
Эпоха великих открытий науки, эпоха головокружительного разбега цивилизации ознаменовалась открытием света кристаллов, по интенсивной яркости в тысячи, в миллионы раз цревосходящего солнечный. Такой кристалл, например синтетический рубин, при известных условиях начинает генерировать электромагнитные волны, испускаемые атомами и усиливаемые кристаллической структурой рубина. Этот рубин излучает непостижимо острую иглу света или радиолуч необычайной силы и параллельности. Такой пучок, пройдя через еще более сужающую его оптическую систему, осветит на Юпитере пятно диаметром меньше километра. Если же эти кристаллические приборы, называемые лазерами, заставить работать в диапазоне гамма-излучений, с длиной волны 10Nє сантиметров, то угол расхождения пучка-иглы будет измеряться ничтожнейшей долей секунды дуги. Тогда в «зайчике» на поверхности Юпитера можно вызвать температуру в десятки миллионов градусов, поджечь тем в атомном смысле его атмосферу, возбудить реакцию синтеза гелия из атомов водорода.
Физики считали и, звеня вилками о бокалы, прося слова, сообщали результаты. Кое-что было сосчитано, очевидно, еще много раньше. Ученый Бэрбидж уже давно прикидывал, можно ли зажечь звезду, стимулировав в ней ядерный взрыв. Оказывается, поток гамма-излучений через ее поверхность должен достигать 10Nє эрг/смІх сек. Чтобы такой «гамма-прожектор», выполняющий роль космической спички, мог выполнить свою задачу, его мощность должна составлять 10NІ киловатт. Это в тысячу раз больше всех действующих на Земле энергостанций.
Это была уже, пожалуй, безысходная поэзия!..
Тоща заговорили те, кого я с такой неохотой приглашал на оргавизоованный Лиз обед, кто всю жизнь работал на черные грибы водородных бомб, температура в ножке которых достигала сотни миллионов градусов, и кто в душе всегда терзался мыслью, что результаты его работы когда-нибудь используют.
Они подсчитали и сказали: если послать на Юпитер космические ракеты с термоядерными боеголовками, если истратить на это все боеголовки, созданные еще недавно для целей уничтожения и бесполезные уже сейчас на Земле, то… можно вызвать на Юпитере инициирующий взрыв, могущий положить начало реакции синтеза гелия из водорода, которую потом можно регулировать энергетическими пучками лазеров, доступной для Земли мощности.
Ученые сказали свое слово.
Теперь нужны были термоядерные головки, все ядерные бомбы, которые все еще лежали на складах ядерных держав Земли.
Прямо из Беркли мы с Лиз вылетели в Вашингтон.
Секретарь Белого дома сообщил мне по телефону еще в «Нуклон-отель», что президент примет меня.
Мы прибыли в Вашингтон вечером и остановились в отеле «Лафайет». Расписывались на карточках у портье — «Мистер и миссис Бредли»… О’кэй!..
Портье многозначительно сказал, что государственные деятели предпочитают останавливаться у них. В прежние времена он был бы астрологом…
Вечером гуляли по тихому Вашингтону, провинциально чопорному, с белыми домами, черными прохожими и неумеренным числом памятников.
Памятник Аврааму Линкольну, великому человеку, боровшемуся за Справедливость, я хотел посетить.
Снег с мостовых был очищен. Приятно было видеть асфальт.
Мраморный президент, худой и нескладный, сидел на мраморном кресле, окруженный колоннами, взятыми взаймы из древнегреческого храма, и думал свою мраморную думу.
Да, много таких дум давит на президентское кресло, завещанное Линкольном. Неимоверна тяжесть ответственности, пугающа тяжесть прав того, кто сидит в нем. Он не только глава государства, он и глава исполнительной власти, премьер-министр и главнокомандующий армией. В виде указов он издает законы и может наложить вето на законы, принятые Конгрессом, он вождь правящей партии, ответственный перед великими предками, которых замещает, и перед потомками, для которых должен хотя бы уберечь жизнь на Земле… Один из великих предшественников Линкольна Томас Джеффероон говорил, что «…Человек должен руководствоваться Разумом и Истиной»…
Я спросил Лиз, удобно ли напомнить завтра президенту об этих словах Джефферсона.
Лиз странно улыбнулась. Я вдруг вспомнил, что где-то видел эту улыбку, эти ставшие вдруг загадочными глаза.
— Боже мой, Лиз! — воскликнул я. — Ведь вы же вылитая «Монна Лиза»!
Черт меня возьми, мог ли я, любуясь Джокондой, вообразить себе, что могу жениться на самой «Монне Лизе»!
Утром я направился пешком в Белый дом.
Секретарь Белого дома встретил меня в приемной и заговорил о том, что в саду нынче очень поздно расцвели вишни, подаренные когда-то японским императором.
Все-таки расцвели!.. Может быть, было бы лучше, если бы перед окном президента все так же померзло, как в более северных широтах!..
Помощник президента, лощеный молодой человек с угодливой улыбкой и жидким зачесом волос на благоухающей голове, вежливо осведомился о здоровье миссис Элизабет.
Я покраснел, как мальчишка. Так вот чему я обязан столь быстрым согласием президента принять меня. Я вошел в корпорацию шестидесяти семейств Америки, да притом еще в первую их пятерку… Потому, может быть, меня готовы именовать государственным деятелем?
…Лиз ждала меня у фонтана, прогуливаясь по широкой тщательно выметенной аллее. С одной стороны аллеи на деревьях распустились листочки, на противоположной, под широко раскинувшимися ветвями елей белели пятна сохранившегося снега.
Я замедлял шаг, а Лиз спешила мне навстречу… Нужно было хотя бы натянуть на лицо непринужденное выражение. Но Лиз было трудно провести.
Она подошла, молча взяла меня за руку, обо всем догадавшись. Нет! Не обо воем. Она не представляла, что сказал мне, прощаясь, президент.
Сколько раз я упрекал себя в малодушии! Вот и сейчас, вместо того чтобы сказать об отношении президента к проекту, я захотел объяснить свой удрученный вид печальным известием, не подумал, каково будет Лиз.
И я сказал ей о бедном Сербурге. Президент только что передал сообщение для печати. Бедняга Буров приговорен к скорой смерти, у него рак, вызванный облучением. Он искал выхода для человечества. Подумает ли оно сейчас о нем?
Лиз окаменела.
— Какой ужас! — прошептала она. — Ведь это невозможно! Великан Сербург… У него был щит в руке, которым он прикрыл целую страну…
Я старался утешить Лиз. Она отворачивала лицо, чтобы я не видел слез.
Таково уж человеческое существо. О близкой гибели одного человека естественно горевать, плакать… А близкую гибель едва ли не всего человечества просто трудно воспринять.
— Сербург! Бедный Сербург! — твердила тихим голосом моя «Монна Лиза». — Рой, вы должны поднять весь мир! — тряхнула она головой и посмотрела на меня. — Неужели никто ничего не сможет сделать? Рой!..
Я шел с опущенной головой. Я хотел поднять человечество на создание второго Солнца, во…
Надо было как-то отвлечь Лиз. Я не нашел ничего лучшего, как преподнести ей еще более печальную новость: президент не взялся гарантировать мне передачу всех ядерных боеголовок для космической бомбы, могущей поджечь Юпитер. Конгресс не окажет поддержку, поскольку есть сомнения в устойчивости «Б-субстанции». Кто-то высказал предположение, что наша солнечная система проходит сейчас через галактическое цротооблако и скоро выйдет из него. Тогда все будет по-щрежнему…
Все!.. Я, должно быть, очень выразительно посмотрел на президента, потому что он поспешил добавить, что сам он всецело стоит за мой план, но… И он сослался на изящный французский проект создания вокруг Земли «кольца Сатурна» из заброшенных на орбиту спутника мельчайших частиц, которые бы отражали солнечные лучи, восполняя нехватку тепла на Земле. Этот план тоже не получил поддержки из-за необходимости израсходовать для его выполнения все баллистические ракеты, которые еще пригодятся, если «все будет по-прежнему». Но президент не рассчитывал на это «по-прежнему». Оказывается, он уже обещал поддержку другому плану спасения Земли, не претендующему на запасы вооружения.
У «Монны Лизы» высохли глаза. Они опять стали загадочными. Нет, скорее… злыми.
— Я ни минуты не сомневалась в этом, — сказала она.
Кажется, я все-таки отвлек ее…
— Итак, мистер Игнес и инженер Герберт Кандербль, строитель Арктического моста…
— Что они придумали?
— Кандербль предложил приблизить Землю к Солнцу, изменить орбиту планеты. Игнес дал деньги. И уже строятся сейчас гигантские всепланетные дюзы, чудовищные реактивные двигатели, которые, используя водород океанов с помощью тех же термоядерных процессов, начнут тормозить Землю, уменьшат ее скорость, с какой она движется вокруг Солнца. Произойдет то же, что и со спутником, тормозящимся атмосферой. Радиус орбиты уменьшится, на Земле станет теплее. Правда, год будет пробегать быстрее, но…
— Какое же «но»?
— В этом надо увидеть трогательную заботу о потомках… Дело в том, что пока удастся затормозить планету, израсходовав для этого часть океанов, превратив морские порты в горные селения, цройдет слишком много укороченных лет. Едва ли в этих «горных селениях» будущего сохранится население.
— Так почему же они поддерживают этот проект, а не наш проект второго Солнца? — гневно крикнула Лиз.
— Должно быть, заводы вашего семейства, Лиз, работали не зря, пополняя атомные арсеналы. Как видите, расстаться с этим оружием, которое и применить нельзя, им все равно трудно.
— Рой! — воскликнула Лив. — Я еще осталась главным акционером моих заводов. Знайте! С этой минуты все эти заводы и все предприятия, зависящие от моих банков, будут производить проклятые ядерные боеголовки для нашего плана. Я пущу на этот космический ветер все свое состояние, но в небе зажжется еще одно Солнце!
Я знал, она способна на это. Один раз я уже убедился кое в чем, стоя у опустевшего багажника кадиллака.
— «Монна Лиза», вы — ангел!
Она отрицательно покачала головой:
— Я не знаю, кто я, Рой. Но я думаю, что Сербург одобрил бы меня.
Мы пошли к отелю «Лафайет», чтобы дать по телефонам необходимые распоряжения.
Мы собирались с «Монной Лизой» зажечь второе Солнце, думая о тех, кого любили…
Глава вторая ТОВАРИЩ СЭХЕВС
Последнее, что я помнила, был запах миндаля от бокала, который я пригубила.
Приходя в себя, я снова почувствовала этот аромат, нежный, горьковатый…
О ком я подумала? О маленьком Рое? Нет!.. Снова о Бурове!
Я открыла глаза и в испуге зажмурилась. Однако яркое солнечное пятно, которое я увидела на полу, не исчезло, оно отразилось на сомкнутых веках негативным изображением решетки на окне… Ее оранжевые прутья плыли перед закрьттыми глазами, как неотвратимое видение действительности.
Почему я жива?
Я заставила себя снова открыть глаза. Нет, мне не показалось. Светлое пятно на полу… и полосы от прутьев.
Все ясно! Марту схватили… И не одну Марту, но и ее сообщницу… Кем еще они могли считать меня? Разве я сама не шла на это?.Разве не я сама позволила Марте разоблачить «демоническую героиню» банального детективного романа?… Агент N 724, шпионское донесение об открытии Буровым «Б-субстанции». Потом письма деду, пославшему меня на подвиг во вражеский стан… И регулярные телепатические сеансы связи… Можно ли отречься от всего этого?…
Открылась дверь. Белый халат топорщился на широких плечах. На голове нет белой шапочки врача. Это посетитель. Можно догадаться, какой… Майор или полковник?
Его шагов не слышно, словно он, плотный, коренастый, не прикасается к полу или… снится мне.
Я закрыла глаза, потом открыла.
Он уже сидел у моей постели, придвинув к ней стул, и внимательно смотрел. Его взгляд не был жестким, в нем не было ни ненависти, ни презрения.
— Как мы себя чувствуем? — спросил он.
Я усмехнулась и хрипло сказала:
— Дайте закурить.
Он покачал головой.
— Ну что ж, — все тем же перехваченным спазмой голосом продолжала я, — будем «раскалываться», как это у вас говорят… Или рассказывать «легенду»?
Он остался серьезным. Он носил усы и небольшую бородку, в которой виднелись седые нити. Его темные глаза за очками живо поблескивали. Волнистые полуседые волосы… Он походил не на чекиста, а скорее на старого русского интеллигента…
— Легенду? — рассеянно переспросил он. За его очками сверкнули огоньки. — Что ж… но я предпочел бы не только слушать, но кое-что и записывать.
— Ну, конечно, — с горечью воскликнула я. — Вам не терпится записывать показания! Допрос… Микрофон спрятан под кроватью, рядом с судном?
— Когда я говорю о том, чтобы записывать, то имею в виду жизнь, правду жизни, вашей жизни, Эллен. Мне не нужно вас допрашивать. Я знаю…
— Что вы можете знать! — перебила я. — Что вы можете понять в моей душе!.. Вам нужно полное признание? Вы получите его. Но спешите! Сил у меня осталось немного.
— Может быть, признание нужно вам самой, Эллен.
— Так почему же вы не схватили меня раньше? Почему позволили мне действовать, как вы, вероятно, считаете, во вред вам?
— Видите ли, товарищ Сэхевс…
Он так и назвал меня. Я вздрогнула. Кто он? Почему он назвал меня советским словом «товарищ» и американским моим именем?
— Видите ли, товарищ Сэхевс. Есть мера вреда, который мог быть вами нанесен. Вам удалось только сообщить на несколько часов раньше секрет производства «Б-субстанции», который потом объявлен был Советским правительством всему человечеству. Можно было узнать вас как агента N 724…
— Конечню, Марта уже все рассказала вам!
— Можно было узнать под кличкой Марта, но важнее было узнать вас со всеми вашими думами и чаяниями, узнать вас как Елену Шаховскую и, что особенно важно, как Эллен Сэхевс.
— Вы хотите сказать, что поняли меня до конца?
Он отрицательно покачал головой:
— Многое осталось неясным. Вы пожелали сохранить ребенка, что не рискнула бы сделать рядовая резидентка… Вы не хотели продолжать работы с Буровым, хотя именно ради этого вас перебросили из-за океана. Вы даже отвергли его любовь, хотя могли обрести власть над ним… И в то же время вы передавали через свою дублершу донесения…
— А вы знаете, что я передавала? — шепотом опросила я.
— Да. Это было странно. Вы вводили в заблуждение своих хозяев.
Я облегченно вздохнула.
Он положил свою руку на мою. У него были длинные пальцы музыканта, нервные и нежные. Мне было приятно его прикосновение.
— Товарищ Сэхевс, я хотел бы, чтобы вы оценили доверие тех, кто поверил в вас.
— Товарищ Сэхевс… — прошептала я. — Как обязывает ваше обращение…
— Да, оно обязывает вас окончательно отречься от тех, кому вы служили…
— Вы, придумавшие меня!.. — с гневом воскликнула я. — Вы… вы… Вы ничего не знаете!.. Я никогда им не служила!.. Слышите? Никогда! И я хочу, чтобы Буров… чтобы Буров знал это!..
— Он слишком плох… Ему стало хуже, когда он узнал о вашей болезни, Эллен. Бюллетени о его здоровье печатают все газеты мира. Лучшие медицинские светила консультируют с помощью телевизионной связи лечащих его врачей. На самолетах в Москву шлют новейшие препараты, созданные в различных странах, чтобы продлить его дни… Так же, как и ваши, Эллен.
— Но они кончатся, все равно кончатся эти последние его и мои дни!.. Ведь проблема рака не решена!.. Пусть приговорена к смерти я… Но он!.. Как можно допустить его гибель?!
— Когда вам будет немного лучше, вы сможете увидеться с Буровым.
— Где?
Он тепло улыбнулся:
— В обычном месте. Под пальмами в зимнем саду, который устроили в коридоре клиники.
— Как? — почти ужаснулась я. — Разве я не в тюрьме? А это? — указала я на солнечные блики на полу.
— Это жалюзи, — улыбнулся он. — Ведь прутья решетки не делают горизонтальными.
И он легонько пожал мою руку.
Я села на кровати, чтобы посмотреть на него сияющими глазами. Но мне сразу стало плохо.
Он помог мне лечь, подоткнул одеяло. Я закрыла глаза. Мне было приятно ощущать его заботу. И я смотрела на него, не поднимая ресниц. Я даже не могу объяснить, как я мокла его видеть. Он опять неслышно прошел, как бы над полом. Улыбнулся мне с порога и исчез.
Миндалем пахли орхидеи, поставленные в моей палате. Кем? Я не смела спросить медицинскую сестру, дежурившую у моей кровати, кто приходил ко мне. Но все-таки решилась.
Она пыталась вспомнить. Оказывается, ко мне приходили все те медацинские светила, которые прилетали в Москву, чтобы помочь Бурову. Она старательно описывала мне английского профессора Уайта. Он был высок и широкоплеч и не носил белой шапочки, о он был без бороды. В очках был француз Шелье, знаменитый онколог, но он не знает ни слова по-русски, с ним была переводчица!.. Американец? Да, их было двое. Они приходили вместе. Профессор Стайн и доктор Шерли. Они привезли с собой сложную аппаратуру, которую сейчас готовят к действию.
И вдруг мне в голову пришло, что это я вызвала их всех, чтобы помочь Бурову, я, исступленно напрягавшаяся для первого в моей жизни телепатического сеанса! Я могла бы спросить сестру о том, объявило ли Советское правительство о болезни Бурова, но я не спросила. Мне хотелось думать, что я, на этот раз для чьего-то блага, еще раз опередила официальное сообщение…
Сестра не могла понять, почему я плачу, утешала меня.
Я уже знала, что маленького Роя взяли к себе Веселовы-Росовы, что над ним хлопочет Лю, соперничая со своей мамой.
Значит, Марта исчезла…
А я?… Меня не трогали… Потому ли, что конец мой уже ясен, или… или позволили самой найти свой путь? Но ведь они же ничего не знают обо мне!..
— Но Буров… Буров!. Он должен знать все!.
Мне нужно было увидеть Бурова! Я умоляла об этом.
Мне мягко разъяснили, что это невозможно. Он уже не встанет. Его поддерживают какими-то сильнодействующими средствами.
Но я не могла уйти из жизни, не открыв ему всего…
Однажды в белом халате вошел высокий тощий человек, может быть, врач-ординатор или студент-практикант, с выцветшими бровями и веснушчатым лицом. Я его не видела прежде. Он наклонился ко мне и сказал:
— Простите, товарищ… я по поручению Бурова.
Он так и оказал — «товарищ»… А может быть, даже назвал меня Оэхевс. Или мне только хотелось этого?
— Буров просил… Ему сейчас очень плохо… Но ему все же разрешили увидеть вас.
— Меня? — не веря ушам, спросила я.
— Да. Я отвезу вас в кресле. Постарайтесь быть бодрой.
И снова Мне показалось, что он добавил или хотел добавить «товарищ Сэхевс»… Почему в кресле? Ах да, я ведь уже не умею ходить!..
Я заволновалась. Сестра дала мне зеркальце. Я попудрилась, ужасаясь своему виду.
Ординатор словно в ответ сказал:
— Он едва ли сможет рассмотреть вас. Он чуть тлеет…
Боже мой!. Буров… и тлеет!..
И все-таки я даже намазала губы, сделала прическу такой, какую Буров больше всего любил, «помпейскую», как он говорил, — высокую, зачесанную с затылка наверх.
Кресло на колесах уже ждало меня. Я ведь уже не умела ходить… Ординатор легко взял меня на руки и посадил в него. Он был очень силен, этот жилистый «лейтенант», как я его мысленно прозвала.
Он. покатил меня по знакомому коридору с пальмами. Здесь мы «тайком» встречались когда-то с Буровым…
Меня ввезли в его палату.
Под одеялом лежал огромный человек, но на подушке виднелось лишь подобие лица, напоминавшего теперь кость… Еще свет падал так, что глазницы казались черными и пустыми.
Кресло поставили рядом с кроватью. Мне помогли наклониться. «Лейтенант» был очень тактичен, он ушел. Остались только старушка няня и моя медсестра, не отходившая от меня. Нет, я уверена, что она не была ни лейтенантом, ни старшиной. Женщина о женщине судит безошибочно.
— Буров, — тихо сказала я, — вы слышите… ты слышишь меня? Я пришла.
Его губы шевельнулись. Мне показалось, что он хотел сказать:
— Спасибо, родная…
Слезы мешали мне смотреть. Я сжимала его высохшие руки.
— Буров, все было неправда в том, что я говорила тебе, все! — с жаром сказала я.
Он открыл глаза. Они были живые, они улыбались, Он был счастлив.
Я не лгала, но он понял меня по-своему. Может быть, он вспомнил мои слова о том, будто он не нужен мне, что будто я не люблю его…
И я поцеловала его в жесткий костяной лоб, не прикоснулась к нему, а поцеловала по-женски, так, чтобы он почувствовал меня…
Он посмотрел на меня радостно, потом сощурился. Его взгляд стал проницательным. Я поняла, что сейчас он хочет знать все.
И тогда я наклонилась и стала говорить ему. Я знаю, никто не позволил бы мне этого сделать, если бы я спрашивала разрешения. Но никто не посмел и остановить меня.
Только он мог меня слышать, только ему я говорила. Я торопилась, я перескакивала с одного предмета на другой, но я хотела открыть перед ним всю себя. Я говорила:
— Буров, я никогда не стала бы этого говорить, чтобы оправдаться, чтобы избежать казни… Я бы гордо промолчала… Меня моглм бы простить. Но тебе не надо меня прощать, тебе не за что меня прощать… Разве только за то, что я бежала от тебя… Хотя я и была, как все теперь скажут, шпионкой, приставленной к тебе, выдающемуся ученому.
Он испуганно посмотрел на меня. Я поцеловала его руку. И я продолжала, не давая ему опомниться, не позволяя ему протестовать:
— Я виновата только в том, что люблю тебя, Буров, во всем остальном я не виновна перед тобой, я не предала тебя! В Америке… Да, да, в Америке я носила свою фамилию княжны Шаховской. Меня только называли там Сэхевс, коверкали мое имя. Я там родилась, там выросла, была рядовой американкой. Но что-то было во мне для них чужое. Что-то во мне не хотело мириться с интересами подруг по колледжу, которые состязались друг с другом в познании всех сторон жизни… Мне хотелось видеть будущее иным, современность казалась мне душной. Дед воспитывал меня для подвига. И я хотела совершить подвиг, но вовсе не тот, которому он собирался меня посвятить. Он носился с мертвой идеей вернуть великий русский «народ-богоносец» на тропу, с которой он свернул в несчастные для деда дни революции, выбросившей его за океан. Я должна была стать русской Жанной д’Арк, Марфой-посадницей или еще не знаю кем… Я не возражала деду, я ведь его любила со всеми его причудами и заблуждениями… А сама я хотела быть с русским народом на том его пути, который он выбрал. В Америке тогда коммунисты подвергались гонениям. Коммунистическую партию пытались запретить, объявить вне закона. И я хотела быть с этой партией… Но так, чтобы принести ей особую пользу… а не просто страдать вместе со всеми. Я была гордячка, Буров. Вот за это можешь меня не прощать, не заслуживаю. В голове у меня бродили безумные идеи, под стать дедовским… И они окончательно созрели, когда я слушала в Бруклине на митинге в одном из скверов речь красного сенатора Майкла Никсона, Рыжего Майка… Он говорил, что Коммунистическую партию в Америке нельзя запретить, что это поведет лишь к тому, что появится еще больше тайных коммунистов. И я решила стать такой коммунисткой, служащей всему коммунистическому движению в мире! Моей горячей, набитой романтикой голове казалось, что подлинный подвиг — это бескорыстный, никому не известный, тайный… Я решила по-особенному стать полезной делу, которому хотела служить… И помочь в этом, сам того не зная, мог дед. Нужно было только для виду согласиться пойти его путем. Этот путь привел меня в шпионскую школу, где из меня готовили разведчицу, диверсантку, резидентку… Кто поймет, какая сила требовалась от меня, чтобы решить играть в жизни эту тройную роль!.. Считалось, что у меня для этого есть все необходимое: великолепный русский язык, который так хранили в нашей семье, знания физики, внешняя привлекательность и фантастическая преданность идее… Они были правы! Я была действительно фантастически преданна тому, что задумала, но только не тому, что задумали они! Я не знала, смогу ли вынести всю тяжесть тайной игры… У меня было слишком много слабостей. И первая из них — склонность к авантюризму… К тому же я воображала, что влюблена… Я считала, что во имя идеи должна разом порвать с этим человеком. Считала, что для этого достаточно умения лопасть пулей в апельсин на лету… Но… К тому же он встретился оо мной уже на пути сюда… Я просто решила проститься через него с миром, который покидала. Он был для меня символом этого мира. Я позволила себе оставить лишь одну нить, связывающую меня с прошлым. Мы глупо венчались с ним под звездами. И все это опять выдумала я. Его звали так же, как и нашего сына, которого ты, Буров, хотел усыновить. Я слишком высоко тебя ставила, чтобы допустить это!.. Ты поймешь меня, Буров? Рубикон был позади. Я оказалась в вашей стране. Все было сделано безукоризненно. Со мной была моя дублерша, давняя резидентка, моя руководительница и связистка. Я ее ненавидела, своего подлинного врага, но должна была прежде всего перед нею играть свою тройную роль. При всей сложности этой роли цель моя была проста. Тайная коммунистка, о существовании которой не знал никто, кроме нее же самой, стала «антикоммунистической псевдоразведчицей», для того чтобы дезинформировать своих боссов. И я могла это делать через их же систему, с помощью их же сотрудницы Марты. Я играла… я играла для тех, кто меня окружал и даже любил, играла для них роль молодой обещающей ученой, беззаветно преданной тебе, Буров, моему руководителю. И я не лгала, исполняя эту роль. Одновременно я играла перед Мартой и ее боссами роль шпионки, делая вид, что выполняю грязное задание, находясь в центре советской научной мысли. Я должна была уверить боссов, что справлюсь с этим мрачным делом. И я сумела это сделать. Я послала им сообщение об открытой тобой «Б-субстанции»… Но я сделала это, зная с твоих же слов, что это открытие в решительную минуту будет обнародовано. Так и случилось. Я не принесла никому вреда. А мои боссы поверили мне, оценили своего тайного агента. Теперь нужно было лишь усыпить враждебную Марту. Ради нее я стала писать письма деду, зная, что она непременно прочитает их. Я разыграла роль неустойчивой, сбитой с ног разведчицы… Марте стоило большого труда направить меня на нужный ей путь, заставить продолжать свою шпионскую деятельность. И я продолжила работу с тобой, едва только поняла, что могу принести тебе пользу. А Марта отныне передавала с помощью своих телепатических сеансов или другим путем тщательно продуманную мной дезинформацию. Я гордилась, что вожу их за нос. Это было опасной игрой. Провал любой из трех моих ролей грозил концом… А я всей душой стремилась к тебе, огромный, сильный Буров. Но не считала себя в праве на это… Ведь я воображала, что совершаю подвиг, сила которого в том, что он останется неизвестным. Если я говорю все это тебе сейчас, то только потому, что мы оба обречены и вовсе не требуется, чтобы кто-нибудь, кроме тебя, поверил мне… И я говорю, потому что не могу не говорить. Я хочу, чтобы ты понял меня до конца, знал бы меня такой, какой не знал ни один человек на Земле…
Я торопилась, стремясь высказать все… Я наклонялась к Бурову все ниже, говорила все тише и заглядывала ему в глаза… Я чувствовала или хотела чувствовать, что он понимает меня.
Он улыбнулся мне одними глазами… Если бы он даже не услышал всего, то он понял что-то самое главное… Он прощал меня.
Это было так нужно мне.
Мне? Значит, только для себя я говорила все это? Только мне было нужно все это?
Холодный пот выступил у меня на лбу.
И тут я увидела, как стали тускнеть его глаза, становились стеклянными. Он уходил, он уже ушел, в последний миг лишь откуда-то издалека заглядывая через еще живые глаза. А теперь и они отвердели, угасли…
Меня стало трясти.
— Голубушка, подождите, — забеспокоилась старушка няня.
Она взяла у меня одну руку Бурова, другую я продолжала сжимать. Мне казалось, что она холодеет.
— Нет пульса, — отрывисто сказала старушка и нажала красную кнопку медицинской тревоги.
Мое кресло откатили.
Перед глазами у меня плыли круги. Говорила ли я что-либо Бурову или мне только казалось это?
В палату вошли два врача. Они бросились к кровати.
Обо мне забыли. Я слышала отрывистые слова:
— Шприц… Кислород… Искусственное дыхание… Бригаду сюда…
Входили и выходили люди.
Сердце резанула короткая фраза:
— Клиническая смерть.
Он умер!.. Умер у меня на руках, ульцбнувшись мне глазами, быть может, даже услышав обо всем…
Вкатили стол на колесиках. Быстро положили на него Бурова… Боже мой!.. На него положили труп Бурова и куда-то повезли…
Ужо в морг? Почему такая спешка? Мне хотелось сидеть около него, по-бабьи выть или причитать, плакать, как жене…
Я увидела «лейтенанта». Он стоял лицом к окну и украдкой смахивал слезы. Потом, спохватившись, бросился ко мне:
— Так ужасно, что вы были здесь.
— Нет, — покачала я головой. — Так было нужно. Я успела ему все сказать…
Я смотрела неподвижными сухими глазами перед собой.
— Вы его любили, — сказал он. — Это сразу видно. И мы… мы тоже… Правда, не так, как вы… Но мы работали с ним еще до вас. Сегодня была моя очередь дежурить около него.
Я смотрела на него и думала, что лейтенанты не плачут.
— Вы сильная, — сказал мнимый лейтенант и покатил мое кресло.
Я не таилась от него. Я рыдала. Мне еще предстояло найти силы, чтобы написать обо всем.
Глава третья МИЛЛИАРД ТРЕЩИН
Я получил вызов в чрезвычайную комиссию американского сената. Каждый американец отлично понимает, что это значит. Не могу оказать, чтобы я испытывал особо приятное чувство. Слава государственного деятеля быстро померкла в моих глазах, и отважная душа моя изменила свое местопребывание, избрав для этого ту часть моего бренного тела, которая считалась уязвимой даже у Ахиллеса.
Чрезвычайная комиссия была создана в связи с оледенением Земли. Возглавлял ее красный сенатор Рыжий Майк, то есть мистер Майкл Никсон, что не предвещало для меня ничего хорошего, так как одновременно со мной туда были вызваны и руководители организации «SOS» — мистер Ральф Рипплайн и мистер Джордж Никсон. В отличие от меня, они, в предвидении такой возможности, предусмотрительно оказались в Африке, где сооружалась столица будущего Малого человечества — Рипптаун.
Естественно, что хозяева Рипптауна отнюдь не собирались являться в комиссию американского сената для дачи показаний, которые «могут быть использованы против них», или для проявления неуважения к сенату при отказе от показаний, что, как известно, карается тюремным заключением.
Я всячески уважал сенат и совсем не уважал тюремное заключение, имея в виду свое собственное. И потому я почтительно явился на вызов.
Мы приехали с Лиз в Вашингтон и поселились все в том же отеле «Лафайет». Надо думать, что мне сейчас меньше всего подходило сравнение с государственным деятелем…
Лиз с ходу потащила меня делать визиты каким-то влиятельным сенаторам. Их оффисы помещались в Капитолии, украшенном снаружи величественным куполом, а внутри скучными бюстами когда-то заседавших здесь сенаторов. Каждому живому сенатору, кроме будущего бюста, полагалось по две комнаты и по одной секретарше. Сенатор сидел в одной комнате, а секретарша в другой, уверяя звонивших по телефонам просителей, что мистер сенатор на заседании, что у него важное совещание, что он… быть может, у самого президента или хотя бы у государственного секретаря, в то время как ее шеф просто пил бренди с другим своим скучающим коллегой, с которым они, принадлежа к разным партиям, смертельно враждовали в зале заседаний и всегда вместе ездили на рыбную ловлю.
Сенаторы важно выслушивали нас с Лиз, сочувственно кивали мудрыми головами с зачесами жидких волос и выражали сожаление, что сами они не входят в «ледяную комиссию». Словом, они могли помочь в моем деле не больше, чем заклинания шамана.
Явиться мне надлежало не в Капитолий, а в какое-то серое здание на Конститьюшн-авеню, где помещался один из второстепенных департаментов, кажется, Управление федеральных резервов.
Под стражу меня не взяли, а предложили войти в пустую серую комнату с жестким стулом перед столом, за которым в креслах непринужденно заседали сенаторы, курили, пили содовую и перелистывали зловещие серые папки.
По-видимому, я чего-то недооценил… Или того, что в «ледяной комиссии» председательствовал Рыжий Майк, или отзвука, который был вызван моими с Лиз начинаниями… Оказалось, что председатель «ледяной комиссии» сената меньше всего придавал значения моей двусмысленной репортерской деятельности. Комиссия проявила живой интерес к моей теперешней деятельности и к «плану Петрарки», как я назвал замысел превращения Юпитера во второе Солнце.
Узнав, что немалые капиталы семейства Мортанов, которыми распоряжалась моя жена, направлены уже на выполнение «плана Петрарки», сенаторы произнесли краткие речи о конструктивном величии частной инициативы даже в самые грозные часы для существования человечества.
Председатель комиссии по этому поводу ничего не сказал. Он только заметил, что моему размаху следовало бы позавидовать джентльменам, сидящим в Белом доме и около него.
Однако вызвал меня Рыжий Майк совсем по иному поводу. Он был хорошо осведомлен о моих отношениях с Джорджем Никсоном и Ральфом Рипплайном. И, оказывается, он был высокого мнения о некоторых моих способностях.
Он спросил меня, возьмусь ли я за выполнение государственного задания. Волей или неволей, но я превращался-таки в государственного деятеля!..
Речь шла о Бурове, о моем африканском приятеле Сербурге, о болезни которого я узнал недавно от самого президента. Президент, помню, горестно вздохнул, ну, а Майкл Никсон предпочитал действовать. Он сказал мне на заседании «ледяной комиссии», что помощь Бурову — долг всего человечества, избавленного им от ядерных войн. Мы, американцы, не можем остаться в стороне, а помочь больному раком может только профессор Леонард Терми, который был накануне решения проблемы.
Терми был в Рипптауне. Майкл Никсон считал, что достать его оттуда мог бы только я. Я получал специальные полномочия американского президента и должен был по поручению «ледяной комиссии» отправиться с чрезвычайной миссией в Рипптаун.
Так я действительно превратился в государственного деятеля и на самолете президента США вылетел в Африку.
Снова Африка! И снова свидание с боссом, с бывшим боссом!..
Сразу со знакомого аэродрома, где приземлился правительственный самолет, я отправился прямо к нему… Большей дерзости от меня он ожидать не мот.
Он лежал в кресле, обложенный подушками, с лицом мертвеца и теми же глазами негодяя.
— Хэлло, мой мальчик, — зловеще сказал он.
— Озабочен вашим здоровьем, сэр, — как и подобает дипломату, с язвительным намеком ответил я.
— Желаю вам такого же, — прорычал Джордж Никсон.
— Тогда бы мне пришлось заинтересоваться специалистами, скажем, самим профессором Леонардом Терми.
— Напрасно, — огрызнулся босс. — Не продается.
Я стал насвистывать ковбойскую песенку. После первого куплета, терпеливо выслушанного Джорджем Никсоном, я непринужденно заметил:
— Сенатор Майкл Никсон рассчитывал видеть в чрезвычайной комиссии не только меня, но и вас, сэр.
— Заткнитесь! — проревел босс, окончательно отказываясь от традиционной учтивости дипломатов. — Пусть только сунутся сюда — к Солнцу полетят новые ракеты с «Б-субстанцией». На Земле не останется и квадратного дюйма, не покрытого ледниками. Уйду в пещеры, под землю, но не оставлю никому места на Земле.
— Всем нам уготовлено место под землей, — вздохнул я, молитвенно возводя очи и вежливо осведомился:-Надеюсь, сэр, вам удалось справиться с такой неприятностью, как раковое заболевание?
Мистер Джордж Никсон передернулся в кресле:
— Если вы имеете в виду помощь этого ученого колдуна, то он… объявил голодовку. Старый болван! Непременно хочет отдать концы раньше меня!
Я был готов ко всему, Майкл Никсон хорошо подготовил меня. Но голодовка! Бог мой!..
— Я берусь переубедить мистера Терми, — сказал я, зная, на чем теперь играть: только на жажде жизни и страхе смерти, которыми объята душа босса. — Могу вас заверить, он не просто вернется к интересующей вас проблеме, но… и поможет вам.
Джордж Никсон смерил меня взглядом.
— Почему я должен верить вам?
— У вас нет другого выбора, сэр, — резко сказал я, вставая. — Только я смогу убедить профессора Терми.
Он молчал, но ему оставалось только капитулировать. Он был трус.
— О’кэй, — проворчал он. — Предоставлю вам вашу последнюю возможность.
Я усмехнулся. Скорее нужно было говорить о его последней возможности.
Меня привели к профессору Леонарду Терми. Он занимал охраняемый безгусеничными танками загородный особняк, уцелевший от атомной бомбардировки.
Офицер отряда охраны собственности, выпустивший меня из загона для Малого человечества, дружески подмигнул мне. Этот верзила с белой кожей и черной душой провел меня в дом, в котором отчаянно пахло жареными бифштексами. Я даже вспомнил, что пропустил время второго завтрака.
Позвольте! Но ведь Никсон говорил о голодовке?
Комната служила прежнему владельцу кабинетом или библиотекой. Шкафы были полны научными книгами, вероятно, доставленными сейчас сюда… для соблазна старого ученого.
Профессор сидел спиной к столику, на котором призывно пахли как бы кричащие своим запахом блюда.
Я кашлянул. Профессор не повернулся.
— Как вы поживаете, мистер Терми? — почтительно произнес я.
Леонард Терми не шелохнулся. Тогда я зашел с другой стороны, чтобы увидеть его лицо.
Я не узнал ученого. Он поднял на меня ставшие огромными глаза, полные мировой скорби. Лицо его осунулось, заросло седой щетиной, седые волосы были растрепаны, свисали за ушами длинными прядями. Горькие, тяжелые складки щек, оттенявшие подстриженные усы, без слов говорили о думах этого человека.
Не знаю, узнал ли он меня. У него шевелились ноздри… И только тут я понял, какой пытке подвергался этот старый человек. Что муки Тантала! Зарытый по плечи в землю, он не мог дотянуться до кувшина с водой и до отставленных яств. Леонард Терми мог легко протянуть руку к столику за его спиной, избавив себя от мук голода, но не делал этого.
— Мистер Терми! — сказал я. — Мне не удалось однажды предотвратить ваше похищение. Теперь я сам хочу похитить вас. Но… По заданию президента.
Он поморщился. Я поспешил добавить:
— С ведома сенатора Майкла Никсона.
Он чуть заметно кивнул. Скорбные глаза пронзительно смотрели на меня. Мне казалось, что этот грустный человек видит меня насквозь, видит даже мои нуклеиновые кислоты, эти скрижали жизни, на которых записана программа жизни моего организма, для всех органов, для всех клеточек, развитие которых определяет то, чем я являюсь, мой рост, мой вес, мое здоровье, мой ум, даже мои чувства… к Прекраснейшей нового Солнца…
— Президент и сенатор Майкл Никсон поручили мне передать вам, что русский физик Сергей Буров умирает от рака.
Терми молчал, а я вынул припасенные газеты: с их страниц на профессора Терми смотрели два лица — так знакомое мне лицо Сербурга и вдавленная в подушку костяная маска с провалами глазниц.
— Рак вызван облучением, — быстро заговорил я. — Вы могли бы, профессор, доказать, что ваша гипотеза о раке верна.
— Гипотеза! — перебил меня Леонард Терми. — Я только выдвинул ее, но не решил проблемы рака. Разве я могу успеть теперь?…
— Вы открыли шифр, каким природа записывает инструкцию развития всех органов человека, — убеждал я.
— Ах, боже мой, — простонал Терми. — Если бы это было так!.. Я только предположил, что рак — это нарушение записи, как вы сказали, зашифрованной молекулами нуклеиновых кислот!.. Но разве я могу указать, какая это запись и как ее исправить?!.
— У него был особый рак… молниеносный… вызванный облучением…
— Постойте! Как вы сказали? Облучение стерло запись? Такое стирание записи наследственного кода — основа мутаций и изменения наследственности… Вы хотите сказать, что убийственное облучение могло оставить заметные изменения?
— Которые, несомненно, вы увидите, сэр!.
В глазах Леонарда Терми исчезло выражение мировой скорби.
— А ну-ка, молодой человек, распорядитесь! Убрать отсюда все эти бифштексы! Принести жидкого кофе, подкрашенного молоком, и только один сухарик. Живо!.. Пока я не съел этой смертельной порции!..
У этого человека была железная воля. Он ел свой сухарь, который ему принесли, маленькими кусочками, отхлебывая жидкий кофе. Он говорил:
— Увидеть спирали нуклеиновых молекул живого организма. Но как? Даже электронный микроскоп недостаточен… Нужно, чтобы организм пронизывался потоком нейтрино. Нейтриновый микроскоп есть только в России…
— Но ведь Буров же русский! — воскликнул я.
Терми отодвинул недопитый стакан с кофе. Глаза его глядели куда-то вдаль.
Открылась дверь, и верзила-офицер вкатил кресло с мистером Джорджем Никсоном.
— Я в восторге от вашего разговора, — мрачно произнес он.
Я догадался, что кругом были микрофоны.
— Ваша гипотеза великолепна, профессор. Но нет нужды ехать подтверждать ее в Россию. Я создам здесь для вас лучшую в мире лабораторию.
Терми уничтожающе посмотрел на него:
— Я не уверен, что вы успеете это сделать.
Никсон позеленел:
— Какая у меня гарантия, что, отпустив вас, я получу вашу помощь?
Терми с нескрываемым презрением сказал ему;
— У гуманной науки нет и не может быть исключений. Даже для таких… особей, как вы. Если будет спасен Буров, будете жить и вы.
Терми не давал торжественных клятв, но было в его голосе что-то такое, что не позволяло усомниться в его честности.
У мистера Джорджа Никсона не было другого выхода, он торжественно проводил из Рипптауна профессора Леонарда Терми, как своего почетного гостя, отдыхавшего у него.
В тот же день профессор Леонард Терми был доставлен самолетом в Нью-Йорк и появился в своей лаборатории при Колумбийском университете. Я, как уполномоченный президента, присутствовал при его сборах в Москву. Научной аппаратурой загрузили два самолета. В них раньше Терми вылетели в Советский Союз его помощники Стайн и доктор Шерли.
Так я выполнил задание сената и президента, превратившись-таки в государственного деятеля.
Дальнейший мой шаг закрепил за мной это почтенное звание, хотя, если разобраться, заслуга моя была не так уж велика. Я оставался уполномоченным президента, потому что в общей неразберихе меня забыли освободить от этой должности. А я считал, что как-то должен ее оправдывать.
Наступал апрель тяжелого года оледенения. Солнце казалось совсем весенним. Снег сбрасывали с крыш. Почерневшие сугробы осели. Люди казались веселее, они воображали, что Солнце все же пробудится ото сна. В Сентрал-парке птицы щебетали, как и полагается весной. Девушки ходили по панелям с непокрытыми головами, в распахнутых пальто и ожигали встречных взглядами.
А я улетел в Китай. Я узнал о всеобщем порыве в этой стране. Кого только не терпел над собой великий древний народ. Но в труде он был всегда сплочен и решителен. Говорили, что там шестьсот или семьсот миллионов человек вышли на обледенелые поля, чтобы очистить их для лучей солнца.
Майкл Никсон посоветовал мне использовать свои права специального уполномоченного президента и самому посмотреть, что делается в Китае.
Китай всегда казался мне загадкой. Несчетные миллионы людей, подобно муравьям, становились у реки, передавали по живым цепочкам плетеные корзины с землей — и поперек реки вырастала плотина. Признаться, я даже побаивался «желтой опасности»… И вот теперь я своими глазами посмотрел, как вся эта «желтая сила» обрушилась на лед полей…
Я не стану описывать, что я там видел, этого не передать. Я поспешил вернуться, считая, что американцы могут выполнить все то, что способны сделать китайцы.
У нас не было того организационного потенциала, которым пользовались коммунистические страны в Европе и прежде всего в Советском Союзе. Они в отличие от нас могли единым плановым актом перестроить всю свою сельскохозяйственную технику, имевшую единое управление, снабдить миллионы тракторов специальными гидромониторами, струи которых крошили лед, позволяя вспахивать ледяное поле, подставляя его солнечным лучам.
Если мы не могли следовать этому примеру, то выйти на поля с кирками и лопатами были в состоянии.
Я явился к председателю сенатской «ледяной комиссии», к сенатору Майклу Никсону, чтобы предложить через него всем американцам, до последнего человека, выйти на поля. Нужно было одним всенародным взмахом покончить с ледяной коркой нового ледникового периода. Ведь ледники в былые времена появлялись не сразу, они нарастали год от года, не успевая за лето стаять. Если снять этой весной ледяную корку с полей, земля будет рожать даже и под тусклым солнцем. Советский Союз, проводивший у себя активные меры борьбы со льдом, предоставил в распоряжение Организации Объединенных Наций семена скороспелых культур, выведенных для заполярных областей. Гибель мира, убеждал я, может быть оттянута хотя бы еще на год, пока зажжется Юпитер, затормозит свой бег по орбите Земля или… вспыхнет по-старому Солнце.
Мой «план миллиарда трещин» был принят американским народом, выразившим мне тем высочайшее доверие.
Я летел к отцовской ферме на геликоптере, получая по радио сводки о том, сколько людей вышло на поля в каждом штате, каждом округе.
С воздуха я видел необычайную картину. Снежные пространства, сколько видел глаз, были покрыты черными точками людей и пятнами машин. Все машины, сколько их было в Америке, грузовые и легковые автомобили, тракторы, танки, бронетранспортеры и даже катки для укатывания асфальтированных дорог, десятки миллионов машин были выведены теперь на поля.
Я не узнавал родной фермы с воздуха. Я никогда не представлял, что она так жалко выглядит сверху.
Вертолет опустился около механического тока. Я заглянул в незапертый знакомый гараж и не увидел там ни моего старого кара, ни трактора, на котором ездил маленький Том, зато нашел здоровенную кирку, которая была, пожалуй, мне по плечу.
Взяв эту кирку, я отправился на родное кукурузное поле, где накрыл нас когда-то с Эллен бесенок Том.
Его-то я и увидел первого…
И Джен была здесь, и ее туповатый муж… и гнусавый Картер, шериф и проповедник… Боже мой! Одно и то же чувство привело их всех сюда!
Разговаривать было некогда. Джен успела крикнуть мне, что Лиз выкупила отцовскую ферму, поэтому они и примчались сюда помогать очищать отцовские поля.
Ай да Лиз!
В довершение всего она и сама оказалась здесь.
Мне некогда было выражать свои чувства. Тут надо было не отставать. Все двести миллионов американцев вышли на поле, двести пятьдесят миллионов русских с их тракторами-гидромониторами, сотни миллионов европейцев — словом, миллиарды людей…
Но что это была за работа! Бог мой!
Трактор, на котором восседал Том, ревел, как танк. К его тракам были приделаны специальные била, которые крушили лед.
Я тоже крушил лед, словно он и был моим главным злейшим врагом после Джорджа Никсона. Тяжелая кирка взлетала, сверкая на солнце, как молния. Из миллиарда трещин немалая доля досталась на мою долю.
Миллиарды молний ударяли в лед.
Джен и Лиз едва поспевали очищать землю от разбитого мной льда.
Когда показалась черная, еще мерзлая земля, Джен встала на колени и поцеловала ее. Ай да Джен!
У меня затуманились глаза, должно быть, пот катился по бровям…
Это была веселая, бесовская работа! Люди озорно перекликались, подзадоривали друг друга! Они бегали с места на место, гнали перед собой зеленоватую волну битого льда, смешанного со снегом.
Подъезжали грузовики. Лопаты словно сами собой забрасывали вверх потоки снега.
Люди разделись, побросали одежду на отбитую землю, на которой виднелись лужицы. Я, дурак, нисколько не меньший, чем сестрица Джен, встал на колени и напился из этой лужи. Потом принялся рубить киркой с двойным остервенением, наслаждаясь, опьяняясь невиданным трудом.
Какая это сила — миллиард человек! Какая это сила — людская общая воля! Вот где была моя настоящая роль, где я чувствовал себя ровней со всеми, не опустившись, а поднявшись до них.
И Лиз, эта удивительная «Монна Лиза», не отставала от меня. Ее предок, знаменитый пират Морган, мог от изумления вертеться в своем гробу губернатора Ямайки, в котором он закончил свою преступную жизнь. Могли лопнуть от изумления и все ее родственники и знакомые по великосветским раутам. Она была неистовым бесенком. Я крикнул ей, что, если бы это уже не случилось, я непременно женился бы на ней. Она рассмеялась и обдала меня лопатой снега. Снег забился за шиворот. Я был рад этому, мне казалось, что куртка сейчас загорится на мне.
Откуда только пришли все эти люди? С заводов Ньюарка, с шоссе, на котором брели процессии живых скелетов? Стоя плечо к плечу, они общим усилием меняли лик Земли, неистовые, устремленные, решившие во что бы то ни стало добиться своего.
Нет силы, равной силе человечьей, нет ничего в мире, что может устоять перед потоком общей воли.
Десятки дней почти без сна, десятки дней под рев и грохот помогающих людям машин мы отвоевывали у льдов отцовские поля, потом поля Картера и дальше, дальше теснили проклятые ледники… Мы засеяли их семенами скороспелых культур.
На этих освобожденных фантастическим трудом полях взойдут ростки. Человечество будет жить!
Я держал в руке мозолистую, жесткую, но совсем маленькую руку «Монны Лизы». Когда-то она сказала, что меня стоило разрубить пополам. Я сказал, что ее желание исполнилось. Одна из миллиарда трещин расколола меня. И ненужную половину я уже сбросил с себя.
Глава четвертая КОД ЖИЗНИ
Я снова разыскала свою голубенькую тетрадку… Почему я ничего не могу делать систематически? Перечитывала написанное и плакала… А сейчас… опять не могу не писать.
В мою жизнь вошел мальчик Роенька. Это такой удивительный ребенок, смышленый, ласковый… мне уже кажется, что он любит меня больше всех на свете.
Роенька, Роенька! Я иногда плачу, глядя на него, так мне его жалко. Я его усыновлю, когда свершится то страшное и неизбежное, о чем все знают и не говорят.
А он, ничего не понимая, что-то лопочет на своем детском языке, только ему да мне понятном. Я слушаю его и вспоминаю всякие необычные случаи: какой-то человек упал в прошлом веке с лошади и вдруг заговорил по-древнегречески… А уже в наше время одному шестилетнему ребенку, когда он был тяжело болен, бабушка читала «Войну и мир». Ему все равно было, что слушать, лишь бы мерно звучал голос, тогда он успокаивался. В начале романа у Толстого все написано по-французски. Бабушка и читала по-французски. Она свободно владела этим языком. И вдруг больной ребенок что-то переспросил ее. Она ответила и поймала себя на том, что они с малышом говорят по-французски. А он, конечно, и представления не имел об этом языке. И пока он был тяжело болен, он говорил только по-французски, а выздоровев, не мог вспомнить ни слова. Потом он стал крупным профессором экономической географии, читал лекции в Ленинграде и ездил на Кубу читать их в Гаване… но так и не выучил французский… А еще один случай был в Индии. Там родился мальчик и, едва заговорив, заявил, что он брамин и что знает всякие премудрости. Это дало повод буддийским монахам говорить о «переселении душ», но на самом деле, с современной точки зрения, все объясняется иначе. Общеизвестно, что у живых существ все наследственные признаки сосредоточены в нуклеиновых кислотах, молекулы которых образуют двойные спирали с мостиками. Это дезоксирибонуклеиновая кислота!.. Уф, не выговоришь! Комбинация мостиков, соединяющих двойные спирали и состоящих из двух пуриновых (адеин и гуанин), ниримидиновых (тинин и цитозин) оснований, прикрепленных к молекулам сахара, заключает в себе все свойства, которые передаются по наследству. А ведь по наследству передаются не только свойства организма — слон это или краб, — но и некоторые навыки: волчонок, играя, воспроизводит охоту, котенок хищно бросается на мышь, ребенок боится темноты… Передаются инстинкты, являющиеся по существу результатом опыта предыдущих поколений, то есть знанием предков. Так не вспомнил ли древнегреческий язык человек, упавший с лошади, не заговорил ли больной ребенок по-французски, наконец, не разгадывал ли тайны браминов ребенок на Гималаях, потому что у них по какой-то причине происходило включение переданных им по наследству знаний, хранившихся в мозгу? Говорят, наш мозг используется лишь в небольшой доле. Ученым до сих пор неизвестно, «чем заняты» большие области мозга… А что, если в результате развития организма по коду нуклеиновых кислот в них уже запечатлены знания, приобретенные родителями? Что, если мы просто не умеем пробуждать эти дремлющие в нас знания, учим все в школах с самого начала?…
…А хотела бы я, чтобы у Роеньки уже было университетское образование? Хотела бы я, чтобы он в пятилетнем возрасте уже защищал кандидатскую диссертацию?
Нет, нет и нет! Ни за что на свете! Я хочу, чтобы он был обыкновенным и глупеньким ребенком и чтобы первое его слово было «мама».
Мама… Я уже готова присвоить себе это святое имя, а его настоящая мама еще жива.
Я мчалась в клинику, чтобы проведать бедную Елену Кирилловну!
Подумать только!. Она была прежде красивой. Мужчины сходили по ней с ума. И Буров.
Ах, Буров… Я только раз заглянула к нему в палату, вернее, не в палату, а в лабораторию. По стенам были расставлены какие-то приборы, они работали, качали кровь, насыщали ее кислородом, что-то фильтровали вместо почек.
Я не знаю, был ли жив Буров. Он уже несколько раз умирал. У него останавливалось сердце, стеклянели глаза — это видела сама Елена Кирилловна! — он уже не дышал. Говорят, что его воскрешали, возвращали к жизни. Но была ли это жизнь?.Я ведь знала его живым, сначала недолюбливала, а потом… Нет, лучше не вспоминать! Теперь «живым Буровым» считалась по существу целая комната с работающими механизмами: механическим сердцем, механическими почками, механическими легкими, со стеклянными трубками, по которым текла чужая кровь, взятая у других людей, или какой-то химический раствор, и меньше всего места занимало само тело Бурова, лежавшее в термостате, где регулировали его температуру, как в морге… С точки зрения медиков он был «жив».
Он хотел жениться на Елене Кирилловне, хотел стать ее ребенку отцом. А я ведь хочу быть мамой этого мальчика…
Но как я могу писать обо всем этом, когда мать маленького Роя еще жива? Еще жива…
На этот раз я увидела у Елены Кирилловны американского профессора Леонарда Терми. Я учила формулы Леонарда Терми, сдавала их на экзамене по физике. И, оказывается, он прилетел из Америки, чтобы лечить Елену Кирилловну и Бурова. Я не сразу поняла, почему это должны делать физики. Потом узнала, что он после взрыва атомных бомб навсегда отказался от ядерной физики и перешел в биофизику. Это он разработал теорию кода жизни, запечатленного в нуклеиновых кислотах.
Меня больше всего поразили его глаза, грустные, раскрытые один чуть шире другого, скорбные… Ему, конечно, жаль было Елену Кирилловну и Бурова…
Я застала уже конец разговора. Леонард Терми хорошо говорил по-русски. Я не удивилась: многие современные физики разных стран знают русский.
У Леонарда Терми была гипотеза о сущности рака. Он рассказывал о ней. Рак, как он предполагает, это результат неправильной информации, которая дается растущим клеткам. Что-то испортилось, стерлось в программирующем устройстве — ведь живое существо — это действующая кибернетическая машина! В задающем устройстве словно выпала какая-то строка, как в типографском наборе при верстке. Вот и появляется бешеная нерегулируемая ткань — опухоль, губящая весь организм. Облучение, которому подверглись Буров и Шаховская, могло повредить «запись» в мостиках, соединяющих спирали нуклеиновых кислот, стереть эту запись со скрижалей жизни. Надо только узнать, что именно стерто. Бурова нельзя трогать, он слишком плох. Необходимо попробовать на Елене Кирилловне. А это было так страшно. Я бы никогда не согласилась, струсила бы, убежала… А она…
В палату вошла высокая седая женщина в белом халате в сопровождении врачей и медсестер. По тому, как почтительно прислушивались все к каждому ее слову, я поняла, что это очень видный врач.
— Хорошо, что вы пришли как раз сегодня, — сказала она, светло улыбаясь мне. — А то я уже собиралась посылать за вами. А чему это вы только что смеялись?
— Я… я рассказываю Елене Кирилловне о ее сыне.
— Он уже сидит?
— Нет, что вы. Рой уже топает. И даже лопочет. И знаете, мне даже кажется, что по-английски.
Она рассмеялась, а Елена Кирилловна стала грустной.
Профессор Терми встал.
— Очень рад вашему приходу, коллега, — сказал он. — Мне говорили о вас, как о человеке с прецизионными или, как это сказать по-русски, с золотыми руками…
— Обыкновенные руки женщины. В древнем Китае говорили, что у врача должны быть глаз сокола, сердце льва и руки женщины. Всего лишь руки женщины! Ну, как мы себя чувствуем, моя дорогая? — наклонилась вошедшая над постелью Елены Кирилловны.
— Госпожа Шаховская согласилась на эксперимент. Я всегда преклонялся перед силой русских женщин, — сказал американский ученый.
— И вовсе тут нет никакого геройства. Обыкновенное лечение. Начинать его надо с больного, который в лучшем состоянии.
Елена Кирилловна слабо улыбнулась.
Теперь я вспомнила. Это была главный хирург клиники Валентина Александровна Полевая. Я емотрела на ее красивое, уже немолодое лицо во все глаза, и она заметила это.
— Ну вот, — сказала она мне. — Теперь давайте поговорим.
Я сразу заволновалась.
— Так вы работали с ними? — опросила она, отведя меня к окну.
Я кивнула головой.
— Между скульптором и хирургом должно быть нечто общее. Вот я и грешу. Да, да, — снова улыбнулась она. — Грешу, делаю статуэтки. Я с тебя бы охотно слепила. У тебя совсем такая фигурка, как была у нее… И вы чем-то походите.
— Что вы? — ужаснулась я. — Мы такие разные.
— Ну, так как? Будешь натурщицей?
Я покраснела.
— Вот именно, придется раздеться донага. Что ж ты пугаешься? Я врач, к тому же и женщина, а уважаемый наш американский коллега профессор Терми — человек почтенного возраста.
Я ничего не понимала. Американец посмотрел на меня одобряюще.
Она положила свою нежную и сильную руку на мою.
— Видишь ли… Эксперимент должен быть сравнительный. Мы должны видеть одновременно два тела. Здоровое… и поврежденное. Твое и ее.
— Как видеть? — похолодела я.
— Не только обнаженной, но просвеченной потоком частичек нейтрино, о которых ты учила в школе. Наш нейтриновый микроскоп должен показать нам спирали нуклеиновых кислот у тебя, вполне здоровой, и у нее, больной. Мы сравним…
Я была ошеломлена, у меня тряслись поджилки, я трусила самым позорным образом. Она поцеловала меня:
— Я знала, что ты согласишься.
Я действительно согласилась, даже не осознав этого.
Эксперимент только казался страшным. Мы просто сидели, вернее, полулежали с Еленой Кирилловной в креслах, напоминающих шезлонги. В комнате свет был погашен. Я могла не стесняться. Никто не видел меня голой. В общем, было как в рентгеновском кабинете. Сзади и спереди нас помещалась какая-то очень громоздкая аппаратура. Перед нами виднелся экран. На нем с гигантским увеличением проектировалось то, что составляло основу жизни мою и Елены Кирилловны. Мы обе видели изображения. Длинные двойные опирали, будто бы похожие на металлические стружки токарного станка. Порой справа и слева изображения были совсем не похожи. Очевидно, мы видели то, что отличало нас с Еленой Кирилловной. Но иногда изображения на экранах становились почти совсем одинаковыми или похожими.
Профессор Терми, его помощники, Валентина Александровна Полевая, главный врач, старичок профессор и еще какие-то ученые сидели на поставленных рядами стульях и обменивались короткими фразами, глядя на экран. Иногда Леонард Терми совмещал изображения двух экранов в один, сравнивал мое и Елены Кирилловны «устройство», — что-то вскрикивал, объяснял. Кажется, они все-таки нашли разрушенное место. Я старалась тоже увидеть, но ничего понять не могла. Оказывается, в одном месте у Елены Кирилловны мостики, соединяющие двойные спирали, были нарушены, словно подверглись бомбардировке. Собственно, так и было. Лучи радиации механически разрушили их.
— Мне все ясно, — сказала Валентина Александровна. — Если вы считаете, что это и есть место повреждения, то попробуем его восстановить, пользуясь здоровым образцом.
Здоровый образец, «эталон жизни» — это была я.
У меня заколотилось сердце. Мне казалось, что из-за моего волнения все исказится сразу на экране, но там ничего не произошло.
— Я воспользуюсь нашим электронным скальпелем, мистер Терми, — говорила Полевая. — Хирургический пантограф. Уменьшает движения хирурга в сотни тысяч раз.
— Я мог бы только мечтать об этом в Америке, — послышался голос американского ученого.
— Начнем сейчас же, — предложила Полевая.
Я потом узнала, что на руках у Полевой были надеты браслеты, от которых тянулись провода к сложнейшему аппарату. Браслеты улавливали биотоки хирурга и соответственно ими управляли через аппарат электронным лучом, копировавшим движения рук хирурга в стотысячном масштабе.
Я видела, как протекает операция, прямо на экране.
Луч скользил по экрану и заставлял разрозненные, сбившиеся в бесформенные кучки молекулы выстраиваться в пораженном месте точно так же, как это было видно на другом экране. Елену Кирилловну усыпили с помощью какого-то излучателя, а меня почему-то усыплять не стали. И я все-все видела! Это было поразительно просто и в то же время непередаваемо сложно. Собственно, нельзя было даже представить, что происходит «хирургическая операция»! Я вспомнила, что Полевая — скульптор. Она у нас на глазах лепила живого человека.
Полевая ловко орудовала лучом-скальпелем. Она строила из молекул мостики, как дети фигурки из игрушечных кубиков. Она примеряла результаты своей работы, совмещая изображение двух экранов, снова принималась за невероятной трудности, скрупулезную работу. Пораженных мест оказалось много. Их методически выявляли и восстанавливали.
Конечно, никакой человек не в состоянии был бы выполнить этот «микроскопический сизифов труд». К счастью, электронным скальпелем через хирургический пантограф управляла еще и кибернетическая, обучающаяся в процессе работы машина. Только с ее помощью можно было починить уйму разрушенных мостиков по образцу первых, восстановленных самой Полевой.
Но электронная машина, выполняя задание уже самостоятельно, делала это с такой немыслимой быстротой, что проследить за этим было уже невозможно. Операция заканчивалась как бы уже в другом масштабе времени…
Потом Елену Кирилловну унесли в палату, а меня, совершенно обессилевшую, увезли на автомашине домой. Полевая провожала меня до вестибюля, на прощание обняла и расцеловала. Она была такая простая, что невозможно было даже представить, что она только что оперировала… молекулы, перестраивала программу жизни человека, меняла его, как в сказке… Но сказочное началось потом.
Накормив Роеньку, отправив его гулять с девушками-лаборантками из нашего института, прибежавшими мне помогать, я мчалась в клинику к Елене Кирилловне.
Ее ничем не лечили. За ней только наблюдали.
Было от чего потерять голову, кружиться по паркету, целовать всех медсестер и нянечек.
Елена Кирилловна менялась на глазах. Она ожила, словно воспряла былой красавицей, лепкой, стройной, бодрой. Она уже ходила. Бросалась ко мне навстречу, всякий раз… И все время говорила о Рое и Бурове…
Но что-то в ней изменилось, я сама не знаю что.
Мы стояли, обнявшись, крепко прижавшись друг к другу, когда в палату вошла Валентина Александровна с обычной своей спокойной улыбкой.
— Ну как, побратимочки? — спросила она. — Кибернетические мои сестры, статуэточки мои?
— Почему сестры? — удивилась я.
И она повела нас в коридор, где был устроен зимний сад. Там между пальмами стояло огромное зеркало. Обняв нас обеих за плечи, она подвела нас к этому зеркалу. Я посмотрела и обомлела. Только теперь я заметила, что произошло с Еленой Кирилловной. То, что ей исправляли повреждения в скрижалях жизни по моему образцу, не прошло даром. Конечно, причина рака была устранена. Организм, правильно регулируя рост клеток, сам справился, молниеносно и волшебно, с дикой тканью. Опухоль распалась, сама собой исчезла, но… Это было не все!
Елена Кирилловна не только оказалась моложе, она стала еще и походить на меня как старшая сестра. У нее изменился даже цвет глаз: был теперь совсем как у меня, не серый, как раньше, а карий… И волосы у нее стали немного виться… и черты лица приблизились к моим…
Это было наваждение. Она была здорова, снова молода и совсем такая же, как я…
Однажды мы вчетвером: я, Елена Кирилловна, Валентина Александровна и профессор Терми — сидели в зимнем саду. Елена Кирилловна почему-то очень любила это место.
— Нет, — говорил профессор Терми, — здесь не моя заслуга, коллега. Я лишь высказал гипотезу, лишь подсказал вам, в каком месте нужно искать повреждение, но устранили повреждение ваши руки с помощью удивительного аппарата, разработанного советскими учеными. Вот об этом аппарате и о ваших прецизионных руках я и хочу поговорить, коллега.
— Считайте, что они всегда в вашем распоряжении, профессор.
— Речь идет о долге чести. После операции над господином Буровым необходимо спасти от рака одного величайшего мерзавца.
— Вот как? — искренне удивилась Полевая.
— Речь идет о мистере Джордже Никсоне, Верховном магистре ордена «SOS».
— Но ведь он же потушил Солнце! — вне себя от гнева воскликнула я.
— Этот субъект больше заслуживает электрического стула, чем электронного скальпеля, — жестко сказала Елена Кирилловна.
— Вот вы — врач, коллега, — сказал печально Терми. — Я — ученый, проклявший свою прежнюю работу, приведшую к созданию страшных средств уничтожения. Вся наша деятельность — гуманизм. Я перешел в науку о жизни, видя в ней одну из самых гуманных областей науки. Мы все только что видели эти волшебные спирали во время вашей удивительной операции. Но как бы они ни казались волшебными, мы довольно много знаем о них, имеем представление об их химическом составе, об их размерах. Диаметр спиралей — 20 ангстрем, шаг спиралей — 34 ангстрема, расстояние между мостиками — 3,4 ангстрема. Вам впервые в мире удалось провести молекулярную хирургическую операцию, устранившую причину страшного заболевания, тем самым вы указали путь победы над раком, кто бы им ни болел. Электрический ток высокого напряжения уничтожает преступника, сидящего на электрическом стуле. Но это не единственный способ уничтожения мерзавца. Быть может, в будущем, в век полного гуманизма, люди сочтут более гуманным уничтожить не весь организм преступника, а то в нем, что делает человека преступным.
— Что вы имеете в виду? — воскликнула Елена Кирилловна.
— Я имею в виду ту запись кодом жизни, которая позволила развиться у человека античеловеческим чертам. Я мечтаю сдержать свое слово, спасти Джорджа Никсона от рака, но одновременно…
— Профессор! — воскликнула Полевая. — Если вам нужна помощница с моими руками, распоряжайтесь.
— Переделать Джорджа Никсона по образцу настоящего человека! — прошептала Елена Кирилловна. — Какая сумасшедшая и оригинальная мысль!
— О, да! — подхватил профессор Терми. — Я ведь до сих пор никого не лечил. Но я хотел бы вылечить от подлости всех подлецов мира, начиная с Джорджа Никсона. Я бы посадил с ним рядом замечательного, как мне кажется, парня… одного журналиста…
— Какого? — живо спросила Елена Кирилловна.
— Не знаю, известен ли вам такой… Роя Бредли.
Елена Кирилловна вскрикнула и лишилась чувств.
Мы с Валентиной Александровной кинулись приводить ее в сознание. Прибежали и захлопотали нянечки. Появились носилки на колесиках.
— Кажется, мы переоценили состояние нашей милой выздоравливающей, — вздохнула Полевая.
— Вот видите… — печально сказал Терми. — Теперь это еще больше обязывает нас к осторожности в главном эксперименте.
— Если бы было время для этой осторожности! — задумчиво сказала Валентина Александровна. — Я готова решиться…
— Я в отчаянии, коллега, едва подумаю, что наш метод может оказаться бессильным. Ведь он рассчитан на включение собственных сил организма, действующих по исправленной программе. Но ведь у него таких сил нет. Ведь действующего организма по существу, там нет. Мы имеем дело не с живым человеком, а лишь с забальзамированным с помощью непрерывно действующих машин его трупом.
Мне стало почти дурно.
— С вами страшно согласиться, профессор, — тихо сказала Валентина Александровна.
Глава пятая СОЗВЕЗДИЕ СВЕТИЛ
Лиз прилетела в Москву вместе с мистером Игнесом и инженером Гербертом Кандерблем. Сенатор Майкл Никсон отправился на правительственном самолете на день раньше.
Герберт Кандербль, высокий, нескладный, торопился надеть в проходе между рядами кресел пальто. Боб Игнес уже спускался по трапу, подняв обе руки с тугим портфелем и маленьким чемоданчиком, шумно приветствуя встречающих. Кандербль пропустил Лиз вперед.
Ее встречала профессор Веселова-Росова. С радушной простотой она обняла американку, когда та сбежала по ступенькам.
Кандербля и Игнеса встречали их старые знакомые братья Корневы, инженеры, соратники по строительству Арктического моста через Северный полюс. Их представили Лиз. Один из них, совершенно седой, но с молодым лицом, обращал на себя внимание. Это был человек из племени легендарных строителей, о котором Лиз слышала еще в юности.
Корневы увозили гостей на дачу, так называют здесь загородные виллы. Лиз не хотела стеснять Веселову-Росову, приглашавшую остановиться у нее, и попросила отвезти ее в гостиницу «Украина».
По дороге, сидя в машине, Лиз робко высказала радушной женщине свое заветное желание повидаться с помощницей Бурова, которую удалось вернуть к жизни.
— Я ее так хорошо помню. Я была очарована ею, — сказала Лиз.
Веселова-Росова почему-то очень смутилась и пробормотала что-то по поводу того, что непременно передаст это желание гостьи.
Лиз отказалась в гостинице от трехкомнатного номера, заняв на этот раз маленькую комнату с одной кроватью.
Расставаясь до вечера, Веселова-Росова советовала Лиз поспать до ночного заседания. Лиз уверяла, что прекрасно выспалать над океаном. К тому же она еще не отвыкла от нью-йоркского времени и для нее заседание будет дневным.
Пообедав в ресторане, Лиз поднялась к себе на двадцать третий этаж, постояла у окна. Был виден изгиб скованной льдом реки, мосты через нее, море заснеженных крыш и башни небоскребов, стоявших здесь свободно, не в такой тесноте, как в Манхеттене. И это было красиво!
Где-то здесь лежит то, что осталось от бедного Бурова. Сербург, Сербург! Тебя уже нет, каким ты был тогда!
В дверь постучали. Лиз вздрогнула:
— Войдите.
Неужели она?
Да, она узнала ее с первого взгляда. Так запомнившееся ей лицо, чуть вьющиеся волосы. Она и в то же время не она… Слишком возмужала!..
— Хзлло, миссис Бредли! Как вы поживаете? Как вам нравится теперь наша Москва?
Какое великолепное произношение. Конечно, она слышала еще и тогда этот голос, но… Тогда она говорила с иностранным акцентом. А теперь — как урожденная американка!
Лиз протянула обе руки и пошла навстречу вошедшей:
— Как я рада! Я боялась, что вы не придете. Вы необычайно похорошели. Я рада, что вы долучили всемирную премию. Прошу вас, садитесь.
— Благодарю вас. Я до сих лор признательна вам за помощь, которую вы оказали мне… в Третьяковской галерее.
Лиз отступила:
— Я вас плохо понимаю. Разве это были вы?
— Я такая же американка, как вы, которая, подобно вам, стремилась служить великому делу.
— Помогая Бурову?
— Я должна была шпионить за ним. По заданию вашего бывшего жениха Ральфа Рипплайна. Меня заслали сюда, но я водила за нос боссов.
Лиз расхохоталась, восхищенно глядя на гостью. Она потребовала, чтобы Эллен рассказала ей обо всем.
— Вы надули Ральфа? — воскликнула наконец Лиз, прерывая рассказ. — Вы прелесть! Я сразу почувствовала в вас героиню.
— Нет. Я была слищком слаба. Даже не сдержала себя, когда вы признались мне здесь в гостинице, что Буров приходил к вам в палатку.
— Боже мой! Да я была для него лишь мешком с отрубями. Потому я и уступила его вам.
— … и вышли замуж за моего мужа.
Ошеломленная Лиз в изумлении уставилась на Эллен.
— Мы повенчались с Роем в Африке, в джунглях, перед звездами… Я воспитываю здесь нашего сына.
Лиз всплеснула руками:
— Боже мой, дорогая! Так ведь он вас до сих пор любит. Вы — его Прекраснейшая Солнца. Как у Петрарки его Лаура. Ведь настоящее чувство выше всего земного, и уж во всяком случае выше записей в канцелярских книгах…
— И план создания второго Солнца вы назвали «планом Петрарки».
— Да. Маленькая женская слабость. Я тоже хочу чего-то великого, красивого, что возвышается над всем… если уж у меня нет… любви…
— И вы отдали этому великому все, что имели.
— Да. И мне не хватает, хотя я и пустила на ветер все наши миллиарды. Мне нужны все советские ядерные боеголовки. Я прилетела за ними сюда.
— И вы рассчитываете получить их?
— Я знаю все возражения против нашего плана. Юпитер — второе Солнце — выжжет Марс. Можем ли мы гарантировать, что нет марсиан, что мы не погубим ради себя чужую цивилизацию? Я знаю, все знаю… Счастье одного всегда покупается несчастьем другого.
— А если термоядерные реакции на Юпитере перейдут во взрыв?
— Тогда — взрыв еще одной сверхновой звезды, которую заметят с какой-нибудь планеты в туманности Андромеды. Во всяком случае, это не похоже на жалкую судьбу будущих поколений, которую готовит им Кандербль с Игнесом «планом Икара».
— Торможение Земли, приближение ее к Солнцу?
— Да, расходуя для этого воду океанов, превращая порты в горные селения, в которых некому будет жить.
— Буров понял бы вас.
— Сербург? О да!.. Я часто мысленно советовалась с ним. Говорила даже об этом Рою.
— Он знает его?
— Преклоняется перед ним. А вы?
— Я продолжаю его дело. Может быть, вас познакомят с этим сегодня в Кремле.
— Я так много жду от сегодняшней встречи. Сразу же вернусь в Америку. А вы? Когда вы вернетесь?
Эллен опешила:
— Я? Домой? — она никогда об этом не думала.
— Вы думаете, для вас там найдется мало дела? — спросила Лиз, пытливо глядя на гостью. — Ведь Буров не жив.
— Да, не жив. В бюллетенях пишут, что температура его тела 3,2 °C.
— Это ужасно. Нельзя даже поплакать на его могиле.
— Буров требует не слез, а действия. Мне нужно сделать не меньше, чем вам, Лиз.
Эллен встала. Ей впервые сказали об Америке, как о ее родине.
— Я знаю, — сказала Лиз. — Вы вернетесь в Америку, если Буров умрет.
Раздался телефонный звонок. Обе женщины вздрогнули. Эллен сняла трубку и заговорила по-русски. Оказывается, за Лиз пришла автомашина.
Они спускались вместе в скоростном лифте. Лиз ощутила невесомость и закрыла глаза. Она подумала, что могла бы полететь на своем «Петрарке» к Юпитеру…
Эллен посадила Лиз в автомобиль, на прощание обняв и поцеловав ее.
— Я никогда не думала, что вы, Лиз, станете для меня примером, — загадочно сказала Эллен, захлопывая дверцу.
Она долго смотрела вслед отъехавшей машине, наблюдала, как она завернула по набережной, появилась потом на мосту, выезжая на магистраль, которая приведет ее прямо к Кремлю. Потом она улетит в Америку. А Эллен?
Автомобиль с Лиз въехал через древние ворота за старинную крепостную стену и остановился около ярко освещенного дворцового подъезда.
С неба уже смотрели строгие звезды, из-за зубчатой стены поднималась неправдоподобно огромная красноватая и овальная луна. Лиз подумала, что скоро и Солнце станет таким же холодным… Она передернула плечами.
Оставив пальто в вестибюле — ей пришлось самой снять его и повесить за барьер на вешалку, — Лиз мельком взглянула на себя в золоченое зеркало и стала подниматься по уходившей высоко-высоко мраморной лестнице. Она думала о встрече с Эллен. Что она скажет Рою?
Веселова-Росова встретила Лиз и познакомила ее с академиком Овесяном. Лиз подумала, что русские или советские люди, как они называют себя, напоминают американцев. У них тоже много национальностей. Этот седой академик с жгучими глазами, ястребиным носом и порывистыми движениями был так непохож на Корнева или Бурова.
Кандербль тихо беседовал с пожилой красивой дамой, по-видимому, давней своей знакомой. Лиз не успела познакомиться с ней, подошли мистер Игнес и находившийся в Москве профессор Леонард Терми, знаменитый физик, друг Эйнштейна. Она поразилась перемене в нем. Он был теперь худ, постарел, когда-то чистое лицо без морщин преобразилось из-за двух глубоких горестных складок у щек и скорбного выражения больших глаз.
Вошел нестареющий Рыжий Майк, сенатор Никсон в сопровождении очень пожилого, низенького человека в очках, с задумчивым лицом. В его неторопливых движениях ощущалось удивительное спокойствие. Присутствующие притихли, подтянулись. Алексей Александрович, руководитель Штаба Солнца, созданного содружеством коммунистических стран для борьбы с оледенением планеты, дригласил всех в зал заседаний.
Лиз уже знала, какое огромное значение имел этот федеративный орган в жизни многих стран. Люди одинаково страдали от оледенения, где бы они ни жили, к какому бы лагерю ни принадлежали. Под руководством Штаба Солнца развернулась историческая борьба с ледяной коркой, которую провели в свое время по инициативе Роя и американцы. Штаб Солнца разумно пользовался резервами зерна, распределяя их между странами, спасая их от голода. Коммунистические страны потому и страдали меньше от обледенения, чем страны старых порядков, что там было велико спасительное организующее начало, объединяющее все ресурсы и все усилия.
И вот теперь Лиз привелось принять участие в одном из заседаний Штаба Солнца.
Сидели за полукруглым столом вперемежку — хозяева и гости.
На столе стояли вазы с фруктами и бутылки с приятными напитками. Лиз вспомнила об обеде в Беркли, о Рое и… опять об Эллен, с которой свела ее судьба. Как теперь будет дальше? По-прежнему теперь уже не выйдет!
Но сейчас предстояло обсудить вопрос, как бороться с общенародным бедствием.
В середине совещания Алексей Александрович пригласил всех выйти во двор Кремля, чтобы наблюдать эксперимент, проводимый Советским Союзом.
Шли по дорожке над Кремлевской стеной. Огней на набережной уже не было. Небо казалось серым и пасмурным, и только часть его над городом светлела. Снег на реке внизу казался темным.
— Рассвет над Москвой-рекой, — тихо сказала Лиз. — Как у Мусоргского…
Стоявшая рядом с Лиз пожилая дама улыбнулась. Потом, став сразу серьезной, посмотрела на ручной хронометр, надетый поверх рукава пальто. Лиз уже знала, что Анна Седых — руководитель ракетного центра коммунистических стран.
Лиз прежде не вставала на рассвете. Она никогда не думала, что он начинается не на горизонте, а высоко в небе. Оказавшиеся там несколькими. параллельными линиями барашковые облака вдруг ярко вспыхнули с краев, словно повернулись до сих пор скрытой стороной. Потом из-за причудливых туч вырвались раскрытые веером лучи. Неужели они существуют на самом деле, а не выдуманы художниками? И они двигались, эти лучи, как в миллион раз усиленное по яркости северное сияние. А над ними уже пурпуром и золотом пылали свисающие с синего теперь неба занавесы. Лиз с волнением ждала, когда появится край остывшего светила. Но вместо холодного зимнего солнца из-за дымной полоски над городом вдруг вспльшга ослепительно-яркая звезда. Что это? Неужели красавица зорь Венера, опередившая Солнце? Яркая даже на светлом оранжевом небе, она слепила, на нее невозможно было смотреть.
Алексей Александрович обходил гостей и передавал каждому темные очки.
Через некоторое время ло обе стороны блистательной «Венеры» появились еще две такие же звезды. Лиз уже поняла, что звезды не могут так сверкать.
И только теперь показался край огромного солнца, красного, «закатного», но все еще жаркого, совсем не такого, какой ночью была луна.
Солнце вставало в фантастической оправе из двенадцати поднятых в небо самоцветных камней, нестерпимо усиливавших его свет. Глаза щурились. Лицо ощущало ласковое тепло.
Созвездие светил! Тепло жизни, свет радости, лучи надежды! Жизнь, жизнь, жизнь! Ее начало и смысл! Ее красота и движение! Ее ширь и бессмертие!
Лиз увидела рядом с собой Алексея Александровича.
— Петрарка-поэт создал Прекраснейшую Солнца, — сказала она. — Разве не поэты ваши ученые, которые создали созвездие солнц?
— По мере сгорания термоядерного топлива будут запускаться новые спутники с искусственными солнцами, — сказал Алексей Александрович.
— Не понимаю, — недовольно заметил мистер Игнес. — Чем это лучше «Икара»? На фонари придется израсходовать не только ядерные запасы, но и воду океанов.
— Хотя бы тем, — возразил ему Терми, — что эффект не надо ждать десятилетиями.
— Уже сейчас можно загорать, — смеясь поддержал сенатор Никсон.
— Товда, если позволите, мы иередадим Штабу Солнца все ядерные материалы, предназначенные для космической боеголовки корабля «Петрарка», — объявила Лиз.
— Спасибо, — сказал Алексей Александрович. — Нам это здорово пригодится.
— А как же ваш космический корабль? — повернулась к Лиз Анна Седых. Она с удивлением глядела на американку. Может быть, у нее слезились глаза, когда она смотрела на солнце и новое созвездие светил? Или она плакала?
Лиз плакала. Ей было бесконечно жаль себя и своей мечты, которой она отдала все, что имела. Что теперь остается у нее. Рой? Но у него есть его любовь к Прекраснейшей Солнца, которая непременно вернется в Америку, потому что Бурову уже не выйти из камеры анабиоза. Где же будет место Лиз?
И вдруг Лиз, вытерев платком набежавшие слезы, обернулась к Анне Седых и сказала:
— Вы руководите ракетным центром, запускающим космические корабли. Разве мой «Петрарка» не годится для исследовательских целей? Разве не стоит достичь на нем Юпитера и кольца астероидов, исследовать эти осколки когда-то взорвавшейся планеты, раскрыть тайну ее поучающей гибели? Во имя Земли, чтобы с ней этого никогда не случилось!
Анна Седых ответила, что вопрос о полете «Петрарки» требует тщательного изучения.
Лиз приветливо улыбнулась ей. Она уже не плакала.
Глава шестая ВЕЛИКАЯ ВЕСНА
Никогда я не думал, что так трудно расставаться со своей рукописью. У меня к ней щемящее чувство привязанности, словно к живому человеку… Быть может, к тому, кто написал ее первую, так и не переписанную страницу?
Чокнемся, старина! Почтим память когда-то существовавшего бравого репортера шести футов ростом и двухсот фунтов весом, с улыбкой киноковбоя, встречавшего удары кожаных перчаток и судьбы. Убедился, что волосы седеют с висков, а на коже загадочной клинописью появляются некие письмена жизни, так безжалостно расшифрованные вот в этом дневнике, ждущем последней точки.
Лиз вернулась из Москвы вместе с появлением созвездия светил, которые зажгли в небе русские, снова удивив мир. Пора бы перестать удивляться, и все же…
Да, это была удивительная, это была Великая весна!
Со всей силой летнего зноя обрушилось созвездие светил на ледяную корку, уже взломанную миллиардом трещин и на поверхности Земли и в сознании людей. Весна уносила в первых потоках не только ледяной покров земли, но и холодную войну, его породившую.
Какая веселая, какая бурная и обещающая была эта весна с фейерверками новых звезд и надежд, с буйными ураганами опьяневшей атмосферы, с наводнениями захлебнувшихся от радости рек!
И даже мокрые исхудавшие люди, которых снимали с крыш затопленных наводнением домов, пересев в лодки, говорили не о своем погибшем имуществе, а о летнем тепле, вернувшемся на Землю.
И еще одна радость волной прокатилась по Земле. Сам по себе Сербург стоил этой радости. Но речь шла уже не только о нем, но и обо всех людях Земли. Наконец-то ученые, объединившись, русские и американцы, арабы и индийцы, победили самую страшную болезпь на Земле — рак. И не только рак. Попутно, кажется, они замахнулись и на старость.
Говорят, что те, кто видел Бурова и какую-то его ассистентку, излеченную одновременно с ним, не надивятся на них, будто умывшихся живой водой.
И вся Земля сейчас умывается живой водой великого половодья!..
Том телеграфировал мне:
«Дядя Рой. Всходы прут из земли, как бешеные. Непременно приезжай убирать урожай. Фермер Том».
Природа словно старалась нагнать упущенное время. Поля кипели жадной зеленью. Газеты печатали бюллетени о видах на урожай… вместо уголовной хроники.
Но пессимисты всегда добавят «для здоровья» в бочку меда столовую ложку касторки.
«А как же дальше? Ведь термоядерные фонари скоро сожрут все ядерные запасы коммунистических стран. А дальше?»
Это порождало тревогу. Никто не хотел снова ледников на полях.
Конечно, было множество людей, ни о чем не задумывавшихся и торопившихся дожить свою жизнь повеселее. Слава богу, моя «Монна Лиза» не таскалась теперь с ними по ресторанам «Созвездие светил», в которые переименовали прежние «Белые карлики».
Нас с Лиз газеты славили как первых американских благотворителей, отдавших ядерные материалы «Петрарки» Штабу Солнца. Пронырливые газетчики подсчитали, что, совершив благородный акт для потомства, мистер Бредли (так теперь величали меня газетчики) и Лиз Морган, подобные один раз взлетающим, обреченным на гибель муравьям, неизбежно разорятся.
«Монна Лиза», смеясь, показала мне эту газету и сказала, что первый раз видит, чтобы в газетах писали такую безусловную правду.
— Надеюсь, Рой, ты не бросишь свою неимущую жену? Впрочем, я действительно в последний раз взлечу…
Я не понял ее, вернее, я понял только, что отныне нахожусь в столь же печальном финансовом положении, в каком начинал свой дневник, рассчитывая на миллион.
Но разве мог я теперь торговать дневником, обнажая себя не только перед всеми, но и перед Лиз?
Тревога за будущее Земли росла. Американцы все чаще поднимали голос за то, чтобы не быть на иждивении коммунистических стран, отдавших свои запасы термоядерных боеголовок. Вслед за Лиз Морган (почему-то в этих случаях называли ее девичью фамилию!) то же самое должно теперь сделать и наше государство. Надо заметить, что ядерные материалы нужны были как инициирующее начало для управляемой реакции синтеза заброшенного в космос водорода.
Сенатор Майкл Никсон внес в конгресс законопроект, по которому все бывшие военные ядерные запасы США передавались Штабу Солнца, в состав которого он ныне входил как председатель чрезвычайной комиссии сената.
Противники сенатора Никсона в начавшейся кампании по выборам президента истошно кричали, что отказаться от ядерной мощи, которая вновь станет ощутимой, когда Солнце, наконец, выйдет из галактического облака, снижающего его активность, — вспомнили весь этот услужливый псевдонаучный бред — это стать беззащитными от коммунистического вала, это изменить Америке, предать нацию.
И все же законопроект Никсона стал обсуждаться в конгрессе.
В небе горело коммунистическое созвездие светил. В Америке было тепло, открылись курорты Флориды и золотые пляжи Калифорнии.
Президент грозил конгрессу своим правом вето, если законопроект будет принят.
Законопроект был принят.
Напряжение достигло наивысшего предела. Пентагон готов был взорваться от гнева. А биржа взорвалась новой паникой. Банки лопались…
Президент наложил свое вето и вернул законопроект.
Америка притихла, насторожилась.
Теперь по конституции США законопроект мог обрести силу лишь в том случае, если за него будет подано две трети голосов.
Борьба вокруг законопроекта стала решающей стадией борьбы за президентское кресло. Как правило, американскому избирателю нужно четко сказать, за что один кандидат и за что другой. Ведь политические платформы президентов мало чем отличаются. Вот кргда один кандидат был за сухой закон, а другой за его отмену, когда один кандидат был за политику изоляции США, а другой за политику мирового господства, или когда один был за строительство Арктического моста, соединяющего США с коммунистической Россией, а другой против, это избирателям понятно.
Конгресс должен был сказать свое решающее слово в этой предвыборной борьбе.
Но, оказывается, в ней пожелали принять участие неожиданно много людей.
Их никто не звал, как на поля, где нужно было расколоть льды миллиардом трещин, они направлялись ж Вашингтону отовсюду, на машинах, на поездах или пешком.
Я выезжал встречать их процессии, и они напоминали мне столь недавний поход живых скелетов сквозь весеннюю пургу.
К Вашингтону шли миллионы людей, молчаливых, сосредоточенных, в чем-то уверенных.
И это было страшно.
Пентагон попытался заградить им путь войсками.
Слава богу, наша армия состоит из американцев. Они не пошли дальше того, чтобы преградить шоссейные дороги танками и бронемашинами. Они задержали поток едущих в Вашингтон машин, но не могли остановить идущих пешком избирателей, пожелавших что-то посоветовать своим конгрессменам. Стрелять в них никто не посмел.
Цотом и броневики убрали с дорог.
Вашингтон был переполнен. За городом стоял гигантский палаточный лагерь. Авеню Пенсильвании от Белого дома до Капитолия была заполнена стоящими плечо к плечу худыми и решительными людьми.
На широких ступенях лестницы здания Верховного суда расположились журналисты, кинооператоры и репортеры телевизионных студий. По старой памяти я устроился тут же. Ребята из газет шумно приветствовали меня, своего коллегу, который, по их словам, из короля информации стал королем сенсации. Полушутя-полусерьезно они величали меня государственным деятелем, хвастаясь, кто из них чаще и больше писал обо мне в связи с планом «миллиарда трещин», «проектом Петрарки» и… разорением мисс Морган.
Сюда же, к «рупору народа», явилась делегация от прибывших избирателей. Они хотели очень немного — пожелать конгрессу отвергнуть вето президента, ну и, конечно, вместе с вето и самого президента, который уже не будет иметь никаких шансов на переизбрание.
Узнав о моем присутствии, делегаты сразу же атаковали меня просьбой помочь им вести переговоры с контрессменами в Капитолии. Это предложение меня несколько ошарашило, но мои коллеги теперь уже вполне серьезно посоветовали мне согласиться, поскольку судьба таких трудных переговоров во многом зависит и от того, кто будет их вести…
Так я оказался уполномоченным народа. В сопровождении делегатов я отправился в тот самый Капитолий, по коридорам которого еще недавно бродил с Лиз в ожидании вызова в комиссию Майкла Никсона. Рослые солдаты, стоявшие на мраморных ступенях, циркулем расставив ноги и сжав в руках вполне бесполезные автоматы, пропустили нас.
Я еще не забыл месторасположения оффиса Майкла Никсона и сразу направился туда. В приемной сидела крашеная очкастая секретарша, которая с испугом посмотрела на нас, узнав, что мы — делегация от всех избирателей, наводнивших Вашингтон.
Рыжий Майк тотчас принял делегацию. Выслушав наше желание выступить на совместном заседании палаты представителей и сената, Никсон спросил:
— А кто именно будет выступать с речью?
— Мистер Бредли, — в один голос ответили мои спутники.
Майкл Никсон улыбнулся и, приказав секретарше проводить делегатов в зал заседаний, задержал меня у себя.
— А знаете ли вы, что этот выбор во многом знаменателен? — проговорил Никсон, когда. мы остались одни.
Я развел руками.
— То, что эти люди выбрали уполномоченный именно вас — свидетельство не только вашей популярности, но и большого доверия. — Рыжий Майк прошелся по кабинету. — И такую популярность просто преступно не использовать в высоких целях… Собственно, имя Роя Бредли американцам стало известно сразу же после атомного взрыва в Африке. Вы описали его и, кажется, даже были там после несчастья первым ядерным комиссаром?
Я кивнул головой, довольный, что он не вспомнил об отравленных стрелах и Женевских соглашениях.
— И это вы, мистер Бредли, черт возьми, возглавили знаменитый «план Петрарки», желая зажечь в небе второе Солнце, а потом отдали космическую ядерную бомбу Штабу Солнца?
— Это была собственность моей жены, — попытался оправдаться я. — Она оставила себе на память космический корабль.
— Слушайте, Рой, — сказал он, подходя ко мне и кладя мне руку на плечо. — Человек, проведший у нас в Америке план «миллиарда трещин», действительно может представлять народ. И я желаю вам большого успеха.
У него были не только рыжие волосы, которые не седели, но и веселые рыжие глаза. Я представляю, что с такими глазами вполне можно было удрать с тюремного двора во время шествия на электрический стул, уцепившись за сброшенную с геликоптера лестницу.
— Мистер Бредли, — продолжал он. — Могли бы вы рассказать избирателям, кто вы такой?
Я развел руками.
— Я не умею говорить о себе, сэр.
— Но ведь вы столько видели! Неужели вы ничего об этом не писали?
Кажется, я покраснел, потому что он стал допрашивать меня с куда большим пристрастием, чем на заседании чрезвычайной сенатской комиссии, где я готов был попасть под стражу.
Мне не грозило тюремное заключение за отказ от ответов, но я все рассказал ему… и даже про дневник.
Сенатор свистнул:
— Вот как! И далеко он у вас, этот дневник?
— Сказать по правде, я с ним не расстаюсь, сэр.
— Давайте его сюда.
— Но…
— Ведь вы же уполномочены всеми этими людьми.
— Да, — подтвердил я.
— Так вот. Я требую этот дневник… для них.
Я начал догадываться, что затеял этот человек, я боялся повредить сам себе. Мне показалось это даже смешным… И все же я отдал ему заветную книжицу.
Он повел меня на совместное заседание палаты представителей и сената, где, как известно, я произнес первую в своей жизни речь, которую потом всегда ставил сам себе как образец для всех последующих выступлений.
Смысл моей речи был крайне прост. Я вспомнил нашу встречу с Лиз с живыми скелетами и первые шаги Малого человечества близ Рипптауна. Я рассказал об этом конгрессменам так, как это было записано в дневнике. И закончил словами: «Созвездие солнц должно гореть!»
Вето президента было отвергнуто. Законопроект о совместных усилиях с коммунистическими странами в деле борьбы с обледенением планеты был принят.
Судьба старого президента была решена, актуальным становился вопрос о новом президенте.
Майкл Никсон просил меня не уходить из Капитолия.
Очкастая секретарша достала мне сандвичи, бутылку пива и занимала меня несколько часов разговорами.
Боже мой! Сколько может говорить женщина!..
На улицах ликовала толпа. Там устроили карнавальное шествие, в котором мне очень хотелось принять участие но Майкл Никсон, сидя в своем кабинете, читал мой дневник, и я ждал результатов. Я-таки попал под стражу!
Вечером он вышел в приемную с воспаленными глазами. Он был близорук и не сразу меня заметил, забившегося в угол дивана. Я почтительно встал.
Тогда он, к величайшему удивлению своей секретарши, по-медвежьи облапил меня и расцеловал.
— Надо сейчас же напечатать этот дневник, дорогой мой Рой, сейчас же… в миллионе экземпляров… Только пока что вам надо отказаться от авторского гонорара.
— Да, но… — промямлил я.
— Газеты будут печатать его по цене объявлений, фельетонами, — продолжал он, расхаживая по комнате. — Но мы достанем на это деньги. Брошюры будут выходить выпусками. Сколько страниц в каждой вашей главе?
— Двенадцать, сэр!
— Великолепно, парень! Трехколонник! И все одного размера? Неплохой навык. Итак, американцы должны знать своего Роя.
— Прежде я ничего не имел против, сэр, но… Мне не очень хотелось бы, чтобы в числе этих читателей была моя жена.
— Черт возьми! — вскричал сенатор. — Какое неожиданное препятствие. Впрочем, если ваша жена такова, как вы описали «Монну Лизу», то…
— Что, сэр?
— Я с ней переговорю. Она ведь американка!
Он был стремителен, как рыжий ураган, рожденный Великой весной созвездия светил.
Я догадывался о его планах и… не сопротивлялся, победив в себе чисто мальчишеский ужас перед Лиз, которая все прочтет и все узнает.
Сенатор Майкл Никсон улетел с моим дневником к Лиз, а я дописывал в знакомом номере гостиницы «Лафайет» вот эти страницы, к которым мне предстоит добавить лишь одну страницу свидания с Лиз.
Она позвонила мне по телефону, что ждет меня в баре того самого ночного клуба, в котором она впервые объявила о нашей помолвке… где я с ней отплясывал, как до того с Эллен.
Она приехала туда раньше меня, ведь мне нужно было прилететь из Вашингтона. Она сидела за тем же самым столом, за которым я отдал стюарду последний комок своих долларов. Кажется, у нас с ней было сейчас немногим больше.
Она еще издали улыбалась мне и махала рукой.
Я подошел к ней и, смотря в пол, поцеловал ее руку.
— Вы замечательный парень, Рой. Я никогда не думала, что вы такой.
— В самом деле? — сказал я и сел с поникшей головой.
— Выше голову, Рой. Вам теперь все время придется ходить с высоко поднятой головой.
Лиз, Лиз, она была умницей, моя «Монна Лиза».
— Слушайте, Рой! Знаете ли вы, кто эта ассистентка Бурова, которую вернули из могилы?
— Нет, Лиз.
— Это Она, Рой. Прекраснейшая Солнца. Я с ней встречалась в Москве.
Словно электрический удар потряс мое тело.
— Вы тогда славно придумали, Рой, с ликвидацией моего первого брака. Помните? Как просто и быстро все получилось…
Я понял все. Я не мог выговорить и слова. Может быть, у меня на глазах были слезы. Она положила свою руку на мою.
— Выпьем, Рой. Выпьем за то, что я задумала.
Стюарт принес нам заказанную бутылку. Она наполнила бокалы. Рука у нее немного дрожала.
— Слушайте, Рой. Полет к Юпитеру моего корабля «Петрарка» состоится. Я тоже ценю любовь Петрарки, Рой.
— Я знаю, Лиз. Но при чем тут корабль?
— Я полечу на нем, Рой… в космос.
— Вы? — я отшатнулся.
Я знал, что «Монна Лиза» это сделает, и я знал, почему. И я знал, о чем она думает, смотря в полупустой бокал. Она думала, что ей нет места на Земле.
Глава седьмая ВЫБОР
Буров не приходил в себя. Тело его ожило, но мозг, казалось, не принимал в этом участия. В нем словно произошли те необратимые процессы, которые делают клиническую смерть полной. Тело дышало, сердце в нем билось, но этим управляли не мозговые центры, а приборы. Окутанный проводами я трубками, Буров не приходил в себя.
Лена Шаховская бессменно дежурила у его постели. Врачи потеряли всякую надежду… но не она! Она видела, как менялся «спящий» Буров у нее на глазах. Лицо его уже не казалось костяным, порозовело, обросло кудрявой рыжеватой бородкой, делавшей его похожим на спящего богатыря из старой русской сказки. Он не мог не проснуться!..
Лена видела его последний угасавший взгляд, она встретила и его первый, вопрошающий, удивленный…
Он смотрел на нее и не узнавал. У нее горько сжалось сердце.
— «Кто это?» — упорно спрашивал он взглядом, смотря ей в лицо.
Неужели потерял память?
Она держала его костистую руку в своей и смущенно улыбалась. Ведь ее действительно нельзя было узнать. У нее даже глаза стали иного цвета.
Она другая? А он? Исправленный молекулярной операцией, его код жизни, быть может, тоже по иному заставил возрождаться его организм.
Но он все же узнал ее. Слабо пожал пальцами ее руку и успокоенно уснул.
Врачи уже не боялись, что он не проснется. Но теперь боялась Лена. Не было для нее существа ближе и дороже.
Буров спал сутки, словно наполняясь жизнью во сне.
Он проснулся с улыбкой, глядя на Лену, сказал:
— Что-то в тебе изменилось? Или все еще сон вижу?
Лена приложила палец к его губам. Но она была счастлива. Он заговорил. И прежде чем сбежались обрадованные врачи, она успела кратко сказать ему самое основное.
Казалось, он даже не удивился. В состоянии ли он все осознать, сможет ли он нормально мыслить? Что, если ожило только тело гиганта, а мозг…
Буров снова много спал. Просыпаясь, говорил о своих снах. Это были детские сны, которые почему-то беспокоили Лену. Оказывается, он все время летал во сне, летал без всяких мускульных усилий, легко плыл над землей, паря в воздухе, расставив руки и ноги, словно ничего не весил.
Он по-детски рассказывал о своем странном, повторяющемся сне: он парит низко над землей, и его пытается достать в прыжках яростный пес… а он никак не может подняться выше, даже чуть снижается… Зубы взбешенного дога лязгают совсем близко. Буров подплывает по воздуху к будке, упирается в нее рукой, чтобы опуститься ниже — собака теперь не достанет. Но пес легко взбегает по земляной насыпи на будку… он может охватить Бурова, но замирает в нерешительности… Буров отталкивается от будки и плывет над землей…
Обыкновенный детский сон. Буров же твердил:
— Невесомость. Настоящая невесомость, будто я ее уже ощущал.
Лена гладила его руку и уговаривала:
— Что ты, Сережа!.. Ты ведь никогда не подымался в космос. Разве что читал…
Он упрямо мотал головой:
— Нет. Испытывал когда-то… в прежней жизни… Это память предков.
Память предков! Лена однажды уже слышала об этой памяти предков, якобы испытавших невесомость в космических полетах и передавших по наследству потомкам память об этом удивительном ощущении. Так говорила ненавистная Марта… говорила, будто предки людей прилетели на Землю и не смогли вернуться на свою погибшую планету и дали начало человеческому роду на Земле… доказывала это нелепое утверждение тем, что у человека мозг используется лишь в самой малой доле, многие его области остаются нетронутыми. А природа не могла снабдить человека органом, для него чрезмерным, слишком она скупа и рациональна! И якобы этот орган развился во время эволюции человека на другой планете и только там мозг в полной мере служил инопланетянам. А теперь у земных людей, то есть у их одичавших потомков, снова восходящих по лестнице цивилизации, мозг с его миллиардами дремлющих нейтронов знаменует лишь недосягаемый пока предел умственного развития этого биологического вида… Недаром мозг ученого совершенно такой же, как и у современного дикаря или… или у доисторического пещерного человека…
Но у Марты это был или бред, предшествовавший телепатическим галлюцинациям, или… провокация, призванная снова подчинить непокорную сообщницу, которая должна была уверовать в их тайное и могучее средство связи.
Буров вспоминал теперь о случаях пробуждения у людей неожиданных знаний, словно хранившихся в неиспользованных областях мозга, или о редких и непостижимых способностях, например, к вычислениям…
Он даже решил сам попробовать…
По его просьбе Лена стала задавать ему простейшие арифметические примеры. Он легко справлялся с ними в уме, несказанно обрадовав тем Лену. Она так боялась!.
Он потребовал усложнения заданий и стал молниеносно складывать шестизначные числа целыми столбцами.
— До болезни ты так же считал, Буров? — почти испуганно спросила Лена.
Буров засмеялся:
— Скольно потеряно-то!.. Ведь мы могли бы обходиться без электронных вычислительных машин!..
У него действительно обнаружились невероятные вычислительные способности. Говорят, в истории человечества известны лишь несколько человек, порой почти необразованных, которые обладали ими в такой мере. Буров молниеносно не только умножал одно на другое десятизначные числа, он возводил их в степени, извлекал корни квадратные, кубические, даже пятой степени…
Чтобы проверять результаты этих сумасшедших вычислений, Лене приходилось посылать задания в электронный вычислительный центр, убеждаясь каждый раз, что ответы Бурова безошибочны.
Потом Буров обрушился на высшую математику. Лена даже не могла в полной мере оценить остроумие применяемых им методов решения дифференциальных уравнений, блистательность математических исследований, которые он, шутя, лежа в постели, проделывал.
Врачи сначала протестовали, потом замолкли, заинтересованные.
Буров взялся даже за шахматы. До болезни он знал лишь ходы шахматных фигур. Теперь он решал головоломнейшие шахматные задачи, потом стал сам составлять шахматные этюды редкой трудности и красоты, как говорили знатоки, специально ознакомленные с этим новым видом творчества Бурова.
Буров уверял, что проверяет себя, тренируется, ему не терпелось ринуться в научный бой.
Лене казалось, что она видит перед собой уже другого человека, у которого изменился не только цвет глаз, как у нее… Она и радовалась и страшилась…
Буров выздоровел.
Измерения показали, что за время болезни он прибавился в росте почти на пять сантиметров. Когда он впервые поднялся во весь рост, в халате, еще худой, костлявый, он показался Лене гигантом.
Он стал теперь исступленно заниматься гимнастикой, нагоняя мышцы гантелями, пригласил к себе своего тренера, готовившего его прежде к соревнованиям по тяжелой атлетике.
Он теперь тоже готовился к самому тяжелому состязанию.
С Леной он занимался физикой. Он жадно впитывал в себя подробности ведущихся сейчас исследований, сердился на Лену за то, что та многого не знала. Он не хотел считаться с тем, что она ведь была сейчас только сиделкой в его палате, а до этого сама болела.
Лена показала Бурову свою старую тетрадку, в которую она записывала все высказанные им в бреду мысли еще в Проливах, когда он лежал в коттедже вблизи Великой яранги. Она сказала, что хотела дополнить эти записи сейчас, но Буров до своего воскрешения так и не произнес ни слова.
Буров очень заинтересовался своими «бредовыми мыслями» и даже накинулся на Лену за то, что она так долго скрывала их от него. Под впечатлением проведенных под водой опытов, оказывается, он говорил тогда о совсем новой среде, в которой нужно проводить эксперименты. В бреду он мечтал подняться ввысь…
Сейчас Буров все переосмысливал, он мог теперь все повернуть так, что даже самое невероятное казалось выполнимым.
К Бурову хотел приехать Овесян, но Лена восстала. В Бурове все так кипело, что она боялась, как бы больной не взорвался при неминуемом споре с академиком.
Три раза в день приходил кинооператор снимать выздоровление Бурова. Его меняющееся состояние нужно было фиксировать не по дням, а по часам.
Лена, столько дней просидевшая у постели больного, попав на киносеанс в кабинете главного врача, куда ее провела Полевая, была совершенно потрясена, видя, как у нее на глазах «наливался жизнью, силой» сначала бородатый, потом побрившийся богатырь, как он поднялся костлявый, выше на голову всех окружавших его врачей, как волшебно раздобрел, стал могучим… Находясь все время рядом с ним, она и не видела, как все это произошло.
Для врачей это было откровением, для Лены — счастьем.
Буров вырвался из больницы.
Еще в клинике, занимаясь физическими проблемами с Шаховской, он формулировал свои взгляды на существо А- и Б-субстанций.
Он уже знал, что «А-субстанция» была обнаружена в том самом электрическом сосуде, который они с Леной вынеши из пещеры Росова, знал, что физики-смельчаки умудрились во время его болезни получить еще некоторое количество «А-субстанции», добравшись до самого кратера вулкана Бурова. Но всего этого даже не хватило полностью для исследовательских целей. Были выдвинуты проекты создания на склонах вулкана Бурова газосборного завода, из продукции которого можно было выделить «А-субстанцию», чтобы использовать ее на Солнце для нейтрализации вредного влияния «Б-субстанции».
— Какая чепуха! — в ярости кричал Буров, пугая заглядывавших в палату медицинских сестер. — Какая чепуха! Разве можно плестись в хвосте у Природы, питаться ее подаянием!.
Буров поразил Шаховскую своим утвержденим, что обе субстанции, управляющие состоянием протовещества, — это две стороны одного и того же первоначала.
По-видимому, у Бурова уже зрел дерзкий план.
Он вырвался из клиники. Первый, к кому он направился, был академик Овесян. Шаховская пришла вместе с ним. Овесян обрадовался, выбежал из-за стола навстречу Бурову, протянул к нему обе руки:
— Богатырь! Нагибайся, пожалуйста, а то потолок головой проломишь. Каков! Каков! Никак ведь вырос!..
Он поворачивал Бурова, любуясь им сам и показывая другим.
— Ну как тебе нравится наше созвездие? — спрашивал Овесян, указывая в окно, где в окружении ослепительных звезд виднелось потускневшее медное солнце.
— Послушайте, Амас Иосифович! — начал Буров, как только они остались втроем с Овесяном и Веселовой-Росовой. — Вы научный авторцтет. Перед вами полагается расшаркиваться. Но сейчас не до этикета. Вы зажгли в небе фонари и думаете, что решили задачу? Это чепуха!.. Это самообман!.. Немыслимо поддерживать горение этих фонарей, посылать на смену сгоревшим новые… Вы израсходовали уже все атомные запасы человечества, припасенные для ядерных устройств… Вы должны будете забрасывать в космос океанскую воду… В этом нет перспективы… Это успокоение на час.
— Не путай одного часа с одним урожаем. А урожай, хотя бы один урожай на Земле, решает сейчас многое.
— Надо мыслить не одним урожаем, а тысячелетиями изобилия! Надо подняться над заботами сегодняшнего дня!.. Нельзя подправлять угасающее Солнце хоть установками «Подводных солнц» на всех побережьях или искусственными термоядерными звездами в небе. Вопрос надо решать не полумерами, а кардинально. Надо сделать выбор.
Буров не мог усидеть на месте. Огромными шагами он расхаживал по кабинету, останавливался перед роялем, с шумом открывал и закрывал его крышку, круто поворачивался и говорил с яростным напором.
Овесян, обычно легко возбудимый, вспыльчивый, выслушивал нападки с каменным лицом. Может быть, он относился к Бурову еще как к больному.
Буров не щадил своих былых руководителей, критикуя выбранный ими путь решения задачи, противопоставляя ему свой, во всех деталях продуманный во время болезни.
Овесян поморщился:
— Фонарный бунт какой-то! Выздоровел ты на нашу голову, бушуешь, как тайфун… Тормозные центры у тебя не все действуют. В другое время не простил бы…
— В другое время я не говорил бы так напрямик, Амас Иосифович, дорогой!.. Сейчас нужно решить главное. Нужно не собирать природные крохи «А-субстанции», а научиться создавать ее искусственно.
— Но как? Добыть «А-субстанцию»? Чтобы получить крохи, о которых ты говоришь, мы на миг создали целый подземный институт для твоего «Ядра галактики». И чуть тебя не потеряли…
— Но мы приобрели очень многое! Смогли изучить полученные крохи «А-субстанции», познать ее!..
— Что же ты теперь хочешь создать? Ускоритель элементарных частиц размером с гору?
— Нет. Размером с Земной шар.
— Совсем с ума сошел.
— Ничуть. Мне нужен вакуумный прибор космических размеров.
— Ты сам понимаешь, что вакуум в приборе можно с огромным трудом создать лишь в очень небольшом объеме.
— Надо поступить наоборот. Создать не вакуум в приборе, а прибор в вакууме.
— Постой! Что ты имеешь в виду?
— Нужно создать грандиозный прибор в уже существующей космической пустоте, а не воспроизводить эту пустоту искусственно, надо отправиться в идеальный вакуум межзвездного пространства, лучше которого никогда не создать ни в одном приборе.
Овесян уже все понял, поняла и Веселова-Росова. Они восхищенно смотрели на одухотворенное лицо «воскресшего» ученого, они прощали ему сейчас все: и резкость, и необузданность, и всю фантастичность замысла, они видели лишь истинное научное озарение.
— Так, — сказал Овесян, подходя к Бурову и кладя ему руку на плечо. Бурову пришлось остановиться, перестать ходить, что ему, видимо, было трудно сделать. — Так, друг. Значит, после опытов на земле ты полез под воду, потом под землю. Тебе мало. Теперь в космос?
— Да, там существуют природные условия для самых грандиозных физических экспериментов. Там можно создать ускорители умопомрачительных энергий, там — идеальный вакуум. Мы вывернем физические приборы наизнанку, получим невероятные возможности…
И Буров стал во всех подробностях рассказывать о своем плане получения «А-субстанции» в космосе.
Овесян тотчас связался по прямому телефону с Алексеем Александровичем.
Порывисто раскрыв дверь из кабинета Овесяна в приемную, Буров остановился в двери, почти доставая до ее косяка. Он оглядел стоящих в приемной ученых. Все как-то по особенному смотрели на него, а он кого-то искал глазами в толпе.
Увидев ее, он резко направился к ней:
— Ну как? Выдержишь? Рискнешь? Летим со мной в космос?
Она зарделась вся, почти задохнулась, закивала головой.
— Не ждал ничего другого, — он обвел столпившихся около него людей взглядом. — Опыт будем производить в космическом вакууме. Для этого уже выделено несколько десятков автоматических ракет, которые будут служить частями исполинского физического прибора. Надеюсь, все вы поможете нам в этом. А в одной ракете будем мы с помощницей, — и он обнял ее за плечи.
Они пошли с ней, сияющей, счастливой, через приемную.
Но вдруг Буров остановился. Он встретился с кем-то взглядом и не поверил сам себе.
Шаховская печально улыбнулась и подошла к нему:
— Вы сделали правильный выбор, Буров, — сказала она. — Пусть в космос летит с вами Люд.
Буров недоуменно смотрел на двух молодых женщин, одна из которых так и сияла вся от счастья, а другая с горькой улыбкой смотрела на него.
Люда ни разу не навещала его в больнице. Он не видел ее, он пропустил в свое время мимо ушей рассказ Лены о том, что они теперь стали похожими друг на друга… И он при всех, минуту назад, выбрал себе в помощницы Люду, приняв ее за Лену. Он нахмурился.
Ученые или не поняли, что произошло, или тактично сделали вид, что не поняли.
Буров стоял перед двумя женщинами с опущенной головой, а они обе, затаив дыхание, словно ждали своего приговора.
Потом Буров взял их обеих за плечи и как ни в чем не бывало вышел с ними в коридор.
Никто не знал, какой же выбор был им окончательно сделан.
Глава восьмая ПОГАСШИЕ ФОНАРИ
«Милый, родной Буров!
Сегодня погас в небе первый термоядерный фонарь. Сегодня можно подвести итоги всему, что нас с тобой связывало.
Нет! Этому никогда нельзя подвести итоги!.. Недопустимо даже пользоваться этим холодным словом!
Погас в небе первый термоядерный фонарь. Их еще осталось одиннадцать. Они будут гаснуть один за другим, так же, как и первый… Сначала он потускнел, стал таким же медным, каким еще недавно было солнце. Одна из „дневных звезд“ уменьшалась в размерах, словно улетала в бесконечность. Она погасла… Казалось, она еще догорает в синеве, но ее уже не было.
Я была около университета. Меня часто влечет к этому месту. Конечно, я стояла около нашей баллюстрады… Словно сто лет назад смотрели мы отсюда с тобой, Буров, перед концом всего. Летнее солнце не могло тогда растопить ледяной хрусталь, сковавший каждую веточку, и бессильный солнечный свет лишь играл холодными огоньками по всему лесистому склону, ведшему к замерзшей реке.
Теперь лес спускался к воде зелеными волнами. Внизу была еще ночная тень. Первая из искусственных звезд гасла на рассвете. Я знала, когда это произойдет. И я хотела увидеть это именно отсюда…
Буров, мне очень много надо сказать тебе.
В тени за рекой в легкой дымке лежал огромный, еще не проснувшийся город. И только могучие столбы высотных зданий доставали небо. Как бы опережая время, они по-утреннему золотились в лучах солнца и его искусственного созвездия.
Когда погаснет последняя искусственная звезда и солнце станет прежним, ярким и жарким, меня уже не будет с тобой, Буров…
Конечно, ты удивишься, возмутишься, даже взорвешься. Сейчас ты подобен смерчу, все сметающему на пути. Но я уже не буду больше на нем, Буров. Я не сразу и не легко пришла к этому решению, я не знала, хватит ли у меня на это силы. Но я нашла в себе эту силу, Буров.
И не в том причина, что ты по ошибке выбрал себе помощницей для исследований в космосе Люду. Я сама настояла, чтобы она летела вместо меня… Я уже начала понимать, как должна поступить…
Меня уводит от тебя та же сила, то же неодолимое стремление, которое привело к тебе.
Буров, когда ты умирал, я рассказала тебе все… или мне казалось, что я рассказала… Возможно, ты не в состоянии был ни расслышать, ни понять всего. Потом, когда тебя уже не было, я ответила полной искренностью на проявленное ко мне доверие. Я рассказала все тем, кто сберег меня, поверив мне. Я рассказала, как в опасном и бессильном одиночестве, играя тройную роль, я хотела помочь осуществлению великой мечты, ее торжеству во всем мире. Только ослепленность авантюристической девчонки, какой я была когда-то, могла толкнуть меня на то, что я сделала. Буров, сейчас, когда ты здоров, когда ты после тех изменений, которые произошли в тебе, словно поднялся над своими современниками, сейчас ты, может быть, и не поймешь меня, как мог понять тогда, умирая… Я и сама уже не могу понять молодую американку русского происхождения, воспитанную в семье эмигрантов, получившую американское образование физика и решившую очень странным образом служить идее коммунизма. Меня бросает в холодный пот, когда я вспоминаю, как явилась в разведывательный оффис, с которым связал меня дед, бывший русский князь Шаховской. Я дала согласие стать разведчицей в коммунистическом стане. Я отчаянно шла на это, задумав обмануть всех, служить там идее коммунизма, дезинформировать врагов коммунизма, срывая их планы и расчеты. И я воображала, что моту это делать одна, на свой страх и риск, никому, решительно никому на свете не раскрывая своих замыслов, видя в том сущность подвига. Может быть, тебе, Буров, около которого я находилась как шпионка, но которому была предана всей душой, станут более понятны многое мои промахи, ошибки, нелогичные поступки…
Все спуталось, усложнилось, стало болезненным, Буров, еще потому, что я полюбила тебя.
Я пришла к тебе под двойной маской в поиске подвига. И я ухожу теперь от тебя без всяких масок, Буров, найдя подвиг, который должна совершить. Может быть, сделанное подле тебя было еще не полным подвигом. Настоящий подвиг, такой же незаметный, но еще более трудный, лишь сейчас зовет меня. И он требует жертв, Буров.
Первой жертвой стало то, что меня не было с тобой в вашей космической лаборатории. Как много тебе удается, Буров!..
Я представляю вас с Люд, плавающими в вашей наблюдательной кабине, увлеченными исследованием, даже забывшими условия, в каких оно проводится. Ведь ты испытал там невесомость, Буров! Ты мог проверить свою память предков!..
А я вспоминала, как мы с тобой жили в салоне затонувшего корабля, куда проникали через прорубленный пол, как из проруби. Ты поражал меня не только своей энергией, изобретательностью — ты сделал изоляторы из плафонов люстры, пружинные подвески из струн рояля, — ты поразил меня, Буров, своим целомудрием. И это я тебя ударила на ледоколе!.. Теперь я готова была отдать за тебя жизнь. И я счастлива, что мне удалось вытащить тебя, раненого, из-под воды. Впоследствии ты вынес меня из пещеры, в которую ворвалось разбуженное тобой протовещество. Мы квиты, Буров.
Буров, Буров!.. Потом нас обоих вернули к жизни… Ты уже оправдал это. А я? Способна ли я отплатить за возвращенную жизнь?
Я очень хорошо знала, кем ты вернешься на Землю из космоса, знала блестящие результаты ваших с Люд исследований. Ты, конечно, не мог понять, почему я вдруг уехала из Москвы, взяв на себя руководство запуском начиненных твоей „А-субстанцией“ ракет в одном из самых отдаленных мест страны. Не знаю, удовлетворился ли ты этой моей помощью на расстоянии… Но ведь надо было умело использовать все старые, теперь ненужные установки.
Когда все понято, оно кажется таким простым!.. Ты открыл в каком-то непостижимом провидении единую сущность А- и Б-субстанций. И получать их теперь кажется таким простым делом. Облучение по одному закону — „Б-субстанция“, по другому — „А-субстанция“!..
Я быстро научилась это делать даже вдали от тебя, Буров.
Я подготавливала к действию ставшие в новых условиях уже ненужными установки, когда-то привлекавшие к себе жадное внимание враждебных разведчиков, тщетно пытавшихся разгадать, где они находятся. Одно только их существование многие годы сдерживало развязывание атомных авантюр, грозивших миру концом цивилизации.
С грустной иронией я думала о том, что именно мне, когда-то засланной из-за океана разведчице, теперь доверено готовить группу таких секретных установок для новых задач.
Я думала о тебе, Буров, когда поднялась на пригорок, откуда было видно и озеро, и нивы на его берегу.
Лес подходил к самому обрыву. Это был сосновый лес. Огромные, похожие одна на другую могучие сосны… А на обрыве росла одинокая, тонкая березка, столь отличная от всех остальных деревьев… Ты забыл, наверное, о сказке, которую когда-то придумал для меня. А я не забыла. Ты рассказывал о березке… Художник нарисовал ее… И только один раз в день, когда солнечный луч падал на картину, тот, кто смотрел на нее, мог увидеть волшебное превращение березки в женщину… Герой твоей сказки до глубокой старости ждал, что девушка-березка сойдет к нему с холста. Я вспоминала твою сказку и думала, Буров, что ты тоже никогда не дождешься меня…
Передо мной раскинулись два огромных озера, окаймленных лесом, голубоватым вдали. Одно было синее, в нем отражалось ясное небо, другое — золотое. Это были нивы. Хлеб вырос на отбитой людьми у льдов земле.
Военные, ведавшие прежде старой установкой и приехавшие сюда вместе со мной, просили меня не отходить далеко.
Но мне хотелось быть одной.
Я бы не стала, Буров, описывать тебе того, что случилось, если бы… Но ты поймешь меня.
Это было очень странное, пугающее зрелище. Я даже не знаю, в каком месте оно было поразительнее, на озере или над нивой.
Вода в озере забурлила пузырьками, стала матовой, а над нивой в полукилометре от берета словно ветер взметнулся над колосьями. Потом из воды высунули носы исполинские рыбы. И в то же самое время над золотым полем хлебов, из-под земли выросли сразу несколько серебристых башен. И все это в полной кажущейся тишине. Звука еще не было слышно. Такими бесконечными казались мгновения! Потом башни вырвались из-под земли. И такие же башни выпрыгнули из воды. Под ними заклубились бело-черные облака, сквозь которые просвечивало пламя. Конечно, грохот уже докатился, обрушился на меня каменной лавиной рухнувших гор.
Группа гигантских ракет на миг, тоже казавшийся бесконечным, замерла в воздухе, словно силилась порвать оковы притяжения. Вода в озере и нива под ними вскипали волнами.
И потом все ракеты разом, одна чуть опережая другую, ринулись вверх, управляемые чьей-то невидимой рукой, отклонились от вертикального направления, легли на курс.
И в грохоте, извергая пламя, видное даже в залитом солнцем небе, уменьшались сверкавшие точки, наконец исчезнув совсем.
Они летели к Солнцу, унося на него добытую тобой, Буров, „А-субстанцию“, способную нейтрализовать губительное для светила действие „Б-субстанции“. Теперь Солнце разгорится с прежней силой. Об этом объявлено уже всему миру.
А я смотрела на обрыв над озером, и сердце у меня остановилось, Буров.
Одна из ракет взлетела из-под обрыва, вызвав на нем оползень…
Обрыв все так же поднимался над успокаивавшейся водой озера, по которому вдаль убегала волна, но моей березки… березки среди соснового леса не было…
Мне все было ясно. Твоя сказка сбывается, Буров.
Сегодня погас первый термоядерный фонарь. Прошло достаточно времени. Ракеты с „А-субстанцией“ достигли цели, забросили на Солнце исцеляющее его средство. Астрофизики уже зафиксировали разгорание нашего светила. Все выполнено, Буров. Впереди — желанный мир!
И в этом мире будут и ты и я, Буров. Но у нас теперь уже разные задачи. Ты пойдешь в ногу со своим народом, со своей страной, Буров. А я…
У меня тоже есть мой народ, моя родина. И она еще должна выйти на тот путь, ради которого я готова была когда-то принести себя в жертву.
Это я делаю сейчас.
Я возвращаюсь домой, Буров, в Америку.
Америке идти по новому пути. Мой долг хоть ничтожным своим усилием помочь ей в этом.
Я не знаю, встречусь ли я когда-нибудь с отцом моего ребенка, я не знаю, кем он стал и кем станет… Но с ним ли рядом или в строю против него, но я должна быть там…
Березке не стоять больше на обрыве!..
Прощай, Буров!.. Я была счастлива подле тебя…
Прощай…
Эллен Сэхевс (Нет, нет! Уже не Шаховская!..)».
Буров снова и снова перечитывал письмо. Люда два раза заглядывала к нему в кабинет, но не решилась войти. Она догадывалась, какое он получил письмо и от кого. Неведомое женское чувство все подсказало ей.
Она видела, что Буров стал писать письмо. Она знала кому!..
Для Бурова не существовало сейчас никого и ничего на свете. Он писал:
«Эллен, бесконечно близкая и далекая, самая родная и самая чужая на свете!..
Одно то, что я называю тебя этим столь чуждым мне твоим именем, должно сказать тебе многое.
Ты заставила меня оглянуться назад, посмотреть на себя чужими глазами.
Малознакомого человека увидел я на своем месте!..
Так неужели же я призван только служить высокому делу, которое выбрал, и не имею права на то маленькое счастье, которое уготовлено каждому Человеку, каким бы незаметным он ни был на Земле?!.
Да, сидя на шкуре белого медведя у твоих ног, когда ты запустила свои пальцы в мои волосы, я задыхался от счастья, хотя ты и говорила, что я чужой и не нужен тебе. Я знал, что ты говоришь лишь защитные слова. Есть способ общения между людьми более совершенный, чем передача мыслей с помощью условного сотрясения воздуха. Что бы ты ни говорила тогда и после, я всегда знал, что мы принадлежим друг другу, это придавало мне нечеловеческие силы. Однако не переоценивай их, не считай меня сверхчеловеком. Пусть я устремлен вперед, как бизон, с которым ты меня сравнивала, я сокрушу все препятствия на пути, но я из плоти и крови. Я любил тебя, как самый слабый человек на свете, не смевший признаться самому себе, что сила моя лишь в надежде на счастье, в радости совместных поисков и открытий.
Не раз ты заставляла меня переосмысливать самого себя. Так было после твоего знаменательного приема джиу-джитсу… Так было после апокалипсиса… Может быть, я не сделал бы всего того, что мне посчастливилось сделать в науке, не стой ты рядом со мной. Тебе я был обязан жизнью во время подводной эпопеи, тебе был обязан направлением мыслей, даже самому представлению о существовании „А-субстанции“. Ведь ты подсказала мне, что она должна быть! Эллен, ты, сама того не подозревая, была частью меня… и, может быть, лучшей частью. Если можно говорить о слитой в едином жизненном порыве паре, то это были мы с тобой.
И пусть я ничего не знал о тебе, не подозревал твоей глубины, твоей отваги и наивности, твоей силы и беспомощности, но я был слитен с тобой в жизни…
Пусть нас не связала любовь, какой ее представляет большинство людей, пусть она не отмечена ни банальной близостью, ни подвенечным платьем, ни записью в канцелярской книге. Есть близость, которая выше всего, что могла выработать в своем стремлении к сохранению биологического вида Природа, есть слитность, которая не отмечается и не может быть отмечена никакой условностью, будь то кольца, платья, обряды и свидетельства… Я не знал тебя, Эллен, я не мог оценить или осудить тебя. Я был слишком наивен подле тебя. Но я любил тебя не за то, что ты собой представляла, и даже не вопреки этому, как ты когда-то задорно говорила, я любил тебя, как только можно любить по-настоящему, не подозревая причин возникшего чувства. И я полюбил бы тебя снова, если бы ты вновь попалась мне на пути…
Ты сказала, что не будешь уже стоять на моем пути. Может быть, я теперь должен сам стать на твоем пути, должен погнаться за тобой в Америку, схватиться там с отцом твоего сына, которого не знаю?…
Я стараюсь понять тебя. Я горжусь тобой, хотя и не одобряю полностью. Я люблю тебя, хоть и упрекаю себя, что полюбил тебя выдуманную, а не такую, какая ты есть.
Но я не разлюбил тебя теперь… Нет!..
Ты уходишь от меня. Если ты будешь в состоянии уйти, это будет приговором мне, моему чувству, моей жизни, которую я хотел бы навсегда слить с твоей…
Я не верю, что ты уйдешь, хотя не прошу тебя остаться. Кто знает, может быть, если бы ты осталась по моей просьбе, я потерял бы в тебе что-то очень важное.
Я внушаю себе, что ты не уйдешь, но не верю сам себе. Как бы я поступил на твоем месте? Пристроился бы к линии любимого человека, отказавшись от своего направления в жизни, или…
Человек сам определяет свою судьбу.
Дороги совпадают у тех, у кого судьба общая.
Не было на свете более общей судьбы, чем у нас с тобой, до самой нашей с тобой смерти…
Пусть будет считаться, что, возвращенные к жизни, мы призваны теперь к чему-то большему, чем собственные маленькие радости или счастье…
Я могу проститься с тобой, Эллен, могу холодно увидеть иной твой путь, я сам мог бы проложить себе дорогу через все джунгли мира до пересечения с твоим путем, но… Я не стану этого делать, Эллен. Слишком я люблю тебя и слишком высоко теперь тебя ставлю.
Хочу твоего подвига, хочу полной твоей жизни, не подчиненной влиянию преходящих или даже не преходящих чувств.
И помни, где бы ты ни была, что бы ты ни делала, я всегда буду мысленно с тобой. Если был в мире человек, который мог сделать со мной все, что пожелал бы, то это ты… И если ты не стала этим пользоваться, то… этого уже не повторить никому.
Останемся сами собой на всю жизнь.
В этом будет наша с тобой верность друг другу до гробовой доски.
Прощай, Эллен…
Буров».
Буров и Эллен встречались друг с другом до самого ее отъезда. И ни один человек на свете, кроме Люды, не смог бы догадаться, что происходит в душе каждого из них.
Буров провожал свою бывшую помощницу на аэродроме, когда она в сопровождении профессора Терми, его ассистентов и хирурга Полевой со специальным заданием улетала за границу.
Он знал, что Эллен Сэхевс уже не вернется.
Представитель американского посольства вручил ей на аэродроме американский паспорт со всеми визами.
Буров был холоден и несколько менее подвижен, чем бывал в посдеднее время, казался рассеянным.
Люда кусала губы, едва сдерживая слезы, когда Буров, холодно вежливый, подошел прощаться с Эллен.
Но вдруг он внезапно привлек к себе Эллен, тоненькую, стройную, и сжал ее в медвежьих объятиях. Она не вырывалась.
Слезы брызнули у Люды из глаз.
Она не поехала с аэродрома вместе с Буровым, а умчалась на первом попавшемся такси.
Полевая хотела было утешить Эллен, когда самолет поднялся в воздух, но ее названная дочь таким отсутствующим взглядом посмотрела мимо нее, что она лишь молча обняла ее и поцеловала.
Буров пошел с аэродрома в Москву пешком.
Он шел без дороги, иной раз поддавая носком ботинка попадавшие под ноги кочки.
Когда-то он бродил на лыжах по тундре, чтобы прийти в себя.
Сейчас это ему не удавалось.
Зашло солнце, около которого не осталось уже термоядерных фонарей.
Над горизонтом поднималось зарево гигантского города.
Казалось, что всходит новое солнце.
Глава девятая ОГНИ ОРХИДЕЙ
Странное чувство… Я держу в руках книжку, свою книжку… Красивая книжка! С суперобложкой!.. Яркой, цветной… Джунгли. Лианы змеями. Пятна орхидей. Причудливо изогнутый ствол дерева. В листве спряталась обезьяна с человечьими глазами. Как только художник передал такое выражение? Ведь я совсем об этом не писал. Что она говорит этим взглядом? За стволом видна даль. И на горизонте на вскипевшей красной ножке зловещий черный гриб… Взгляд у обезьяны чуть насмешлив и дерзок. Уж не думает ли это отвратительное животное, что оно останется после нас? Начнет все сначала, породит новую расу разумных, которые в тяжких страданиях пройдут путь от дубины и первого костра до ракеты и черного гриба!.. А на другой стороне супера — огромное медное солнце, на нем отливают словно золотом покрытые более жаркие места. Можно различить оранжевый узор. Оно уже начало опускаться за горизонт, угрюмый, красноватый от его лучей и… ледяной. Лед… Всюду лед. И где-то сбоку обрушенные, обледенелые здания бывшего города бывшего человечества.
И название! Его подсказал мне Рыжий Майк: «ЛЬДЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
Нет! Льды уже не вернутся. Не должны вернуться. Теперь это понял каждый человек. Все видели, как они возвращались. Я лишь хотел рассказать, почему они стали возвращаться…
Рыжий Майк хотел, чтобы американцы узнали «своего Роя». Я перелистываю страницы и ощущаю себя натурщицей, которая вместе с посетителями художественной выставки стоит перед полотном, где она изображена нагая. Люди вслух обсуждают стати ее тела. И вдруг узнают ее…
Я тоже не знаю, куда деваться…
Меня останавливают незнакомые люди на улице. Они видели мою нагую душу. И они крепко пожимают мне руку. Часто молча, порой говоря несколько слов, иногда даже хлопая по плечу или по затылку:
— Ай да Рой, наш Рой!..
И все сделала эта книжка. И газеты, конечно, в которых Рьйжий Майк печатал дневник отрывками по цене объявлений.
У Рыжего Майка со мной теперь полно хлопот.
Ему я показал и телеграмму от профессора Терми, присланную из Москвы. Он просил меня прибыть в Африку для участия в хирургической операции, которой подвергнут мистера Джорджа Никсона.
Я не хотел ехать. Я не переношу вида крови. Из операционной меня тоже нужно будет выносить на носилках. Но Рыжий Майк настоял на моей поездке. Оказывается, это тоже будет важно для американцев, которым нужно получше узнать своего Роя.
И вот я снова в Африке, в знакомом благословенном и проклятом мною месте. До прилета воздушного лайнера из Москвы осталось еще много времени. Не могу отказать себе в том, чтобы не навестить бывшего босса, жившего теперь в той самой вилле, где пытали голодом Леонарда Терми.
Да, бывшего босса, бывшего человека… если вообще его когда-либо можно было так называть.
— Хэлло, мой мальчик, — зловеще приветствовал меня его труп с жадными обезьяньими глазами.
Миссис Амелия, исхудавшая, заплаканная и не подкрашенная, печально улыбнулась мне, поправляя подушки, в которых утонуло жалкое, иссохшее тело больного.
— Хэлло, мистер Никсон! — бодро приветствовал я. — Оказывается, ученые держат свое слово.
— А какого черта нужно вам? — осведомился Джордж Никсон.
— Профессор Терми вызвал меня для участия в операции. Очевидно, я буду поддерживать медсестер, чтобы они не падали в обморок, если раньше не упаду сам.
— Падать вы все начнете, когда я встану на ноги, — пообещал босс.
— Рассчитываете вернуться на ринг, сэр?
— Да. На тот самый, на который лезете вы, сложив ступеньками экземпляры своей дурацкой книжки.
— Да, сэр. Но вы ведь сами заказывали эту дурацкую книжку, обещали за нее миллион.
— Я всегда говорил, что из вас выйдет делец. Вы хотите получить куда больше.
— Я отказался от гонорара, сэр.
— И от денег жены?
— Да, сэр. Мы расстались с Лиз. Я не знаю более изумительной женщины, чем она, сэр.
— Никогда не пойму эту развращенную молодежь. Я бы вас выкинул из Малого человечества.
— Пожалуй, сейчас лучше говорить о тех, кто останется в Большом человечестве.
— Недурно вы обрисовали меня в своем лживом дневнике.
— Вы заказывали мне искренность, сэр. Я старался.
— Интересно, какой бизнес вы рассчитываете сделать на этой операции? Вы в самом деле верите в чудо, которое он сделал там, в России?
— Верьте, сэр, никто больше меня не хотел бы посмотреть на это чудо.
— Вам еще представится эта возможность. Вам еще она представится!.. — с угрозой произнес он.
Я отправился на аэродром, размышляя о причудах человеческого характера. Зачем только старому ученому с глазами, вместившими всю мировую скорбь, понадобилось ставить на ноги это чудовище? Мне вспомнился роман о докторе Франкенштейне, этом монстре, порожденном наукой, искусственном человеке, лишенном всех человеческих чувств, замененных всепоглощающим стремлением к уничтожению. Уж так ли неправа была супруга поэта Шелли, создавшая это произведение? Не символизирует ли оно в наши дни что-то большее, чем создание живого чудовища разрушения, порожденного уже, по существу говоря, нашим веком?
Я волновался, ожидая профессора Терми. Я, пожалуй, могу объяснить сам себе это волнение. А что, если Лиз права, если она не придумала то, что облегчило мне наш разрыв? Если правда, что Терми спас Прекраснейшую Солнца? Я давно уже решил, что это со стороны моей умной Лиз было лишь женской уловкой. Она была горда. Нужно было или не читать мой дневник, или поступать, как она. Конечно, профессор Терми, вероятно, никогда и не видел моей Эллен, все еще ведущей жалкое существование тайного агента…
И, конечно, меньше всего я думал о телепатии, о том, что переданное на расстояние внушение оживляет во мне образ той, которую я больше всего хотел увидеть сейчас выходящей из самолета. Или прав гадальный автомат, который за десять центов отвечает, что «ваше желание исполнится, если вы очень пожелаете этого и если никто в мире не пожелает сильнее обратного». Ну, это было невозможно, пожелать сильнее, чем желал того я!
Я видел, как опускался на бетонную дорожку огромный самолет, видел, как коснулись баллоны его. колес земли.
Самолет выруливал, и я бежал двести ярдов ему навстречу, Как бывало в колледже на соревновании.
Мне не хватало воздуху, и сердце мое бешено стучало… Но почему?
К самолету бесконечно долго подкатывали лестницу, мучительно долго не открывали в нем дверцу… Остановилось само время, словно мое существо помчалось кому-то навстречу со скоростью света и действителен был для меня парадокс времени Эйнштейна.
Первым из самолета показался друг Эйнштейна Леонард Терми. Он весело огляделся, бодрый, подвижный, совсем не такой, каким я провожал его в Россию.
За ним вышли его помощники, профессор Стайн и доктор Шенли. Потом появилась высокая седая красивая женщина.
А потом…
Я знал, что она появится, я знал! И пусть лопнут от возмущения все враги теории о внушении на расстоянии! Я знал…
Мне опять померещилась моя Прекраснейшая Солнца… Может быть, уже пора лечиться? Ведь та темноволосая женщина, спускавшаяся последней, была слишком молода для Эллен. Но что это? Легко сбежав по стуйенькам, она пробивается… ко мне… и грустно улыбается своими темными глазами.
Подождите!.. Почему темными? Галлюцинация?
Я невольно попятился.
— Хэлло, Рой! — тихо сказала она, добравшись до меня. — Куда же вы? Отремонтировали ли вы наш банановый небоскреб?
Боже мой! Почему здесь не было художника, который в одно мгновение мог бы создать шедевр «торжества глупости», если бы запечатлел выражение моего лица! Я даже не почувствовал горького тона ее бодрых слов.
Непостижимо, но это была она!..
Мы шли с ней через аэродром в джунгли, совсем как прежде, хотя все вокруг и мы сами были иными…
Мы шли по сцепившимся узлами, перевитым змеями-корнями, шли, раздвигая руками то мягкие, то сухие лианы, спустившиеся с бородатых или голых стволов, среди сумасшедших африканских цветов, пожаром красок охвативших еще не воспрявшие после стужи джунгли, среди цветов пряных, душных, пьянящих орхидей, этих символов непобедимой жизни, висящих и даже парящих в воздухе в виде исполинских бабочек, так жаждущих прожить хоть один день!.. И даже обезьяны, где-то переждав суровую зиму, перебегали теперь нам дорогу, мудрыми человеческими глазами поглядывая на нас, взволнованных и так хотевших быть счастливыми…
Но что-то лежало между нами, незримое, разделяющее. Но ведь так и должно было быть! Нам суждено было встретиться как врагам! Кем она была для меня? Диверсанткой, засланной моими предшественниками, всю политику которых я отвергал? Кем я был для нее? Продажным писакой желтых газетенок, вызубрившим наизусть все, чем полагалось забивать головы читателей? Ведь мы же должны были с презрением отнестись друг к другу.
Я пытался убедить себя в этом, чтобы не заподозрить чего-то другого, самого важного и непоправимого…
Уже несколько позже, сидя на просеке, которую расчищали чернокожие работяги, приветливо обнажавшие нам полоски белых зубов, мы стали говорить о себе. Казалось таким необходимым убедить самих себя в чем-то, чего нельзя было понять…
Она рассказала мне о себе, о своей работе и жизни, о своем мнимом и безрассудном подвиге. Я был ошеломлен… И я жалел, что она не смотрит мне в глаза.
Я рассказал ей о смерти старого князя Шаховского, освободившего ее от клятвы…
Оказывается, она уже освободилась от нее сама.
Но как ее не раскрыли, как не уничтожили?
— Все было очень просто, Рой, — чуть печально говорила она. — Они с самого начала разгадали все. Но сочли невыгодным разоблачать нас с Мартой. Ведь работы, о которых я могла сообщать, были не только не секретными, но предназначались для самой широкой огласки. Они предпочли дезориентировать боссов, пославших меня и Марту…
— Но как же они выпустили вас из России? — настороженно спросил я.
— Они отпустили на родину уже другую, не ту, которую заслали к ним. Разве вы сами не почувствовали этого, Рой? — и она пытливо посмотрела на меня. — Не потому, что у меня теперь темные тлаза, как у моего маленького прелестного побратима, а потому, что они поняли, кем я была на самом деле… Я не знаю, Рой, милый Рой, поймете ли вы это когда-нибудь…
Может быть, я не хотел понимать всего полностью!..
Потом она читала мой дневник. Я следил за выражением ее лица. Слишком привыкло оно быть скованным!.. Только легкую печаль мог я уловить на нем…
— Вы лучше меня, Рой, — вдруг сказал она, недочитав рукописи, задумчиво глядя в чащу.
Такого приговора я, признаться, не ждал. Ведь я же изменил ей с Лиз!..
— Я не изменила… но я не знаю, что лучше… — оказала она, словно читая мои мысли.
Она снова взяла книжку, отодвинулась от меня. Она продолжала читать.
Мне было жарко, и меня бросало в холод. Преступник хоть не видит лиц своих судей, когда они пишут ему приговор. А я не мог оторвать взгляда от столь дорогого для меня, чем-то изменившегося, но, быть может, еще более прекрасного лица моего безжалостного судьи.
Я старался прочесть на ее лице то, что читала она в дневнике… Мне казалось, что я вижу ее смущение, удивление, гнев, радость… Но чаще я видел на нем грусть… Почему она так грустила? О ком думала? Кажется, не обо мне…
В одном месте Эллен отложила книжку и, задумчиво глядя в чащу, сказала:
— Как сложна жизнь… Можно ли в судьбе отдельных людей увидеть судьбу человечества? Всегда ли счастье одних совпадает со счастьем всех?
Я ей ответил, что касается меня, то я сейчас один счастлив за весь мир.
Она улыбнулась. Мне показалось, что она может простить меня.
Быстро просмотрев окончание книги, Эллен внимательно прочла последние страницы и обеспокоенно спросила:
— Она в самом деле улетает на космическом корабле к Юпитеру?
— Да. Она назвала его «Петрарка».
— Но ведь у нее же нет подготовки.
— Она с этим не посчитается…
— Рой…
— Да, Эль!..
— Я теперь понимаю, за что вас можно любить.
Едва ли у меня было выражение лица мыслителя.
— Я прежде думала, что любить можно только вопреки всему.
— Любить по-яастоящему, это, наверное, не думая как, — пробормотал я.
— Может быть, и так, Рой, но… Но разве вы имели право все это публиковать? — печально спросила она.
— Они настояли на этом. И Рыжий Майк… Он руководит предвыборной борьбой…
— Ах, боже мой! Какое отношение могут иметь эти интимные подробности к предвыборной борьбе!.. — почти гневно воскликнула Эллен.
Я не стал ей возражать. Я рискнул поцеловать ей руку. Неужели она простила мне «Монну Лизу»?… Или у нее было еще что-то на сердце?
Когда я смогу понять ее во всем? И должен ли я это делать?…
Мы и не заметили, как нас окружили негры. Оказывается, они узнали во мне «ядерного комиссара» и выражали сейчас свои чувства. Они принесли Эллен букет орхидей. Это был букет огня, словно пляшущего, как в пылающем костре, с бегущими оттенками пламени, с мерцающими бликами раскаленных углей. Это были пьянящие огни орхидей, от которых, как от счастья, кружилась голова. Вернее сказать, могла бы кружиться моя бедная голова…
Эллен обрадовалась цветам. Если бы она так же обрадовалась мне!.. Она обняла чернокожего, который принес ей цветы. Остальные радостно загалдели. Я хлопал их по голым лоснящимся плечам и расспрашивал о своем старом приятеле, эбеновом Геракле. Но они не понимали. Они были возбуждены и веселы. У них ведь тоже произошли большие события. Старое двоедушное правительство, распродававшее свою страну организации «SOS», было свергнуто. Сейчас к руководству пришли новые люди. Нам с Эллен уже было пора. Давно прошло время, которое отпустил нам добряк Терми.
Симпатичные негры вывели нас короткой тропой к ожидавшему автомобилю.
Мы мчались по великолепному шоссе, разгороженному по средней линии кактусами, и молчали. Как важно было для нас растопить лед, разделивший нас…
И снова я оказался у босса. Нас уже ждали там Терми, его помощники и седая русская, оказавшаяся знаменитым хирургом, спасшим Сербурга и Эллен. В самолете они привезли и свою диковинную аппаратуру, хирургический пантограф с кибернетическим управлением, нейтршшвый микроскоп…
Я подумал, что мой бывший босс велик даже в своем смертельном недуге, если ради него из коммунистической России доставили все это! Мы ждали на веранде.
Миссис Амелия выкатила кресло с мистером Джорджем Никсоном.
При солнечном свете он был еще страшнее. Он смотрел на всех остановившимися, подозрительными глазами.
— Хэлло, сэр! — сказал профессор Терми. — Как видите, я держу свое слово.
— А эти зачем? — прохрипел Никсон.
— Я хочу, чтобы вы убедились, что вас ждет.
— Я жду только здоровья.
— Вот больная, бывшая в вашем положении. Это мисс Эллен Сэхевс, работавшая вместе с советским физиком Буровым.
— Еще бы мне не знать ее! — скривился Никсон.
— Я попросил ее показаться вам, сэр. Она была трупом не в меньшей мере, чем вы, сор.
— Я сам помещал ее фотографии в тунике и без туники.
Эллен отвернулась.
— Да, сэр, — сказал Терми, потирая руки, словно для того, чтобы приступить к делу. — Я должен обратить внимание… у мисс Сэхевс переменился цвет глаз.
— Что вы хотите этим сказать?
— Что задуманная мной операция, если вы согласитесь ей подвергнуться, изменит и у вас выражение глаз.
— Может быть, вы сделаете меня еще и черномазым?
— Я гуманный человек, сэр. Я против казни на электрическом стуле, но в вашем случае казнь необходима. Я берусь совместить ее с вашим спасением.
Профессор Терми уселся на стул против кресла онемевшего больного, расставив ноги и упершись руками в колени, по-профессорски обстоятельно стал объяснять:
— Такой человек, как вы, совершивший против человечества преступления, известные ныне всем, не имеет права на существование. Для своих злодеяний вы воспользовались достижениями науки, и от имени Науки я приговариваю вас к смерти.
— Уберите от меня этого сумасшедшего! — взвизгнул Никсон.
Но Амелия, стоявшая за его креслом, не шевельнулась, испуганными, широко открытыми глазами смотрела она на Леонарда Терми, глазами, полными ужаса и… надежды.
— Я приговариваю вас к смерти, как античеловеческое чудовище, порожденное вашим патологическим организмом. Этот организм, быть может, впервые за все существование ужасной болезни, справедливо поражен раком. Но я излечу вас от него, как обещал…
Джордж Никсон, вцепившись в ручки кресла костяшками пальцев, обтянутых сморщенной кожей, в ужасе смотрел на ученого.
— Я излечу вас от рака, перестрою вашу нуклеиновую основу, — методично продолжал тот. — Вы станете телом так же здоровы, как мистер Буров или как эта прекрасная леди. Но… я казню вас пр этом без электрического стула. Я так перестрою вашу нуклеиновую основу, что вы перестанете быть ненавистным всем Джорджем Никсоном. Лучше будет, если вы даже возьмете себе другое имя. Я даже готов вам дать свое… Я изменю не только цвет ваших глаз, не только некоторые черты вашего лица, но и ваш преступный строй мысли. Я пригласил сюда приехать мистера Роя Бредли. Я нахожу, что строй его мыслей мог бы послужить образцом для хорошего американца. Я переделаю вашу нуклеиновую основу с помощью величайшего хирурга наших дней миссис Полевой. Вы будете жить, но перестанете быть самим собой.
— К дьяволу! Заткните ему его зловонную пасть! Выбросите его вон отсюда!.. Я не хочу походить на захудалого репортеришку который был у меня на побегушках. Гнойная пакость, жалкий колдун!.. Да я таких, как он, нанимал пачками, чтобы они гнули спину и угодливо ворочали своими просвещенными мозгами.
В кресле сидел бесноватый. Припадок гнева поднял его. Он уже не лежал, а сидел. Кровь прилила к лицу. Глаза лихорадочно блестели:
— Кто вы, несчастные, кто вы, берущиеся меня судить? Всего лишь плод моего воображения! Вы хотите уничтожить меня? Это я уничтожу вас, стоит лишь мне так подумать. Ведь никого на самом деле нет вокруг. Нет, не считайте меня сумасшедшим. Я всю жизнь играл с вами, выдумывал вас, порождение моего осознания! И я ненавидел всех вас. Мне ничего не стоило приговаривать к смерти все человечество, тушить Солнце, сковывать льдом Землю! Разве мог бы это сделать кто-нибудь из вас? Это могу только я, вас породивший в своем воображении. Я отвергаю вашу операцию. Я ни в чем не изменюсь. Я излечу себя сам!. Я сейчас воображу, что вас нет, нет этого мира, я останусь один в черной космической тьме! И вас нет больше!.. Нет!. Я один… один…
И он упал на спинку кресла, захрипел, забился в агонии.
Амелия рыдала над ним. Непонятна все-таки женская любовь. Оказывается, можно любить и чудовище вроде доктора Франкенштейна, который, однако, и не помышлял об уничтожении всего человечества, как этот, с позволения сказать, человек…
Мистер Джордж Никсон остался один в космической тьме.
Он умер.
Профессор Терми захлопотал. Он волновался, требовал, кричал…
Клиническая смерть. Наука может еще вернуть человека к жизни.
На веранде находились местные врачи, в том читсл два чернокожих, получивших образование в Париже и Лондоне.
Они знали, как оживлять, у них была привезена вся аппаратура, которая могла понадобиться при задуманной Терми операции и для которой Никсон специально переоборудовал одну из комнат виллы в операционную.
Врачи обследовали труп.
Да, смерть. Если хотите, клиническая, то есть прекращение жизненных функций организма, но пока еще без распада его тканей, в частности, мозговых и нервных… Однако при здешней жаре…
Терми умолял оживить преступника.
Но врачи были неумолимы. Они отказались оживлять его труп.
Глава десятая ЖЕЛАННЫЙ МИР
Как известно, после атомных взрывов в Хиросиме и в Нагасаки пораженные радиацией японцы продолжали умирать и спустя двадцать лет. Каждая такая смерть, которую не могли предотвратить никакие врачи, отзывалась гневом во всем мире. Еще и еще раз прокатывались по Земле протесты против бесчеловечных средств массового истребления людей.
После атомного взрыва африканского города, горьким свидетелем которого мне привелось еще так недавно быть в лучевом госпитале, все еще помещавшемся в знакомом мне отеле, каждый день погибало от поражения радиацией несколько человек.
И вот, оказывается, не ради исцеления или преображающей казни мерзавца Никсона, а ради спасения тысяч обреченных, ждущих своей участи, прибыла в Африку прославленная русская хирург-исцелительница Полевая со своей сказочной аппаратурой. Для этого человеколюбивого подвига отдавал свои знания старый физик Терми, когда-то проникавший в тайны материи, а теперь проникший в тайны жизни.
Местные врачи, ждавшие, когда освободится аппаратура от необыкновенного, задуманного Терми опыта с Джорджем Никсоном, знали, что каждый час задержки, быть может, стоит жизни человека, черного или белого, но неизмеримо более ценного для общества, чем Верховный магистр лживого и мрачного ордена «SOS». Вот почему не стали они возиться с этой падалью.
Мне стала понятна поспешность, с какой дежурившие у виллы Никсона работники госпиталя бросились в операционную, переделанную из былой гостиной особняка, чтобы демонтировать аппаратуру, перенести ее в грузовики, везти ее в госпиталь.
Профессор Терми сам скоро понял это и махнул рукой на свой дерзкий опыт переделки подлеца. Быть может, подумал, что подопытные мерзавцы еще найдутся. Вместе со своими помощниками он руководил демонтажом сложной аппаратуры.
Естественно, что я не мог остаться без дела, если речь шла о спасении чьих-то жизней.
Правда, ничего, кроме своей спины, я предложить не мог. Но спина у меня была крепкая, выдержала за мою жизнь многое и теперь вполне годилась для самых тяжелых грузов, которые мне взваливали на нее физики и врачи.
Сбежалось много народу. Все предлагали свои услуги, но я ни за что не согласился бы уступить свою привилегию перетаскивать ящики из ненавистного дома к грузовикам.
Эллен занималась более ценным трудом. Я ведь никогда не задумывался, что она физик, была ассистентом самого Бурова, получила специальное образование. И к тому же у нее были удивительные руки. Я любил смотреть на руки Лиз, когда она играла на рояле. Но Эллен!.. У меня было не слишком много времени, пока я ждал очередной ящик, который мне взваливали на спину, но и за эти минуты я наслаждался быстротой и ловкостью ее пальцев, когда она орудовала с удивительно сложными приборами, все зная в них, все понимая!..
Да и у нас, кто таскал ящики, была, может быть, и не такая красивая, но веселая, жаркая работа. С озорными прибаутками, подбадривая друг друга, переругиваясь, стремясь перегнать один другого, взять груз потяжелее, не идти, а бежать с ним по аллее сада, где ноги вдавливались от тяжести в песок, мы делали свое несложное, но, честное слово, упоительное дело. Мне не хватало сейчас только моего эбенового Геракла. Мне казалось, что, если заставить сейчас нас всех разобрать горы щебня и построить на их месте чудесный дворец до неба, мы бы сделали это с тем же озорным любованием собственной силой и верой в сказочную всепобеждающую силу труда. Только раз в жизни я работал так, когда разбивал лед на обледеневших полях. Тогда я скинул с себя всю верхнюю одежду. А сейчас…
Сейчас я убедился, какое здесь было африканское пекло. Вот когда я, наконец, действительно попал в пекло. И какое же веселое, радостное было это пекло, говорившее о былой силе Солнца, о животворящих его, лучах, о конце ледяного кошмара, которому никогда больше не быть на Земле.
«Льды возвращаются» — написал я на заглавном листе своей книги, который переменил-таки вопреки былым предрассудкам! Молодец, Рыжий Майк! Льды действительно возвращаются на свои исконные, положенные им природой места за Полярным кругом. Но и там до них доберутся люди вот с таким же зудом в руках, которым хочется свернуть ледяные горы, освободив для людей новые материки!..
Так в лютую жару я думал о льдах.
Вскочив в кабину грузовика рядом с черным шофером, я поехал в бывший отель, с которым у меня связано так много воспоминаний.
Нас встречала толща худых, изможденных людей в больничных халатах. Многие, в том числе женщины, были без волос, словно с бритыми черепами.
Они ждали нас, они ждали чуда.
И это чудо показывали им.
Раньше нашего грузовика к госпиталю подъехала легковая машина, из которой вышли профессор Терми, доктор Полевая и Эллен.
Профессор Терми показывал на Эллен, на Полевую, что-то говорил.
Их окружили, до них старались дотянуться руками без мышц, напоминавших мне руки живых скелетов с американского заснеженного шоссе.
Я пробился в середину толпы, меня узнавали, пропускали, благословляя. Эти люди все еще помнили сочиненные обо мне легенды, которых, конечно, я совсем не стоил.
Но они сослужили сейчас мне службу, и я мог видеть Эллен в окружении тех, кто хотел стать ей подобными.
Бог мой! Можно ли быть подобными богине? Только сейчас рядом с жалкими подобиями людей, измученных смертельным недугом, рядом с безобразием страдания я увидел красоту счастья. И для всех эта красота была олицетворением надежды, тепла, жизни… Для всех, кроме меня. Для меня она была скована льдом…
Больные старались дотронуться до чуда, созданного молекулярной, как объяснил профессор, операцией. Став на колени, они целовали края одежды русского хирурга, которая воплощала в себе все их надежды, здоровье, счастье…
Я тоже не мог жить без надежды… Я должен был знать все…
Если люди сумели разжечь снова Солнце, растопить ледники, если спасли жизнь на планете, то… неужели нельзя растопить настоящим человеческим чувством лед, который сковывает всего только одного человека?!
Я слишком много уже понимал. Все это время она работала там с ним, с Буровым…
А ведь именно с ним, с Буровым, с Сербургом, лежали мы когда-то в палатке, разбитой близ отеля-госпиталя вот на этом самом месте… Каждый из нас говорил о той, которую любил. Не об одной ли и той же говорили мы тогда?
Эта мысль поразила меня.
Я испугался. Мне показалось, что я могу потерять Эллен навсегда. И я, смеясь над собой, стал уговаривать Эллен сейчас же немедленно выйти за меня замуж, не откладывая это ни на минуту… Я боялся отказа, как гибели…
Эллен смеялась над моей глупостью, а потом вдруг сразу стала серьезной.
— Рой… не терзайтесь, — тихо проговорила она. — Я уже сделала выбор. Я вернулась… вернулась навсегда. Но не надо спешить… Будьте чутким…
Я стал ждать, я был чутким, страдающим, терпеливым. Оказывается, я умел ждать. Шли дни. Доктор Полевая и профессор Терми трудились почти без отдыха. Работы было так много, что не только Эллен, но даже и мне пришлось стать их «ассистентом»… Впрочем, ассистенткой, конечно, была только Эллен, взявшая на себя заботу о сложной физической аппаратуре, я же был великолепен только в роли санитара, принося и унося больных. Совсем как в первые дни после взрыва, но тогда со мной была Лиз, а теперь Эллен.
Однажды Эллен поинтересовалась у профессора Терми — а я это случайно слышал, — что требуется в Америке для натурализации ребенка, рожденного в другой стране? Старик ответил, что лучше всего было бы быть замужем за американцем. Сердце у меня забилось, я готов был расцеловать старого ученого. Я знал, что Эллен должна завтра встречать самолет из России.
Я уговорил Эллен позволить мне сопровождать ее. Она ждала с этим самолетом своего ребенка, нашего ребенка…
Я еще раз ощутил настоятельную необходимость лечиться от галлюцинаций. Маленького Роя, прелестного кудрявого мальчугана вынесла на руках из самолета молодая женщина — двойник моей Эллен.
Я нес мальчугана, идя между двумя сказочно похожими друг на друга женщинами. Я готов был лопнуть от радости, счастья, гордости… Вероятно, все это было написано на моем лице.
Эллен сказала:
— Лю, посмотри, как сияет этот мужчина.
— Как солнце, — сказала она.
Да, я мог спорить с воскресшим солнцем.
Лю хотела на следующий же день вернуться в Россию, но Эллен уже решила что-то. Пошептавшись, она уговорила ее остаться на несколько дней.
У нее были для этого веские причины. Я догадался о них и рискнул напомнить Эллен о нашем браке, который надлежало оформить перед возвращением в Америку.
Она согласилась. Так был растоплен для меня последний из ледников Земли.
Теперь я сиял, как тысяча солнц!
Оформить брак мы могли только в американском консульстве, а там никого не было. Дежурный ответил мне по телефону, что лишь сторожит имущество и что весь состав консульства в виде протеста против действий нового правительства страны, национализировавшего крупные земельные владения, отозван в США.
Я недвусмысленно выразил свое отношение к этому неуклюжему дипломатическому акту, чем вызвал насмешки дурно воспитанного клерка.
Узнав, для чего мне понадобилось консульство, этот клерк не без язвительности сообщил мне, что по местным законам оформить брак иностранцев может только глава государства.
Такая уж у меня натура. Я никогда не останавливаюсь на половине пути.
Я ринулся дальше.
Секретарь нового президента, до которого я дозвонился, сообщил мне, что глава государства может принять нас с Эллен, и пригласил тотчас же приехать во дворец президента, помещавшийся в бывшем бунгало какого-то плантатора, которое уцелело от атомного взрыва.
Эллен убеждала меня подождать, хотя бы познакомиться с собственным сыном, маленьким Роем. Но я заявил, что отныне хочу носить на руках своего вполне законного ребенка. Я уже успел накупить ему целый автомобильный парк.
Эллен грустно улыбнулась.
Полевая, с улыбкой слушавшая наш спор, который в общих чертах переводила ей Эллен, пообещала, что привезет в президентский дворец нашего мальчика.
Это была удивительная по обаянию и доброте женщина.
Я сказал ей, что ведь она стала Эллен матерью, и что я в восторге, как это говорят по-русски, от такой тещи, так же, как от «свояченицы» Лю.
Она засмеялась, обняла и поцеловала меня.
Мы с Эллен помчались в президентский дворец.
Огненный букет орхидей из джунглей Эллен взяла с собой. Ей напомнила о нем наша Лю. Этот букет был для меня подобен иллюминации, фейерверку, вихрю красок в честь величайшего праздника моей жизни.
Бедный плантатор, ныне лишившийся своих владений, успел построить довольно роскошное бунгало, где на веранде нас встречал полуодетый чернокожий джентльмен, оказавшийся секретарем нового президента.
Он сообщил, что президент немедленно примет нас, хотя кое-кто уже ждет у него приема.
И он провел нас через гостиную в круглый холл с вентилятором под потолком, украшенный, видимо, еще по вкусам старого плантатора экзотическим оружием и страшными негритянскими масками. На высоко расположенных полках почему-то стояли человеческие и обезьяньи черепа.
В холле понуро сидел один человек, забившись в уголок длиннейшего дивана, на котором сиживали когда-то надменные колонизаторы, покуривая дорогие сигары.
Вид у посетителя был очень жалкий, и я не сразу узнал в нем мистера Ральфа Рипплайна.
— Великолепный Ральф, — шепнул я Эллен.
Она удивленно подняла брови. Я кивнул ей головой и подмигнул.
При нашем появлении Ральф почтительно вскочил. Но, узнав меня, отвернулся к окну, сделал вид, что изучает струю фонтана, бившую перед окном в саду.
Секретарь президента провел нас к главе государства.
Боже мой! Ну и встреча!..
Ко мне, раскрыв руки для объятия, шел мой эбеновый Геракл.
Я горячо обнимал и целовал своего черного друга, и он в первый раз, наверное, был сейчас уверен, что я совершенно трезв.
Но это было неверно. Я был все-таки пьян, пьян от радости встречи, от тревожного ожидания того, что должно было произойти.
— О, мистер Рой! О, леди! — на прекрасном английском языке говорил мой Геракл, то есть президент. — Когда мне сообщили, для чего я вам понадобился, я готов был плакать от счастья.
Он усадил нас на такой же длинный, как в холле, диван, сам сел между нами. Он положил огромную черную руку мне на колено.
— Баш будущий муж, леди, друг нашего народа.
— Я тоже дружила с вашими маленькими гражданами, мистер президент, — сказала, задумчиво улыбаясь, Эллен. — Они помогали нам строить шалаш в джунглях.
— О, в джунглях мы построим теперь не только шалаши. До сих пор черная раса дремала, как бы в резерве цивилизации, теперь предстоит ее вывести в первые ряды, рядом с вами, мои друзья.
В Геракле поражала величественность и простота. В нем невозможно было узнать вчерашнего швейцара отеля, оказавшегося лидером прогрессивного национального движения.
Ай да эбеновый Геракл!
— Я еще не слишком много успел сделать, — сказал президент. — Если признаться, то я сейчас совершу лишь второй свой акт. Но обоими актами я горжусь.
— Какие же это два акта? — спросила Эллен.
— Первым актом были национализированы все земли, незаконно захваченные у нашей страны преступной организацией «SOS».
— Кстати, руководитель этой организации «SOS» мистер Ральф Рипплайн ожидает у вас аудиенции, — заметил я.
— В числе ваших первых посетителей уже обиженный вами капиталист, — улыбнулась Эллен.
— Капиталист? Где капиталист? Подать сюда капиталиста! — притворно улыбнулся президент. — Могу вас уверить, что под этой крышей капиталистов уже нет. Разве что мистер Рой, простите, что продолжаю вас так называть.
— О, нет! — рассмеялся я. — Я даже за свою книгу ничего не получил.
Президент страны встал, подошел к письменному столу и взял лежащую на нем книгу. Это был мой дневник…
Глава государства пригласил нас к столу. Оформляя бумаги о нашем браке, он сказал:
— Я признался вам в своем первом акте, в результате которого этот жалкий тип, что торчит в приемной, перестал быть капиталистом и уже никого больше интересовать не будет. А второй мой акт, которым, честное слово, будут гордиться и все мои преемники, — это венчание будущего американского президента.
Эллен с острым вопросом посмотрела на меня. Я опустил голову.
Геракл все понял.
— Простите, мэм, вам еще, очевидно, не попали в руки сегодняшние газеты. Мистер Рой Бредли выдвинут кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки. Я не сомневаюсь в исходе предвыборной борьбы. Времена меняются. В Америке выбирали многих президентов. В большинстве случаев, кандидаты мало отличались в своих политических целях, которые они собирались осуществить на высшем посту страны. Они отличались скорее в средствах, более или менее умеренных. Пожалуй, впервые народ будет избирать человека, который способен повести Америку по совсем новому пути. Это прежде всего «свой парень», которого узнали все американцы, они прочитали его дневник, они знают его всего насквозь, верят в него, любят его. И его поддерживают самые прогрессивные партии. Закономерно, что на пост президента баллотируется не Майкл Никсон, красный сенатор, а Рой Бредли, выдвигаемый им. Будущее за вами, мой дорогой будущий президент. Я не сомневаюсь в вашей победе и на выборах, и на высоком посту, победе над силами мрака и зла. — Говоря это, он держал в руках мой дневник.
— Боже мой! — тихо сказала Эллен. — Можно ли измерить всю тяжесть долга?
— Может быть, вы не решитесь теперь сочетаться с ним браком? — поинтересовался глава государства.
Эллен встряхнула головой:
— Нет, господин президент. Я не колеблюсь. Новым путем Америку должны вести и новые люди!
— И новый президент, — добавил Геракл. — Я не сомневаюсь, кто им станет, как не сомневаюсь и в том, будет ли он счастливым в браке, заключенном здесь.
— Он уже был заключен прежде под африканскими заездами, — сказала Эллен.
— Вот как?
— Нас венчали не в церкви, не в венцах со свечами, — сказала по-русски Эллен и перевела по-английски.
В глазах у огромного черного президента сверкнули озорные огоньки.
— О да! — откинулся на спинку стула эбеновый гигант. — Вас венчали не в церкви, а в кабинете президента, как и подобает венчать президента дружественной державы. Надеюсь, мистер Рой, вы позаботитесь о возвращении состава американского консульства?
Я встал и хлопнул Геракла по плечу:
— Я тоже буду гордиться этим актом, если мне удастся его совершить, — сказал я.
Глава государства поздравил нас с заключенным браком. Он пригласил нас отобедать у него, но мы сказали, что нас ждет сын.
Брови Геракла поползли вверх, но он разулыбался.
Он провожал нас до дверей, и, когда закрылась дверь его кабинета, из-за нее послышался, как гул поющею колокола, великолепный бас, запевший знакомую мне, самую дорогую на свете песню:
Нас венчали не в церкви, Не в венцах со свечами, Нам не пели ни гимнов, Ни обрядов венчальных… Венчала нас полночь Средь шумного бора… …Леса и дубравы Напились допьяну… Столетние дубы С похмелья свалились!Он знал, он пел эту сумасшедшую песню, от которой должны были содрогнуться все ханжи на свете! И он пел ее на русском языке.
Мы стояли с моей женой у дверей главы черного государства, счастливые, пораженные, и не могли произнести ни слова.
Из холла к двери президента его секретарь подвел нашу милую Полевую, мою названную тещу, с чудным мальчиком на руках.
Я взял его, и он доверчиво пошел ко мне. И все мы молча слушали набатный голос за дверью, певший на удивительно красивом языке о моей любви, а я смотрел с нежностью на сына, рожденного этой любовью.
Я много видел, много перенес, но заплакал я, честное слово, по-настоящему только сейчас.
Мальчика спустили на пол. Нам хотелось держать его с двух сторон за обе ручки. Конечно, при этом приходилось чуть нагибаться. Он спешил к своим маленьким автомобилям.
Эллен расцеловалась с Полевой, мы с ней обменялись улыбками.
И мы пошли через круглый холл, забыв посмотреть на Ральфа Рипплайна, который, по словам Геракла, уже не был больше капиталистом, потеряв все скупленные земли, и уже никого не интересовал.
Мы шли по президентскому саду, направляясь к ждавшей нас машине, в которой сидела наша Лю.
Полевая не пошла с нами. Она осталась стоять на веранде и вместе с секретарем президента смотрела на нас троих.
Я оглянулся, непостижимым образом я понял, о чем она думает, что она видит.
Она видела, как мы трое, делая осторожные шаги, шли вперед, выходя из тени на солнце.
Она подумала, что все мы трое делаем первые свои шаги в желанный мир.
ЭПИЛОГ
Как странно, что заканчивать повествование о грандиозных потрясениях в жизни человечества приходится мне, так мало на все влиявшей.
И, конечно, мне хочется предоставить слово тем, кто может сказать так много.
И пусть снова говорит сама Эллен, от которой я недавно получила письмо.
Вот что написала она мне:
«Милый мой Лю, Люд мой хороший, самый лучший из людей! Ты взволновала меня своим письмом. Какая странная пришла тебе мысль соединить вместе дневник Роя, мой письма, твой дневник и рассказать обо всем, что произошло на Земле, показать события через наши судьбы — словно они представляют для кого-то интерес… И как много всколыхнула ты во мне, Люд!.. Так пусть все, что можно сказать о том времени испытания, будет предупреждающим повествованием о мрачном времени холодной войны, которая неизбежно вела человечество или к взрыву планеты, подобному взрыву океанов Фаэтона, или к ее обледенению.
Человечество прошло через это испытание.
Об этом как раз говорил на днях Рой при открытии памятника космическому кораблю „Петрарка“ по случаю десятилетия со дня получения последней радиограммы от Лиз Морган. Текст зтой странной, как показалось всем, радиограммы состоял лишь из одного сонета Петрарки, который прочел перед памятником Рой, в радиограмме не было объяснено, почему „Петрарка“ не возвращается на Землю, а уходит из солнечной системы.
Только я одна замечала, как волновался Рой. Он сказал о заслугах мисс Морган, впервые увидекщей на Весте, этом огромном осколке планеты Фаэтон, мимо которой она пролетела, руины былой цивилизации, погубившей себя и свою планету.
Это сообщение Лиз заставило призадуматься даже „бешеных“, с которыми Рою пришлось бороться после избрания его в Белый дом. Нельзя держаться за средства, которые в результате применения могут разорвать планету на куски.
Десять лет! Он уже избран на третий срок…
На десять лет были запасы на „Петрарке“…
Если бы она могла вернуться!..
Недавно опубликованы расчеты одного молодого астронавигатора, который доказывает, что „Петрарка“ мог развить скорость, близкую к световой, используя межзвездный водород для своей термоядерной установки. Ведь известно, что в одном кубическом сантиметра межзвездного пространства содержится один атом водорода. Вспомнили, что корабль мисс Морган имел приспособление, превращавшееся в межзвездном пространстве в раструб. Он был достаточным, чтобы при огромной скорости собрать нужное количество водорода для разгона вплоть до свекровой скорости. Не исключено, что корабль достиг близкой к световой скорости и, если это так, то… наши десятилетия на Земле будут благодаря парадоксу времени теории Эйнштейна для Лиз Морган лишь мгновениями, и она вернется на Землю все такая же юная и красивая, когда мы уже проживем свою жизнь.
Так хочется верить этому!.. Хоть бы она вернулась… когда угодно, но лишь бы вернулась!..
А у меня, как, ты знаешь, полно забот. Роенька тебе напишет сам, ему полезно упражняться в русском языке. Он увлекается математикой и битьем стекол с помощью футбольного мяча. Когда мы бываем в „хижине дяди Тома“, который искусно хозяйничает на нашей семейной ферме, то оба Роя трогательно трудятся на нивах, кстати, теперь объединенных с соседними фермами, составившими трудовую корпорацию.
Я недавно послала тебе отчет о нашем последнем исследовании в Беркли. Меня очень интересует, показала ли ты его маме? Незамедлительно мне ответь, нам с тобой надо крепко увязывать наши работы.
А в Беркли все так же. Я рада, что тебе у нас здесь понравилось и ты даже готова была бы когда-нибудь поработать в наших лабораториях. Надеюсь, муж простит тебе это, как прощает мне мой муж мою занятость. Я ведь езжу в Вашингтон только на субботу и воскресенье.
Заканчивая повествование, вспомни, что мистер Майкл Никсон стал государственным секретарем, что инженер Герберт Кандербль, к сожалению, умер и на строительстве подводных плавающих туннелей из Америки в Европу и Африку его согласились заменить инженеры Андрей и Степан Корневы. Еще расскажи, что Америка уже не походит на ту, которая описана в дневниках Роя. Мы идем в желанный мир, и в этом мире не будет ледников.
Обнимаю тебя крепко, моя родная, передай привет твоему мужу, ваша Эллен».
Она никогда не подписывалась русским именем, никогда.
Это смешно, конечно, но я все-таки разыскала где-то у мамы на квартире свою старенькую голубую тетрадку и даже взгрустнула над ней.
Не знаю, понадобится ли она кому-нибудь, но я все-таки сделаю в ней последнюю запись о знаменательной встрече, которая произошла у нас на квартире.
К нам должен был приехать находящийся в Москве Геракл Крнг, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, не упускавший случая повидаться с почетными гражданами Африки.
Для встречи с ним к нам приехала и Валентина Александровна Полевая, женщина редкой энергии, мягкости и обаяния. Она, смеясь, говорила, что стала живой рекламой возглавляемого ею института молекулярной хирургии, который называют институтом вечной молодости. Она сама себе сделала молекулярную операцию, восстановив те стершиеся временем нуклеиновые скрижали жизни, которые определяли старение организма. И она теперь прелесть как хороша. Седина ее осталась, но вся она стала такой милой, привлекательной и по-настоящему красивой, что я словно влюбляюсь в нее всякий раз, когда вижу, совсем так, как когда-то в мою Елену Кирилловну.
К мужу моему она продолжает относиться с профессиональным интересом и сразу же после приветствий, несмотря на общие протесты, начинает его исследовать. Она даже исследует наших детей, но, к счастью, своими сказочными аппаратами она их еще не просвечивала.
Наконец, приехал Геракл Крнг, черный исполин с ослепительной седой головой. Он вошел, заняв весь проем двери, и протянул вперед огромные руки:
— О, Сербург! Сербург! Все никак не могу вас иначе назвать! Дорогой мой, почетный африканский гражданин. И вы, мадонна Валя, на которую продолжают молиться в наших джунглях! Привет вам от всех вами спасенных!
— А я собираюсь на вашу родину, Геракл! — сказала Полевая. — Надо изучить на детях возможные мутации, вызванные радиоактивным излучением, которому подверглись родители.
— Там будут рады вам, — сказал Геракл Крнг, целуя белую руку хирурга. — И я уверен, что вы не только изучите мутационные изменения в организмах, но и сразу же исправите на месте нежелательные изменения.
Полевая улыбалась и кивала головой.
— А вы, наш друг Сербург? Вы не собираетесь снова к нам? — обернулся он к моему мужу.
— Кажется, я приеду к вам, но… не в Африку, а на форум Организации Объединенных Наций.
— Рад повстречаться с вами всюду. Тем более, говорить вместе с вами на форуме о желанном мире. А это значит: снова говорить о вашей «Б-субстанции», которая сделала невозможной ядерную войну, но притушила Солнце, и об «А-субстанции», которая разожгла снова Солнце, но как бы не сделала снова возможной ядерную войну.
Они сели в глубокие кресла, оба огромные, сильные, и говорили о том, что касалось всего человечества. Мы с Валентиной Александровной молча смотрели на них, а может быть, любовались ими.
— Было время, — сказал мой Буров, — когда некоторые сомневались в действенности «Б-субстанции», не могли представить себе, чтобы капля ее, попавшая на исполинскую массу светила, могла как-то повлиять на происходящие там реакции. Пытались объяснить затухание Солнца и новое оледенение Земли неотвратимой закономерностью развития нашей солнечной системы, проходящей через какие-то загадочные облака Галактики, снижающие активность Солнца. И будто человек, подобно своему древнему предку в шкурах, охотившемуся на мамонтов, бессилен и теперь против возвращающихся льдов, должен безвольно отступить. Да, нашим далеким предкам пришлось отступить перед ледниками, но они сумели выжить. И в этом была победа их разума. Другие животные вымирали. А человек развился с тех пор настолько, что сам едва не вызвал возвращение льдов на Землю. Однако теперь он не просто выжил, теперь он вмешался в процессы природы, повлиял на накал Солнца. Дело ведь не в механизме того, как это произошло, с помощью «Б-субстанции» или без нее. Будем считать «Б-субстанцию» неким символом человеческого знания, способного тем или другим путем добиться подобного результата. Ныне мы с уверенностью можем сказать, что наши потомки, встретясь через десятки тысячелетий с очередным обледенением планеты, уже смогут не просто выжить, а предотвратить это бедствие, активно торжествуя над силами природы. Ледникам никогда больше не быть на Земле! И грядущее это, рожденное торжеством разума, закладывается сейчас, указывается в наши дни. Возможно, разумные расы галактик действительно зажигают и гасят звезды для своих нужд, величием своего разума обеспечивая счастье расселившихся по небесным телам рас. И величие это не просто в высоте знаний, а в высоте сознания, управляющего знанием. У нас на Земле история сложилась так, что достижения науки опередили развитие общественного самосознания. Средства ядерной физизки и протовещество, к несчастью, попадали в лапы неандерталоидов в смокингах. Ядерные реакции в руках этих неандерталоидов могли бы покончить с цивилизацией на Земле. Авантюрист или безумец нажатием кнопки мог вызвать мировую катастрофу. Когда появилось протовещество, исключающее ядерные войны, оно с преступной закономерностью было использовано для диверсии против Солнца.
— То есть против основы жизни на Земле, — вставил Геракл Крнг.
— Разберемся, — продолжал мой Буров, — почему ныне стала невозможной ядерная война на Земле? Ведь теперь нет уже «атомного щита», делающего невозможными ядерные взрывы. Вслед за «Б-субстанцией» по законам «ядра и брони», подобным соревнованию двух ног при ходьбе, появилась «А-субстанция». Не «атомный щит» создает теперь на Земле новую обстановку, исключающую ядерные войны, а торжествующий РАЗУМ ЛЮДЕЙ. Ныне люди, вооруженные и объединенные разумом, уже не боятся никаких достижений науки, которая будет отныне служить лишь их счастью.
Геракл Крнг молча протянул руки, указывая ими на Полевую, как на воплощение науки, служащей счастью людей. Наша Валентина Александровна даже зарделась от смущения.
Геракл встал, встал и мой Буров. Почему-то я мысленно поставила рядом с ними Роя Бредли, американского президента.
— Наука может служить только счастью людей! — воскликнул Геракл, и голос его поющим колоколом отдался в большой нашей комнате. — Объявить на Земле вне закона все искания новых средств уничтожения! Объявить патологическими и антигуманными мысли в этом направлении! Только любить и лечить! Только отроить и не разрушать!
— Строить новые города, новые материки, новые планеты, наконец! — в тон ему сказал мой Сергей.
И я добавила:
— И зажигать новые солнца по «плану Петрарки», певца вечной любви.
Геракл обернулся ко мне;
— Уверен, что все эти наши слова повторит на форуме вместе с нами и президент Соединенных Штатов наш друг Рой Бредли.
— Это очень простые и ясные слова, — сказала Полевая. — Их повторит теперь каждый человек Земли. ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!

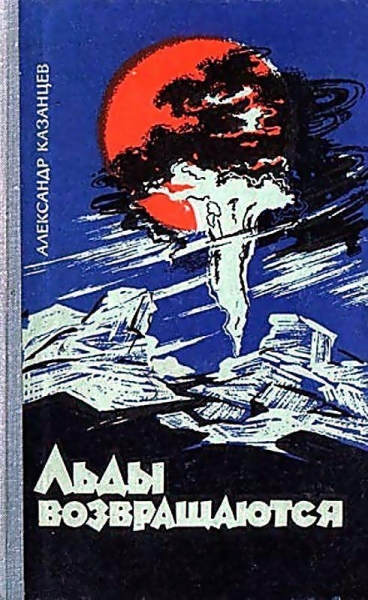

Комментарии к книге «Льды возвращаются», Александр Петрович Казанцев
Всего 0 комментариев