POLARIS
ПУТЕШЕСТВИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЕ • ФАНТАСТИКА LIV
Габриэль Тард ОТРЫВКИ ИЗ ИСТОРИИ БУДУЩЕГО
Предисловие к английскому изданию
Превосходный переводческий труд м-ра Клодели Бреретона ничуть не пострадает, если мы заметим, какие тонкие изменения претерпевает в процессе перевода сочинение, подобное книге г. Тарда. У каждого языка в мире, я полагаю, есть свои особенности, свои отличительные свойства. Французскому, в отличие от английского, присуща большая интеллектуальная живость, веселая и ироническая нота, ученая игривость, проявляемые и автором этой книги. Английский не так гибок, это язык более строгий и солидный — что касается не только звучания и формы наших фраз, но и форм самой мысли. Она то сворачивается и сгущается, то разрастается и затемняется; любая шутка оборачивается трудностями и подвергает немалой опасности репутацию автора как человека здравомыслящего. И в самом деле, невозможно представить, что профессор Гиддингс и м-р Бенджамин Кидд, д-р Беатти-Крозье и м-р Уордсворт Донисторп вдруг засверкают, как это сочинение, такими жизнерадостными искрами. Подобно старому мореходу м-ра Гилберта, они никогда «не резвятся и не играют», а если бы и сумели преодолеть велеречивые тонкости нашей манеры изъясняться и вдумчивую серьезность нашего стиля мышления, осталась бы еще английская публика, та самая публика, что склонна обижаться на своих юмористов по причине отсутствия прямоты, за развлечением обращается к известным и признанным специалистам в этой области, пишущим на законные темы юмористического толка, и требует от своих профессоров, наряду с определенной величавой недоступностью мысли и языка, подобающего воздержания от предательства, каким видятся ирония и сатира. Вообразите «Историю будущего», написанную м-ром Гербертом Спенсером! Америка и север Англии отказали бы ему во всяком уважении… Но г. Тард, будучи не только членом Института и профессором Коллеж де Франс, но и французом, смог придать полету воображения доступное, литературно изящное и остроумное выражение, не рискуя при том изничтожить самого себя — и создать нечто, что в английском обличии может показаться весьма необычным. И все-таки английский читатель, который окажется в состоянии преодолеть свое естественное предубеждение против такого рода сочетания ума и веселости, найдет в фантастических россыпях г. Тарда немало предметов для размышления, а пустив в ход обычную серьезность, обнаружит и мораль достаточно — следует признать — разностороннего сорта.
Примечательно, что многие, обращаясь к такой важнейшей теме, как материальное будущее человечества, берут на вооружение метод сугубо технического, псевдо-научного обсуждения (что едва ли можно назвать «методом») либо выказывают дух легкомыслия. Я не знаю ни одной посвященной этому вопросу книги, которая соединяла бы приемлемую доступность изложения с простым доверием к читателю. Попробуем объяснить, отчего так происходит. Тема настолько глубока и громадна, что утрачивается всякая совместимость с делами и условиями индивидуального человеческого существования, каковым отданы наши повседневные мысли. Да, мы испытываем любопытство и в то же время чувствуем, что эта тема вне нас, превыше нас. Обращение к ней отдает самонадеянностью, головоломным напряжением и экстравагантной нелепостью. Это все равно, что пытаться лопатой срыть гору, и инстинкт заставляет нас искать оправдания в глазах ближних посредством блеска остроумия. В точности тот же инстинкт порождает защитное «дурачество», в котором не отказывают себе школьники, когда берут на себя какое-либо безнадежное обязательство или терпят решительное поражение в игре.
Сходный инстинкт сказывается в шутливом «parley vous Francey» англичанина из низших классов, который втайне мечтает говорить на французском, но на практике считает такую идею смехотворной и абсурдной. Облекая наши социологические предположения в конкретную форму, мы срываем с них все одежды убогих претензий, оставляя их нагими и дрожащими от явной несостоятельности. Дело не в том, что вопрос незначителен; напротив, именно потому, что он чрезвычайно важен, появляются все эти остроты о Будущем, вся эта фантастическая и «ироническая» беллетристика. Здесь мы имеем лишь средство для выражения смутных, неоформленных, новых идей, над которыми мы все задумываемся. Будущее является в нашей литературе как своеобразная комедия и арлекинада в сравнении с трагической драмой Настоящего, и герои и героини последнего предстают в новых и смешных видах; не сказать, что в этом отражается наше действительное понимание соотношения вещей — но таков, пожалуй, единственный доступный нам в настоящее время способ рассуждения о материальной Судьбе человеческой расы.
Г-н Тард, в предлагаемой книге, прибегает к уклончивой иронии; иногда он подшучивает над явлениями современности, помещая их в незнакомое окружение, иногда развивает собственные фантазии, главным образом ради них самих, но с хорошо переданным литературным эквивалентом извиняющейся улыбки смущенного собеседника. Отметим общую ясность, французскую резонность и упорядоченность его идей. Он мыслит (как всегда, кажется, поступают французы) в категориях человечества, одновременно более просвещенного и более ограниченного, нежели то, что видится нам, англичанам. В его светских и радостных людях XXV века, этих жертвах солнечной катастрофы, нет никаких изъянов, никакого тумана и тайн, никаких несоответствий, никакой жестокости и лицемерия — как и темных проблесков божественности. Он создали всемирное государство и искоренили все уродливое и слабое. Джентльмены этой Утопии — с ухоженными ногтями и бородами — изящно вьются вокруг невообразимо элегантных и блистающих красотой дам, чье очарование только оттеняется пенсне, которое носят все. Они говорят не на эсперанто, но на греческом — что немного не соответствует указанной картине; и поскольку в мире Утопии более или менее богатые и хорошенькие женщины и привлекательные мужчины попадаются на каждом шагу, словно ягоды в лесу, и так же доступны, «человеческая страсть целиком устремилась на то поле, которое одно осталось открытым» — в политику. Сей поток отхлынул благодаря одному философствующему финансисту, который, как в подробностях дознается читатель, самым милым образом увековечил свои труды, воздвигнув алюминиевую статую Луи Филиппа в качестве препятствия на пути нового наводнения — и что же осталось? Непревзойденное цветение поэзии и искусства!
Трудно сказать, насколько г. Тард в первой части своей истории потешается над механистической точностью и лишенными вдохновения схемами своих соотечественников и в какой степени их разделяет. В целом он, как кажется, предполагает, что люди и впрямь могут построить окончательный план действий, претворить его в жизнь и навсегда установить определенный порядок, тем самым обеспечив будущие элегантные променады в цветнике искусств; для типичного же англичанина весь шарм планирования и выполнения состоит в неискоренимой, врожденной, инстинктивной убежденности в том, что свои планы он никогда не исполнит, а вместо этого случится нечто совершенно иное, какая-то рискованная и счастливая неожиданность. Г-н Тард также привносит в свой мир неожиданность, но не ту коварную неожиданность, что порождается внутренними различиями между всеми людьми и всеми предметами; его неожиданность приходит извне. Не успевает прекрасное и очаровательное Человечество приятно, рационально, с дивным вкусом разместиться в своих студиях и салонах, за зелеными ломберными столиками и табльдотами, в уютных cabinets particuliers ресторанов — как солнце гаснет!
Сама идея угасания солнца содержит невероятные изобразительные возможности, и г. Тарду, должно быть, пришлось приложить немалые усилия, чтобы сдержать воображение в узде и избежать резкой дисгармонии с иронической легкостью предшествующих пассажей. При мысли о солнце, которое корчится в таинственной ледяной хватке и меняет цвета в небесах потемневшего, ошеломленного, охваченного ужасом мира, возникают образы колоссальной мощи и величия. Перед мысленным взором встают видения погруженных во тьму городов и огромных, еле различимых, бегущих куда-то людских толп; широкие просторы замерших в леденящей жути полей, умолкшие в страхе последнего затмения звери, и среди потерянных созданий дня — летучие мыши и птицы ночи, в непонимании скользящие на своих бесшумных крыльях. И после внезапное зрелище бесчисленных звезд, открытых опустевшим солнечным троном; но в небесах уже громоздятся, вновь скрывая звезды, темные массы грозовых туч, по всему миру с шелестом проносится ветер, а затем первые, еще мелкие хлопья, и вторжение крутящихся снеговых вихрей в тусклый свет ламп, окон, рано загоревшихся уличных фонарей… Дрожь холода, руки запахивают пальто и шубы, слепое бегство в убежища, к спасительному огню — пламенеют огни… Красные отблески огня на лицах, взгляды искоса на окна, стенающие под порывами ветра, дверь прогибается под яростными ударами чужих, оставшихся снаружи: «Мы не можем пустить сюда всех». Тьма сгущается, крики на улице стихают, и вот уже не остается ничего, кроме шороха непрестанного снегопада, засыпающего город от крыш до тротуаров. Время от времени бессвязный разговор обрывается, только в недвижной тишине почти беззвучно и непреклонно наползает снег. «Там, внизу, осталось немного еды», — слышится голос. «Не стоит оставлять ее слугам… Лучше припрятать все наверху. Кто знает, сколько дней нам придется здесь провести». Что и говорить, реалистическое описание даст мрачные картины, продолжение рассказа чревато растущими сложностями. Г-н Тард правильно сделал, едва затронув этот эпизод и ограничившись заурядными пиротехническими эффектами красных, желтых, зеленых и голубых тонов; люди у него спасаются и умирают, как марионетки под бумажными снежинками украшенной к Рождеству витрины, а после роковой перемены он как ни в чем не бывало возвращается к прежнему светскому тону. Меткая шутка о выносливости натурщиц и легкий намек на оздоровительное действие модных декольте свидетельствуют о его успехах на этом поприще; упоминание гостиничной мебели, разбросанной по передовым моренам возвращающихся альпийских ледников, служит удачной щепоткой приправы реалистичности, которая в большом количестве испортила бы все блюдо.
Если всерьез задуматься о таком явлении, как угасание солнца, станет очевидна безнадежная самонадеянность всякой мысли о том, что человечество в силах избежать такого быстрого и абсолютного конца. Наша раса в целом вела бы себя так, как отдельный человек, настигнутый внезапным апоплексическим ударом. Мы почувствовали бы себя как-то странно, опустились бы в кресла, стараясь унять непонятную боль, пробормотали бы нечто глупое или неразборчивое и с одним-двумя неловкими жестами отошли бы в мир иной. Но г. Тард в свойственной ему фантастической и иронической манере издевается на нашей тщеславной верой в возможности человеческой расы, которая якобы оказывается способна на различные организованные и обдуманные меры. «Толпы» людей бегут в Каменистую Аравию и Сахару и свершают там чудеса сопротивления. Является героический вождь и спаситель, Мильтиад; он проповедует неотроглодитизм, любит несравненную Лидию и уводит остатки человечества под землю. Тут г-н Тард приходит к своей главной идее, идее обращенного внутрь мира и людей, что поколение за поколением следуют за слабеющим теплом, спускаясь по галереям и туннелям к земному ядру. И эту мысль он облекает в самую прекрасную, богатую и значимую из своих фантастических тканей.
В его блистательно расшитом узоре красной нитью проходит образ воображаемого историка, который полностью удовлетворен новыми условиями жизни. Земля превращена в бесконечные соты, все прочие формы жизни, помимо человека, уничтожены, а наша раса стала общиной, что обретается на высокой ступени счастья и довольства, постоянно используя социальную «тонику». Наполовину насмешливо, наполовину одобрительно, г-н Тард намечает здесь новую концепцию человеческих взаимоотношений и наводит нас на раздумья своей отстраненной критикой современных социальных нравов. Он легко и непринужденно касается глубоких вопросов общественного устройства; именно в этих рассуждениях наиболее явственно звучит мысль нашего автора. Можно только пожалеть о том, что он не до конца использовал счастливую возможность изобразить все социальные типы современности в виде вмерзших в лед ископаемых; превосходные и беглые замечания о крестьянах и рабочих заставляют желать большего. С уверенностью мыслителя, всесторонне рассмотревшего проблему, он отвергает предположение, будто «общество покоится на обмене услуг» — и ясно выражает то, что многие из нас, вероятно, только смутно начинают осознавать: «природа общества состоит в психическом обмене и взаимодействии». Сказанное далее посеет семена немаловажных размышлений в любом уме, настроенном на восприятие идей г. Тарда. Это и есть средоточие его мысли, ее истинная сущность; все остальное в этой небольшой книге служит для нее лишь одеянием, украшением и покровом. Многие из нас, как мне кажется, мечтают о человеческих сообществах, объединенных не юридическими нормами и торговлей услугами, но общими интересами и единым творческим началом; поэтому я без колебаний подчеркиваю и отмечаю на полях сокровенную идею г. Тарда. Спустя страницу или две он вновь надевает ироническую маску и подшучивает над племенем «социологов, самых неуживчивых из всех людей». Насмешки, колоритные намеки, фантазии, прихотливые философские наблюдения непрерывно и восхитительно сменяют друг друга до самого финала книги; но сквозь поверхностный слой их неизменно просвечивает, исчезая и появляясь снова, определенное авторское намерение — и читатель закрывает книгу по меньшей мере наполовину убежденным неотроглодитом, проникнутым страстным интеллектуальным сожалением при мысли о многообразных занятиях этого недостижимого мира и сияющей в нем любви. Описание развития науки и в особенности троглодитской астрономии, лишенной своего материального воплощения — замечательный каприз интеллектуальной фантазии, тогда как в философском видении медленного сгущения человеческой жизни в конечную форму единственного всеведущего и потому совершенно погруженного в себя, созерцательного существа, существа, отринувшего завесу времени, содержится одновременно и нечто глубоко вероятное, и своего рода колоссальная и абсурдная чудовищность. Надеюсь, мне простят личную нотку, так как я замечаю интересную параллель между этим Последним Человеком, обратившимся в сталактит философом г-на Тарда, и неким Великим Лунарием, которого я в свое время вывел в книге «Первые люди на Луне». Та же мысль, припоминаю, встретилась мне в сочинении Мережковского, название которого с тех пор стерлось из моей памяти… Но я не стану останавливаться на этом странно привлекательном и глубоко укоренившемся представлении. В данном случае мне подобает, думается, всего лишь привлечь внимание читателя — минуя легкость и забавную поверхностность вводной части этой книги, а также несколько разочаровывающее на первый взгляд, но в литературном смысле оправданное описание катастрофы — к этим темным, но любопытным и содержательным пещерам, туннелям и подземным галереям, где таится трудноуловимая, настоящая мысль г-на Тарда — на благо тех, кто захочет последовать за нею, уловить ее и понять.
Г. ДЖ. УЭЛЛС
К концу XXV столетия доисторической эры, называвшейся когда-то христианской, относится, как известно, тот неожиданный крах, с которого ведет свое начало новое время, та счастливая катастрофа, благодаря которой ушел в землю, на благо человека, разлившийся поток цивилизации. Я вкратце расскажу об этом великом крушении и о спасении, на которое не надеялись и которого так быстро удалось достигнуть в течение нескольких веков героических и победоносных усилий. Разумеется, я не стану говорить об отдельных общеизвестных фактах; я отмечу лишь крупные черты этой истории. Но сначала следует упомянуть в нескольких словах о той степени относительного прогресса, на которой находилось уже человечество в период своей жизни снаружи, на поверхности земли, накануне этого великого события.
I. Благополучие
Апогей человеческого благополучия, в пошлом и поверхностном смысле слова, казался достигнутым. Уже в течение пятидесяти лет, со времени окончательного упрочения великой азиатско-американско-европейской федерации и ее бесспорного господства над варварскими племенами, неподдавшимися еще ассимиляции, разбросанными там и сям, на островах Океании и в центральной Африке, все страны, обращенные в провинции, наслаждались всеобщим и с тех пор ненарушимым миром. Для такой блестящей развязки нужно было, чтобы непрерывные войны продолжались, по крайней мере, полтораста лет. Но все эти ужасы были забыты; и от всех страшных битв между армиями в три-четыре миллиона солдат, между составленными из бронированных вагонов поездами, летавшими на всех парах и со всех сторон выпускавшими друг в друга снаряды, между подводными эскадрами, которые производили взрывы путем электричества, между флотилиями блиндированных воздушных шаров, которые захватывались посредством острог, прорывались воздушными торпедами и с облаков низвергались на землю, окруженные тысячами моментально раскрывавшихся парашютов, продолжавших даже при своем падении обмениваться выстрелами, — от всего этого воинственного безумия не осталось ничего, кроме поэтического и смутного воспоминания. Забвение — начало счастья, как страх — начало мудрости.
Благодаря совершенно исключительному обстоятельству, народы после этого колоссального кровопролития испытывали не оцепенение от истощения, а спокойствие от сознания выросшей мощи. Объясняется это следующим образом. Приблизительно в течение столетия комиссии, производившие освидетельствование новобранцев, порвав со слепой рутиной прошлого, заботливо отбирали и освобождали от военной службы, сделавшейся совершенно автоматической, наиболее крепких и хорошо сложенных молодых людей; под знамена же посыпали всех хилых и слабых, сил которых было вполне достаточно для выполнения упростившейся до последней возможности роли солдата и даже офицера низшего ранга. Это был разумный подбор, и историк не выполнил бы своего долга, если бы не похвалил с признательностью это нововведение, благодаря которому постепенно сформировалась несравненная красота теперешнего человечества. В самом деле, рассматривая теперь в витринах наших антикварных музеев эти странные коллекции карикатур, которые наши предки называли фотографическими альбомами, можно отметить, как громаден прогресс, сделанный человеческой внешностью, если только правда, что мы происходим от этих уродов и гомункулов, как это утверждает предание (заслуживающее во всяком случае доверия). К этой эпохе относится открытие последних микробов, еще не исследованных неопастеровской школой. Когда сделалась известной причина всех болезней, тогда уже недолго пришлось искать средств для их излечения; начиная с этого времени, чахоточные, ревматики и больные вообще сделались таким же редким явлением, каким когда-то были близнецы и честные виноторговцы; именно в эту эпоху исчез смешной обычай предлагать вопросы о здоровье, которыми были переполнены разговоры наших предков: «Как вы поживаете?.. Как ваше здоровье?». Только близорукость продолжала медленно прогрессировать вследствие чрезвычайной распространенности газет: не было ни одной женщины, ни одного ребенка, которые не носили бы пенсне. Впрочем, это временное неудобство в значительной мере компенсировалось успехом, который был сделан искусством оптики.
Вместе с политическим единством, которое уничтожило враждебные отношения между народами, было достигнуто лингвистическое единство, которое быстро сгладило всякое различие между ними. Уже начиная с XX века, среди ученых всего мира потребность в таком общем и едином языке, каким была средневековая латынь, стала настолько сильно чувствоваться, что они решили пользоваться во всех своих сочинениях международным наречием. После долгого соперничества между английским и испанским языками, со времени разгрома английской империи и завоевания Константинополя эллино-русской империей окончательно установился греческий язык. Мало-помалу или, скорее, с быстротой, свойственной вообще прогрессу нового времени, пользование греческим языком, переходя от одного слоя общества к другому, распространилось до самых низших общественных классов и, начиная с середины XXII века, не было ни одного ребенка, от Луары до Амура, который бы не умел легко объясняться на языке Демосфена. Там и сям, в немногих деревнях, затерявшихся в горных ущельях, упорно продолжали, несмотря на запрещение преподавателей, коверкать прежние языки, которые когда-то назывались французским, немецким и итальянским, но было бы очень смешно услышать эту тарабарщину в больших городах.
Все современные документы согласно свидетельствуют о быстроте, глубине и всеобщности изменений, которые произошли вследствие этого объединения языка в нравах, в идеях, в потребностях, во всех формах социальной жизни, нивелированной от одного полюса до другого. Как будто до этого времени поток цивилизации был сдерживаем, и только с этих пор, когда были прорваны все плотины, он в первый раз вольно разлился по земному шару. Малейшее вновь открытое усовершенствование в области промышленности доставляло изобретателю не миллионы, а миллиарды, потому что теперь уже ничто не останавливало лучеобразного распространения идейной волны, где бы она ни родилась. По той же самой причине издание каждой книги, как бы мало она ни соответствовала вкусу публики, и представление пьесы, как бы мало ей ни аплодировали, считались не сотнями, а тысячами. Соперничество авторов усилилось до крайней степени. Кроме того, для их вдохновения открывался широкий простор, потому что первым последствием наводнения разлившегося по всему миру неоэллинизма было исчезновение навсегда всей сделавшейся непонятной мнимой литературы наших грубых предков, вплоть до заглавий тех произведений, которые считались классическими шедеврами, вместе с варварскими именами забытых теперь Шекспира, Гете и Гюго, неуклюжие стихи которых с таким трудом разбирают наши ученые. Грабить у этих писателей, чтение которых было доступно лишь очень немногим, значило оказывать им услугу и слишком много чести. Это делалось без церемонии, и успех смелых подделок, выдаваемых за оригинальные творения, был огромен. Источник для такого рода эксплуатации был богат, неисчерпаем. К несчастью для новых писателей, поэты древности, умершие много веков тому назад, Гомер, Софокл и Еврипид, вновь возродились к жизни во сто раз более цветущими, чем в эпоху Перикла, и эта неожиданная конкуренция особенно затрудняла новоявленных поэтов. В самом деле, сколько оригинальные гении ни сочиняли рассчитанных на сенсацию новинок, таких, как Athalias Hermanias, Macbethes, публика часто пренебрегала ими, чтобы бежать на представление «Царя Эдипа» или «Птиц». Даже «Nanais», во всяком случае очень сильная вещь, написанная романистом-новатором, совершенно не имела успеха наряду с тем неистовым восторгом, который был вызван популярным изданием «Одиссеи». Уши всех были пресыщены классическим, романтическим и другими видами александрийского стиха и утомлены детскими играми цезуры и рифмы, то играющих в качели, понижаясь и повышаясь, то играющих в прятки и исчезающих, чтобы заставлять себя искать; неудивительно потому, что им доставляли невыразимое наслаждение красивый, свободный и богатый гекзаметр Гомера, строфа Сафо и ямб Софокла, так много повредившие музыке некого Вагнера. В общем, музыка отошла на задний план в иерархии изящных искусств, а взамен этого, филологическое обновление человеческого духа вызвало неожиданный расцвет литературы, который позволил поэзии занять ее законное, т. е. первое место. В самом деле, поэзия процветает всегда, когда обновляется язык и в особенности, когда он совершенно изменяется, благодаря чему создается удовольствие выражать на новый лад вечные банальности. Искусство не было простым времяпрепровождением избранных. Народ принимал в нем горячее участие. Это понятно, так как теперь у народа было время для чтения и для наслаждения произведениями искусства. Передача силы на расстояние посредством электричества и во множестве других видов, например, в виде воздуха, сгущенного в легко перевозимых бутылках, свели на ничто ручную работу. Водопады, ветер, болота были привлечены на службу человека, как это в отдаленные времена было с паром, только в бесконечно меньшей мере. Разумно распределенная и утилизированная усовершенствованными машинами, настолько же простыми, насколько и остроумными, эта огромная даровая энергия природы давно сделала излишними всю домашнюю прислугу и большую часть рабочих. Оставшиеся еще рабочие-добровольцы проводили не более трех часов в международных мастерских, в грандиозных фаланстерах, где, увеличенная в десять, во сто раз, производительная мощь человеческого труда превзошла все надежды их основателей.
Это не значит, что социальный вопрос был таким образом разрешен. Правда, теперь уже не было нищеты, и потому не было борьбы из-за богатства и зажиточности, которыми все пользовались и которых почти уже никто не ценил; не было также и уродства, и потому почти не ценили и не завидовали любви, которая, благодаря чрезвычайному изобилию прекрасных женщин и красивых мужчин, сделалась такой общей и такой доступной, — по крайней мере по-видимому; но покинув, таким образом, два прежних великих пути, человеческая страсть целиком устремилась на то поле, которое одно осталось открытым и которое увеличивалось с каждым днем по мере прогресса социалистической централизации: на завоевание политической власти. Крайнее честолюбие, сразу усиленное всеми слившимися в нем вожделениями — и корыстолюбием, и сладострастием, и завистливой алчностью, и алчной завистью предыдущих веков, достигло тогда ужасающих размеров. Все теперь наперерыв старались завладеть этим высшим благом — государством, все старались при помощи всемогущества и всеведения всемирного государства осуществить свою личную программу или свою заветную мечту. Результатом всего этого, вопреки предсказаниям, вовсе не была обширная демократическая республика. Такое накопление честолюбия неминуемо должно было воздвигнуть новый трон, самый высокий, самый сильный и самый блестящий из всех, которые когда-либо существовали. Кроме того, так как народонаселение единственного теперь государства считалось миллиардами, то всеобщая подача голосов стала неосуществимой, призрачной. Во избежание серьезных неудобств слишком многолюдных совещательных собраний, необходимо было настолько увеличить избирательные округи, чтобы каждый депутат представлял, по крайней мере, 10 000 000 избирателей. Это вполне естественно, если принять во внимание, что тогда впервые была осуществлена, на первый взгляд такая простая, идея распространения права голоса на женщин и детей, вотивировавших, само собой разумеется, через своих отцов или через своих законных или незаконных мужей. Между прочим, эта полезная и необходимая с точки зрения как здравого смысла, так и логики реформа, вытекавшая одновременно из принципа национального суверенитета и из требования социальной устойчивости, едва не провалилась, как это ни маловероятно, благодаря коалиции избирателей-холостяков.
Предание гласит, что проект закона относительно этого необходимого расширения круга лиц, участвующих в голосовании, был бы неминуемо отвергнут, если бы собрание не было выведено из себя состоявшимся незадолго перед тем выбором одного миллиардера, заподозренного в цезарских стремлениях. Собрание думало повредить популярности честолюбца поспешным принятием этого проекта, рассчитывая, что отцы и мужья, оскорбленные или встревоженные любезностями нового Цезаря, приложат всю свою энергию, чтобы помешать его триумфу. Но это ожидание, по-видимому, не сбылось. Впрочем, соответствует действительности или нет эта легенда, — несомненно, что вследствие расширения выборных округов, в связи с отменой выборных привилегий, избрание депутата было настоящим коронованием и опьяняло избранного сознанием его величия. Восстановленный таким образом феодализм неминуемо должен был привести к восстановлению монархии. Некоторое время, согласно предсказанию одного древнего философа, эта космическая корона была уделом ученых, но они не сохранили ее за собой. Наука, сделавшаяся, благодаря бесчисленным школам, достоянием народа, стала настолько же всем доступной, как прелестная женщина или элегантная мебель; усовершенствованная и до крайности упрощенная, законченная в своих неизменных основных чертах, в своих раз навсегда установленных и заполненных фактами рамках, идущая вперед лишь незаметными шагами, она в общем занимала в человеческом мозгу так же мало места, как некогда катехизис, который она собою заместила. Большая часть интеллектуальной силы тратилась теперь на другие предметы, — такие, как слава и престиж. Научные корпорации, славные своей древностью, увы! стали приобретать до некоторой степени смешной оттенок, почти всегда вызывавший улыбку и воспоминание о синодах бонз, таких, какими их изображают очень старые рисунки.
Нет ничего удивительного, что за этой первой династией императоров-физиков и геометров, простодушных подражателей Антонинов, вскоре последовала династия артистов, изменивших искусству и научившихся владеть скипетром так же, как некогда смычком, резцом или кистью. Самым знаменитым из всех был архитектор, человек с богатым, хорошо дисциплинированным и соединенным с несравненней энергией воображением. Между другими гигантскими проектами он задумал снести свою столицу Константинополь, чтобы вновь воздвигнуть ее на месте древнего Вавилона, разрушенного три тысячи лет тому назад. Идея поистине блестящая. В этой, не имевшей себе подобной долине Халдеи, по которой протекал свой Нил, лежал свой Египет, еще более плодородный и более красивый, — представлявший собой бесконечную горизонтальную равнину, которую нужно было приобщить и призвать к жизни, покрыть многочисленными смелыми постройками, густым и деятельным населением, отливающими золотом под всегда голубым небом нивами, лучеобразной сетью железных дорог от столицы Навуходоносора до крайних пределов Европы, Африки, Азии через Гималаи, Кавказ и Сахару. Все это было сделано в несколько лет. Сконцентрированной и передаваемой путем электричества энергии, вырабатываемой сотней абиссинских водопадов и бесчисленным множеством циклонов, было с лишком достаточно для доставки с гор Армении камней, леса и железа, необходимых для этих сооружений. Однажды праздничный поезд, составленный из огромного числа вагонов, проходивший поблизости от кабеля в момент наибольшего накопления в нем электрической энергии, был вмиг взорван на воздух и превращен в прах. Сам Вавилон, — некогда кичливая столица распутства с ее жалким великолепием необожженных и раскрашенных кирпичей — был заново отстроен из мрамора и гранита, к вящему унижению Набополассара и Балтазара, Кира и Александра… Бесполезно прибавлять, что в почвенных наслоениях на месте этого города археологи сделали неоценимые открытия вавилонских и ассирийских древностей. Увлечение ассириологией зашло так далеко, что все мастерские скульпторов, дворцы и даже гербы государей были украшены крылатыми быками с человеческими головами, как некогда музеи были полны крылатых купидонов и херувимов. Даже некоторые руководства для элементарных школ были отпечатаны клинописью, для поднятия их авторитета в глазах детей.
Так как страсть к постройкам, к несчастью, вызвала седьмое, восьмое и девятое банкротства государства и несколько последовательных выпусков бумажных денег, то все были рады, когда после этого блестящего царствования корона перешла к философу-финансисту. Едва приведя финансы в порядок, он принялся постепенно осуществлять в большом масштабе свой чрезвычайно оригинальный правительственный идеал. Вскоре после его вступления на престол обнаружилось, что все вновь избранные придворные дамы, правда, очень образованные, но совсем не умные, прежде всего блистали отсутствием красоты, что придворные ливреи были серого и темного цвета, что придворные балы, воспроизводимые при помощи кинематографа в миллионах экземпляров, представляли собой коллекцию самых честных и в то же время самых заурядных лиц и наименее привлекательных фигур, что кандидаты, недавно назначенные после предварительной присылки их портретов на высшие посты империи, выдавались главным образом их вульгарным видом; что, наконец, бега и публичные празднества, день которых определялся заранее на основании секретных депеш о начале американского циклона, из десяти случаев в девяти приходились на дни густого тумана или проливного дождя, при котором все покрывалось бесчисленными непромокаемыми плащами и зонтами.
Выбор, который делался этим государем относительно проектов, так же, как и относительно людей, был всегда один и тот же: наиболее полезный и наилучший из самых безобразных. Все труды правительства были запечатлены невыносимой одноцветностью, подавляющей монотонностью и тошнотворной пошлостью. Над этим смеялись, этим возмущались, на это негодовали и в конце концов к этому привыкли. В результате через некоторое время среди артистов и литераторов, изменивших своему призванию и искавших прекрасного вне своей сферы, не было таких, которые не отказались бы от домогательства почестей и не вернулись бы к поэзии, скульптуре или живописи. Именно с этих пор вошел в поговорку афоризм, что превосходство государственных людей есть не что иное, как посредственность, возведенная на степень наивысшей власти.
Таково то большое благодеяние, которым народ был обязан этому выдающемуся императору. Высокая идея его царствования выяснилась благодаря посмертному изданию его мемуаров. Из этого сочинения остался только следующий фрагмент, который заставляет сожалеть о потере остального: «Кто настоящий основатель социологии? Огюст Конт? Нет, Менений Агриппа. Этот великий человек понял, что правительство — желудок, а не голова социального тела. В самом деле, желудок тем и хорош, что он приносит добро, несмотря на свое безобразие, и полезен, несмотря на свой отталкивающий вид, потому что, если бы этот необходимый орган был привлекателен, то можно было бы опасаться, что к нему стали бы прикасаться, и природа не приложила бы столько стараний, чтобы скрывать и защищать его. Какой рассудительный человек станет чваниться, что у него изящный пищеварительный аппарат, красивая печень, элегантные легкие? Такая претензия была бы столь же смешной, как мания совершать великие и красивые политические акты. Нужно все делать солидно, хотя и не блестяще. Мои бедные предшественники…» Здесь следует пробел. Немного далее читаем: «Лучшее правительство то, которое стремится быть настолько буржуазным, корректным, беспартийным и бесстрастным, чтобы все относились к нему без симпатии и без антипатии». Таков был этот преемник Семирамиды. На месте висячих садов он приказал воздвигнуть на государственный счет в середине общественного сада, засаженного цветной капустой и тем сортом лавровых деревьев, листья которых употребляются для соуса, сделанную из алюминия статую Луи-Филиппа. Вселенная отдыхала. Конечно, она немного скучала, но зато никогда еще в ней не царил такой полный покой, никогда не было такого почти дарового изобилия всех благ, такого пышного расцвета (или, вернее, выставки) поэзии и искусства. Как раз в это время стала распространяться между испуганными народами чрезвычайная и совсем небывалая тревога, серьезным поводом для которой послужили астрономические наблюдения, сделанные на Вавилонской башне, выстроенной по образцу Эйфелевой башни, но только в гораздо большем масштабе.
II. Катастрофа
Уже несколько раз солнце обнаруживало признаки угасания. С каждым годом его пятна умножались и увеличивались: его теплота заметно уменьшалась. Все терялись в догадках. Недоставало ли ему горючего материала? Вступило ли оно, совершая свой путь через мировые пространства, в исключительно холодную область? Никто не знал. Как бы то ни было, это мало беспокоило народ, как вообще все то, что происходит не внезапно, а постепенно. Солнечная анемия, благодаря которой, кстати сказать, несколько оживилась заброшенная было астрономия, сделалась исключительной темой многочисленных, довольно занимательных, журнальных статей. В общем, ученые в их хорошо отапливаемых кабинетах предпочитали не верить в понижение температуры и, несмотря на ясные указания термометров, продолжали повторять, что закон медленной эволюции и сохранения энергии, комбинированный с классической гипотезой туманностей, не позволяет допустить настолько быстрого охлаждения солнечной массы, чтобы его можно было заметить в короткий промежуток одного века, а тем более одного пятилетия или года. Были, правда, протестанты с еретическим и пессимистическим темпераментом, которые указывали, что в различные эпохи, если верить астрономам далекого прошлого, некоторые звезды постепенно потухали на небе или из самых ярких в течение едва одного года делались совсем тусклыми. Они выводили отсюда, что случай с нашим солнцем совсем не был исключительным, что теория медленной эволюции, быть может, не везде приложима, и что иногда, как это отваживался утверждать в легендарные времена один ясновидящий старик-мистик по имени Кювье, на небе разыгрывались настоящие революции, такие же, как и на земле, но ортодоксальная наука с ожесточением боролась против этих смелых предположений.
Однако зима 2489 года была такой ужасной, что приходилось серьезно подумать об угрозах пессимистов. Стали опасаться наступления с минуты на минуту солнечной апоплексии. Под таким заглавием вышла сенсационная брошюра, которая выдержала двадцать тысяч изданий. С мучительным беспокойством ожидали прихода весны.
Весна, наконец, пришла и солнце — царь светил — появилось снова, но увы! развенчанным и неузнаваемым. Оно было совсем красным. Луга теперь уже не зеленели, небо не было голубым, китайцы не были желтыми, — все внезапно изменило свой цвет, как в феерии. Затем постепенно из красного солнце превратилось в оранжевое и сделалось похожим на золотое яблоко на небе. Оно, как и все в природе, прошло через тысячу оттенков то великолепных, то ужасных, — от оранжевого до желтого, от желтого до зеленого и, наконец, от зеленого до синего и бледно-голубого. Метеорологи тогда вспомнили, что в 1683 году 2-го сентября над Венесуэлой солнце в течение целого дня выглядело бледным, как луна. Новые цвета и новые украшения вселенной, меняющей всю свою внешность, изумляли испуганный взгляд, оживляли и доводили до первоначальной остроты впечатления, совершенно освеженные новыми красотами природы и, обновляя вид предметов, наполняли душу странным и глубоким волнением. В то же время невзгоды следуют одна за другой. Все население Норвегии, северной России, Сибири гибнет от мороза в одну ночь; умеренный пояс подвергается сплошному опустошению. Оставшиеся в живых его обитатели, убегая от снежных заносов и ледяных глыб, сотнями миллионов направляются к тропикам, переполняя летящие на всех парах поезда, из которых многие, настигнутые снежными ураганами, пропадают навсегда. Телеграф передает в столицу одно за другим известия то о том, что больше не получается сведений об огромных поездах, которые должны были ехать через пиренейские, альпийские, кавказские, гималайские туннели, где их заперли огромные снежные лавины, мгновенно загородившие оба выхода; то о том, что остановились некоторые из самых больших рек в мире, как наприм. Рейн и Дунай, замерзшие до самого дна, следствием чего были засуха и затем ужасный голод, принудивший тысячи матерей съедать своих детей.
Время от времени то та, то другая страна внезапно прерывает свое сообщение с центральным агентством: это значит, что снег занес целую телеграфную сеть настолько, что лишь кое-где выглядывают верхушки телеграфных столбов с их стаканчиками. От этого огромного клубка электрической нити, охватывавшей весь земной шар, точно так же, как и от чудовищной кольчуги, которую образовывала законченная система железных дорог, не осталось ничего, кроме отдельных разбросанных участков, подобно остаткам великой армии Наполеона во время отступления ее из России. Между тем ледники с Альп и с Анд, с возвышенностей всего мира, которые, когда-то побежденные солнцем, в течение тысячелетий укрывались в своих последних траншеях, в крутых ущельях и в горных лощинах, открыли теперь свое завоевательное шествие. Все ледники, остававшиеся неподвижными в течение целых геологических эпох, теперь оживают, принимая еще большие размеры. Из всех альпийских и пиренейских долин, еще недавно зеленых и покрытых прелестными курортами, выступают эти белые скопища, эти ледяные лавины с их мореной в авангарде; она несется впереди и заполняет собой обширные равнины движущейся массой камней, опрокинутых локомотивов, остатков мостов, железнодорожных вокзалов, отелей, перемешанных в кучу монументов, чудовищных и ужасных обломков, которые, как трофеи, украшают триумфальное шествие.
Эти бледные завоеватели, несмотря на кратковременные промежутки света и тепла, несмотря на то, что иногда выпадают знойные дни, которые свидетельствуют о последних конвульсиях солнца, изнемогающего в борьбе со смертью и оживляющего в душах обманчивую надежду, несмотря на эти перипетии или даже благодаря им, медленно, шаг за шагом, совершают свой путь. Они снова захватывают себе одну за другой подвластные им в ледниковый период области и, встречая на пути какую-нибудь давно оторвавшуюся гигантскую глыбу, одиноко и угрюмо лежащую в сотнях миль от гор, близ какого-нибудь знаменитого города, таинственного свидетеля великих катастроф прошлого, они поднимают ее и увлекают за собой, качая ее на своих твердых волнах подобно тому, как армия во время похода захватывает и водружает свои старые запыленные знамена, найденные в неприятельских храмах.
Как ничтожны были по своим последствиям прежние ледниковые периоды в сравнении с этим новым кризисом земли и неба! Без сомнения, и тогда аналогичное ослабление, истощение солнца вызывало замерзание земли и гибель многих малозащищенных животных пород. Но это было только, так сказать, ударом колокола, простым предупреждением о последнем и смертельном приступе. Ледниковые периоды, — известно, что их было несколько — делались теперь понятными благодаря наступлению нового такого же периода, но только гораздо более сурового. Однако, приходится признать, что это выяснение темного места геологии было слишком недостаточным вознаграждением за те всеобщие несчастья, которых оно стоило.
Какие бедствия! Какие ужасы! Мое перо слишком бессильно, чтобы изобразить их. К тому же, как рассказать о тех беспредельных несчастьях, которые в большинстве случаев сопровождались гибелью всех их свидетелей до последнего под слоем снега в сотни метров вышиной. Достоверно известно только то, что происходило в маленьком кантоне Каменистой Аравии. Туда, в поисках за убежищем, стремились толпа за толпой, волна за волной, замерзая друг на друге по мере приближения к цели, там спаслись те несколько миллионов людей, которые пережили миллиарды погибших. Каменистая Аравия вместе с Сахарой сделались тогда самыми населенными странами на земном шаре. Относительная теплота ее климата заставила перенести туда — я не говорю, резиденцию правительства, так как, увы, в это время царил только страх — но огромный калорифер и все, что осталось от покрытого льдом Вавилона.
Новый город был выстроен в несколько месяцев по совершенно новому архитектурному плану, чудесно приспособленному к защите от холода. Благодаря совершенно счастливой случайности, там же открыли богатые и нетронутые залежи каменного угля. Таким образом, топлива, по-видимому, должно было хватить на много лет. Что же касается средств пропитания, то об этом пока еще не приходилось много заботиться. В амбарах хранилось несколько мешков зерен в ожидании, что солнце оживит их и снова зазеленеют колосья… Ведь солнце не раз оживало после ледниковых периодов. Отчего это не может произойти еще раз? — спрашивали оптимисты.
Надежда на один день. Солнце становится фиолетовым; замерзший хлеб делается несъедобным; холод так усиливается, что стены сжимаются, трескаются и открывают свободный доступ потокам холодного воздуха, который убивает обитателей города. Один физик утверждает, что он видел, как с неба падали затверделые кристаллы азота и кислорода; это вызывает опасение, что еще немного, и атмосфера начнет разлагаться на составные элементы. Моря превращаются в сплошной лед; сотня тысяч человек, тщетно томившихся около огромной центральной печи, которая уже не могла восстановить в них кровообращение, превратились в лед, а в следующую ночь другая сотня тысяч погибает таким же образом. От красивой, сильной и благородной человеческой расы, для развития которой потребовалось столько веков усилий, столько гения и такой долгий и разумный подбор, вскоре должно было остаться лишь несколько тысяч или несколько сотен истощенных и полупомешанных экземпляров, единственных хранителей последних остатков того, что составляло цивилизацию.
III. Борьба
В этой крайности нашелся один человек, который не отчаивался за человечество. Его имя дошло до нас. По странной случайности он назывался Мильтиадом, как и другой спаситель эллинизма. Однако, он не был эллинского происхождения. Наполовину славянин, наполовину бретонец, он не вполне симпатизировал нивелирующему и изнеживающему влиянию общего благополучия новогреческого мира и во время этого широкого разлива всемирного торжества своеобразного неовизантизма, он был один из тех, которые в глубине сердца хранили семена протеста. Но, подобно варвару Стилихону, последнему защитнику романизма, отступавшего перед наплывом варварства, он был тем протестантом цивилизации, который один задумал остановить ее неудержимое движение по наклонной плоскости. Красноречивый и красивый, но почти всегда молчаливый, несколько походивший позой и чертами лица на Шатобриана и Наполеона (это, как известно, имена двух знаменитостей маленькой части мира их времени), обожаемый женщинами, для которых он был надеждой, и своими подчиненными, на которых он наводил страх, он рано выделился из толпы. К этому нужно прибавить, что исключительное стечение обстоятельств удвоило его природную дикость. Находя море более интересным и во всяком случае более обширным, чем материк, он, в качестве капитана последнего государственного броненосца, провел свою молодость в кругосветных путешествиях, мечтая о невозможных приключениях, о завоеваниях, когда уже было все завоевано, об открытиях Америк, когда все было открыто, и проклиная всех путешественников, всех изобретателей, всех прежних завоевателей, счастливых собирателей жатвы со всех полей славы, на которых уже нечем было больше поживиться. Впрочем, однажды он думал, что открыл новый остров — это была ошибка, — и он был рад возможности вступить в битву (последнюю, о которой должна была упомянуть история) с диким племенем, которое говорило по-английски, читало библию и вообще казалось очень первобытным. В этом сражении он обнаружил такую отвагу, что весь его экипаж счел его сумасшедшим, и ему грозила серьезная опасность потерять свое положение, когда один психиатр, к которому обратились за советом, готов был публично подтвердить это предположение, признав его страдающим нового рода мономанией самоубийства. К счастью, против этого с документами в руках протестовал один археолог, доказывая, что это явление, сделавшееся теперь таким необычным, но очень частое в прошлые века под именем храбрости, было простым случаем атавизма, очень интересным для изучения. Но на беду злополучного Мильтиада, в той же схватке он был ранен в лицо и этот шрам, который не могли изгладить лучшие хирурги, создал для него прискорбное и почти унизительное прозвище «человека со шрамом». Нетрудно понять, что с этого времени, мучимый сознанием своего безобразия, он, подобно старому скальду Байрону, который когда-то страдал почти из-за того же, стал избегать народа, боясь насмешек над явными следами проявления его былого безумия. Его не видели до того дня, когда, потеряв корабль, затертый льдами Гольфстрима, он был вынужден вместе со своими товарищами закончить пешком свою переправу через замерзший Атлантический океан.
В один прекрасный день Мильтиад появляется посреди центрального государственного согревателя, представлявшего собой обширный зал, покрытый сводами, со стенами в 10 метров толщиной, без окон, окруженный сотней гигантских печей и постоянно освещаемый сотней их пылающих пастей. Там он находит остаток отборных представителей обоих полов, блестящих даже в их несчастий: там не было ни великих ученых с их лысинами, ни даже великих актрис, ни выбивающихся из сил великих писателей, ни дряхлеющих гордецов, ни старых почтенных дам — увы! бронхопневмония скосила их всех после первых же морозов; остались лишь наследники их традиций и их тайн, а также и их пустых кресел — и их ученики, полные талантов и надежд на будущее. Не было ни одного университетского профессора, но было много их ассистентов и лаборантов. Ни одного министра, но много молодых государственных секретарей, ни одной матери семейства, но множество натурщиц с восхитительными формами, закаленными против холода привычкой жить полураздетыми, и в особенности большое количество светских красавиц, точно так же предохраненных от простуды (не говоря уже о пылкости их темперамента) прекрасным гигиеническим обычаем постоянно носить декольте. Среди них нельзя было не заметить по высокой и тонкой фигуре, по блеску туалета, ума и черных глаз, по белоснежному цвету лица, по сиянию, окружавшему всю ее фигуру, принцессу Лидию, получившую приз на последнем международном конкурсе красавиц и пользовавшуюся репутацией чуда вавилонских салонов. Как разнилась эта публика от той, которую когда-то рассматривали сквозь лорнеты с высоты трибун, в здании, называвшемся палатой депутатов! Молодость, красота, гений, любовь, бесценные сокровища знания и искусства, сводящие с ума голоса, золотые перья, чудесные кисти — все, что еще оставалось на земле изысканного и утонченного, соединилось в этом последнем букете, который цвел под снегом, как куст рододендрона или альпийской розы у подножия холма. Но какое уныние убивает эти цветы, и как бессильны все эти прелести!
При появлении Мильтиада все поднимают свои головы. Все глаза устремляются на него. Он высок, выглядит худым и сухощавым, несмотря на искусственную полноту, которую придавала ему большая белая шуба. Он сбрасывает свой белый капюшон, напоминающий древний клобук доминиканцев, и тогда обнаруживается большой шрам на его лице от брови до бороды. При виде его сначала улыбка, а потом дрожь, но уже не от одного только холода, пробегает по рядам женщин: как это ни странно, усилия рационального воспитания не могли окончательно искоренить в их сердцах наклонность восторгаться храбростью и ее внешними признаками. Лидия смотрит на него, видимо, вся переполненная этим чувством другой эпохи, в силу своего рода морального атавизма, вызванного его физическим атавизмом. Она так плохо скрывает свое восхищение, что Мильтиад невольно замечает его. К восхищению присоединяется удивление: его уже несколько лет считали умершим и теперь всех занимал один и тот же вопрос, каким чудом он избежал судьбы своих товарищей. Он просит слова и получает его. Он всходит на эстраду, и воцаряется такое глубокое молчание, что, несмотря на толщину стен, было слышно, как падает снег. Но здесь предоставляю говорить свидетелю-очевидцу, который при помощи фонографа составил отчет об этом памятном заседании. Из этого отчета я сделаю выписки. Я пропускаю ту часть речи Мильтиада, в которой он в ярких красках изобразил опасности, грозившие ему со времени оставления им корабля (ежеминутные аплодисменты). Рассказав, что он, проезжая через Париж в санях, запряженных северными оленями, узнал место этого вымершего города по белому двуглавому холму, образовавшемуся над двумя куполами собора Парижской Богоматери, он продолжает:
«Положение серьезно. Ничего подобного не было со времени геологических эпох. Безвыходно ли оно? Нет. (Слушайте, слушайте). Против больших несчастий должны приниматься энергичные меры. Меня озарила одна мысль, одна надежда, настолько странная, что я едва ли сумею ее выразить (Говорите, говорите). Нет, я не решаюсь, я никогда не решусь формулировать этот проект. Вы, чего доброго, сочтете меня за сумасшедшего. Вы этого хотите? Вы обещаетесь выслушать его до конца, мой абсурдный, экстравагантный проект? (Да, да). И даже попробовать применить его на деле? (Да, да). Хорошо, я буду говорить (тс! тс!). Теперь настало время проверить, насколько верно и постоянно повторявшееся в течение трех веков, вслед за известным Стефенсоном, утверждение, что всякая энергия, всякая физическая и моральная сила исходит от солнца (многочисленные голоса: верно!). Сделан расчет, из которого следует, что если через два года, три месяца и шесть дней останется еще кусок каменного угля, то не останется ни одного куска хлеба (продолжительное волнение). Но если источник всякой силы, всякого движения и всякой жизни заключается в солнце и только в солнце, — то обольщать себя надеждами не приходится: через два года, три месяца и шесть дней человеческий гений истощится, и на темном небе будет без конца кружиться труп человечества, такой же бездыханный, как сибирский мамонт, и ему никогда уже не суждено будет воскреснуть! (движение).
«Но так ли это? Нет, это не так, это не может быть так. Всем моим сердцем, со всей его энергией, которая исходит не от солнца, а от земли, от далекой родной земли, окутанной снегом, навсегда скрытой от моих глаз, я протестую против этой бессмысленной теории, против этих догматов, которые я до сих пор должен был молчаливо признавать (легкий ропот в центре). Земля, такая же старая, как и солнце, не может быть его дочерью. Земля, которая когда-то была такой же блестящей звездой, как и солнце, но которая только раньше его погасла, земля только на поверхности выглядит безжизненной, закоченелой, парализованной. В ее недрах всегда горячо и всегда огонь. Она сконцентрировала пламя внутри себя только для того, чтобы лучше сохранить его (выражение внимания). Внутри ее скрывается девственная нетронутая сила, — гораздо большая, чем вся та сила солнца, которой на пользу нашей промышленности приводились в движение замерзшие теперь каскады, остановившееся теперь циклоны, прекратившиеся теперь морские приливы и отливы. В этой силе земли наши инженеры, при небольшой инициативе, найдут двигатель в сто раз более могучий, чем тот, который они потеряли. Отныне надежда на спасение должна выражаться не этим жестом (оратор поднимает палец к небу), а этим (он опускает свою руку к земле: выражение удивления, незначительный ропот, тотчас же подавленный женщинами). Отныне следует говорить: не «на небеси», а «в земле». Там, внизу, глубоко внизу обетованный рай, страна освобождения и блаженства. Там, только там предстоят бесконечные завоевания и открытия. (Браво! слева).
Должен ли я сделать вывод? (Да, да). Сойдем в недра земли; там, на дне пропастей мы найдем для себя убежище. Мистики имели поразительное предчувствие, когда они говорили на своем латинском языке: ab exterioribus ad in-teriora: Земля призывает нас на свой внутренний суд. Сколько веков она живет, отделенная, так сказать, от своих детищ, от живых, которых она произвела на свет в период своего плодородия до охлаждения ее коры. После того, как ее кора остыла, лучи отдаленного светила одни поддерживали на ее мертвой поверхности искусственную жизнь снаружи, чуждую ее внутренней жизни. Но этот раскол продолжался слишком долго; нужно, чтобы он прекратился. Человечеству пора последовать за Эмпедоклом, Улиссом, Энеем, Дантом в мрак подземелий, человеку нужно возобновить свои силы из их источника и водворить свою душу в ее глубокое отечество (отдельные аплодисменты). В конце концов, есть одна только альтернатива: жизнь под землей или смерть. Нам недостает солнца — обойдемся без солнца. Мой план, выработку которого предприняли несколько месяцев тому назад самые выдающиеся люди и который мне остается вам изложить, теперь завершен окончательно. В нем все предусмотрено до мелочей. Интересует он вас? (Со всех сторон: читайте, читайте). Вы увидите, что при помощи дисциплины, терпения и храбрости — да, храбрости, — я рискую употребить это странно звучащее для вас слово (Рискуйте… Рискуйте) и в особенности при помощи великого наследия науки и искусства, которое нам осталось от прошлого, ввиду отчета, которым мы обязаны нашим самым отдаленным потомкам, всему огромному миру, я хотел бы сказать Богу (выражение удивления), мы можем быть спасены, если мы этого захотим (гром аплодисментов)».
Вслед за тем оратор приступает к подробному изложению не заслуживающих воспроизведения деталей нео-троглодитизма, который, по его мнению, следует провозгласить венцом цивилизации, вышедшей из пещер и обреченной вновь вернуться в них, только на несравненно большую глубину. Он развертывает планы, расчеты, чертежи. Ему нетрудно было доказать, что на достаточной глубине под почвой люди будут жить в приятной теплоте, в райской температуре; что нужно будет только разрыть, увеличить вширь и вглубь, продолжить в длину уже существующие галереи рудников, чтобы сделать их годными для жизни в них, даже комфортабельными; что электрический свет, поддерживаемый без всяких усилий посредством рассеянных повсюду очагов внутреннего огня, даст возможность великолепно освещать эти колоссальные склепы, эти чудные галереи, без конца продолжаемые и украшаемые последующими поколениями; что при хорошей системе вентиляции не будет никакой опасности задушения или недостаточного оздоровления воздуха, что наконец, после более или менее продолжительного периода устройства, культурная жизнь сможет снова развиться во всей своей интеллектуальной, артистической и светской роскоши, так же свободно и, может быть, с еще большей чистотой, чем при капризном и перемежающемся свете естественного дня. При этих последних словах принцесса Лидия аплодирует так сильно, что разбивает свой веер. Тогда с правой стороны раздается возражение:
«Чем там будут питаться?» Он презрительно улыбается и отвечает:
«Ничего не может быть проще. Прежде всего, для обычнаго питья будет служить растопленный лед; каждый день, очистив отверстие пещер от огромных глыб льда, будут доставлять их для наполнения общественных водоемов. К этому я прибавлю, что химия возьмет на себя труд делать алкоголь из всего, даже из минералов, и что не составит никакою труда алкоголь и воду превращать в вино. (Великолепно! на всех скамьях). Что касается пищи, то разве та же химия не учит нас искусственно приготовлять масло, альбумин, молоко из чего угодно? А затем, сказала ли она свое последнее слово? Не представляется ли в высшей степени вероятным, что взявшись за это дело, химики скоро сумеют вполне, и притом с большой экономией, удовлетворить требованиям самой изысканной гастрономии. А пока… (Робкий голос: А пока?) А пока не предоставляет ли само по себе бедствие, переживаемое нами, к нашим услугам, благодаря, так сказать, провиденциальному случаю, хранилище, наполненное в таком изобилии, в таком неисчерпаемом количестве провизией, какого род человеческий до сих пор никогда не имел? Огромная мастерская самых лучших консервов, какие когда-либо существовали, хранится для нас подо льдом или снегом: миллиарды домашних и диких животных — не смею прибавить: мужчин и женщин… (дрожь ужаса во всех рядах), но по крайней мере быков, баранов, всяких птиц, замерзших сразу, стаями и стадами на рынках, открытых для всех в нескольких шагах отсюда. Соберем, пока работа на открытом воздухе еще возможна, эту богатую добычу, которая была предназначена для прокормление многих сотен миллионов людей в течение многих лет и которой, следовательно, хватит для прокормления в течение многих веков нескольких тысяч существ, если бы они даже, наперекор Мальтусу, чрезмерно размножились. Эта добыча, собранная и сложенная у внешнего отверстия главной пещеры для удобства пользования ею, будет служить прекрасной пищей во время наших братских вечерей».
Еще некоторые другие сомнение высказываются с различных сторон, Они разрешаются с тем же не допускающим возражений апломбом. Заключение речи стоит того, чтобы его процитировать целиком:
«Как ни необыкновенна, по-видимому, та катастрофа, которую мы переживаем, и то средство спасения, которое нам остается, нужно лишь немного подумать, чтобы убедиться, что испытываемое нами смущение должно было повторяться бесконечное число раз в беспредельном пространстве вселенной и всякий раз заканчиваться такой же роковой и нормальной развязкой всех астрономических драм. Астрономы знают, что все солнца должны погаснуть; они знают, что кроме светящихся и видимых звезд, на небе много несравненно более крупных, красивых и темных звезд, которые продолжают без конца вращаться с кортежем планет, обреченные на вечную ночь и холод. Но если это так, я спрашиваю вас: можем ли мы предположить, что жизнь, мысль, любовь составляют исключительную привилегию ничтожного меньшинства еще освещаемых и теплых солнечных систем? Неужели мы должны отказать огромному большинству потухших звезд во всяком проявлении жизни и духа, во всяком смысле существования? В таком случае неодушевленность, смерть, бессмысленное движение — были бы правилом. А жизнь? Как?! Девять десятых, может быть, девяносто девять сотых солнечных систем вращаются без всякого проявления жизни, подобно нелепым и огромным колесам мельницы, без всякой пользы загромождая мировое пространство! Это невозможно: это безумие, богохульство. Будем иметь больше веры в неведомое. Конечно, здесь, как и везде, истина прямо противоположна тому, что кажется. Не все то золото, что блестит: относительно скудным содержанием обладают как раз те блестящие созвездия, которые так прельщают нас. Что такое их свет? Дешевая слава, расточительная роскошь, легкомысленная растрата энергии, бесконечная суетность. Но, когда прожит этот период ошибок молодости, только тогда начинается серьезный труд их жизни, только тогда звезды начинают внутреннюю плодотворную работу. Обледенелые и черные снаружи, они свято хранят в своем неприступном центре свой неугасаемый огонь, защищенный ледяными пластами. Там, в конце концов, должен снова вспыхнуть светоч жизни, потухший на их поверхности. В последний раз взглянем наверх, чтобы там отыскать нашу надежду. Живущие там, на небе, бесчисленные подземные человечества, скрытые, к их большому счастью, под верхним слоем невидимых звезд, должны одушевлять нас своим примером. Поступим так же. как и они; уйдем внутрь земли. Как они, похороним себя, чтобы воскреснуть и, как они, унесем с собой в нашу могилу все то из нашего прежнего существования, что достойно жизни.
Человек нуждается не только в питании для тела. Нужно жить для того, чтобы мыслить, а не заботиться только о том, чтобы жить. Вспомните сказание о Ное. Как поступил этот простой (бывший очень не прочь выпить) человек, чтобы избежать бедствия почти такого же, как и наше, и чтобы сохранить от него все, что было более ценного в мире? Он сделал из своего ковчега музей, собрал в нем полную коллекцию растений и животных, даже ядовитых растений, красных зверей, удавов, скорпионов, и он искренне верил, что сказал услугу потомству этим пестрым экипажем, составленным из существ, вредных друг другу, готовых друг друга поглотить, этой массой живых противоречий, которые прежде под именем природы так долго пользовались бессмысленным почетом. Но мы не унесем с собой в наш новый, таинственный, непроницаемый, неразрушимый ковчег ни животных, ни растений. Эти виды жизни уничтожены, эти подготовительные формы, эти причудливые попытки земли, сделанные ею в поисках за человеческим типом, исчезли навсегда. Не будем об этом жалеть. Вместо такого огромного количества пар животных и бесполезных семян, мы унесем в наше убежище гармоничное целое из всех связанных между собою истин, из всех поэтических и артистических, не противоречащих друг другу, а соединенных между собою, как сестры, красот. В течение веков они создавались человеческим гением, затем умножались в миллионах экземпляров, из которых гибли все, кроме только тех, которые заслуживали сохранение от опасности разрушения. Мы возьмем с собой обширную библиотеку, содержащую в себе главные труды, иллюстрированные кинематографическими альбомами и бесчисленными фотографическими сборниками, обширный музей, составленный из образчиков всех школ, всех основных направлений в архитектуре, в скульптуре, в живописи и даже в музыке. Вот для нас наши сокровища, вот наши семена, за которые мы будем бороться до последнего вздоха».
(Оратор сходит с эстрады при неописуемом энтузиазме: дамы теснятся около него. Они поручают Лидии поцеловать его от имени всех. Она выполняет это с краской стыда на лице, — другое проявление морального атавизма в ней — и аплодисменты удваиваются. Термометры согревателя в несколько минут поднимаются на несколько градусов).
Новым поколениям следует напоминать эти сильные слова. Они научат их благодарности, которой они обязаны памяти славного человека «со шрамом», чуть не умершего с репутацией мономана. Люди нашего времени также начинают изнеживаться, привыкнув к наслаждениям подземного рая, к роскоши этих бесконечных подземелий, доставшихся им в наследие от гигантских трудов их отцов; они слишком склонны думать, что все это сделалось само собой, что это было по меньшей мере неизбежно, что в конце концов не было другого средства избежать холода на поверхности земли, и что это средство, такое простое, не требовало слишком большой изобретательности… Глубокое заблуждение! В свое время идея Мильтиада была встречена, и не без основания, как луч гения. Без Мильтиада, без его энергии и красноречия, бывших к услугам его воображения, без его властности, способности увлекать и настойчивости, бывших к услугам его энергии, прибавим, без глубокой любви, которую сумела внушить ему Лидия, самая благородная и самая сильная из женщин, и которая удесятерила его героизм, человечество подверглось бы участи всех других растительных и животных пород. То, что поражает теперь в его речи, эта необыкновенная и поистине пророческая ясность, с которой он в главных чертах изобразил условия существование нового мира. Без сомнения, его надежды были далеко превзойдены: он не предвидел, он не мог предвидеть дивного роста его основной идеи, развитой тысячами вспомогательных гениев. Он был гораздо более прав, чем сам предполагал, как большинство новаторов, которых несправедливо всех подряд обвиняют в том, что они слишком настаивают на своем субъективном мнении. Но в общем, никогда такой грандиозный план не выполнялся так пунктуально. С первого же дня все нежные и изящные руки, правда, снабженные несравненными машинами, принялись за работу. Повсюду во главе работавших соперничали в усердии Лидия и Мильтиад, которые более уже не расставались. Не прошло и года, как галереи рудников были сделаны достаточно просторными и комфортабельными и даже были достаточно разукрашены и ярко освещены для того, чтобы можно было поместить в них обширные и бесценные коллекции всех предметов, которые стоило спасти для будущего.
С бесконечной заботливостью, связка за связкой, тюк за тюком, эти коллекции были спущены в недра земли. Это спасение того, что составляло обстановку жизни человечества, совершалось в определенном порядке: вся квинтэссенция больших старинных национальных библиотек — парижской, берлинской, лондонской, — собранных в Вавилоне, а потом со всем остальным перенесенных в пустыню, старинных музеев, старинных выставок промышленности и искусства, была сосредоточена там со значительными дополнениями. Манускрипты, книги, бронза, картины, — сколько, несмотря на помощь подземных сил, нужно было энергии, труда, чтобы все это упаковать, перенести и установить! В значительной своей части этот труд должен был быть совершенно бесполезен для тех, кто взял его на себя. Они хорошо это понимали, они считали себя обреченными провести остаток своих дней в тяжелом и чисто материальном труде, к которому их почти совсем не приготовила их прежняя жизнь артистов, философов и ученых. Но — в первый раз — идея долга проникла в их сердца, красота жертвы подчинила себе этих дилетантов. Они посвятили себя неизвестному, тому, чего нет еще — потомству, на котором сосредоточивались все желание их наэлектризованных душ, подобно тому, как все атомы намагниченного железа стремятся к полюсу. Это напоминало тот порыв героизма, который когда-то, когда еще существовали отечества, в годины великих бедствий, охватывал всех, даже самых легкомысленных граждан. Но как бы ни казалась странной для той эпохи, о которой я говорю, эта общая потребность самопожертвования, нужно ли ей удивляться, когда из сохранившихся трудов по естественной истории известно, что простые насекомые, давая такой же пример предвидения и самоотречения, перед смертью употребляли свои последние силы на собирание запасов, бесполезных для них самих, но нужных в будущем для их нарождающихся личинок?
IV. Спасение
Настал день, когда, спасши от великого крушения интеллектуальное наследство прошлого и весь действительный капитал человечества, потерпевшие крушение, в свою очередь, могли спуститься в глубь земли, чтобы уже не думать ни о чем больше, кроме самосохранения. Этот день, сделавшийся, как известно, началом нашей новой эры, названной «эрой спасения», был большим праздником. Между тем солнце, как бы для того, чтобы заставить жалеть о себе, озаряло землю несколькими последними лучами. И, говорят, прощаясь взглядом с этим сиянием, которое им не суждено было уже больше видеть, последние представители человеческого рода не могли удержаться от слез.
Молодой поэт, стоя у входа в отверстие, готовое поглотить всех, произнес на музыкальном языке Еврипида прощальные слова умирающей Ифигении, обращенные к свету. Но это был короткий момент вполне естественной тоски, тотчас же уступившей место порыву невыразимой радости.
Какое изумление, в самом деле, и какой восторг! Все предполагали очутиться в могиле и вместо этого открыли глаза в художественных галереях, не уступавших богатством и бесконечной длиной ни одной из тех, которые они видели раньше в салонах, превосходивших красотой версальские залы, в очаровательных дворцах, в которых были неизвестны перемены погоды, дождь и ветер, холод и тропическая жара, и в которых бесчисленные лампы, яркостью напоминавшие солнце, нежностью света — луну, постоянно поддерживали в темно-синей глубине день без ночи. Конечно, все выглядело не так, как теперь, но зрелище и тогда было уже чудесным. Стоит только при помощи усилия воображения представить себе психологическое состояние наших бедных предков, до тех пор привыкших к жалкому существованию на поверхности земли, полному постоянных и невыносимых неудобств, чтобы понять их энтузиазм в тот час, когда, рассчитывая найти в мрачной тюрьме только убежище от самой ужасной гибели, они почувствовали себя избавленными от всех зол и вместе с тем от всяких страхов.
Заметили ли вы в Историческом музее странный инструмент наших отцов, который назывался зонтом? Посмотрите на него и подумайте, как плачевно было положение людей, которым суждено было употреблять эту смешную вещь. Можете ли вы теперь представить себя вынужденными защищаться от гигантских душей, которые стали бы неожиданно поливать вас в течение трех или четырех дней подряд? Подумайте также о мореплавателях, захваченных циклоном, о жертвах солнечной жары, о тех 20.000 индусов, которых ежегодно пожирали тигры или убивали своим ядом змеи, о лицах, пораженных громом. Я уже не говорю о легионах паразитов и насекомых, о клещах, о филоксере, о тех микроскопических существах, которые пили кровь, пот и жизнь человека, прививали ему тиф, чуму и холеру. Право, если перемена в нашем положении и требовала некоторых жертв, то все-таки без всяких иллюзий можно утверждать, что на стороне преимуществ остается большой перевес. Как ничтожны рядом с этой несравненной революцией самые прославленные из тех маленьких революций прошлого, о которых так свысока (и по всей справедливости) трактуют теперь наши историки. Просто непонятно, как первые обитатели склепов могли, хотя бы даже один момент, оплакивать солнце, — способ освещения, имеющий так много неудобств, — солнце, это капризное светило, которое в различные часы потухало и снова загоралось, освещало землю, когда ему вздумается, иногда затмевалось, окутывалось облаками, когда оно более всего бывало нужно, или безжалостно ослепляло, когда люди искали тени. Каждую ночь — достаточно ли понятно все значение этого неудобства? — каждую ночь солнце повелевало общественной жизни прекратиться, и общественная жизнь прекращалась. До такой степени человечество было в рабстве у природы! И ему не удавалось, мало того, оно даже не думало о том, чтобы сбросить с себя это рабство, которое таким тяжелым и в то же время незаметным бременем тяготело над несчастными, обреченными нести его. Благословим же еще раз катастрофу, которая на наше счастье постигла нас. Если что извиняет или объясняет слабость первых обитателей подземного мира, так это то, что их жизнь после переселения в пещеры, несмотря на значительное облегчение, все еще должна была быть суровой и тягостной. Им предстояло еще беспрерывно увеличивать эти пещеры, приноравливать их к потребностям сначала старой, а потом новой культуры. Это не было делом одного дня: я хорошо знаю, что им на помощь пришел случай, что им посчастливилось открыть там и сям при прорытии туннелей природные, необычайной красоты, гроты, в которых достаточно было устроить обычное освещение (совершенно даровое, как это предвидел Мильтиад), чтобы сделать их почти готовыми для жизни в них. В этих гротах было все: и восхитительные скверы, рассеянные, как редкие украшения, в лабиринте наших блестящих улиц, и рудники, сверкающие алмазами, и ртутные озера и целые горы из слитков золота. Я знаю также, что они имели в своем распоряжении массу природных сил, по своей мощи превосходивших во много раз все то, что было известно предыдущим поколениям; это само собой понятно: если не было каскадов воды, зато их с большими выгодами заменяли самыми мощными каскадами температуры, которые когда-либо были известны физикам. Правда, что центральное тепло земли само по себе не могло быть двигательной силой, точно так же, как некогда не могла бы быть ей и масса воды, если бы вся она спустилась на самый низкий уровень, но зато подобно тому, как при падении с более высокой плоскости на более низкую масса воды дает (или, вернее, давала) годную для утилизации энергию, точно также дает ее тепло, падая с высшего градуса термометра на низший. Чем более пространство между двумя плоскостями или расстояние между двумя температурами, тем больше свободной энергии. Наши физики-рудокопы едва только сошли в недра земли, как тотчас же сообразили, что, находясь таким образом между очагами центрального огня — этими своего рода циклопическими печами, в которых можно было бы плавить гранит — и внешним холодом, в котором кислород и азот можно было обратить в твердые тела, они располагали гигантскими разностями температуры и, следовательно, термическими каскадами, рядом с которыми Ниагара и все абиссинские водопады были лишь забавой. Какие котлы представляют из себя кратеры бывших вулканов и какие холодильники — ледники! С первого взгляда было ясно, что с помощью некоторых аппаратов, приспособленных для передачи этой чудовищной энергии, можно было производить всякую человеческую работу: копать, вентилировать, мести, поливать, подымать, переносить пищу и проч.
Я это знаю; я знаю еще, что покровительствуемые роком — неизменным другом смелых, — новые троглодиты никогда не страдали ни от голода, ни от нужды, что когда одно из подснежных скоплений замерзших животных грозило иссякнуть, стоило им только позондировать в другом месте, прорыть несколько колодцев вверх, и они тотчас же находили залежи питательных консервов, достаточно богатые для того, чтобы закрыть рот пессимистам. Всякий раз результатом этого было быстрое увеличение народонаселения, согласно закону Мальтуса, и возникновение новых подземных городов, еще более цветущих, чем прежние. Но как бы то ни было, нельзя не остановиться с восхищением перед неизмеримой силой мужества и ума, затраченной на эту работу и вызванной одной только идеей, которая, возникши в один прекрасный день в мозгу одного только лица, в одной клетке этого мозга, или даже в одном только атоме или монаде этой клетки, послужила зародышем жизни внутри всего земного шара. Никогда уже больше не будет ни крахов, ни убийственных кризисов, ни смертей после ликвидации предприятий, ни кровопролитных дуэлей, ни насилий, ни печальных драм, ничего из того, что было в распущенном, еще не реорганизованном обществе. История первых завоевателей и плантаторов Америки, если бы можно было рассказать ее подробности, оказалась бы слишком бледной рядом с его историей. Предадим ее забвению. Но все эти ужасы были, быть может, необходимы, чтобы убедить нас, что при вынужденной близости обитателей гротов нет середины между борьбой и любовью, между убийством и объятиями. Мы начали с борьбы, теперь мы обнимаемся. В самом деле, какое человеческое ухо, какое обоняние, какой желудок могли бы дольше выносить оглушительный шум и дым от взрывов мелинита под сводами наших склепов, зрелище и запах нагроможденных трупов в наших узких галереях. Невероятно отвратительная, ненавистная, отравляющая воздух подземная война в конце концов сделалась невозможной.
Было бы жестоко думать, что она продолжалась после смерти нашего славного спасителя. Известна героическая гибель Мильтиада и его подруги: ее так часто изображали знаменитые художники и в живописи и в скульптуре, так часто воспевали, что она сделалась бессмертной и не знать о ней было бы непозволительно. Когда знаменитая борьба между централистическими и федералистическими общинами, в сущности же между общинами рабочих, общинами артистов окончилась торжеством последних, тогда возникло еще более кровопролитное столкновение между анархическими общинами и общинами организованными, из которых первые настаивали на признании неограниченно плодовитой свободной любви, а вторые требовали благоразумной регламентами любви. Мильтиад, отуманенный своей страстью, имел неосторожность встать на сторону первых — извинительная ошибка, которую потомство простило ему. Осажденный в своем последнем гроте (чудо фортификационного искусства), с провиантом на исходе, так как осаждающие прервали всякую доставку консервов, он попытался сделать последнее усилие: он подготовил страшный взрыв, чтобы прорвать свод пещеры и таким образом открыть выход вверх, где он случайно мог бы напасть на залежи съестных припасов. Его надежда не оправдалась: свод, правда, был пробит, и над ним оказалась другая, невиданная по своей колоссальности, пещера, несколько напоминавшая индусский храм, но он сам, заваленный вместе с Лидней огромными камнями, погиб ужасной смертью на том месте, на котором теперь возвышается мраморная статуя, изображающая их обоих (chef-d'oeuvre нашего нового Фидия) и которое нередко служит целью для нашего национального паломничества. Эта смутная и богатая событиями эпоха, эта распря имела в числе своих многочисленных последствий одно, которого мы никогда не сумеем достаточно оценить: наша прекрасная раса еще более усилилась и очистилась благодаря стольким испытаниям. Даже близорукость исчезла под постоянным влиянием приятного для зрения света и привычки читать книги, написанные очень крупным шрифтом, так как за недостатком бумаги, по необходимости, пишут на аспидных досках, на столбах, на обелисках, на больших мраморных стенах. Эта необходимость, помимо того, что она заставляет писать сжатым стилем, вырабатывает вкус, затрудняет появление ежедневных газет, к большей пользе для органов зрения и для мозга. Для человечества прошлой эры было большим несчастьем, что оно обладало волокнистыми растениями, которые давали ему возможность без малейшего затруднения запечатлевать на бумажных лоскутках, нагромождая одну на другую, все свои мысли, как пустые, так и серьезные. Теперь надо было некоторое время подумать, прежде чем высечь свою мысль на поверхности утеса. Другим несчастьем наших предков был табак! Теперь уже не курят, не могут курить. Благодаря этому, общественное здоровье находится в чудесном состоянии.
V. Новая жизнь
В рамки моего беглого очерка не входит рассмотрение в хронологическом порядке всех многотрудных перипетий, чрез которые прошло человечество за время устроения своей новой жизни внутри планеты с 1-го года эры спасения до 596 г., когда я пишу эти строки мелом на сланцевых листах. Я хотел бы только выдвинуть для моих современников, для которых они могли бы пройти незамеченными (так как обыкновенно не замечают того, к чему пригляделись), отличительные, оригинальные черты современной цивилизации, которой мы так справедливо гордимся. Теперь, когда после многих неудавшихся начинаний, многих горестных волнений, она сложилась окончательно, можно точно определить, в чем состоит самая характерная ее особенность. Она заключается в полном устранении живой природы, как животной, так и растительной, за исключением одного только человека. Этим объясняется, так сказать, очищение нашего общества. Освобожденная, таким образом, от всякого влияния физической среды, в которую она была помещена и которая угнетала ее, общественная среда только теперь впервые могла обнаружить и развить свою собственную природу, и только теперь истинная общественная связь могла проявиться во всем своем могуществе, во всей своей чистоте.
Как будто судьба хотела с научной целью проделать над нами, поместив нас в особые условия[1], социологический эксперимент, который несколько затянулся. Она, можно подумать, хотела узнать, во что превратится социальный тип человека, если освободить его от воздействия посторонней ему среды, но в то же время предоставить его своим собственным силам, если снабдить его всеми интеллектуальными приобретениями, накопленными гениями человечества в течение долгого прошлого, но в то же время лишить его помощи всех других живых существ и даже таких полуживых существ, как реки, моря и звезды, и оставить в его распоряжении, правда, подчиненные ему, но пассивные силы химической, неорганической и неодушевленной природы, которая отделена от человека слишком глубокой пропастью, чтобы сколько-нибудь влиять на него в социальном отношении. Судьбе было интересно, что сделает это человечество с его исключительно человеческими дарами, когда ему придется в самом себе находить если не средства пропитания, то, по крайней мере, все свои удовольствия и предметы для своих занятий и для своих творческих вдохновений. Ответ дан и он показал, каким незаметным, но могучим тормозом для развития человечества служили ранее земные флора и фауна.
Нужно признать, что сначала человеческая гордость, вера человека в самого себя, ранее сдерживаемая постоянным гнетом, глубоким чувством превосходства окружавшей его природы, поднялась в нем с ужасающей силой упругости. Мы — народ Титанов. Но в то же время эта вера в самих себя преодолела то, что могло действовать расслабляющим образом в воздухе наших гротов (в идеально чистом, впрочем, так как все губительные зародыши, которыми полна была атмосфера, были убиты холодом). Совсем не страдая анемией, которую некоторые предсказывали, мы живем в состоянии привычного возбуждения, которое поддерживается сложностью наших отношений и тонических элементов нашей общественности (дружеские рукопожатия, разговоры, свидания с очаровательными женщинами и т. д.). и которое у многих из нас перешло в состояние постоянной горячки, известной под именем пещерной лихорадки. Эта новая болезнь, микроб который еще не открыт, была неизвестна нашим предкам, быть может, благодаря притупляющему (или, если хотите, умиротворяющему) влиянию сельской жизни на лоне природы.
Сельская жизнь — вот странный архаизм. Рыбаки, охотники, хлебопашцы, пастухи — понятен ли теперь смысл этих слов? Задумывался ли кто-нибудь хоть на минуту над жизнью того ископаемого существа, вопрос о котором так часто поднимался в книгах прежней эпохи и которое называлось крестьянином? Обычным обществом этих странных существ, составлявших половину или три четверти всего населения, были не люди, а четвероногие, овощи или злаки, которые, по особым свойствам культуры, осуждали их на жизнь в деревне (другое слово, сделавшееся непонятным), в невежестве, в уединении, вдали от себе подобных. Принадлежавшее крестьянину стадо знало привлекательные стороны общественной жизни, сам же он не имел о них никакого представления. Города (неудивительно, что существовала наклонность к эмиграции из деревни в город) были единственными и притом очень редкими и очень разбросанными пунктами, в которых была известна тогда общественная жизнь; но в каких бесконечно малых, распущенных в смеси животной и растительной жизни дозах проявлялась она там! Другой вид ископаемых существ, живших в этих странах, представляют собой рабочие. Можно ли назвать социальным то отношение, которым были связаны рабочий с хозяином, рабочий класс с другими классами населения и эти классы между собой? Ни в каком случае. Правда, софисты, которых называли экономистами и которые в сравнении с нашими теперешними социологами были тем же, чем некогда алхимики были в сравнении с химиками, астрологи в сравнении с астрономами, немало способствовали распространению ошибочного взгляда, будто сущность общества составляет обмен услуг; с этой точки зрения, вышедшей, правда, теперь из моды, социальная связь никогда не могла бы быть более тесной, чем между ослом и его погонщиком, между быком или бараном с одной стороны и пастухом или пастушкой с другой. Природа общества, как мы знаем теперь, состоит в психическом обмене и взаимодействии.
Взаимное подражание и создание оригинальности на основании различных комбинаций заимствований — вот главное! Обмен услуг имеет лишь второстепенное значение. Вот почему прежняя городская жизнь, в основе которой лежало скорее органическое и естественное, чем социальное отношение производителя к потребителю, рабочего к хозяину, могла быть лишь очень порочной социальной жизнью, полной бесконечных раздоров.
Если мы могли осуществить самую чистую и самую напряженную социальную жизнь, которая когда либо существовала, так это благодаря крайнему упрощению наших потребностей в собственном смысле слова. Когда человек был хлебоядным и всеядным, потребность в пище подразделялась на бесконечное число мелких видов; теперь она ограничивается потребностью в мясе, сохраняемом при помощи самых лучших холодильников. Каждое утро в течение одного часа один член общества при помощи остроумных перевозочных машин доставляет пищу тысяче других. Потребность в платье почти исчезла, благодаря умеренности всегда одинаковой температуры, а также (приходится в этом сознаться) благодаря отсутствию шелковичных червей и растений, из которых прежде выделывались ткани. Это было бы, может быть, неудобством, если бы наши формы не обладали несравненной красотой, в соединении с которой простота нашего платья кажется очаровательной. Отметим, однако, что довольно часто носят кольчуги из асбеста, украшенные блестками из слюды, или серебряные, отделанные золотом. Кажется, что эти металлические костюмы более выдают, чем скрывают самую утонченную и нежную прелесть наших женщин. Это сочетание металлов самых различных оттенков производит неотразимое впечатление. Сколько торговцев сукнами, сколько модисток, портных, модных магазинов сделались сразу ненужными! Потребность в жилищах, правда, еще существует, но очень незначительная; теперь уже никому не приходится спать под открытым небом. Когда у какого-нибудь молодого человека, пресытившегося жизнью вместе с себе подобными в большом салоне-мастерской, под влиянием сердечного влечения является желание иметь отдельный дом, то ему стоит только выбрать место в стене утеса, поработать над ним при помощи бурильного инструмента, и через несколько дней его келья готова. Не приходится ничего платить за наем квартиры, и требуется очень мало мебели. Даже влюбленные пользуются почти исключительно великолепной мебелью, сделанной по общему образцу. Когда необходимая работа свелась почти к нулю, тогда явилась возможность посвящать свои силы почти исключительно бесполезным занятием. Когда нужно так мало для жизни, тогда остается много времени для мысли. Минимум утилитарного труда и максимум эстетического — не это ли составляет самую сущность цивилизации? То место в сердце, которое осталось пустым, благодаря сокращению потребностей заняли художественные, поэтические и научные наклонности. С каждым днем все более и более умножаясь и укореняясь, они сделались настоящими приобретенными потребностями, но потребностями в творчестве, а не в уничтожении. Я подчеркиваю это различие. Когда промышленность постоянно работает не для своего удовольствия и не для удовольствия своего круга общества, не для лиц, занимающихся тем же трудом и потому являющихся его естественными конкурентами, но для удовольствия совсем чуждого ему общества — хотя бы и в силу начала взаимности, — тогда его труд, ставя его в несоциальное, почти антисоциальное отношение к людям, отличным от него, в то же время затрудняет и портит его отношение к лицам, близким ему: растущая производительность его труда, затрудняя ассоциирование всех общественных групп друг с другом, служит не к смягчению, а к обострению социальных противоречий. Это сделалось особенно заметным в течение XX столетия прошлой эры, когда все население было разделено на рабочие синдикаты различных профессий, которые вели между собой ожесточенную борьбу, и члены которых внутри каждого из них друг друга братски ненавидели. Но для теоретика, для художника, для эстетика, в какой бы то ни было области, творчество-производство составляет страсть, и потребление — только удовольствие, потому что всякий художник в то же время и дилетант, но его дилетантизм играет в его жизни лишь второстепенную роль по сравнению с его главным назначением. Артист наслаждается, когда творит, и только он один творит таким образом. Легко понять, как глубока должна быть та социальная революция, которая произошла с тех пор, как эстетическая активность, постоянно расширяясь, одержала, наконец, верх над активностью утилитарной, и вместе с тем преобладающим элементом общения между людьми сделалось отношение артиста к знатоку вместо прежнего отношения производителя к потребителю. Прежний социальный идеал заключался в том, чтобы каждый мог развлекаться и выполнять свои желания отдельно от других, и чтобы все могли пользоваться услугами друг друга; наш идеал состоит в том, чтобы каждый мог обходиться без услуг других, чтобы все доставляли друг другу радости. Повторяю еще раз: общество покоится теперь не на обмене услуг, а на обмене выражениями восхищения или порицания, благоприятными или суровыми критическими замечаниями. Анархический режим вожделений сменился самодержавным господством сделавшегося всемогущим общественного мнения. Наши добрые предки очень обманывались, когда убеждали себя, будто социальный прогресс клонится к тому, что они называли свободой духа. То, что мы имеем, есть нечто лучшее. Мы имеем радость и силу духа, обладающего уверенностью, единственным и прочным основанием для которой служит единодушие в существенных пунктах мировоззрения. На этой скале можно строить самые высокие идейные здания, самые гигантские философские системы.
Сознанная теперь ошибка прежних мечтателей, известных под именем социалистов, заключалась в непонимании того, что эта жизнь всех вместе, напряженная общественная жизнь, о которой они с таким увлечением грезили, имела своим conditio sine qua поп эстетическую жизнь и повсеместное распространение религии добра и правды, религии, которая предполагает суровое умерение физических потребностей; поэтому, поощряя чрезмерное развитие промышленной жизни, она удалялась от своей цели. Нужно было начать с искоренения этой фатальной привычки есть хлеб, которая подчиняла человека тиранической потребности в растениях, в животных, необходимых для удобрения почвы под этими растениями, и в других растениях, служивших пищей для этих животных. Но пока существовала эта несчастная потребность в хлебе и пока не принималось никаких мер к ее подавлению, следовало воздержаться от возбуждения других не менее антисоциальных, т. е. не менее естественных потребностей, и было лучше не отрывать людей от плуга и не привлекать их к фабрике, так как разъединение и изоляция эгоизмов предпочтительнее, чем сближение и столкновение между ними. Но дальше читатель видит, какими выгодами мы обязаны нашему противоестественному положению. Только мы познали вкус и сущность социальной жизни, то, что есть в ней наиболее сильного и наиболее привлекательного. Это — что-то невыразимое, отдаленное предчувствие того, что можно было когда то найти, как в редких оазисах посреди пустыни, в трех-четырех салонах XVIII века (старый стиль), в двух-трех мастерских художников да в одном или в двух артистических клубах. В них до некоторой степени заключались незаметные ядра социальной протоплазмы, затерянные посреди массы посторонней им материи. Эти мягкие ядра сделались основой теперешнего общества. Наши города целиком представляют собою не что иное, как огромные мастерские, огромные клубы, огромные салоны. Согласно закону сегрегации старинного писателя Герберта Спенсера, подбор разнородных способностей и талантов производился сам собой. В самом деле, уже в конце первого века под землей строились или, точнее, вырывались особые города художников, скульпторов, поэтов, геометров, физиков, химиков, даже натуралистов, психологов, теоретиков и эстетиков всех специальностей, за исключением, правда, философии: после многих попыток пришлось отказаться от основания или сохранения города философов вследствие непрерывных беспорядков, устраиваемых группой социологов, самых неуживчивых из всех людей.
Не забудем упомянуть об общине землекопов (теперь уже не говорят об архитекторах), специальность которых заключается в составлении планов всех наших пещер и в заведывании работой наших машин. Оставив пути, проторенные старинной архитектурой, они совсем заново создали современную, глубоко оригинальную архитектуру, о которой ничто не могло бы дать представление нашим предкам. Старинное здание, похожее на тяжелую и объемистую коробку, представляло собой отдельное произведение, внешность которого, в особенности фасад, занимала архитектора больше, чем внутренняя отделка. Для современного архитектора существует только последняя, причем каждое его произведение соединяется с предыдущим так, что нет ни одного изолированного. Одни пещеры представляют собой лишь продолжение и разветвление других, — бесконечный ряд частей, вроде восточных сказаний. Quasi-оригинальное произведение старинной архитектуры, представлявшее по своей симметрии отдаленное подобие животного и в то же время тем более дисгармонировавшее с природой, которое, чем более симметрично и аккуратно оно было выстроено, тем более производило впечатление прозаического стихотворения, стереотипной фантазии; точно специальным назначением его было служить воплощением порядка, холодности, педантизма посреди беспорядка природы и свободы других искусств. Напротив, теперь из самого дисциплинированного искусства архитектура превратилась в самое свободное и самое роскошное. Она — главное украшение нашей жизни, искусственный и действительно артистический пейзаж; для наших художников и скульпторов горизонтом служат его перспективы, небом — своды, растительностью — бесчисленные, в беспорядке расставленные колонны, фусты которых изображают собой идеализированный тип всех старинных пород деревьев, а капители — совершенную форму всех старинных цветов. Это — природа с изысканными и совершенными формами, которая была очеловечена для нашего очарования и которую человек обоготворил, чтобы дать в ней приют своей любви. Впрочем, это совершенство было достигнуто лишь после долгих усилий. Не раз в течение первых двух веков целые города поглощались обвалами вследствие неосторожного бурения земли без достаточного количества подставок. Наши потомки откроют их, как наши предки открыли когда-то Помпею. Малейший удар землетрясения (это единственный бич природы, который нас беспокоит) еще и теперь вызывает частичные разрушения… Но эти случаи очень редки.
Вернемся к нашей теме. Каждая из наших общин, окружив себя колониями, сделалась метрополией по отношению к федерации других таких же общин, которые к ее основным чертам прибавляют тысячу новых оттенков и, путем взаимодействия, способствуют ее расцвету.
Таким образом создались наши народы, которые распределяются не в зависимости от географических случайностей, а в зависимости от различия в наклонностях человеческой природы, так что вместе поселяются люди с наклонностями, наиболее подходящими для совместной жизни. Мало того, деление каждого из городов основано на различии школ, причем школа, больше всех в данный момент процветающая, благодаря всемогущему содействию массы, придает избранному ею городу значение столицы.
Власть, которая когда-то так волновала человечество, у нас и возникает и передается как нельзя более естественным порядком. Среди наших многочисленных гениев всегда есть один, превосходство которого признается почти единодушно сначала его учениками, а потом и его товарищами. Таким образом, о нем судят не некомпетентные лица и не на основании его предвыборных подвигов, а лица ему равные и на основании его произведений. При той тесной солидарности, которая нас связывает и которая объединяет нас друг с другом, возведение этого диктатора в сан верховного магистрата не имеет ничего унизительного для достоинства сенаторов, которые его избирают и которые сами стоят во главе крупных созданных ими школ.
Избиратель отожествляет себя с избранным, учеником которого он состоит, которому он симпатизирует и сознательно поклоняется. Отличительная черта нашей гениократической республики заключается в том, что в основе ее лежит поклонение, а не зависть; симпатия, а не ненависть; сознательность, а не иллюзия.
Нет ничего более приятного, чем прогулка по нашим владением. Наши города, расположенные совсем по соседству друг от друга, соединены между собою широкими, всегда освещенными дорогами. По ним мчатся изящные и легкие велосипеды, поезда без дыма и без свиста, красивые электрические кареты, которые катятся беззвучно, как гондолы, между стенами, покрытыми восхитительными барельефами, прелестными надписями, бессмертными фантазиями, которые в течение десяти поколений заносились здесь кочующими артистами. Так некогда находили развалившиеся стены монастыря, на которых в течение нескольких веков иноки передавали свою тоску в уродливых фигурах, в головах, покрытых капюшонами, в апокалиптических животных, грубо вылепленных на капителях колонн или вокруг каменного кресла аббата. Но какая разница между этим монашеским кошмаром и грезами наших Артистов! Разве только красивая маленькая арка ее Флоренции, переброшенная через Арно между палаццо Питги и палаццо Уффици, могла бы дать нашим предкам отдаленное понятие о том, что мы теперь видим. Если коридоры места нашего пребывания отличаются таким блеском и таким богатством, то что же сказать о наших квартирах? О наших городах? Здесь собраны все чудеса искусства: фрески эмалевой работы, золотые, серебряные, бронзовые изделия, картины; здесь переживаются самые утонченные и самые сильные музыкальные настроения, создаются философские концепции и поэтические образы: нет возможности описать всего — истощается терпение и притупляется способность удивляться!
Трудно поверить, что для прорытия всего лабиринта подземных галерей и дворцов, снабженных ярлыками и номерами катакомб, сложные названия которых напоминают всю географию и всю историю прошлого, потребовалось так мало столетий. Как много можно сделать при настойчивости! Как ни привычно поразительное впечатление, производимое этим лабиринтом, все-таки случается еще иногда, что, когда блуждаешь один в часы полуденного отдыха в этом своего рода громадном соборе без симметрии и без границ, посреди этого леса высоких, толстых и тонких колонн в самых различных и в самых величественных стилях, иногда очень оригинальных, иногда — как египетский, греческий, византийский, арабский, готический, напоминающих все виды исчезнувшей, когда-то боготворимой флоры и фауны, — случается, говорю я, что останавливаешься, задыхаясь, весь охваченный экстазом, как это бывало раньше с путешественником, когда он проникал в полумрак девственного леса или колонного зала Карнака.
Для того, кто, читая старинные описания путешествий, стал бы с сожалением вспоминать о караванах, кочующих по пустыням, или об открытиях новых стран, наш мир дает возможность беспредельных прогулок в глубинах Атлантического и Тихого океанов, замерзших до самого дна. С затратой очень незначительных усилий, наши смелые исследователи — я чуть было не сказал мореплаватели — избороздили бесконечными дорогами во всех направлениях огромные замерзшие водоемы, подобно тому, как, по словам наших палеонтологов, муравьи высверливали полы наших предков. Направляя на стены лучи высокой, способной расплавлять лед температуры, по желанию продолжают эти фантастичные кристальные галереи, перекрестки которых представляют собой настоящие кристальные дворцы. Водой, в которую превращается лед, пользуются для заполнения бездонных страшных провалов, то там, то здесь разверзающихся у наших ног. При помощи этого способа, с теми усовершенствованиями, которые были к нему применены, достигли возможности обтесывать гранит и высекать морской лед, и в устроенных таким образом помещениях кататься на велосипедах и на коньках с легкостью и ловкостью, которым постоянно удивляются, несмотря на всю привычку к ним. Ужасный холод этих пространств, лишь немного умеряемый миллионом электрических лампочек, которые отражаются в этих сталактитах зеленью изумрудов с бархатистыми оттенками, делает невозможным постоянное пребывание в них. Он затруднил бы также переезд через них, если бы нашим первым пионерам не посчастливилось открыть множество тюленей, которые оказались заживо замуравленными, когда внезапно замерзла окружавшая их вода. Их тщательно обделанные шкуры служат для нас теплой одеждой. Бывает чрезвычайно занятно, когда неожиданно, точно через стекла таинственной витрины, бросается в глаза какое-нибудь из больших морских животных: кит, акула, спрут или звездообразные цветы морского ковра, которые, похожие на кристаллы в своей прозрачной тюрьме, в своем раю из чистой соли, — ничего не утратили из своей тонкой прелести, незнакомой нашим предкам. Идеализированные благодаря своей неподвижности, обессмертенные своей смертью, отливая блеском перламутра и изумруда, они неясно светятся то там, то здесь, направо и налево, под ногами и над головой одинокого конькобежца, который, с лампой на лбу, блуждает в поисках за неизвестным. Всегда можно надеяться найти что-нибудь новое во время этих полных чудес разведок, так непохожих на разведки прошлого. Никогда еще турист не возвращался, не открыв чего-нибудь интересного вроде обломка корабля, колокольни затопленного города или человеческого скелета и тому подобных вещей, которыми обогащаются наши доисторические музеи; иногда попадаются, как грандиозные, ниспосланные Провидением запасы, которыми обновляется наша кухня, целые стаи сардин или трески. Но что всего очаровательнее в этих отважных изысканиях, так это чувство необъятного и вечного, неизведанного и непреложного, которое охватывает человека и овладевает им в этих безднах, ощущение тишины и уединенности, глубокого мира, наступившего после стольких бурь, и того мрака или едва мерцающего беглыми искрами полумрака, в котором отдыхают глаза после нашего подземного освещения. Я уже не говорю о сюрпризах, которые в изобилии приготовлены человеческой рукой. Случается, что тогда, когда это ожидаешь менее всего, подводный туннель, по которому едешь, непомерно расширяется и превращается в огромный зал, украшенный произведениями разыгравшейся фантазии наших художников или в храм с широкими очертаниями, с просвечивающими перегородками, с манящими и чарующими взгляд стенами. Часто там встречаются друзья, влюбленные и путники, отправившиеся в дорогу одиноко, окрыленные мечтами, продолжают свой путь вдвоем, согретые любовью.
Но довольно блуждать среди этих тайн. Вернемся в наши города. Тщетно мы стали бы искать особой корпорации адвокатов или хотя бы здание суда. С тех пор, как нет больше пашен, нет и процессов о собственности и о повинностях. С тех пор, как нет стен, нет и процессов о стенах, разделяющих владение. Что касается преступлений и проступков, то трудно сказать почему, но во всяком случае это очевидный факт, что культ искусства, сделавшись общим, искоренил их, как по волшебству, тогда как прежде прогресс промышленной жизни утраивал их каждые пятьдесят лет.
Замкнувшись в городах, люди сделались мягче. С тех пор, как деревья и животные, цветы и насекомые всех родов не встречаются в обществе людей, с тех пор, как всевозможные грубые потребности не задерживают развитие истинно-человеческих свойств, кажется, что все люди рождаются благовоспитанными так же, как все рождаются скульпторами, музыкантами, философами или поэтами и с самого рождения говорят на самом правильном языке и с самым чистым акцентом. Весь сложный и тонкий механизм нашего существования пропитан, как надушенным маслом, особым не поддающимся определению городским тоном, способным очаровывать без лжи, нравиться без подобострастия и без всякой вкрадчивости, особой — такой, какой на земле и не подозревали — вежливостью, сущность которой составляет не чувство уважения к социальной иерархии, а инстинкт сохранения социальной гармонии, и которая состоит не в более или менее устарелых формах угодничества, но в более или менее искренней сердечности. Против нее не может устоять ни дикость, ни человеконенавистничество. Простой угрозы остракизма — я говорю не об изгнании наверх, что было бы равносильно осуждению на смерть, а об удалении из пределов корпорации, с которой человек сроднился, — достаточно, чтобы удержать самые преступные натуры на наклонной плоскости, ведущей к преступлению. В малейшей модуляции голоса, в малейшем повороте головы наших женщин существует особая грация, в которой, кроме грации былого времени, кроме доброты, соединенной с насмешливостью или насмешливости, соединенной со снисходительностью, есть что-то, в одно и то же время и более утонченное и более святое, что-то такое, в чем удивительно сказывается постоянная привычка видеть доброе и делать доброе, любить и быть любимой.
VI. Любовь
Любовь — вот поистине невидимый и неиссякаемый источник этой чуткости нового человечества. Преобладающее значение, которое она приобрела, своеобразные формы, в которые она облекается, неожиданная высота, до которой она поднялась, составляют, быть может, наиболее характерную черту нашей цивилизации. В те, отличавшиеся блеском и поверхностностью века, — в века накладного серебра и бумаги, — которые непосредственно предшествовали нашей теперешней эре, любовь, стесняемая тысячей суетных потребностей, заразительной жаждой безобразной и обременительной роскоши или мономанией безостановочного передвижения или той исчезнувшей теперь формой безумия, которую называли политическим честолюбием, теряла, относительно, очень много в своей силе. Теперь она растет благодаря исчезновению или постепенному ослаблению всех других великих движений сердца, которые все претворились в любовь и сосредоточились в ней одной подобно тому, как люди, изгнанные с поверхности земли, сосредоточились в ее горячих недрах. Патриотизм умер с тех пор, как нет больше родной земли и есть только родная пещера, а место отечества заняли корпорации, в которые каждый вступает добровольно, сообразно своему призванию. Корпоративный дух убил патриотизм. Точно так же школа все более и более стремится если не уничтожить, то преобразовать семью, и об этом жалеть не приходится. Все, что можно сказать лучшего о родственниках былого времени, это, что они были неизбежными друзьями, не всегда безвозмездно дарившими свою дружбу. Наши предки не были виноваты в том, что в общем предпочитали простых друзей, своего рода тоже родственников, но только не обязательных и бескорыстных. Сама материнская любовь, среди наших женщин-артисток, очень изменилась, и, нужно признаться, до известной степени ослабла.
Но все-таки любовь остается за нами. Или скорее — это можно сказать без хвастовства — только мы ее открыли и освятили. Ее имя было известно много веков тому назад. Только нам она явила себя: только у нас она воплотилась и основала универсальную и вечную религию, строгую и чистую мораль, которая гармонирует с нашим искусством. В начале ее развитию, без сомнения, благоприятствовала — больше, чем это можно было предвидеть — грация и красота наших женщин, так различно и в то же время так почти одинаково совершенных. В нашем подземном мире нет ничего, что более говорило бы о природе, чем женщины. Впрочем, кажется, что и всегда, даже в те антихудожественные эпохи, которые были так бедны грацией, женщины были лучшим украшением природы. Уверяют, что никогда ни волнистые линии холмов или реки, волн или нивы, ни краски зари или Средиземного моря не могли даже приблизительно сравняться с телом женщины ни силой, ни нежностью, ни богатством мотивов и изгибов. Но в том далеком прошлом для этого нужно было, чтобы особый инстинкт, теперь совсем непонятный, удерживал бедняков на берегу их родной речки или у родного холма и мешал им переселиться в большие города, где они имели бы полную возможность наслаждаться всеми оттенками и очертаниями красоты, во много раз превосходившей те прелести родной природы, с которыми их связывало роковое влечение. Теперь нет другого отечества, кроме женщины, которую любят, и нет другой тоски, кроме той боли, которую причиняет ее отсутствие.
Но всего, что сказано, недостаточно, чтобы объяснить могущество и особую устойчивость нашей любви, которая с возрастом не только не растрачивается, но даже обостряется, и пламя которой становится тем чище, чем долее оно горит. Любовь, — мы, наконец, это знаем теперь, — то же, что воздух, которым мы живем; нужно дышать, а не упитываться им; она то же, чем было когда-то солнце; нужно, чтобы она освещала, а не ослепляла. Она похожа на тот величественный храм, который в своем усердии воздвигли ей наши отцы, когда они обожали ее, не зная ее: на Парижскую оперу; что в ней кажется самым красивым, так это лестница, когда по ней поднимаются. Мы так же стараемся, чтобы лестница занимала почти все здание и чтобы лишь очень небольшое место оставалось для зала. Мудрец, сказал один из наших предков, должен относиться к женщине, как асимптота к кривой; он всегда приближается к ней, но никогда не касается ее. Человек, провозгласивший этот прекрасный афоризм, был полусумасшедший по имени Руссо. Наше общество может похвастаться тем, что оно применяет его правило гораздо лучше, чем он сам. Впрочем, нужно признаться, идеал, такой, каким наметил его Руссо, редко осуществлялся во всей строгости. Эта степень совершенства — удел самых святых душ, аскетов, мужчин и женщин, которые проводят свою жизнь в том, что, прогуливаясь попарно в дивных монастырях, в рафаэлевских залах города художников, в цветной полутьме, создающей как бы искусственный вечер, в толпе таких же пар и, если можно так выразиться, у потока смелой и блестящей наготы, наслаждаются созерцанием этих волн, живой берег которых — их любовь, которые вместе поднимаются по огненным ступеням божественной лестницы до самой вершины, у которой они останавливаются. Потом, вдохновленные воспоминаниями, принимаются за работу и создают перлы творчества. Это — герои любви, которые, взамен всех удовольствий любви, испытывают высокую радость чувствовать, как растет их любовь, их счастливая любовь, потому что она взаимная, вдохновляющая, потому что она целомудренная.
Но большинство из нас должно снисходительно относиться к слабостям прежнего человека. Во всяком случае, так как ограниченное количество наших съестных припасов возложило на нас обязанность со всей возможной тщательностью предупреждать чрезмерное размножение нашего населения, достигшего уже теперь цифры, перейти за которую оно никогда не могло бы без опасности: 50 миллионов, то мы должны были, в качестве общего правила, воспретить под страхом самых строгих наказаний то, что зауряд и ail libitum практиковалось у наших предков. Кажется невероятным, что, создав кучу законов, которыми переполнены наши библиотеки, они забыли урегулировать как раз те отношения, которые одни только и считаются теперь нуждающимися в регламентации. Трудно себе представить, что было время, когда каждому желающему позволялось без всякого разрешения властей подвергнуть общество опасности появления нового кричащего и жадного члена, и это в то время, когда нельзя было убить куропатку без позволения или ввезти мешок муки без уплаты пошлин? Будучи более благоразумными и более предусмотрительными, мы объявляем лишенным чести, а в случае рецидива, приговариваем к низвержению в нефтяное озеро того, кто позволит, или, вернее, кто позволил бы себе (так как сила общественного мнения препятствует совершению этого преступления и сделало бесполезными все наказания) нарушить в этом пункте конституционный закон. Иногда (и даже очень нередко) случается, что влюбленные сходят сума от страсти и умирают; другие отважно поднимаются по лестнице через зияющее отверстие потухшего вулкана и проникают в атмосферу внешнего воздуха, и там тотчас же замерзают. Они едва успевают бросить взгляд на голубое небо — говорят, красивое зрелище — и на сумеречные краски медленно умирающего солнца, или на обширное поле звезд, разбросанных в безыскусственном беспорядке, как уже, сжавшись в комок, падают мертвыми на лед. Вершина излюбленного ими вулкана вся увенчана их удивительно сохранившимися трупами. Скорченные и багровые, лежащие всегда парами, как бы дышащие еще скорбью и любовью, отчаянием и безумием, по большей же части полные экстазного мира, они недавно произвели невыразимое впечатление на знаменитого путешественника, у которого хватило смелости подняться туда и бросить взгляд вокруг себя. Как известно, это стоило ему жизни.
Но о чем у нас никогда не слыхали и примеров чего у нас еще не было, — это, чтобы влюбленная женщина отдалась своему возлюбленному раньше, чем он, вдохновленный ею, создаст произведение, признанное и объявленное chef-d'oeuvre'oм его соперниками. Это необходимое условие, в зависимость от которого поставлен законный союз. Право рождения есть монополия гения, его высшая награда и вместе с тем могущественный фактор усовершенствовования и облагораживания расы. При этом он может воспользоваться этим правом ровно столько раз, сколько им создано образцовых произведений. Но от этого правила делаются отступления. Нередко случается, что, снисходя к сильной страсти, проявленной посредственным талантом, общество, движимое чувством симпатии, полусмеясь, создает своим притворным восхищением успех трудам, не представляющим никакой ценности. Может быть (и даже наверно) для общего пользования применяются и другие приемы смягчения принципа.
Прежнее общество поддерживалось страхом наказаний, системой уголовных кар, которые уже отжили свое время; наше же общество, как известно, держится надеждой на счастье. Что перспектива счастья пробуждает энтузиазм и зажигаете творческий огонь, доказывают наши выставки, удостоверяет каждый год наблюдаемое изобилие роскошных цветов искусства. Вспомним о прямо противоположных результатах прежнего брака, этого института наших предков, — результатах еще более смешных, чем их зонты. Можно измерить расстояние между этим, так сказать исключительным, debitum conjugale, с его неизбежными злоупотреблениями, и нашим союзом, в одно и то же время и свободным и урегулированным, очень прочным и прерывающимся, вытекающим из пламенной любви и принудительным, настоящим краеугольным камнем возрожденного человечества. Несчастные художники, посвятившие себя жизни в таком союзе, не жалуются на те страдания, который он на них налагает. Даже отчаяние дорого тому, кто его переживает, потому что если он не умирает, то он живет и приобретает себе бессмертие и покрывает цветами всю бездонную пропасть своей души. Цветы искусства или поэзии — для одних, мистические розы — для других. Быть может, именно последним дано приблизиться к самой сущности вещей, как бы нащупать ее в окружающем их мраке. Эти радости вдохновения так живо чувствуются, что наши мистики и метафизики задаются вопросом, существуют ли искусство и философия для утешение страдающих от любви, или единственное оправдание любви заключается в том, что она вдохновляет художника и окрыляет метафизичесскую мысль. В общем, преобладает второе мнение.
До какой степени любовь смягчила наши нравы, насколько наш культ любви более нравственен по сравнению с былым культом эгоистической и алчной страсти, видно из того великого открытия, которое было сделано в 194 году эры спасения. Руководимый каким-то мистическим чутьем, каким-то электрическим чувством ориентирования, смелый исследователь, углубляясь все далее и далее в землю, в сторону от проделанных уже галерей, внезапно проник в огромное пустое пространство, оглашаемое шумом человеческих голосов и кишащее человеческими лицами. Но какие пронзительные голоса! Какие желтые лица! Какой невозможный язык, нисколько не похожий на наш греческий! Это была, без сомнения, настоящая подземная Америка, также очень обширная и еще более интересная. Основание ей было положено небольшим, зарывшимся в землю китайским племенем. Осененное, как предполагают, на несколько лет раньше той же идеей, которая руководила нашим Мильтиадом, но гораздо более практичное, оно поспешно, не обременяя себя ни библиотеками, ни музеями, спряталось под землю и здесь размножилось до бесконечности. Вместо того, чтобы ограничиться, как это сделали мы, эксплуатацией залежей трупов животных, они без малейшего стыда предались атавистической антропофагии, которая и дала им возможность, так как миллиарды китайцев погибли и были погребены под снегом, нисколько не ограничивать свойственной им плодовитости. Увы! кто знает, не будут ли наши потомки когда-нибудь доведены до такой же крайности? До какой степени скученно жили эти несчастные, как они были алчны, как они погрязли во лжи и воровстве! Слов нашего языка не хватает, чтобы описать их нечистоплотность и грубость. С огромным трудом они выращивали под землей на небольших грядках, перенесенных сверху, скудные овощи, выкармливали маленьких свиней, маленьких собак… Эти старые слуги человека казались отвратительными нашему новому Христофору Колумбу. Эти выродившиеся существа (я говорю о людях, а не о животных, породы которых, напротив, были значительно улучшены их хозяевами) утратили всякое воспоминание о срединной империи и даже о земной поверхности. Они много смеялись, когда наши ученые, посланные к ним в качестве миссионеров, рассказывали им о небе, о солнце, о луне и звездах. Они, однако, до конца выслушивали эти истории, а потом насмешливым тоном спрашивали их: «Вы сами все это видели?». И ученые, к сожалению, ничего не могли ответить на этот вопрос, потому что кроме влюбленных, которые идут вместе умирать, никто из нас не видел неба.
Но что же сделали наши колонисты при виде такой атрофии мозга? Многие, правда, предлагали истребить этих дикарей, которые, благодаря своей многочисленности и коварству, могли бы сделаться опасными, предлагали овладеть их помещением, несколько почистив и отделав его. Другие настаивали на обращении их в рабство или на приручении, чтобы сложить на них всю черную работу… Но оба эти предложения были отвергнуты. Сделаны были попытки цивилизовать, сблизить с собой эти несчастные существа, этих отдаленных родственников; когда же убедились в невозможности успеха, тогда снова тщательно отгородились от них.
VII. Эстетическая жизнь
Таково моральное чудо, произведенное нашей добротой, дочерью красоты и любви. Но еще в большей мере заслуживают быть упомянутыми интеллектуальные богатства, проистекающие из того же источника. Достаточно, если я бегло назову их.
Прежде всего, о науке. Можно было думать, что с тех пор, как звезды и метеоры, фауна и флора утратили всякое значение в нашей жизни, и вместе с ними иссякли многочисленные источники наблюдения и опыта, перестанут прогрессировать и будут преданы совершенному забвению, как застывшие в определенных формах астрономия и метеорология, так и превратившиеся в чистую палеонтологию зоология и ботаника, не говоря уже о том, что их практические применения к мореходству, к войне, к промышленности и к агрикультуре сделались теперь совершенно бесполезными. К счастью, эти опасения оказались напрасными. Удивительно, до какой степени науки, оставленные в наследие прошлым, когда-то строго утилитарные и индуктивные, получили способность воодушевлять и волновать большую публику с тех пор, как они приобрели следующие две черты: сделались предметом роскоши и материалом для дедукции. В прошлом были собраны такие беспорядочные груды астрономических таблиц, монографий и отчетов, касающихся измерений, вивисекции и бесчисленных опытов, что человеческий ум может жить на этом капитале до скончания века; пришло наконец время привести в порядок и обработать весь этот материал. Между тем, для наук, о которых я говорю, является большим преимуществом возможность опираться исключительно на записанные свидетельства, а не на личные наблюдения, и по каждому вопросу обращаться к авторитету книг (теперь ведь говорят: «библиотека», тогда как прежде говорили: «библия», а это, само собой понятно, большая разница).
Это большое и неоценимое преимущество заключается в том, что при необыкновенном богатстве библиотеки самыми различными документами, гениальный теоретик никогда не остается без материала, которого достаточно для того, чтобы по-отечески, на одном и том братском пиршестве, предоставить обильную пищу для самых противоположных мнений. Таково было удивительное изобилие старинных законодательных актов и самых разнообразных судебных решений, сохранившихся от процессов, интересных почти так же, как распри населения Александрии из-за одной теологической йоты. Прения наших ученых, их полемика относительно паутиновидного желткового ядра или относительно органов пищеварения инфузорий — вот боевые вопросы, которые нас волнуют и которые, если бы к нашему несчастью мы имели периодическую прессу, непременно обагрили бы кровью наши улицы, потому что бесполезные и даже вредные вопросы всегда обладают способностью зажигать страсти, хотя бы они даже были неразрешимы.
Около этих вопросов сосредоточиваются наши религиозные распри. В самом деле, совокупность знаний, завещанных прошлым, роковым образом приобрела значение нашей религии, и теперешние ученые, обрабатывающие при помощи дедуктивного метода сделавшиеся неизменными и священными данные, представляют собой черты (только гораздо более резко выраженные) теологов древнего мира. Новая энциклопедическая теология, изобилующая, не менее чем другие, расколами и ересями, заключающая в себе единственный, но неиссякаемый источник раздоров в лоне нашей, в общем, очень сплоченной церкви, обладает наиболее глубокой и обаятельной притягательной силой для цвета нашей интеллигенции.
Как бы то ни было, все это мертвые науки! — недовольно говорят некоторые. Допустим, что этот эпитет правилен.
Они, если угодно, мертвы, но наподобие тех языков, на которых весь народ пел свои гимны, хотя уже никто не говорил на них. Точно так же бывают лица, вся красота которых проявляется только после их последнего вздоха.
Нет ничего удивительного, что мы любим эти величественные неподвижные формы, тень которых вырастает в нас, любим эти высшие бесполезности, которые сделались нашей страстью. На первом плане математика, представляя собой законченный тип новых наук, прогрессировала гигантскими шагами. Доведенный до баснословной глубины, анализ позволил, наконец, астрономам изучить и разрешить такие проблемы, одно изложение которых вызвало бы улыбку недоверия у их предшественников. Каждый день, не с телескопом у глаза, а с мелом в руке, они открывают множество планет, вращающихся как внутри орбиты Меркурия, так и за орбитой Нептуна и даже начинают различать планеты ближайших звезд. Каждый день высказываются самые новые и самые глубокие гипотезы относительно сравнительной анатомии и физиологии бесчисленных солнечных систем. Мы имеем сотни Леверье. Все ближе и ближе знакомясь с небом, которого они не видят, они похожи на Бетховена, который написал свои самые красивые симфонии после того, как оглох. Почти так же много у нас Клод-Вернаров и Пастеров. Хотя естественным наукам и не придают того преувеличенного и по существу антисоциального значения, которое им приписывалось когда-то, тем не менее они далеко не забыты. Даже прикладные науки и те имеют своих любителей. Один из них недавно открыл — о ирония судьбы! — способ управления аэростатами. Бесполезные, правда, но во всяком случае блестящие и приносящие с собой новую бескорыстную красоту, эти открытия приветствуются с лихорадочным восторгом и доставляют их авторам больше, чем славу — верх блаженства.
Но между науками есть две, которые, оставаясь еще экспериментальными и индуктивными, и кроме того в высшей степени полезными, обязаны, вероятно (приходится признать это), именно этой исключительной привилегии несравненной быстротой их развития. Эти две науки, когда-то прямо противоположные друг другу, а теперь, по мере их углубления и совместной работы над конечными проблемами, все более и более сливающиеся друг с другом: химия и психология. Между тем как наши химики, движимые, быть может, любовью и лучше осведомленные относительно природы сродства, проникают в самую сущность связи между молекулами, раскрывают нам их желания, их идеи и их индивидуальную физиономию, скрывающуюся под обманчивым видом однообразия и, таким образом, знакомят нас с психологией атома, наши психологи со своей стороны излагают нам атомологию «Я», лучше сказать, социологию «Я». Они уясняют нам до мельчайших подробностей самое удивительное из всех обществ, эту иерархию форм сознания, эту феодальную систему подвластных душ, завершением которой является наша личность. Химикам и психологам мы обязаны неоценимыми благодеяниями. Благодаря первым мы уже не одиноки в этом замерзшем мире; мы чувствуем живую душу этих скал, братскую близость этих твердых металлов, которые покровительствуют нам и согревают нас. Благодаря им, эти живые камни говорят что-то нашему сердцу, что-то, в одно и то же время и знакомое и чуждое нам, чего никогда не говорили нашим отцам ни созвездия, ни полевые цветы. Наконец, благодаря им же — и это немаловажная услуга мы научились приемам, которое позволяют нам (правда, пока еще в незначительной мере) пополнять нашу обыкновенную пищу, когда ее нам не хватает, и разнообразить ее некоторыми веществами, приятными на вкус и выделываемыми из всех предметов. Но если таким образом химики обеспечили нас от опасности умереть с голода, то наши психологи приобрели еще больше прав на нашу признательность, освободив нас от страха смерти. Усвоив их доктрины, мы с свойственной нам способностью к дедукции вывели из них конечные следствия. Смерть нам представляется освобождающим нас низвержением с престола, благодаря которому павшее, низвергнутое и предоставленное самому себе «Я» нисходит в глубь своего существа, где оно обретает больше, чем равноценность утраченного им внешнего царства. Думая о том страхе, который когда-то испытывал человек пред лицом смерти, мы сравниваем его с ужасом спутников нашего Мильтиада, когда им нужно было отказаться от ледяных полей, от вида снежной дали, чтобы навсегда спуститься в мрачные пропасти, где их ожидало так много радостных и чудесных сюрпризов.
Таков наш твердо установленный догмат, относительно которого не допускается никаких пререканий. В этом так же, как в нашей преданности красоте и в нашей вере во всемогущество любви, заключается основание нашего спокойствия и источник наших вдохновений. Даже наши философы избегают затрагивать его, как и вообще всего того, что составляет устои нашей общественности. Быть может, этим объясняется приятное впечатление безмятежности, которое производит наша толпа. С такими верованиями в качестве балласта, можно с радостным сердцем броситься в пропасть философских систем, и среди нас находятся люди, которые не отказывают себе в этом. Может показаться странным, что я делаю различие между нашими философами и нашими пользующимися дедукцией учеными, о которых я говорил выше. Их предпосылки и их методы тождественны. И те и другие одинаково пережевывают пищу (да простят мне это выражение), которую добывают из собственного чрева. Но одни — я имею в виду ученых — жвачные обыкновенные, т. е. тяжелые и флегматичные; особенность других заключается в том, что они, будучи жвачными, обладают в то же время большой живостью, как антилопы. Это различие в темпераменте неизгладимо.
Как я уже говорил, у нас не существует общины философов, но есть пещера философов, естественный грот, куда они собирается и где заседают на высеченных из гранита креслах на некотором расстоянии друг от друга или группами по школам, у источника, который превращает в камни брошенные в него предметы. Этот просторный грот украшен очаровательными отложениями удивительно чистых кристаллов, напоминающими, при некоторой дозе воображения, все роды изящных предметов: кубки, люстры, часовни, зеркала; кубки, которые не утоляют жажды, люстры, которые не освещают, часовни, в которых никто не молится, и зеркала, в которые смотрятся и которые дают более или менее верное, хотя и прикрашенное, отражение. Там же можно видеть черное и бездонное озеро, над которым спускаются, как вопросительные знаки, грани мрачных сводов и бороды мыслителей. Совершенно похожа на ту философию, для которой она дает приют, эта обширная пещера с блеском кристаллов, мерцающих в ее таинственном, полном пропастей мраке, как нельзя лучше напоминает она новому человечеству, но с еще более обманчивым очарованием, великое повседневное волшебство наших предков — звездную ночь… А какие системы идей, какие умственные сталактиты отлагаются и кристаллизируются так в каждом мозгу — это удивительно, неописуемо! В то время, как старые сталактиты постоянно разветвляются и превращаются то из кресла в алтарь, то из орла в химеру, новые подвергаются иногда еще более поразительным превращениям. Само собой разумеется, у нас никогда не переводятся неоперипатетики, неокантианцы, неокартезианцы, неопифагорейцы. Не забудем комментаторов Эмпедокла, который обязан своим влечением к подземным вулканическим силам неожиданным возрождением его былого влияния на умы, — особенно с тех пор, как один археолог объявил, что он, прорыв для своих исследований галерею до самого основания совершенно потухшей теперь Этны, нашел скелет этого великого человека. Но постоянно находится также какой-нибудь великий новатор, проповедующий новое евангелие, которое каждый стремится украсить своим вариантом, рассчитывая таким путем вытеснить его. Для примера я назову самый сильный ум нашего времени, главу модной социологической школы. Если верить этому глубокому мыслителю, социальное развитие человечества, начатое на поверхности земли и продолжающееся пока еще под ее внешней корой, будет, по мере охлаждения солнца и планет, переноситься от слоя к слою, до самого центра земли, причем с каждым новым нисхождением человечество будет поневоле все более и более тесниться, а расцвет цивилизации будет становиться все более и более пышным. Нужно видеть, с какой чисто дантовской точностью он изображает социальный тип каждого из этих замкнутых в концентрических кругах человечеств, — все более и более благородных, уравновешенных и счастливых. Нужно прочесть набросанный им крупными чертами портрет последнего человека, единственного оставшегося в живых и единственного наследника ста последовательных цивилизаций, сосредоточенного в самом себе и находящего в самом себе удовлетворение. Он счастлив, как бог, потому что он все понимает, потому что он все может, потому что нашел верное решение великой загадки, и он все-таки умирает, потому что он не хочет пережить человечество, и при помощи взрывчатого вещества необыкновенной силы он взрывает вместе с собой земной шар, чтобы усеять бесконечность останками человека! Эта система, разумеется, имеет много последователей. Что же касается последовательниц, то эти грациозные Ипатии, небрежно возлежа вокруг камня учителя, настаивают, что к последнему мужчине следовало бы прибавить последнюю женщину, такую же идеальную, как и он.
Но что мне сказать об искусстве и поэзии? Их справедливая оценка могла бы показаться похвалой. Я ограничусь указанием общего смысла происшедших перемен. Я уже сказал, чем сделалась наша архитектура, сосредоточенная и гармоничная, точный и идеальный, окаменелый и совершенный образ природы былого времени. Я не буду повторяться. Но мне остается сказать несколько слов об этом бесконечном множестве статуй, фресок, эмалевых и бронзовых произведений, в которых, как и в поэзии, воспевается апофеоз любви. Было бы интересно проследить те постепенные метаморфозы, которым гений наших художников и скульпторов в течение трех веков подвергал эти священные типы львов, лошадей, тигров, птиц, деревьев, цветов. Они продолжали изощрять свое искусство над этими типами, в то время как ни одно животное и ни одно растение не могло своим видом ни облегчить, ни затруднить их работы.
Никогда, в самом деле, наши художники — которые, кстати сказать, очень не хотят, чтобы их смешивали с фотографами — не изображали столько растений, животных и пейзажей, как теперь, когда всего этого нет больше; никогда также не рисовали и не ваяли так много задрапированных фигур, как теперь, когда все ходят почти совсем обнаженными, между тем как раньше, когда люди одевались, искусство изобиловало наготой. Следует ли отсюда, что когда-то живая, а теперь мертвая природа, которая дает нашим великим художникам и сюжеты и мотивы, сделалась простым и холодно условным алфавитом? Вовсе нет. Сделавшись традиционным наследием, переходящим от поколения к поколению, проникнутая гуманностью и гармонией, она не менее действует на сердце, и благодаря тому, что она вызывает в каждом не воспоминание, а грезы, не ощущение, а представление, не детский страх, а удивление художественной красоте, она сделалась еще более способной очаровывать и покорять себе. Она обладает для нас глубокой и нежной прелестью старой легенды, но легенды, в которую верят.
Ничего не может быть более вдохновляющего. Такой же должна была быть мифология доброго Гомера, когда слушавшие его обитатели Циклад еще верили в Афродиту и Палладу, в Диоскуров и в Кентавров, о которых он им рассказывал, заставляя их плакать слезами восхищения. Точно так же наши поэты вызывают у нас слезы, когда они говорят нам теперь о голубом небе, о морских равнинах, о пении птиц, о всем том, чего наши глаза никогда не видели и наши уши никогда не услышат, что незнакомо нашим чувствам, но что наша мысль вызывает в нас, благодаря странному инстинкту, при малейшем прикосновении любви. И когда наши художники показывают нам этих коней, ноги которых все более и более утончаются, этих лебедей, шеи которых постепенно скругляются, эти виноградные лозы, листья и ветви которых постоянно осложняются новыми узорами и завитками и украшаются все более и более изящными птицами, тогда нас волнует то ни с чем не сравнимое чувство, которое испытывал, вероятно, молодой грек при виде барельефа, покрытого фавнами или изображающего аргонавтов, похищающих золотое руно, или нереид, играющих с чашей Амфитриты.
Если наша архитектура, несмотря на все ее великолепие, служит, по-видимому, не более как простым украшением для других изящных искусств, то эти последние в свою очередь, как они ни восхитительны, едва достойны служить для иллюстрации каменной поэзии и литературы. Но в нашей поэзии и в нашей литературе есть также блестящие произведения, которые для других красот являются тем же, чем цветок для завязи или рама для картины. Стоит прочесть наши драмы, наши романтические эпопеи, где, как по волшебству, развертывается вся древняя история до героической борьбы и героической любви Мильтиада, чтобы убедиться, что не может быть написано ничего более величественного. А наши навеянные стариной идиллии, элегии, эпиграммы, наши стихотворения всех родов, написанные на десяти мертвых языках, которые по желанию возрождаются и своими многообразными оттенками и сложной звучностью оживляют для нашего уха былые удовольствия и, так сказать, создают своей богатой оркестровкой для нашего певучего греческого языка английский, немецкий, шведский, арабский, итальянский или французский аккомпанемент — можно ли представить себе что-нибудь более очаровательное, чем это воскресение и преображение забытых, когда-то славных наречий?
Что касается наших драм и наших поэм, часто представляющих собой, подобно скульптуре, продукт индивидуального и в то же время коллективного творчества целой школы, воплощенной в лице ее главы и объединенной общей идеей, то среди лучших произведений Софокла и Гомера нет ни одного, которое можно было бы сравнить с ними. Чем для наших художников и ваятелей служат вымершие формы когда-то живой природы, тем для наших драматургов служат также вымершие чувства былой человеческой природы. Ревность, честолюбие, патриотизм, фанатизм, военный пыл, экзальтированная любовь, гордость именем, все эти исчезнувшие страсти сердца не вызывают ни стонов, ни слез, когда их воспроизводят на сцене, точно так же, как геральдические барсы и львы, нарисованные на наших стенах, не пугают наших детей. Их старинный язык для нас звучит совсем иначе и с новой выразительностью: по правде сказать, они для нас не более как большая клавиатура, на которой играют наши новые страсти. Среди тысячи названий этих страстей есть одно, как одно только солнце на небе, и это название — любовь, душа нашей души, очаг нашего искусства.
Это настоящее неугасаемое солнце, которое своим неизменно ласкающим и животворящим взглядом возрождает, золотит на заре и покрывает багрянцем при закате свои несовершенные создания былого времени, старинные формы чувства, подобно тому, как когда-то было достаточно одного луча другого солнца, чтобы вызвать к жизни и воскресить в цветах древнейшие типы растительного мира, чтобы произвести эту великую, из года в год повторявшуюся, обманчивую и прелестную фантасмагорию, которая называлась весной, когда весна еще бывала.
Для наших тонких критиков все то, о чем я только что говорил с такой похвалой, не имеет никакой цены, если их сердце осталось нетронутым. Одно верное и обнаруживающее чуткость замечание они охотно отдадут за все фокусы версификации. Чего они ищут под самыми грандиозными концепциями и сценическими махинациями, под самыми смелыми ритмическими нововведениями, перед чем они преклоняются, так это небольшой пассаж, стих или даже половина стиха, если в них верно выражен еще неподмеченный оттенок глубокой любви или мельчайшая еще неизображенная фаза счастливой любви, страдающей любви, — любви, доводящей до смерти. Так в начале жизни человечества каждый оттенок рассвета или сумерек, каждый час дня первого, кто называл его по имени, делал новым солнечным богом, у которого вскоре находились поклонники, жрецы и храмы. Но анализ чувственных ощущений, по примеру вышедших из моды эротических писателей, для нас не имеет никакой цены. Трудным и похвальным считается у нас собирать, как делают наши мистики, когда скорбь переполняет душу, перлы и кораллы со дна этого моря, срывать цветы экстаза и являть очам души все богатства ее тайников. Наша чистейшая поэзия соединяется таким образом с нашей глубочайшей психологией. Первая — оракул, вторая — догмат одной и той же религии.
И однако, как это ни невероятно, несмотря на свою красоту, гармонию или ни с чем несравнимую мягкость, наше общество имеет своих протестантов. В качестве исключения там и сям встречаются лица, которые заявляют, что они пресыщены эссенцией нашей общественности, принятой в слишком большой дозе, и что для них нестерпимо наше общество в его крайностях. Они находят красоту слишком неподвижной, наше счастье слишком спокойным. Напрасно, чтобы угодить им, время от времени меняют силу и цвет нашего освещения и пропускают по нашим коридорам искусственную струю освежающего ветра: они продолжают называть монотонными наши безоблачные дни, никогда не прерываемые ночью, наш год без сезонов, наши города без деревьев. Странно, что с наступлением мая это чувство беспокойства, которое обыкновенно испытывают они одни, становится заразительным и почти всеобщим. Вместе с тем, это самый меланхолический и самый праздный месяц в году. Можно подумать, что изгнанная отовсюду, с угрюмого свода необъятного неба и с обледенелой поверхности земли, весна, как и мы, приютилась под землей или что ее блуждающая тень периодически посещает нас и мучит нас, овладевая нами. Тогда наполняется город музыкантов, и их музыка становится такой сладостной, нежной, грустной, такой безнадежной и надрывающей душу, что нередко влюбленные целыми сотнями берут друг друга за руки и поднимаются наверх, чтобы взглянуть на смертоносное небо… Кстати, я должен упомянуть, что один галлюцинирующий субъект вызвал фальшивую тревогу, заявив, что он видел, как оживает солнце и как тает лед. Хотя эта новость ничем не подтвердилась, тем не менее довольно значительная часть населения заволновалась и принялась строить планы скорого выхода наружу. Это, разумеется, болезненные и пагубные мечты, которые способны лишь поддерживать искусственное недовольство. К счастью, один ученый, роясь в забытом углу архива, напал на большую коллекцию фотографических и кинематографических пластинок, собранных неким коллекционером прошлой эпохи. При помощи комбинации фонографа и кинематографа эти пластинки дали нам неожиданную возможность услышать все былые звуки природы и притом в соединении с соответствующими картинами: гром, ветер, журчание горного ручья, шум пробуждающейся природы, крик ястреба и долгую жалобу соловья, аккомпанируемую всеми оттенками ночного шепота. Это акустическое и оптическое воскресение прошлого с вымершими формами и с исчезнувшими явлениями природы вызвало в самых пылких сторонниках возвращения к прошлой жизни большое удивление, а потом и большое разочарование, так как прошлое оказалось совсем не таким, каким представляли его себе по рассказам поэтов и романистов даже самого натуралистического направления: оно было гораздо менее привлекательным и менее достойным сожаления. Пение соловья в особенности вызвало досаду; на него прямо-таки рассердились за то, что оно оказалось настолько ниже своей репутации. Несомненно, что самый плохой из наших концертов более музыкален, чем так называемая грандиозная симфония природы.
Таким образом при помощи остроумного приема, совершенно неизвестного прежним правительствам, была подавлена первая и единственная попытка восстания. Хорошо было бы, если бы она была последней. Увы! известная закваска раздора уже начинает проникать в наше общество, и наши моралисты не без тревоги замечают некоторые симптомы, которые указывают на порчу наших нравов. Рост нашего населения в особенности внушает опасения с тех пор, как после нескольких химических открытий поторопились объявить, что теперь будут делать хлеб из камней, и что теперь больше нет надобности ни беречь наши запасы, ни стеснять себя для того, чтобы число ртов не превосходило известного предела. По мере того, как число детей увеличивается, число шедевров уменьшается. Будем надеяться, что эта печальная прогрессия скоро приостановится. Если солнце еще раз, как уже это бывало после нескольких ледяных периодов, снова пробудится от своей летаргии и загорится с новой силой, то пожелаем, чтобы только самая незначительная часть населения, та, у которой сердце не поддается дисциплине и наклонность к брачной жизни совершенно неискоренима, воспользовалась кажущимися, обманчивыми выгодами исцеления неба и устремилась наверх, туда, где гуляют вольные ветры. Но это кажется очень маловероятным, если вспомнить о преклонном возрасте солнца и об угрожающем возврате его старческой немощи. К тому же это совсем нежелательно. Счастливы, повторим мы вслед за нашим величественным отцом Мильтиадом, счастливы звезды, которые погасли, т. е. почти все звезды, которые заполняют мировое пространство. Сияние, говорил он, для звезд то же, что цветение для растений. Отцветшие растения дают плод. Точно так же, без сомнение, звезды, утомленные излиянием света и бесполезным расходованием силы в бесконечную пустоту, собирают семена высшей жизни, чтобы оплодотворить их в глубине своих недр. Обманчивый свет тех сравнительно малочисленных, рассеянных по небу звезд, которые еще горят и которые еще не перестают растрачивать то, что Мильтиад называл пылом и блеском бурной молодости, мешал первым людям думать о бесчисленном и мирном населении темных звезд, для которого этот свет служил как бы прикрытием. Но мы, не знающие этого обольщения и свободные от этой вековой оптической иллюзии, твердо верим. что среди звезд, как и среди людей, самые лучшие не те, которые более всех блестят, что одни и те же причины, вызывая одни и те же следствия, заставляли и другие человечества уходить в недра их шаров, где они живут данной им в удел мирной и счастливой жизнью, в особо благоприятных условиях независимости и абсолютной чистоты, и что, наконец, счастье прячется как на небе, так и на земле.
Книга Г. Тарда «Отрывки из истории будущего» («Fragment d’histoire future») была впервые опубликована в 1896 г. Первый русский перевод вышел в московском издательстве В. М. Саблина в 1906 г.; в 1907 г. в Петербурге был издан еще один перевод. С тех пор книга не переиздавалась.
Текст публикуется по изданию 1906 г. в новой орфографии, с исправлением некоторых устаревших особенностей правописания и пунктуации, а также нескольких географических названий. Для удобства чтения разрядки оригинала даны курсивом.
Предисловие Г. Уэллса (в пер. В. Барсукова) публикуется по английскому переводу книги, вышедшему в 1905 г. в Лондоне под названием «Подземный человек» («Underground Man»).
Примечания
1
Только по видимости; не следует забывать, что, по всей вероятности, многие потухшие звезды прошли через ту же фазу нормальной и необходимой социальной жизни.
(обратно)
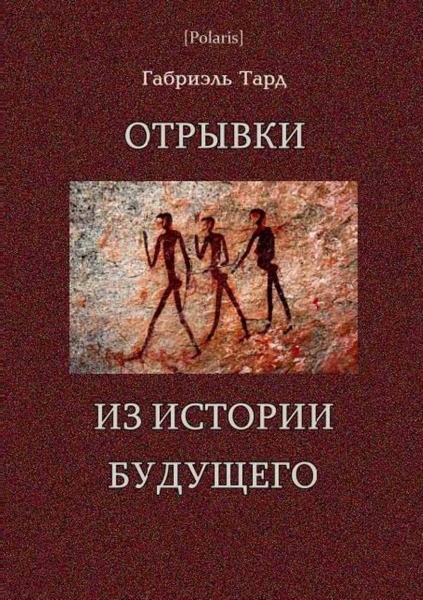


Комментарии к книге «Отрывки из истории будущего», Габриэль Тард
Всего 0 комментариев