Андрей Георгиевич Лях Реквием по пилоту
Автор выражает благодарность редакции журнала «Aviation week and space technology»
Славной памяти Корабельного Повара
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
То, что написано в этой книге, читатель найдет сам — если дочитает до конца. Моя задача — предварить его о том, чего он не найдет.
ИЗЪЯТИЕ ПЕРВОЕ. Предлагаемая история является микроэпизодом более чем двадцатилетней склоки между контрразведкой, возглавляемой в ту пору кланом Толборнов, и военной разведкой во главе с Эрихом Скифом. Весь относящийся к этому контекст полностью опущен.
ИЗЪЯТИЕ ВТОРОЕ. В основе описанных событий лежат полулегальные научные исследования, проведенные Эрихом Скифом. Поскольку эта книга никоим образом не является научно-популярной, данные и результаты Скифовых исследований в тексте отсутствуют.
ИЗЪЯТИЕ ТРЕТЬЕ. На протяжении многих лет — в том числе и в описываемый период — главным агентом Толборнов против Скифа был Ричард Бартон-младший. Эту работу он проводил, оставаясь на посту сначала инспектора, затем комиссара криминальной полиции, и таким образом все действующие лица были объектами полицейского расследования, что составляло в происходящем весьма существенную сторону. Однако мой роман — не детектив, и за исключением необходимых упоминаний весь детективный элемент из сюжета устранен.
ИЗЪЯТИЕ ПОСЛЕДНЕЕ. Большинство персонажей романа нередко употребляли непристойные выражения, зачастую особо изощренные и циничные. Несмотря на серьезное обеднение речевых характеристик, после долгих колебаний я все же привел речь героев в соответствие с общепринятыми нормами.
В тексте использованы термины из произведений И. Ефремова, А. и Б. Стругацких, И. Варшавского и Ф. Хэрберта.
Стихи В. Высоцкого.
ВСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Из книги Майкла Кроунфорда «Шесть чисел Джона Кромвеля»
Хроника каирского Коридора является, безусловно, одним из самых спорных моментов второй мировой войны. Пожалуй, ни один из военных эпизодов не толковался столь разноречиво — и здесь мы сталкиваемся с теми же проблемами, что некогда Толстой, Цвейг и другие авторы, обращавшиеся к жизнеописанию исторических личностей. Как правило, историки-стимфальцы толкуют каирские события как триумф военного гения Дж. Дж. Кромвеля, а историки-земляне — как провал агрессии и торжество земной оборонительной доктрины. Каждая из сторон приводит в доказательство многочисленные аргументы, свидетельства очевидцев, компьютерные модели и так далее. Список документальных подтверждений обеих точек зрения растет буквально с каждым годом.
Однако у непредвзятого исследователя всегда остаются в распоряжении два незамутненных национальными и иными пристрастиями источника. Первый — это даты. При любых разночтениях сравнительный календарь событий способен прояснить чрезвычайно много и подчас пролить свет на самые запутанные вопросы. Фальсификация же хронологии — явление в современной исторической науке редкостное, и всякая подобная попытка в наше время заранее обречена на неудачу.
Второе — это карта. Ход планет и светил, расположение земель остается тем же, что и двести, и триста лет назад. Вкупе с сопоставлением докладов независимых наблюдателей (Англия-VIII, Леонида, Гестия, к тому времени еще не вступившие в войну) по этим данным возможно со значительной степенью уверенности сказать, как и когда располагались противоборствующие силы. Прочие же доводы могут быть приняты во внимание лишь в связи с их явной очевидностью — но тут читатель имеет полное право на свободу суждений.
Итак, 4 ноября 439 года десантный корпус под командованием Кромвеля вышел на северный траверз Земли. Никаких военных действий в этот период не происходит — все три стимфальских флота идут в режиме необнаружения, и, как показало дальнейшее, их маскировка оказалась необычайно эффективной: ни один из кораблей не был засечен ПВО Земли до самого начала десантной операции.
Что же до расстановки прочих сил, то она к данному сроку выглядит довольно курьезно. Пятый объединенный флот Джонстона Блейка, который должен был обеспечивать поддержку Кромвеля с тыла, зашел в зону Слепого Пятна, где его поджидал соединенный флот Земли под командованием Тула Равия, намеревавшегося дать генеральное сражение на этом дальнем рубеже. Но Блейк, абсолютно разумно не желая вступать в бой до воссоединения с Кромвелем, уходит за Слепое Пятно и там выписывает прямую меридиональную восьмерку, чтобы обойти Тула Равия. Тот, в свою очередь, в надежде перехватить Блейка на выходе, также уходит за Пятно и закладывает обратную восьмерку — так что вместо эпохальной битвы, даже не увидев друг друга, воинства разбегаются под прямым углом.
11 ноября кромвелевский десантный корпус входит в плоскость эклиптики возле отметки Десятой Тысячи — то есть практически в зоне спутниковой связи! — земные средства обнаружения его по-прежнему не замечают, но одновременно нет и связи с Блейком! Трагедия войны грозит превратиться в фарс — стратеги доманеврировались до того, что войска очутились под самыми стенами неприятельской твердыни к полному неведению и растерянности обеих сторон.
Блейк за Слепым Пятном никак не закончит своих игр с Тулом Равием и дать о себе знать никак не может. Кромвель, ничего об этом не зная, за двадцать четыре часа должен принять решение: либо, на собственный страх и риск, начинать боевые действия без прикрытия и каналов снабжения и связи с опорными базами, либо все так же скрытно уйти и после прояснения ситуации готовить новое наступление.
Кромвель ждет до последнего, все отпущенное ему время «немого дрейфа» — с 11 по 13 ноября: ведь любое известие от Блейка может радикально изменить ситуацию. Известия нет, но соблазн слишком велик, слишком редкий шанс выпал Стимфалу, да и оказаться в роли командующего, не выполнившего приказ, маршалу не улыбается. Он решает положиться на свою счастливую звезду, и ночью 14 ноября, в 00.25, отдает распоряжение запустить двигатели и открыть шлюзовые шахты авианосцев; через сорок минут первая волна истребителей-бомбардировщиков «Торнадо» ушла к Земле. 16 ноября стимфальский десант высадился в треугольнике Танта — Каир — Эль-Мансура. Начались «Сто дней Коридора».
ВСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Отрывок стенограммы совещания отдела Ричарда Бартона-младшего в Управлении криминальной полиции города Ганновера. 462 год
Бартон. …И вот наконец сегодня мы можем хоть что-то сказать об этом злосчастном эмбриоконтейнере из Института Контакта. Копали почти год и выкопали.
Лейтенант Морз. Что это за контейнер?
Бартон. Машина для производства людей.
Лейтенант Морз. Как так — людей?
Бартон. Или вообще живых организмов — была бы программа и материал. Не забегай вперед, об этом позже. Вопрос в другом. Институт Контакта — наверное, самое охраняемое место в мире, а склады там — вообще крепость, и вот оттуда среди бела дня утаскивают ящик размером с рояль и весом чуть не в три тонны, и дальше он как в воду канул. Денежная стоимость учету не поддается.
Капитан Мадзински. Так нашли его?
Бартон. Нет, не нашли, но кое-какие моменты прояснились. Вот, взгляните сюда. Это нижний горизонт хранилищ, над ним — два тоннеля и вестибюль Института. Парень, с которым мы имеем дело, настоящий волшебник. Первая смена сотрудников приходит к девяти, а ночная уходит где-то в полдевятого. Он умудрился проскочить в эти полчаса и ни с кем не встретиться.
Лейтенант Морз. Кто-то из своих.
Бартон. Да не просто из своих, подымай выше. Значит, около половины девятого он вошел в склад. Там везде молекулярные запоры, и без компьютера блок не вскроешь — и то работы часа на три. Или у него был свой ключ — понимаете, что это значит? — или он взломал институтскую компьютерную сеть — что тоже не легче.
Капитан Мадзински. А точно он был один?
Бартон. По остаточным напряжениям пола — один человек, рост приблизительно метр девяносто, «нога стайера», похоже, спортсмен…
Лейтенант Морз. Значит, пришел стайер двух метров роста, унес в руках три тонны и растворился в воздухе?
Бартон. Три тонны как раз не проблема. Возможно, у него был дирижабль Барбриджа — с ним что хочешь можно вынести. Хотя, правда, есть данные, что на обратном пути он весил больше… Ладно. Так или иначе, ящик он вынес и прошел по верхнему тоннелю — наглость страшная, но если знать, что именно в эти пятнадцать минут там никого не будет, то такой путь самый безопасный.
Теперь два вопроса. Куда эту громадину спрятать — это одно, а второе — как вынести за пределы Института, откуда и муха не вылетит? У него все было продумано до изумления. Он притащил этот ящик на грузовой склад и там пристроил на контейнеровоз, который уходил на базу в Деметре. По документам значилось, что там какой-то мини-реактор для сельхозработ — бумаги настоящие, номера совпадают, и через полчаса контейнер уехал на закрытую базу! Ищи-свищи, мы тут каждый листочек переворачиваем, а он едет.
Лейтенант Морз. Но так до этой штуки вообще никто не доберется — где смысл?
Бартон. Я же сказал, парень — кудесник. Есть такая захудалая фирма — «Брент кемистри продакшн». У них контракт с Институтом на закупку разных производственных отходов и всякой рухляди. Только контейнер прибыл на базу, как кто-то от имени фирмы перевел деньги на счет Института, а тот реактор, что значился по описи, подпадает под статью контракта! Начальник базы, не ведая ни сном ни духом, подписывает разрешение, и транспорт привозит якобы реактор снова на Землю, в Виндхук, на обычный аэропортовский склад — ни зоны, ни охраны — ловко, а?
Капитан Мадзински. Так ведь получится, что реактор пропал, — фирма предъявит иск.
Бартон. Ничего не пропало. Наш друг приехал на тягаче и привез настоящий реактор, которому цена полсотни, заехал в бокс, один контейнер отцепил, другой прицепил, сунул начальнику смены какую-то бумажку в нос, и поминай как звали! Никто ничего не хватился. Реактор — вот он реактор. Все подписи, все печати настоящие. Все по закону, и все сделано руками людей, никакого отношения к криминалу не имеющих. Всех теперь знаем, а сажать некого, да какое там сажать — допрашивать без толку.
Капитан Мадзински. Но ведь ясно, что информацией, которая позволяет творить подобные вещи, располагает считанное число людей.
Бартон. Верно, считанное. Сосчитано около ста человек, и у половины всякий там статус, а другая половина в командировках у черта на рогах, и поймать там кого-нибудь за руку — ох, мудрено. Формы секретности нам пока не дают, епархия не наша, разведка косится, и пока что следует держать в голове одно: такие штуки воруют не для того, чтобы украсить каминную полку. Где-то на белом свете работает краденый агрегат, и он в грамотных руках может понаделать искусственных типов, которых ни по каким пробам не отличишь от тех, что соорудили папа с мамой. Я в самых высоких инстанциях консультировался.
ВСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Архив лондонского отделения «Локхид Эркрафт». 479 год БАИ-12 — Крису. В ответ на Ваш 1 260 813 сообщаю:
Подтверждение. Дассо Бреге МИЛАН-270, июнь — декабрь, двухкилевик.
Далее:
Масса, кг максимальная взлетная ………. 19 200
топлива во внутренних баках ……. 2700
в баках наружной подвески …….. 4150
м/скорость полета д/п/ высоты без наружных подвесок, число М … 12,8
м/угловая скорость установившегося разворота, град/с ………….. 24,3
м/скорость крена, град/с ……… 300
Радиус действия м, при полете с переменным профилем ……… 25 000
геометрические размеры:
длина самолета, м ………….. 14,6
высота, м ………………. 4,8
размах крыла, м …………… 8,8
площадь крыла, м ………. 33
база шасси, м ……………. 3,9
колея шасси, м …………… 2,8
диапазон расчетных эксплуатационных перегрузок …. от —3 до +9
СУ ……………. спарка ТРДДПВ11
Максимальная тяга, кгс с форсажем ……………. 49 360
без форсажа ……………. 46 150
Удельный расход топлива, кг/кг-ч с форсажем ……………. 4,86
без форсажа……………. 3,80
расход окислителя, кг/с …….. 81
степень двухконтурности ……. 0,2
суммарная степень повышения давления ……………… 27
температура газов перед турбиной, ±С 1400
масса, кг ………………. 129
максимальный диаметр, м ……..4,1
к/к — Мк10 ……… «Мартин Бейкер»-4000
с/о …………… ИД РЛС ЕЛ/М-2035
ЭВМ ………….. АСЕ-4М «ЭЛКИТ»
СПС-200
микропроцессоры 020-К, 80-М,ЭОИ-3, 1-ЦВ инерциальная СУ на лазерных гироскоп…. «Секстан авионик»
ЭМХ-2П. ……….. «Томсон»
Последняя серия — 16–18, Стимфал. Байфилд.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
День рождения. Двадцать пять лет. Одна из последних летних ночей, уже наполненная предчувствием сентябрьской прохлады. Веранда тонет в сигаретном дыме, зажгли свечи, лиц стало не разобрать, шум, гам, громогласно страдал и стонал Крис Норман, кто-то предложил открыть окна, но не открыли, длинноногий Баженов улегся на стол среди бутылок и салатов, объявил: «Я Орка, кит-убийца», после чего немедленно заснул. Его поволокли на второй этаж, там тоже что-то заварилось, кто-то уехал, свечи, обливаясь стеариновыми слезами, догорели до деревянного подсвечника, тот обуглился, свет померк, и все мало-помалу успокоилось.
Он открыл глаза и посмотрел на часы. Цифры в зеленом прямоугольнике перемигнули, и ноль три сорок пять сменились на ноль три сорок шесть. Подступившее ненастье сгущало предрассветный сумрак; натягивая спортивную куртку, он подошел к окну — ничего не разобрать, слоистая муть, только слышно, как внизу, под террасой, волны разбиваются об искусственные скалы и под полом вздрагивают бетонные сваи. Надо собираться. Денег ни копейки, да и к чему сейчас деньги, но в багажнике нетронутые бутерброды плюс баженовский термос. Можно было бы сказать так: до смерти осталось пять бутербродов.
Его звали Эрлен Терра-Эттин, или, согласно старинному прозвищу, Эрликон. Он сын знаменитого Диноэла Терра-Эттина, человека судьбы фантастической и до крайности сумбурной, и кажется, будто дикость характера отца отразилась на внешности сына.
Вид Эрликона был не столько уродливым, сколько необычным. Он мал ростом, хрупок, сутул, левая половина узкого и длинного лица словно смята, и надбровье выступает козырьком, отчего взгляд приобретает постоянно хмуро-удивленное выражение. Зато, когда дело дошло до глаз, суровая мать-природа вдруг расщедрилась и наградила Эрликона дивными темно-синими очами, как видно первоначально предназначавшимися какой-нибудь бернисдельской колдунье, и волосы, предмет его тайной гордости, были очень хороши: густые черные кудри литыми кольцами сбегали на неровные узкие плечи. Странное было лицо, наверное, так выглядел в незапамятные времена король сказочных троллей.
Пройдя по отделанному камнем коридору, Эрлен спустился на первый этаж — стеклянную веранду, нависшую над морем. Здесь стоял стол — хранитель останков буйного пиршества; в инвалидном кресле на колесах устроилась неясная, но юная фигура, а у дверей привалился все повидавший ветеран-«харлей» — мастодонт в мире мотоциклов — тяжеловесно-логичное нагромождение хромированной стали — с буйволовыми рогами руля и ракетными дюзами выхлопных труб. Правда, зеркальный блеск его частей был основательно ободран, время обнажило красное мясо коренной металлической стати и обратило белизну цифр на шкалах в желтизну и зелень.
Эрликон откатил чудище и распахнул дверь, впуская в дом ветер и разнотональный гул прибоя, отыскал перчатки и затолкал в карман, с минуту подышал морским воздухом, потом снова поднялся наверх и там приоткрыл дверь в конце коридора.
В это безалаберное логово, выстроенное на самом конце Хельской косы, он приехал прямо из госпиталя уже поздно вечером — через Бремен, через старенькую баржу-паром, на которой стоял среди ветра и водяной пыли, машинально стирая влагу с зеркал мотоцикла — надеялся, конечно, на встречу и разговор с Кристиной, надеялся непонятно на что, а откровенно говоря — на чудо. Мотоцикл этот был его единственной значимой собственностью, давний подарок матери, и во время каждого летнего ухудшения состояния его хозяина машину вслед за ним отвозил в госпиталь Военно-Морской академии институтский фургон.
Естественно, вышло, что надеялся Эрлен напрасно, угодил на собственный бестолковый юбилей, все, как всегда, смешалось и спуталось, и разговора никакого не получилось. Впрочем, с Кристиной все ясно и без разговоров, и не бывает чудес в наше время.
За стеклянной дверью с травленным «под мороз» узором посреди комнаты возвышалась резная кровать, а на ней, под свесившимся до пола одеялом, спали парень и девушка. Обладатель страхолюдной физиономии в задумчивости уставился на них и так простоял некоторое время, прислушиваясь к тому, как перекатывается в нем тоска, черная, будто нигерийская нефть. Она быстро сгущалась, и ее твердые пальцы безжалостно скручивали внутренности, превращая муку душевную уже в телесную.
Эдгар и Кристина, думал Эрликон, вот уж действительно в самом деле. Почему я вас сейчас не убиваю? Потому что глупо было бы, перед тем как уйти, наплевать во все колодцы, зная, что тебе из них никогда не пить.
Я не сержусь. Ни на вас, ни на кого вообще. Так вышло. Таков закон природы. Я нежить. Я появился на свет благодаря медицинскому ухищрению и существую благодаря ему; все мои напасти закономерны, но приветствовать эти закономерности я не собираюсь.
Была бы впереди цель — можно было бы потерпеть. Но цели нет. А мне еще двадцать и тридцать лет ударяться обо все острые углы, и так до самого конца. Для чего?
Хорошо. Допустим. Вдруг привалит какое-то счастье. Вдруг. Кто знает, подхватит какая-нибудь струя. Все равно. Поздно. Во мне уже все умерло. Ничему я больше не поверю и ничего не смогу. Прощайте, любезные мучители, мне не выпутаться из моих дебрей.
Он оттолкнулся от стены и пошел прочь, полный мрачного юношеского самодовольства от стройности собственной логики.
Родителей, которые сходили бы с ума и потом утратили бы смысл жизни, у меня нет. Я свободен. Выбор мой ничем не стеснен. Скиф? Скиф должен меня понять.
Шестицилиндровый мотор «харлея» завыл, загрохотал, в доме все задребезжало, по террасе ударило голубым дымом, Эрликон играл ручкой газа, стрелка тахометра прыгала, точно от безумной радости.
Ну а нынче разволнован весь народ — Не вернулся на базу самолет…Вранье, думалось ему. Иллюзион. Никто особенно разволнован не будет. Разве что Дэвис. Что же. Выплатят страховку, или полстраховки, или что там положено — вот уж представления не имею.
Мотоцикл с ревом вылетел навстречу рассвету, приподнявшись на заднем колесе; позади оставался человек, с которым еще предстояло увидеться, и шесть недопитых бутылок, о которых предстояло забыть навсегда.
С паромом Эрликону повезло, попал удачно, и дальше он гнал уже без остановки, на ста до самого Бремена, по простору линованного бетона, проносясь под высокими квадратными арками с синими коробками указателей. День, полдень, тени укоротились, потом потянулись на восток, и тогда над прерывистой полоской лесов на горизонте перед Эрликоном оказалось здание Института Контакта — словно карандаш, воткнутый в антропогенно замусоренную приморскую низину — сначала просто силуэтом с одной горящей, обращенной к заходящему солнцу гранью, затем обрел свой дымчато-сине-зеленоватый цвет, и его стеклянная призма, вырастая, ушла в самое небо. Эта постройка не была рассчитана ни на город, ни даже на страну — она поднималась над Европой.
Институт был построен на Стоунбрюгге — так необычно называлось место, где по неизвестным причинам каменный щит, лежавший в основании здешней равнины, просунул наружу, сквозь толщу болот и наносов, гранитную пятерню, и пять пологих холмов смотрелись как пять перевернутых чашек на плоскости обеденного стола.
Институт стоял на холмах словно древний град, окружен был огромным парком, который внутри институтских стен превращался в настоящий лес, вплотную подступающий к лабораториям и Контактерской Деревне, и совсем недавно Лестер, начальник транспортной службы Контакта, божился, что, выйдя поутру на пробежку, встретил в лесу кабана.
Здесь, на границе таинственных контактных ведомств, в глуши, как и положено, стояла ветхая избушка — к лесу передом, к детскому городу задом. Наполовину она вросла в землю, наполовину — в стену кирпичной ограды, а с одного бока к ней были привешены ворота с оранжевой надписью: «Международный центр космических исследований. Зона № 5. Проезд закрыт». Внутри два киборга коротали время за телеметрией наружного наблюдения, сидя в полумраке среди свечения экранов. Загудел сигнал, и голос под потолком произнес:
— Пятая зона. У вас на подходе Терра-Эттин-младший, номер 432 112. Идентификацию подтверждаем.
— Видим, видим, — отозвался один из киборгов и достал сигарету. — Гляди, на траверзе Бешеный Младенец со своим драндулетом. Сейчас опять будет цирк.
Рогатая махина с пристроившимся на ней Эрликоном пролетела по детскому городку к институтской ограде, вымахнула на горку с разноцветными слонами и, оторвавшись от нее, воспарила, как демон над грешной землей. Мотоцикл встал вертикально, Эрлен молодецки поднялся в стременах, и через мгновение вой двигателя затихал уже по ту сторону красной, украшенной формованными барельефами стены.
Он ехал по земле Института Контакта — местам, окутанным в сознании человечества грозной таинственностью, — о них слагали мифы и до курьеза противоречивые легенды.
Здесь, бытовало мнение, человеческий разум стоит лицом к лицу с разумом нечеловеческим и с космосом вообще; здесь обитают всемогущие супермены — невидимые, безымянные, не щадящие живота своего защитники интересов Земли в загадочных глубинах Вселенной, сюда сходятся все концы и начала, и уже один аквариумный свет окон Института на фоне темных и звездных небес, казалось, утверждал: тут знают что-то такое… что-то такое.
Ничего, однако, такого в этом громадном здании не размещалось. Львиную долю забирало административное хозяйство — бюрократия всех видов — от бумажной до кристаллической; с ней соперничали по размерам всевозможные дипломатические службы, прочее же было отдано учебным помещениям, архивам, библиотеке и отчасти науке. Кроме того, отсюда правит твердой рукой Международный центр компьютерного контроля. Самые сногсшибательные контактерские чудеса запрятаны в местах куда как менее заметных, и весьма значительная часть авторитетов и лидеров Контакта за всю жизнь ни разу не переступала порога своего Главного управления.
Но в необъятных анналах Института за сутки десятки черно-желтых кассет и карточек меняли номера и перекочевывали с полки на полку, с этажа на этаж, свидетельствуя, что досье такое-то закрыто, а следующее поступило на учет по категории такой-то, фотография есть, фотографии нет, жив, умер, не вышел на связь…
Институт возник в начале пятидесятых — во-первых, благодаря вынужденному послевоенному слиянию разнородных разведслужб, а во-вторых, по причине того всемирного потопа информации, который хлынул из-за уничтоженных войной границ, преград, открытия зон, каналов, прочего и прочего — срочно потребовался ковчег: космос предстал перед Землей во весь рост, проблемы его оказались неисчислимы, непостижимы, а порой и жутковаты. Прежняя Комиссия по Контактам (КОМКОН), которая, подобно известному литературному персонажу, долгие годы умудрялась управлять делами при помощи одного слова «нет», для новых условий подходила мало, однако упразднена не была, а, напротив, усилена и расширена, и к ней вполне закономерно отошли функции контрразведки, прочими же полномочиями пришлось поступиться — особенно в пользу могущественного Четвертого управления региональной специальной контактной администрации, во главе которой встал один из наиболее выдающихся лидеров затененного мира Эрих Левеншельд, или, согласно официальному псевдониму, — Скиф, который в нашей истории занимает весьма серьезное место.
Впрочем, структура Института Контакта, равно как и его история, для нас сейчас интереса не представляет, и речь об этом зашла лишь оттого, что Институт со своей атмосферой был для Эрликона тем привычным миром, в котором он рос и воспитывался. Давайте посмотрим на тех, кто создавал для Эрлена этот мир.
Начнем с начала. У истоков нашего повествования стоят три человека, двое из которых, строго говоря, людьми не являются.
Диноэл Терра-Эттин, отец Эрлена, знаменитый красавчик Дин, — продукт материализации мысленных образов космической свободно живущей субстанции, известной публике под названием «Зеленые Облака». Многие годы он служил прямо-таки живой эмблемой контакта с негуманоидным разумом, хотя, судя по всему, научная ценность явления самим фактом его существования и ограничилась. Тем не менее Дин был и оставался всеобщим любимцем, что основательно испортило ему характер. Будучи официальным сотрудником Института, он поработал сначала в научно-техническом отделе — прибежище сенсов и математиков, затем, влекомый тягой к романтике, перебрался к оперативникам, где лучшим его другом, «названым братом», сделался подававший тогда большие надежды Эрих Скиф. Несмотря на крайнюю, разительную несхожесть, вместе им было суждено пройти довольно долгий путь. Повсюду Диноэл проявлял свой сомнительного толка инфантилизм и повсюду встревал в различные истории, сопровождаемые порой газетной шумихой; подвиги перемежались скандалами, и так продолжалось до тех пор, пока в некий момент не обнаружилось, что прославленного контактера уже давно никто и нигде не видел. Чьим-то решением он был перемещен в прошлое так естественно и незаметно, что без всяких усилий стал легендой, каноном, тем самым обезопасив свою славу от каких-либо дальнейших колебаний, но, правда, и лишившись надежд на новые победы. Дин был жив и здоров, но, подобно немалому числу работников Контакта, скрытно и необъяснимо оборвал свою бурную карьеру.
Несколько десятилетий спустя, разбирая его дела, председатель сенатской комиссии Хедли Холл с удивлением обнаружил, что никаких формальных причин к отставке Диноэла нигде не было зафиксировано и что именно ему инкриминировалось, ни в каких документах не упомянуто. Если отбросить гвалт и суету вокруг его имени, то выходило, что Дин был вполне грамотным и многообещающим специалистом и уход его продиктован мотивами, ничем не разъясненными. Однако вникать в эти перипетии мы здесь не станем.
Поглядим на вторую половину нашего истока. Женщину, подарившую Эрликону такие чудесные глаза, зовут Мэриэт Дарнер. Судьба ее напоминает зеркальное отражение, но со знаком плюс — судьбы ее знаменитого и непутевого возлюбленного. Тридцать с лишним лет унесли из людской памяти робкую медсестру, неудавшуюся актрису и сделали привычным внушительный облик мадам доктора наук, директора Института нейрофизики имени Ричарда Барселоны. Подготовка любого съезда нейрокибернетиков начинается с того, что доктору Дарнер присылается письмо, в котором со всеми возможными любезностями осведомляются, одобряет ли мадам такой-то план работы и такие-то формулировки в резолюциях.
История знает примеры, когда из авантюристов получались если и не ученые, то, во всяком случае, люди вполне уважаемые; неудивительно и то, что мадам доктор постаралась как можно плотнее запереть дверь за той частью своей юности, когда сумасбродная девица в компании под предводительством несравненного Динухи надолго забыла о том, что она прилежная ученица солидных профессоров; удивительно то, что в разряд этого неугодного прошлого угодил ее собственный сын.
Авторы многочисленных произведений, в том числе и кинематографических, воспевающие романтическую любовь прекрасной землянки и инопланетянина, с трогательным единодушием замалчивают тот период, когда по окончании всех прелестных авантюр воцарившееся семейное счастье не продержалось и двух лет, пылкая страсть превратилась сначала в неприязнь, а потом — в отвращение, и неудачное рождение неудачного ребенка положило конец и видимости каких-то отношений. И что уж совсем грустно и непонятно, так это то, что ненависть к прошлому Мэриэт целиком перенесла на злополучного малыша, принесшего ей, как она полагала, столько бессмысленных страданий.
Как бы то ни было, первое, что увидел и осознал в своей жизни Эрликон, была больница. Там он появился на свет, туда он регулярно возвращался, и мир клиник и госпиталей с их законами привычно считал своим настоящим домом, никогда не обижаясь на ту боль, которую ему здесь порой причиняли.
Пяти лет от роду Эрлен попал в интернат номер двадцать три — ведомственное учреждение Института — кто-то где-то вспомнил, что мальчик как-никак сын легендарного контактера. В интернате жили и учились дети тех сотрудников, которые, согласно институтской терминологии, находились в «командировках». Разница между ними и Эрликоном заключалась в том, что их время от времени забирали родители и увозили домой.
Между детьми здесь царила весьма жесткая иерархия, зиждившаяся на трех китах — старшинстве, личных достоинствах и положении родителей в институтской негласной табели о рангах, дух и буква которой таинственным образом проникли в мир детских развлечений. Поскольку назвать Диноэла отцом язык поворачивался с трудом, Эрликон не котировался ни по одному пункту и в полной мере испытал на себе все издевательства, на которые только может обречь беззащитного уродца юная бессердечная изобретательность.
В не меньшей степени сказался на ситуации и шальной характер Диноэла, хотя допускаю, что на свой лад он любил Эрлена; и единственное, на что хватало отцовских чувств, — это появиться раз в год с каким-нибудь немыслимым подарком вроде самоходной байдарки со встроенным кибермозгом, с которой не знал, что делать, ни мальчуган, ни сам Диноэл, — и дальше — вновь пропасть неведомо куда, неведомо на сколько.
Парадоксально, но Эрликон положение ужасным отнюдь не находил — по той простой причине, что сравнивать ему было не с чем. Свой образ жизни он считал нормальным и естественным, а охватывавшие его временами буйные психозы беззастенчиво использовал в собственных интересах: во время иных истерик к нему боялись подступиться даже самые рослые и бесстрашные из его недругов. Тогда-то и прицепилось к нему полуироническое, полууважительное прозвище, прошедшее затем сквозь годы и события.
В мае шестьдесят третьего, когда Эрликону не исполнилось еще и восьми лет, на сцене его жизни появился третий и, пожалуй, самый важный персонаж. С Роксаны-VI на Землю привезли Скифа — тогда начальника Четвертого отдела все той же Региональной СКА.
Диноэла всю жизнь называли инопланетянином, хотя на свет он появился на Земле и долгое время ничего, кроме Земли, не видел. У Скифа такого ярлыка никогда не было, хотя его искусственный интеллект был создан в прямом и буквальном смысле за тридевять земель. Ничто человеческое Скифу не было чуждо, но надо признать, что германия, кремния и парасилликола в его организме было значительно больше, чем отпущено человеку природой. Для нас сейчас несущественно, с кем и как там столкнулся на Роксане Скиф, но результат оказался плачевным: по прибытии он более всего походил на груду электронного лома.
Его доставили в нейрофизический центр имени Ричарда Барселоны. У Мэриэт Дарнер к тому времени были уже и имя, и заступники, так что через несколько месяцев ее подпустили к Скифу. Она применила свой диссертационный метод биинволюции, или, на соответствующем жаргоне, переборки, рискнув будущим как своим, так и Скифовым, — и совершила чудо, вернув Скифу здравый ум и твердую память. Эрлену исполнилось девять, Мэриэт завоевала авторитет и получила признание, ведущий сотрудник Контакта вернулся в строй, и дальше события вполне стандартно развернулись по схеме «знакомство на больничной койке». Летом шестьдесят четвертого начальник Четвертого отдела быстрым шагом прошел меж островерхих башенок и готических арок интерната номер двадцать три.
Эрликон сооружал из двух консервных банок котел для паровой машины, когда перед ним возник высокий человек с большими и очень понимающими глазами.
— Меня зовут Эрих, — сказал он, внимательно глядя на Эрликона.
Скиф поселил мальчика в собственном доме в Контактерской деревне. Началась новая жизнь. Ординарные клиники сменились международными медицинскими центрами, и вскоре семь, восемь, а потом и одиннадцать месяцев в году Эрлен чувствовал себя ничуть не хуже своих шумных и быстроногих сверстников и не отставал от них ни по каким показателям. Эрих определил его во внутриинститутский лицей, и только благодаря Скифу у Эрликона стали налаживаться хоть какие-то отношения с матерью.
Дальше… Дальше прошло еще полтора десятка лет, мало кто помнит фантастическую любовь, отгоревшую с фейерверочным треском: Дин и Мэриэт давно уже не думают друг о друге. А вот остывает брошенный посреди газона «харлей», колебля над собой летний воздух, и в предвечерней тени башни Института, ячеистым зеркалом отражающей закат над Европой, идет Эрликон, представляя себя ведром, до краев полным тоской. Лифт поднял его на сорок восьмой этаж — прямоугольный лабиринт мрамора и дубовых панелей, и, цокая по камню подковами высоченных каблуков, печальное дитя подошло к двери с надписью «Начальник управления Э. Левеншельд». Двое секретарей в холле даже не подняли голов, и Эрлен, толкнув дверь, вошел без всяких церемоний.
Обрыв — прямо в нижележащий этаж, где разноцветные автоматы сортировали почту суставчатыми лапами. На прозрачном полу стояли письменный стол и стулья, за столом сидел человек в черно-белом свитере, одной рукой он держал возле уха наушник, другой что-то помечал в лежавшей на столе бумаге. Это и был глава Четвертого управления Эрих Левеншельд, он же Идрис Колонна, он же Скиф и так далее до бесконечности — нечего и надеяться перечислить имена, под которыми его знали в разных уголках мира.
Он был высок ростом и широк в плечах — ни обширность кабинета со сплошным окном-стеной, ни поза сидящего не скрадывали этого, не вызывали впечатления массивности, его фигура наводила на мысль о десятиборье и баскетболе. Он был красив — странным и редким типом красоты, фрагменты которой по отдельности, вероятно, могли показаться дикими и безобразными, но вместе создавали картину гармоничную и труднозабываемую, так что иногда хотелось тряхнуть головой и протереть глаза: полно, да не кошмарное уродство ли все это? Подобная внешность несет, пожалуй, отпечаток некой искусственности, но заметить ее может лишь зритель весьма и весьма искушенный, специалист.
Лицо Скифа было бы безоговорочно молодо, если бы не большие старые глаза, окруженные кольцом морщин, да загорелый купол лысины.
— Здравствуй, — сказал он. — Как поживает высший пилотаж?
— Здравствуй, дядюшка, — ответил Эрликон. — Неужели не знаешь? Что-то не верится. Сегодня на меня так уставились с трех спутников одновременно, что стало холодно между лопатками, а когда я зашел в туалет на заправке, с потолка сразу свесилась какая-то электрическая телевизия и заглянула мне в такое место, что не знаю, как уж тебе и сказать. Объясни, пожалуйста, простыми словами, в каких это преступлениях меня подозревают твои электронщики и до каких пор милости сии будут продолжаться?
Последнее время они встречались нечасто. Скиф отдал Эрликону весь нижний этаж своего трехтрубного английского дома. Этаж этот представлял собой, по сути дела, одну огромную комнату, где гостиная переходила в спальню с модернистским гидравлическим ложем; вплотную примыкала деревянно-раздеревянная кухня в кантристайл, по кантри-полкам вился плющ, и сразу же за ними начинался кафель и мрамор ванной, и дальше, за втяжной стеной, шел уже гараж.
Однако, подойдя к экватору третьего десятка, Эрликон, отяготившись сомнениями в смысле жизни, вдруг покинул роскошь вещей и роскошь общения — все то, чем при помощи денег и положения Скиф компенсировал его бесприютное детство, — переселился в общежитие авиабазы и вернулся к допотопному материнскому мотоциклу. Правда, если уж быть честным до конца, эта старая машина была не просто скоростной рухлядью, а ретро экстра-класса, люкс-раритетом, предметом зависти знатоков, так что даже аскетизм Эрлена выражался достаточно изысканно.
— Тебя кормить? — спросил Скиф.
— Нет, я только что доел Эдгаровы бутерброды. Что же касается высшего пилотажа — послезавтра увидим. Однако ты не отвечаешь на мой вопрос.
— Только не говори, что ты сам все это придумал, — предложил Скиф. — Псевдофольклорный румынский стиль — плод влияния Кристины. Съездить в бунгало к Эдгару ты успел, а позвонить матери — нет. Как ты ответишь на такой вопрос?
— Позволь мне ответить так: я побоялся отнимать время у такого занятого человека.
— Речь неискренняя и неправомерно жестокая. Не хуже меня ты знаешь, что она тебя любит.
— Возможно, что она и любит некоего сына, — согласился Эрликон. — Некий образ. Однако доказывать каждый раз, что я и есть тот самый образ, чересчур хлопотно. Да и какие, дядя, сыновья могут соперничать со страстью к электрохимической ячейке? — Эрлен откинул голову на подголовник кресла и пропел: — Не правда ли, чудесно: он — светоч подземного царства, она — светило науки… Все спасают друг другу жизни, и лишь бедный Эрликон не ко двору, и, к какому концу его приделать, не знает весь Контакт… Да, кстати, вы еще не надумали узаконить ваши отношения?
— Ты еще станцуй, — заметил Скиф. — Обрати внимание, что я-то не касаюсь твоих отношений с Кристиной. Не пытайся вывести меня из терпения раньше времени. Как отец?
— Дорогой бармен чинит проводку в своем заведении. Да, о проводке. Тебе кланяется Стив.
Эрликон протянул Скифу сложенный вдвое листок бумаги. Тот, бегло взглянув, положил листок на стол.
— Что он тебе сказал?
— То же, что и всегда. Медицина, дядя, от меня отказывается, и мне кажется, с нас хватит экспериментов.
— Стив — это еще не вся медицина.
— Оставь, пожалуйста. Если бы все эти поля и вирусы могли распрямить мои кости, они давно бы это сделали.
Скиф покачал головой:
— Кто жив — не говори «пропало». Мы не исчерпали еще всех путей. Но давай пока поговорим о другом. Я прочитал твою курсовую.
Он достал и бросил на стол кипу листов в блестящем зажиме. Эрликон со слабым стоном утонул в кресле.
— Ничего, ничего, потерпишь, — сказал Скиф. — Что поделаешь, я тебе не отец и не мать, а приходится быть и тем и другой. Что я думаю об этом лепете, ты, надеюсь, понимаешь. Не похоже ни на третий курс, ни на тебя. Учебу ты практически бросил. Что происходит? На что ты рассчитываешь? На то, что в критический момент тебя осенит вдохновение? Это верный провал, ни к кому еще на пустом месте вдохновение не приходило. Смешно объяснять, что учиться надо здесь, на Земле, пока есть у кого спросить — там будет не до этого, уж поверь, а мне вот неясно, как ты собираешься сдавать хотя бы вот эту элементарную сессию. Между прочим, у всех студентов она уже началась.
— У меня чемпионат, — проворчал Эрликон. — Я сам знаю, что работа паршивая.
— Ты плохо меня понял. Речь не о курсовой и не об авиации. Кстати, у тебя контракт по-прежнему с «Бритиш аэроспейс»?
— Да.
— Они сами возобновили или за тебя хлопотал Дэвис?
— Дэвис.
— Что ж, скажи ему спасибо, если еще не сказал. Речь у нас вот о чем. Не хочу повторять трюизмы, но, вижу, есть необходимость. Наше дело такое: либо отдаешь себя целиком, либо уходи. Не бывает контактеров, которые знают свое ремесло на три или на четыре. Твой отец ушел сразу, как только почувствовал, что теряет форму, его таланта нет ни у тебя, ни у меня, он мог позволить себе очень многое, но предпочел уйти. Ты начинал очень хорошо, тебе все давалось легко, как и Диноэлу, а легкость коварна. Захаров берет тебя в группу, но сейчас ты этим обязан только двум предыдущим годам учебы и своему имени. — Тут Скиф, к удивлению Эрликона, вытащил портсигар со встроенной зажигалкой и закурил. — Я говорю малоприятные вещи, но иначе нельзя. Не сердись. В следующий раз мне хотелось бы обойтись без напоминаний. Есть и хорошие новости — гестианская делегация приехала наконец.
— Дядя… — Эрликон смотрел, как Скиф разминает длинными пальцами сигарету, как погружает ее в голубой огонек; тоска внезапно обернулась решимостью, мышцы под глазами дернулись, точно он силился моргнуть. — Дядя… что-то грустно мне. Ты прав во всем, я с тобой не спорю. Во мне, видишь ли, кончился какой-то завод, будто я постарел лет на сто. Скверная история.
— Я тебя слушаю.
— Ты посмотри, на кого я похож. Ни одна девушка не смотрит на меня иначе как с жалостью, в лучшем случае — со страхом. Не подумай, что я жалуюсь. — Эрлен улыбнулся, но улыбка получилась болезненная, будто на лицо пала тень давних кошмаров.
Зрачки Скифа расширились.
— Ты ошибаешься, — сказал он, и в голосе его явственно прозвучала властная нота, напоминающая о многолетней привычке распоряжаться людьми. — Ты глубоко ошибаешься. Твои девушки еще впереди. В твоем лице есть своеобразие, которое женщины ценят выше любой красоты.
— Все уже без толку. Слишком поздно. Все уже опоздали и опоздают. Слишком долго я был одинок, слишком долго боролся с собой… чего-то не хватило, перегорел, короткое дыхание. Того, что могло быть, мне уже никто не вернет, да я уже больше ничего и не прошу. Вот ты говоришь, Захаров берет меня в группу — надо бы рехнуться от радости, а мне только страшно. Я же не смогу, нет во мне интереса… ничего нет. Любви нет — и нет сил бороться с этим. Я, наверное, болен. — Эрликон поежился. — Чепуха какая… и любил, и с ума сходил, но, вот видишь, выдохся. Доконали-таки меня, — добавил он, глядя в сторону. — Еще лет сорок, не меньше, тащиться, холодно, пусто, муки… Устал я.
И про себя добавил: «Дудки».
В этот момент беседы Скиф на секунду прикрыл глаза темными веками, а когда поднял их, то посмотрел на Эрлена взглядом, словно бы необычно рассеянным. Ах, надо было бы обратить внимание на этот взгляд и потом, когда события уже сорвались в карьер, вспомнить, но по юношеской неопытности Эрликон внимания не обратил и не запомнил, слишком уж был увлечен собственными горестями, а очень и очень зря.
— Хочу только одного, — сказал Скиф, глядя уже вполне обыкновенно. — Хочу, чтобы ты не забывал, что и мать, и отец, и я — мы все тебя любим и стараемся сделать все, чтобы тебе жилось хорошо. Ты улетаешь сегодня?
— Да, в ноль пятнадцать из Атакамы.
— На две недели?
— Да.
— Послушай, я мог бы устроить тебе отпуск.
— Нет, дядя, я как раз собираюсь обойти Эдгара.
— Желаю удачи. Вернешься — поговорим.
Эрликон подхватил сумку, кивнул и вышел. Скиф в задумчивости подпер голову рукой, не сводя глаз с закрывшейся двери. А внизу суетились почтовые автоматы.
В отражении на черном стекле можно было различить лишь силуэт с завитками волос да три светлых пятна — на виске, носу и скуле. Сквозь него проносился такой же черный лес, мосты, столбы, редко — дома, еще реже — одинокий огонек. Стоя у окна, Эрликон некоторое время меланхолически рассматривал себя — волосы, как всегда, ему понравились, все же остальное — длинная голова на сутулых плечах — вызывало чувство отстраненной постылости. Беспокоил разговор со Скифом — черт дернул его за язык, да и не сумел сказать, что нужно, скомкал, показался дураком и неврастеником. Воспоминание о недавней заминке обжигало внутренности. В каком-то документальном фильме давным-давно был эпизод расстрела — дымные струи пробили человека насквозь, вылетели с клочьями из спины, заплясала белая рубашка, плечи подпрыгнули, человек согнулся и упал. Конфликт, неловкость, любой глупый случай — а попробуй избежать глупых случаев! — дьяволами выворачивались из памяти и вызывали ощущение, будто и его протыкает раскаленный прут так, что самому впору обхватить ребра руками, скрючиться и упасть на землю лицом вниз.
Кто знает от этом? Никто. Покалеченные души столь же скрытны, сколь и живучи.
Ничего, думал Эрликон, ничего. Скоро конец. Жизнь лепит человека, накручивает бездумно, а потом вполне честно предлагает — познай себя. Что там намесили годы. И вот ты поднялся на холм и видишь путь прошлый и путь будущий и могилу впереди и можешь сказать: я, Господи, превзошел и постиг, и не хочу больше тянуть, и возвращаю тебе билет.
Говорите потом, что это малодушие, трусость, еще какие-нибудь слова придумайте, достаньте-ка меня со своим общественным мнением там — я на вас посмотрю. Несчастный случай. Жизнь не удалась, так хоть смерть устроить по собственному вкусу. Что может быть лучше — «разбился во время гонок». Ушел в небо, которое так любил. Скажут… Напишут…
Впрочем, всем наплевать. Интерес сосредоточен на борьбе двух лидеров — Баженова и Такэда, оба молодые, оба неожиданные, вечно пятый-седьмой Эрликон никого не волнует, разбейся он хоть десять раз подряд. Такая петрушка.
Так со сладострастием терзал себя Эрликон, стоя в одиночестве на ковровой дорожке у темного окна вагона, пока голос разума не напомнил ему о времени — надо поспать, скоро пересадка. Все равно, вашим аналитикам, маэстро Захаров, придется подыскивать себе другого пилота. Хотя уж кому-кому, а уж вам-то точно совершенно безразлично. Ну, да и мне тоже. Устал, устал, и черт с вами со всеми.
Мемориал Кромвеля по высшему пилотажу, или Серебряный Джон, назван так по имени одного из величайших пилотов современности Джона Кромвеля. Говорят, он был родоначальником высшего пилотажа — это неверно. Кромвель не изобрел высшего десантного пилотажа точно так же, как Паганини не изобрел скрипку, а Рембрандт — живопись. Заслуга Кромвеля, или, как его часто называли, Дж. Дж. (Джон Джордж), в том, что он необычайно раздвинул границы человеческих представлений о возможностях пилота в современной авиации. Серебряный Джон создал собственную школу пилотажа, в которой оставался первым и последним представителем — нормальный, хорошо подготовленный летчик-спортсмен способен выполнить с некоторым напряжением пятнадцать — двадцать процентов кромвелевских элементов, все же остальное со смертью Дж. Дж. отодвинулось на грань трюкачества и безумия. Входящий в программу подготовки трехчасовой фильм «Мастерство Джона Кромвеля» до сих пор смотрится как волшебная сказка или сатанинский вымысел.
Кубок по пилотажу — большая серебряная чаша с квадратными ручками и тоже именуемая Серебряным Джоном — не путать с чемпионатом мира — отпочковался некогда от ежегодного фарбороского авиационного салона и обрел статус мемориала с той поры, когда по истечении времени стало возможным закрыть глаза на маленькую деталь: легендарный основоположник был крупнейшим нацистским преступником, за что и отбывал положенное на каторге. Соревнования проводятся в три этапа на разных планетах по многим классам машин — от самых легких, предназначенных для атмосферы средней мощности земного типа, до тяжелых полукрейсерских и крейсерских классов, созданных для работы на планетах с осложненными атмосферными условиями и гравитационными сюрпризами. Свою продукцию демонстрировали — а это считалось делом величайшего престижа — все известные авиастроительные компании: «Боинг», «Локхид», «Мессершмитт-Бельков-Блоом» и прочая, прочая, не считая китов помельче.
Было же вот еще что. Как-то, давным-давно, Скиф взял Эрликона на базу в Уилслос-Филд. Была весна, в природе все набухало и собиралось тронуться в рост, на залитом лужами и раскрашенном «для ангелов» зелеными разводами, а для людей — белыми стрелами и пунктирами бетоне стояли самолеты — некоторые тоже камуфляжно расписанные, некоторые — наоборот, расцвеченные линиями и эмблемами, некоторые — только что из ангара, другие — еще горячие после посадки, излучающие жаркое марево. Скиф остановил машину прямо вплотную ко всем этим шасси и обтекателям, их с Эрликоном окружили высокие чины в фуражках и с пестрой мозаикой орденских планок, начался какой-то разговор, и Скиф сказал кому-то поверх голов:
— Сержант, покажите пока мальчику самолеты. Мы в диспетчерской.
Эрликон был ошеломлен тем, что увидел в этот день, и сразу же безоговорочно полюбил это. Самолеты взлетали и садились, вертикально и горизонтально, их рев сотрясал все вокруг, они были невероятно красивы — «тандерболты» с бизоньими лбами, «фантомы» с осиными талиями, «мустанги» с аристократически отвисшими губами воздухозаборников; в них была невероятная мощь и в то же время утонченное изящество, и запах, запах! — металла, кожи, топливного нагара — нес в себе удивительное очарование. Самолеты заполнили его душу без остатка — Эрлену хотелось петь и скакать. На обратном пути, обхватив руками спинку переднего сиденья, он сказал:
— Эрих, я кое-что решил. Я хочу стать летчиком.
— Хм, — ответил Скиф. — Сначала пообедаем.
— Дядя, я говорю серьезно.
— С твоим здоровьем — выбрось это из головы.
Минули годы, и вот теперь, ясным осенним днем, на высоте трех с половиной тысяч метров Эрликон летел по курсу 272 к северо-западу от города Стимфала и рассматривал расстилающуюся под ним землю, отыскивая контрольные ориентиры. Первый этап Серебряного Джона — Тяжелая — планета земного типа, масса — 1,000 004, время обращения — 24,6 часа, население — шесть миллиардов человек, приближается к довоенному уровню, столица — Стимфал.
Два источающих прозрачное голубое пламя двигателя справа и слева от Эрлена несли его бренное тело над сожженными солнцем кольцевыми предгорьями, от которых дальше, на север, начиналась горная цепь Котловины, где и много лет спустя после войны немало удальцов головами заплатили за любопытство к тайнам пустыни, окруженной горами. Говорят, что там и поныне бродят по пескам боевые киборги с вконец расстроенными программами и время от времени палят по всему, что движется, поэтому попадать в те места не рекомендуется.
Где-то здесь закончилась война. Лет семьдесят назад и сами стимфальские степи, и небо над ними, и космос кипели и горели в последних битвах, гибли люди, жгли воздух десантные крейсера под командованием Серебряного Джона, Стимфал был взят, хотя к тому времени никакого города уже не существовало — оставались развалины, воронки да расплавленный железный хлам; подписали капитуляцию, и стимфальская империя прекратила свое существование. Год спустя главнокомандующий имперскими вооруженными силами маршал Кромвель был осужден и отправлен в далекие края пилотом-смертником на рудовоз. Но об этом не пишут в учебниках. А теперь в просторах над Стимфалом тревожат небеса лишь пассажирские лайнеры и спортивные самолеты.
НАТ-63 фирмы «Хевли Хоукерс» сверхлегкого класса «бриз», в котором герметически закупорен Эрликон, на вид хрупок, непрочен и напоминает стрекозу — без крыльев, зато с двумя длинными растопыренными лапами. Под прозрачным колпаком, придающим кабине сходство со стрекозиной головой, Эрликон сидел в некоем подобии старинного кресла, пустив в него многочисленные корни шлангов и проводов, вырастающих из оранжевого комбинезона, увенчанного белым гермошлемом с огромными, тоже стрекозиными, поднятыми забралом на макушке светофильтрами.
Правую руку Эрликона словно пожимала ручка управления, выходящая из пола между двумя педалями — на них стояли его ноги, а прямо перед ним светилась разноцветными огнями сводная контрольная таблица, так что Эрликону не было нужды шарить взглядом по приборной доске. А вокруг, насколько хватает глаз, — одно чистое небо, лишь на западе, из невидимого отсюда океана, поднималась едва заметная череда облаков; внизу же Эрлен видел желто-коричнево-зеленый узор земли, где, согласно всем подсчетам, пора бы уже показаться контрольным ориентирам.
Эрликон включил радио — оно то запрещалось, то допускалось на соревнования; пока что, во избежание несчастных случаев, разрешили две нейтральные программы. Рассказывали, будто бы иногда можно поймать Главный диспетчерский пункт, и тогда маневр по засечкам здорово упрощался. Но нет, ерунда, в эфире совершеннейший бедлам: любимица астронавигаторов «несущая волна» несла какой-то бесконечный разговор домохозяек, метеослужба Стимфала-Второго уныло переругивалась с безымянным штурманом, все тонуло в музыке и ворохе неизвестно к чему относящихся цифр.
Время корректировки неумолимо надвигалось, СКТ зажгла двухминутную готовность, надо на что-то решаться, под ногами проплывают все те же однообразные каменные плеши, дальше к горизонту — неясная дымка; топливный лимит, но делать нечего, надо набирать высоты, уходить с этих Богом забытых трех тысяч, ничего из них не высидишь, Эрликон уже почти шевельнул ручку, почти тронул сектор газа, горизонт уже собрался провалиться с глаз долой, как вдруг картина резко переменилась.
СКТ погасила готовность и замигала белой символикой, означающей, что где-то в левом двигателе пробило изоляцию; загудел аварийный зуммер, Эрликон повернул голову и похолодел: вытянутая белая гондола внезапно отрастила огненно-золотой венчик, с нее слетели черные хлопья — все, что осталось от кольца силовой зашиты, и двигатель уподобился сигарете, которую сплошной затяжкой злорадно тянул дух неба. Плазма пожирала агонизирующие узлы, подбираясь к топливному каналу, а Эрликон вместе с кабиной в полном смысле слова сидел на практически еще полном баке горючего. Другими словами — несчастный, ты получишь, что хотел.
Но он воспротивился. То ли в нем возмутилась привередливость самоубийцы, то ли злость на слепую судьбу, которой он не пожелал доверить открыть последнюю карту своей жизненной колоды, или, может быть, заглянув в глаза смерти, в несобранности душевных сил, ужаснулся собственному замыслу и его одолела природная жажда жизни? Эрликон и сам не разобрался в разноречивом потоке нахлынувших ощущений, и последней связной его мыслью была: «Горим. Ай-ай-ай», после чего мысли кончились и воцарились бессловесные инстинкты. Все же душевный разлад дал себя знать, потому что дальнейшие действия протекали в неком помрачении ума, обвинить в котором только страх было бы неверно.
Отведя взгляд от горящего мотора, Эрликон отключил подачу на левую консоль, взял ручку на себя, и машина, задрав нос, пошла вверх, обеспечивая себе свободу маневра. Его окликали по радио дважды: первый раз с судейского крейсера, второй раз подсоединился сам папаша Дэвис и как бешеный заорал, чтобы Эрлен плюнул на свою идиотскую гордость и отстреливал двигатель вручную. Когда он не отозвался и на этот вызов, все умолкли.
Эрликон их толком и не слышал. Он выписывал в небе немыслимые вензеля на немыслимой скорости, отдаленно копируя классические летные фигуры, и был этим целиком поглощен. Чутье подсказало ему в общем-то верный шаг: если умело крутануть машину на запредельных оборотах, то замки не выдержат и двигатель срежет с пилона. В нашем повествовании есть человек, способный проделать подобный фокус, но это не Эрликон. Он же чувствовал, что ничего не выходит, и предсмертная дурнота подступала даже сквозь напряжение; как и что происходит и произойдет, анализировать он не успевал и лишь подсознательно был уверен в том, что одна эта воздушная карусель и отдаляет гибель. Но заговорила усталость, жизнь заскользила из-под пальцев, и на исходе шестой минуты после начала аварии Эрлен вырвал чеку катапульты с полным ощущением того, что выпускает руку врага, держащую нож.
Треснуло, свистнуло, мир перевернулся. Первым, рассыпаясь на лету, вверх устремился фонарь кабины, за ним и сквозь него — Эрликон в кресле, точно ведьма на помеле. Мгновенно потерявший всякое представление, где верх, где низ, НАТ-63 фирмы «Хевли Хоукерс» завалился набок, пошел винтом, затем на краткий миг встал свечой и в следующий момент превратился в огненный шар, из которого, чертя дымные трассы, полетели во все стороны многочисленные обломки; сжимая по пути воздух, прокатилась взрывная волна, обдавая небеса и горы жаром.
Секунд через десять к Эрликону вернулись зрение и слух, и обнаружилось, что он еще жив. Щиток гермошлема сорвало, светофильтры, наоборот, захлопнуло и перекосило, лицо горело как ошпаренное, сзади надсадно выл реактивный двигатель кресла. Но самое интересное заключалось в том, что прямо под ним находился город, древний и вечно молодой Стимфал — столица Тяжелой, двенадцать миллионов без пригородов. Эрликон, вытворяя свои головоломные трюки, начисто, разумеется, забыл о трассе, забрал далеко на юг, и оставалось надеяться, что останки самолета благополучно рухнули в пустыню, а не людям на головы, сам же пилот имел все шансы приземлиться на центральную городскую оранжерею. Вдобавок взрыв что-то повредил в поворотной системе сопла, шарнир ли заклинило, еще ли что, но никакого разворота на экстренную посадку не выходило, а аварийный запас топлива должен был иссякнуть с минуты на минуту. Вот что называется из огня да в полымя; будьте же вы прокляты, специалисты из «Хевли Хоукерс» с вашими тестерами и испытательными стендами!
Заставляя вибрировать все окрестные стекла, Эрликоново кресло неслось над городом, постепенно снижаясь. Юркая тень скакала по домам и улицам; Эрлен сумел накренить свой летучий корабль до предела и получил возможность более чем жалкого маневра в горизонтальной плоскости; прошел над увитой зеленью крышей с бассейном одного небоскреба, еще ниже, на миг криво и дробно отразился в окнах другого, здания сомкнулись за спиной, распахнулся простор площади, а из него стремительно поднялся прекрасный дворец. Огромное окно с витражом прыгнуло в глаза, раздвигая колонны и простенки с лепниной, и разверзлось, словно драконова пасть.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Без колебаний она надела серьги слоновой кости — по три легчайших резных шестигранника на цепочке, и внутри каждого — еще по нескольку, чуть слышно переговариваются на ходу, хотя больше всего любила серебро, много серебра — кольца, браслеты, цепочки и бесчисленные серьги, и если с камнями, то обязательно с самоцветами, бриллиантов она не признавала. Зачем тебе такие канделябры в ушах, иной раз спрашивал Гуго; ничего не понимаешь, отвечала она, когда в ушах что-то болтается, совсем другое ощущение и от прически, и от жизни, и вообще. Кстати о прическе — волосы отросли до критической длины, надо решать: стричься или не стричься? Не отпустить ли снова гриву в стиле «колдунья»?
Кто впервые назвал ее колдуньей? Она, конечно, не вспомнила и не стала вспоминать, а спустилась вниз на лифте, пересекла гостиничный холл, где по голубому камню пола разбегались тонкие золотые змейки и соединялись с золотыми же звездочками, и села в машину. Но я скажу вам, что первым так ее назвал баск-лесник в горах, ночью, на границе Испании и Франции. Ей было тринадцать лет, и в горы ее вывез, конечно, Гуго — лесничий был его другом. С каждым человеком из бесконечного числа его знакомых и приятелей Гуго был знаком не просто так, а неизменно на почве каких-то былых дел и историй. Так и с лесником: ломая сучья для костра, Гуго подмигнул и заметил что-то вроде — мол, от Себастьяна лишнего слова не жди, клещами не вытянешь, и она ответила: это с тех пор, как он выдал своего брата. Лесник спросил, о чем разговор, и Гуго, удивившись, перевел. Лесник уставился на нее и, похоже, увидел нечто, потому что попятился, чуть не упал в костер и тут-то закричал: «Ведьма!» Так в несколько наивной форме была определена ее сущность.
Впрочем, лесник не был первой ее жертвой. Первой, всего месяцем раньше, стал молодой монашек-иезуит, преподававший географию и астрономию в монастырской школе на юге Франции, где она в тот год жила и училась. Ему было лет тридцать, был он симпатично носат и глядел на мир сквозь квадратные очки в металлической оправе. Встречались они только в классе или во дворе, ухищрения никакие не применялись, но и этого оказалось вполне достаточно: тоненькая тринадцатилетняя девочка источала разящий наповал флюид сексуального монстра — как ни странно, без особой порочности, но обещания и силы совершенно неодолимых. Как-то во время урока они встретились глазами, и смиренный служитель Божий, и так уже пребывавший в смятении духа, почувствовал, как в нем отверзаются темные шлюзы таких древних страстей, каких он в себе и не подозревал. Враг рода человеческого воочию распустил перед ним когти — не в силах совладать с искусом, молодой человек оборвал речь на полуслове, почти оттолкнул кафедру, вышел из аудитории и, поднявшись к себе в комнату, повесился на шнуре от настольной лампы.
Дар, еще никак не используемый, едва дал о себе знать, но сестры-монахини довольно быстро почуяли неладное, видимо из самого средневековья унаследовав профессиональный нюх на нечистую силу. Святая мать Женевьева заглянула в глаза новой воспитаннице и в их дразнящей зелени явственно уловила сатанинский вызов. На мать настоятельницу повеяло первобытной жутью, ей стало нехорошо, она позвонила родителям девочки, и в монастыре появился доктор Франциск.
В детских поступках часто можно угадать будущие склонности взрослой личности, а в тринадцать лет характер девушки уже вполне сложился. В дальнейшем, став старше, она охотно прибегала к найденному в ту далекую пору оружию — удивительной способности будить в глубинах подсознания нечто враждебное уму и воспитанию — первозданного зверя, встреча с которым для современного цивилизованного человека обычно заканчивается плохо, ибо мало кто к подобному готов. Пришедшая к ней позже красота и женственность, спокойствие ее натуры и взрывы темперамента — все несло на себе печать того древнего знания и придавало ее привлекательности страшновато-манящую сторону. Она гордилась дарованной ей возвышающей над людьми тайной властью, и эта гордость составляла одну из важнейших черт ее характера.
А тогда… Тогда Гуго примчался, побив, наверное, все рекорды шоссейных гонок и набрав штрафов на целое состояние, ему позвонил Рамирес, и надо отдать должное гуманизму отцовских взглядов на воспитание: «Слушай, там Хельга согласилась на какое-то изгнание дьявола, экзорцист приехал, Франциск, черт его знает, что там они затевают, ты недалеко, съезди, посмотри». У Гуго с монастырями и монахами были свои счеты, открытый «шевроле» пролетел двести пятьдесят миль за два часа и с визгом затормозил посреди мощенного белыми плитами двора.
В тот день, по милости собственной матери переживая один из тяжелейших кошмаров в своей жизни, даже сквозь него она ощутила приближение той силы оптимизма и поддержки, которая всегда исходила от Гуго. Впрочем, достойная мать настоятельница тоже быстро почувствовала своеобразие его личности, оценила разбойничью стать и на вопрос «Где девочка?» ответила, что придется подождать, поскольку в проходящую процедуру вмешиваться нельзя, после чего величественно покинула комнату. Гуго шагнул следом, но старинная дверь с железными полосами уже оказалась заперта снаружи. Мать Женевьева молчаливо предлагала опасному гостю скоротать время в компании двух стульев и Спасителя на белоснежной стене. Но для Гуго коварство служителей церкви всю жизнь было непреложной аксиомой, и поэтому тратить время на удивление он не стал.
— Помогай, Господи, — сказал бывший разбойник, и литое распятие покинуло свой крюк.
Засадив конец креста под притолоку ближе к петлям, Гуго что есть сил навалился на Бога Сына, словно делая ему искусственное дыхание. Веками неколебимые болты сначала тоненько запели, потом захрустели, потом посыпалась штукатурка, и наконец верхний край двери показался из-за стены. Тогда Гуго присел и, прижавшись щекой к дереву и металлу, соединенным больше трех столетий назад, просунул под дверь стальные крючья своих пальцев. Притолока косо впилась в дуб, сминая окаменелые волокна, жалобно хрупнул замок, и вот дверь с грохотом слетела с блестящих смазкой зубьев. Гуго поправил задравшуюся рубашку и быстрым шагом направился по открывшемуся коридору. У церковных дверей его ожидали вполне плечистые ревнители веры, но во взгляде Гуго они прочитали свою участь столь определенно, что беспрепятственно позволили ему войти. Играл орган. Шла служба.
От чего он спас ее тогда? От безумия? От чего-то худшего? Проклятый Франциск навис, как скала, стало нечем дышать, воздух стал плотным и неподвижным. «Повторяй за мной, дочь моя…» Слова его давили, высасывали силы, она сопротивлялась, как могла, ища поддержки извне, как парус — ветра, но ветра не было, в стрельчатое окошко под потолком скудно сочился свет, и ей казалось, что она тонет.
Но Франциск вдруг отступил, оглянулся, и давящий кошмар происходящего раскололся и рухнул, как внезапно треснувшее зеркало. В дверях стоял Гуго. Он оглядел каменные своды, доктора Франциска и неожиданно изобразил ободряющую рожу, означавшую: «Держись, старушка, не пропадем!» — и тотчас же лицо его сделалось, как обычно, непроницаемым.
Минуту она не могла поверить своему счастью, чуть живая сидя на скамейке, потом заревела, бросилась к нему и повисла на шее. Гуго сказал:
— Собирайся, мы уезжаем. Где твой чемодан? Нет, святой отец, не говорите мне ничего, а то мы с вами поссоримся.
Он увез ее в лесной домик в горах, там росли буки и сосны, по стволам вился плющ, хмель и дикий виноград, в шумной речке камней было не меньше, чем воды, луна была громадна, дом бревенчатый и длинный, на стенах висели ружья и шкуры, там-то ей и встретился лесник Себастьян.
Тогда ей было тринадцать, а сегодня ей двадцать восемь, и в первый день наступившей осени, еще совсем по-летнему теплый день, за рулем гостиничного «корвета» она ехала по Стимфалу, по заросшей с обеих сторон липами Маршал-Блейк-авеню и выехала на площадь Тмговели, так что сам Тмговели, бронзово-зеленый, в ушастом шлеме, грозно указующий мечом на запад (а на мече сидели два голубя), сначала появился прямо перед машиной, потом очутился слева, а затем переехал в зеркало заднего вида, да так там и остался, потому что «корвег» припарковался у решетки стимфальского Дворца музыки в ряду других машин.
Дворец музыки замыкал собой площадь, его справа и слева обтекали две улицы, и два здания стояли справа и слева: отель «Томпсон» — многоступенчатая фантасмагория из стекла и алюминия, наводящая на мысль о Нимейере и Брейере, и Национальная галерея — сооружение в неоколониальном силе с двухэтажной колоннадой. Забавно, что эта колоннада — практически единственный фрагмент из всей стимфальской архитектуры, отреставрированный после войны, а не выстроенный заново по планам и фотографиям — прихотливое чудачество взрывов ракет «воздух — земля» сохранило стену фасада.
Сам же Дворец музыки, хотя и был постройкой современной, точно следовал — в более утонченном и модернистском ключе — духу имперского барокко своего соседа, и, кажется, будто даже чугунные копья ограды крошечного скверика, выдвинутого Дворцом в автомобильный круговорот площади, говорили: помните о былом державном могуществе!
— Ингебьерг Пиредра? — спросил голос над мраморной лестницей. — Ваше время с двенадцати до тринадцати тридцати. — И молодая женщина с безупречной аристократической осанкой поднялась к световому ажуру второго этажа.
Да, Ингебьерг Пиредра, таково ее полное имя, но, поскольку этот скандинаво-испанский тандем не только неблагозвучен, но и совершенно непроизносим, мы будем называть ее просто Инга.
Имя — в честь какой-то прославленной родственницы — ей дала мать, шведская подданная норвежского происхождения Хельга Хиллстрем, а испанская фамилия родом из Барселоны, где появился на свет отец Инги Рамирес Пиредра — наполовину испанец, наполовину итальянец. Об этом любопытном браке речь еще впереди, теперь же для нас интересно, что по материнской линии Рамирес принадлежал к легендарному семейству Сфорца, и кочевники-гены проделали столь причудливый путь, что Инга полностью уродилась в свою флорентийскую бабушку. Несравненная Изабелла Сфорца передала внучке пышную копну вьющихся волос редкостного темно-пепельного цвета, болотно-зеленые длинные глаза в опахалах ресниц — взгляд, таящий память о десятках поколений властителей и энциклопедистов, но — увы! — и сфорцевский нос со знаменитой горбинкой, сошедший, казалось, с полотен времен Возрождения. Значительно потесненная, таким образом, испанская родня (не очень понятно, правда, кого там считать родней, так как папа Рамирес не знал не только деда, но и собственного отца) все же внесла лепту и подарила девушке свой характерный подбородок — вполне женственный и даже изящный, но крюковатостью вполне подтверждающий испанские корни!
Итак, к величайшему моему сожалению, я не могу назвать Ингу красавицей, зато с чистой совестью заявляю, что она была необычайно интересной женщиной.
Пройдя по пустынной сцене, Инга подошла к роялю и села; с одной стороны был зал с рядами зачехленных кресел, с другой — серебряный лес органных труб. Инга находилась в верхнем, или двухсветном, зале Дворца, его еще именовали Альберт-холлом — отчасти в шутку, отчасти всерьез, поскольку сюда не допускалась никакая эстрада или электроника, даже джаз; это был зал классики, и акустика рассчитана на живое звучание. Сегодня здесь имели возможность провести репетицию участники фестиваля-конкурса стимфальской музыки — за тем инструментом, в том зале, где им предстояло выступать.
Инга медленно подняла крышку рояля и длинными пальцами прикоснулась к клавишам. В тот год, пятнадцать лет назад, из заповедника ее забрала мать — Хельга чрезвычайно скептически относилась к педагогическим воззрениям своего супруга, что же касается Гуго, то его она вообще не выносила с давних лет. Маневр был произведен быстро и жестко — Ингу водворили в загородный дом ожидать, какое решение примет ее матушка относительно дальнейшего обучения и воспитания. Однако Хельга недооценила характер дочери. Никому и никогда Инга не собиралась позволять насильственно вмешиваться в свою судьбу — с недетской решительностью и волей, помноженными на неизменную ненависть к матери, она восстала против родительских планов. Вечером первого же дня заточения, несмотря на усилия охраны, Инга очутилась на шоссе Руан — Аржантен, а через сутки, не очень голодная, но изрядно уставшая — в Дамаске, в аэропорту Эр-Дамият. Здесь, собрав по карманам оставшуюся мелочь, она позвонила Гуго по его парижскому номеру, и большинство монет тотчас вернулось обратно, потому что разговор занял никак не более тридцати секунд: Гуго просто сказал: «Стой возле этого самого телефона и никуда не уходи. Я скоро буду».
И все повторилось. На ночное летное поле села двухмоторная «сессна», уронила трап, и по нему быстро, но без спешки спустился Гуго Сталбридж в окружении телохранителей.
— Ешь и пей, — велел он ей. — Через пятнадцать минут нас заправят, и я уложу тебя спать.
— Ты не повезешь меня обратно к Хельге? — спросила Инга.
— Нет. Ты сможешь жить у меня сколько захочешь. Но при одном условии: каждый день заниматься музыкой. Твой рояль уже перевезли ко мне на «Бульвар».
Опять-таки благодаря вмешательству либерального папы Рамиреса дом Гуго Сталбриджа — «Пять комнат над бульваром» — стал ее вторым домом, и в школу ее возили секретари «Олимпийской музыкальной корпорации» в «линкольнах» с пуленепробиваемыми стеклами.
Надо заметить, что школа и весь этот период с его дружбой и знакомствами не сыграли в жизни Инги практически никакой роли. События того лета окончательно увели ее из круга сверстников, единение с которыми у нее и так не было прочным. Приятелей и приятельниц всех возрастов можно было насчитать легион, но и в отцовском доме, и уж тем более в доме Гуго — а Сталбридж никому не делал скидки на возраст и шестилетнего малыша выслушивал с той же серьезностью, что и президента компании «XX век Фокс», — она постоянно общалась с людьми намного старше себя и привыкла их считать своим кругом. Все они имели какое-то отношение к музыке и музыкальному бизнесу — в ее присутствии устраивались коктейли, заключались договоры, смаковались сплетни, закипали скандалы — артисты, менеджеры, композиторы, звезды, режиссеры, журналисты, критики — с ранних лет она стала полноправным членом этой компании. И даже в тех ее юных годах я не нахожу никаких черт детской наивности — она всегда очень твердо знала не только чего хочет, но и для чего.
Итак, музыка. Инге было пять лет, когда она влезла на стул возле пианино (тогда в доме еще не было двух роскошных беккеровских роялей, в те времена Пиредра не был еще так богат), с которого только что на половине музыкальной фразы поднялся папа Рамирес, и доиграла фразу до конца. Рамирес поначалу страшно удивился, но тут же обрадовался.
— Ага, — сказал он. — Ты будешь пианисткой.
Дело в том, что он никогда по-настоящему не знал, что ему делать с Ингой, и судьба, как всегда, поспешила ему навстречу.
И она стала музыкантом. Окончила класс Сюзанны Собецки, потом перешла к Томасу Вифлингу; ее слушали, ей предлагали выступать, она играла на Зальцбургском фестивале, а значит, была признана; записала клавирные сюиты Генделя, дальше цикл — двадцать четыре этюда Шопена, позже были Баркасси и Штормлер; ей исполнилось двадцать шесть. В музыкальном мире нет рейтинга, нет первой пятерки и десятки, есть имя, и ее имя значило достаточно много — еще до того, как появился Мэрчисон.
Рамирес, надо признать, мало поддерживал ее на этом пути. Если было надо, он давал деньги, иногда называл телефон того или другого импресарио, но и только. Однако же бесспорно — то, что она носила имя одного из владык мирового музыкального менеджмента, заставляло обращать на нее внимание, и она всегда трезво оценивала этот свой дополнительный шанс.
Музыка служила килем корабля ее жизни, ежедневный многочасовой станок стабилизировал шальные махи Ингиного внутреннего маятника, и она охотно принимала это лекарство, никогда не жертвуя занятиями ни для каких, даже самых увлекательных приключений.
Приключения составляли теневую сторону жизни Инги, и вовлекало ее в них вовсе не авантюрное жизнелюбие, унаследованное от отца, а скорее та механическая рассудочность, которая отчасти передалась ей от матери — недаром свои эскапады она именовала «опытами».
Кого Бог хочет погубить, у того отнимает разум. В этом смысле Инга, несомненно, была орудием Божьим. Остановившись на каком-то наиболее многообещающем — с точки зрения владеющего ею настроения — человеке, она бралась за дело. Непостижимый ведьмин дурман проникал в душу через отверстия зрачков, и начиналось исследование, начинались тесты — на стойкость психики, на ломку стереотипов, на верность и преданность новоявленной царице сердца или, наоборот, на жестокость и коварство в схватке с ней — Инга любила время от времени пройтись по краю пропасти — и так далее до бесконечности.
Следуя капризам колдовской воли, человек творил вещи немыслимые и несообразные, терял связи с действительностью и с самим собой. Естественно, в первую очередь это были мужчины, но попадались и женщины — и над теми, и над другими она экспериментировала с равным интересом и без всякого сочувствия. Для подопытных эти вариации заканчивались, как правило, плачевно: уже само внимание Инги и тем более безумная растрата жизненной энергии привлекали к ним всевозможные несчастья и катастрофы, для перечисления психозов и самоубийств, пожалуй, не хватило бы уже пальцев на руках.
В пике душевного и телесного слияния с очередным избранником или избранницей Инге казалось, что она соединяется в гармонии с некими древними силами и одновременно выпускает их на волю; виделось, будто бы летит над ночными лесами вместе с луной и чувствует малейшие движения вокруг и под собой: дрожь листьев, бег зверя по пятнам света и тьмы, чью-то страсть, вырвавшуюся на свободу. Полет ее неизменно приводил к горам, к одной и той же плоской вершине с развалинами, и туда она приносила все полоненные ею души. Никакого шабаша не происходило, Инга оставалась одинока и горда, и даже сам князь или еще какой-то неведомый владыка редко навещали ее ликующие бдения. До поры до времени это уединенное любование собственной мощью и властью Инге очень нравилось и вполне ее удовлетворяло.
Позже, правда, наступало похмелье. Насытив потребность в наркотике власти, утомившись и развлечениями, и трудом, Инга впадала в скуку, тоску, нервозность и неясные сомнения. Она все бросала, уезжала к Гуго, в «Пять комнат над бульваром», и там лежала целыми днями на диване, поднимаясь только к роялю, читала все подряд или занималась готовкой. Кулинаром она была первоклассным, но невероятно ленивым и непостоянным — ее таланта в этой области хватало лишь на то, чтобы по необходимости или под настроение поразить Гуго и его гостей какой-нибудь редкостной приправой. Затем снова следовал контракт, концерты, и пробудившееся потихоньку оживление в крови говорило о том, что цикл начинается сначала.
На этом присказка кончается, и начинается сказка. Начинается она с Кристофера Виландера, или попросту Криса, — он как-то однажды вышел все из той же пестрой музыкальной толпы. Был Крис малорослым и приземистым, плечи у него были узкие, а таз широкий; нос крупный и мясистый, с него постоянно сползали очки в дедовской пластмассовой оправе, нечесаные космы торчали во все стороны. В довершение Крис откровенно пренебрегал одеколоном «Джози Чемблер», и дату того дня, когда он мылся в последний раз, можно было учуять метра за полтора. Глаза у Криса были добрые, с неистребимой печалью.
Довольно грустно сложилась и его история. Будучи по образованию и профессии дирижером, Крис обладал, с одной стороны, критическим умом, а с другой — горячим нравом и неукротимым темпераментом. Люди подобного склада — либо паникеры, либо революционеры, и Крис был революционером. Беда, однако, заключалась в том, что революцию свою он надумал проводить в Зальцбурге — мекке всего музыкального мира, где, ничтоже сумняшеся, высказал какие-то идеи богоподобному Карлу Брандову. Престарелый маэстро, который последние годы вообще не снисходил до разговоров со смертными, сдвинул белые кустистые брови, и Криса не стало. Он сгинул, на более чем неопределенный срок утратив всякую возможность подняться за пульт, и, преданный анафеме, кое-как возродился из праха в парижских музыкальных архивах, где принялся составлять монографию о малоизвестных композиторах довоенного времени. И в один прекрасный день Крис в буквальном смысле слова наткнулся на забитый рукописями контейнер, на котором чьей-то рукой была наклеена липкая лента с единственным словом «Мэрчисон».
Чарльз Мэрчисон, скончавшийся около семидесяти лет назад, не был забытым композитором. Его струнные квартеты считались классическими и были хорошо известны Крису, и, однако, оставленное колоссальное наследие оказалось полной неожиданностью. Одно из объяснений этому Крис легко обнаружил, взглянув на даты: Мэрчисон был стимфальским композитором, творил в годы Империи, считался близким к руководству диктатуры и после победы землян был, естественно, запрещен или почти запрещен.
Вторая причина было куда таинственнее. Дело в том, что на рубеже своего сорокалетия вполне благополучный и признанный мэтр внезапно впал в некий вид музыкальной шизофрении и начал писать нечто, с точки зрения коллег-современников, несусветное и бредовое. Сохранив плодовитость до лет весьма преклонных, Мэрчисон создал великое множество симфонических монстров, практически никогда не исполнявшихся. Кроме того, по существующему мнению, будучи сам пианистом среднего уровня, Мэрчисон исходил не из возможностей музыканта, а единственно из собственной фантазии, и по этой причине его фортепьянные циклы были вообще трудно исполнимы.
Бытовала, правда, легенда о том, что Мэрчисон пользовался особым покровительством командующего стимфальскими вооруженными силами Джона Кромвеля — знаменитого Серебряного Джона, — тот якобы не только записал все вещи композитора, но даже транслировал их в эфир во время десантных операций. Однако сей романтический сюжет о музыкальном маршале пришел с полузакрытых страниц истории, и до исследований Криса Мэрчисон оставался как бы дважды неизвестным автором.
Проведя за расшифровками несколько месяцев, Крис понял, что совершил открытие. Да, Мэрчисон дьявольски труден, да, он говорил на фантастическом языке, возможно, он был маньяком или сумасшедшим, но тем не менее он был гением. Ничего удивительного в том, что, осознав этот факт, Крис очень скоро почувствовал себя мессией, призванным вернуть роду людскому пребывающие в забвении шедевры.
Начать он решил с фортепьянных концертов (Мэрчисон в последние годы все менее обращался к роялю) как самых близких по форме построения к современной лексике. Однако именно здесь возникала громадная трудность в выборе исполнителя. Требовался не просто блестящий виртуоз, но человек, способный воспринять волшебство и очарование мэрчисоновских парадоксов.
Крис не хотел прибегать к помощи компьютера. День за днем он прослушивал бесчисленных пианистов, прославленных и бесславных, и ни на ком не мог остановиться. Попадались ему и записи Инги, но Крис не счел их заслуживающими внимания, пробурчав: ему-де нужен Горовиц, а не Клайберн. Но как-то во время одного из фуршетов, на котором лимонов было больше, чем ветчины, Крис заметил соседу справа: что это за новая мода красить волосы в сигарный пепел. Какой такой пепел, спросил сосед. А вон та ногастая с подбородком, ответил Крис. Она не крашеная, возразил сосед сквозь рыбный ломтик, цвет натуральный. Это дочь Рамиреса Пиредры.
Словно услышав разговор, Инга повернула голову, пепельные струи и многоярусность висячего серебра пришли в движение, и на Криса пал тяжелый и довольно неприятный, хотя и вполне равнодушный взгляд. Впрочем, он тотчас же погас, скользнув дальше, но Крис уже увидел все, что ему было надо. Он увидел ум, раскованность и ту безмятежную открытость миру, какая встречается у закаленных воинов, знающих, как легко выскакивает из ножен их меч. Опасность Инги он тоже оценил сразу и немедленно забыл — энтузиазм кипел в нем на градусе, переваривающем любое мистическое воздействие, и, кроме того, Крис был готов, в случае необходимости, осознанно пожертвовать собой как шахматной фигурой. А посему, отставив стакан, он совершил обеими пятернями заведомо бесполезную манипуляцию, долженствующую обозначать приглаживание волос, и бросился в бой.
Сначала Инга даже развеселилась, когда посреди зануднейшего благотворительного обеда к ней подошел неряшливо одетый человечек и безапелляционным тоном повел сумбурную речь — сперва сказал об их встрече и сотрудничестве как о деле уже решенном, потом, с нескладной иронией, принялся извиняться и кончил тем, что представился. Однако скоро Инга вслушалась, и возникшая серьезность сгустилась до ощущения тревожного предчувствия. Этот Крис Вилан очень твердо знал, о чем говорил, и его уверенность в предприятии граничила с фанатизмом, так что на какой-то момент Инга сама почувствовала себя инструментом, который, в случае негодности, заменят другим. Это подействовало на нее, а еще больше подействовала внутренняя энергия Криса — человека подобного жизненного накала она встречала впервые.
Свидание их неоднократно переносилось и откладывалось, но Крис взялся за дело питбультерьеровской хваткой, и как-то зимним днем в «Пяти комнатах» они наконец сели за рояль. Объяснитель из Криса, надо сказать, был никудышный — слова у него не поспевали за мыслями, одно налезало на другое, короткий палец прыгал по нотам, и выходила совершеннейшая мешанина: давайте начнем сначала, нет, лучше заглянем в финал, нет, давайте я вам сыграю отсюда, нет, лучше вы посмотрите сами, и так далее.
Но говорил он с профессионалом, и профессионалом самого высокого качества. Правда, как утверждает классик, искусство — это не грабли, которые лежат в темноте, а уж тем более искусство Мэрчисона, так что даже Инге потребовалось время, чтобы вникнуть в суть, но уровень подхода Криса она оценила сразу. Он высказывал свои построения невнятно, впадал в гнев, если приходилось объяснять то, то казалось ему тривиальным, но его невнятицы значительно превосходили то, что можно было услышать на самом именитом мастер-классе. Он был нахален в суждениях, но нахальство его основывалось на феноменальной музыкальной эрудиции. Увы, те же познания окрашивали его начинания грустным скепсисом и, несмотря на вкладываемую страсть, заставляли с печалью ждать результата.
Так или иначе, но в какую-то минуту Мэрчисон распахнул перед Ингой великолепие своих болезненных грез, и все, что было чувствительным и подвижным в ее не слишком пылкой натуре, было потрясено. Крис видел в Мэрчисоне гуманиста-новатора ренессансного типа, музыкального раблезианца, бесконечно щедрого на самые неожиданные изобретения, но Инга увидела совсем иное — Мэрчисон открыл ей то, отголоски чего она слышала в самой себе, открыл новый взгляд на саму себя.
Демоническая краса и стройность, храм темных сил, возведенный нотными строками, алтари грозного мира подсознания, противоборство течений, скрытых в глубине мозга, — этой гармонии подчинялись и вмещались в нее и та разбойничья чащоба, над которой Инга летела на свои пиры, и лесные озера с русалками и прочей нечистью, и сама ночь, наполненная взмахами совиных крыл, — каждый последующий шаг открывал новый лик этого царства; и порядок, и хаос складывались в сооружение необычайного совершенства и законченности. Перед этим могуществом и глубиной она вновь почувствовала себя маленькой девочкой, неумелой ученицей и в то же время — обладательницей ключа к несметным богатствам.
Мэрчисон был не прочь и пошутить, но и здесь у Инги с Крисом не было согласия. Крис истолковывал юмор стимфальского оригинала как добродушное лукавство гения, Инга же находила в нем мефистофельский издевательский сарказм. Споры их с Крисом понемногу приближались к ссоре, которая могла бы иметь и вовсе скверный оттенок по той причине, что львиная доля расходов на первые исполнения приходилась, естественно, на Ингу.
Впрочем, планам таких людей, как Крис, никогда не дано осуществиться. Рок, было отступивший, вновь вспомнил о давнем подопечном, и почки Кристофера, которых в его несообразном туловище уместилось едва ли не втрое больше, чем у всех прочих, в очередной раз потребовали постели, капельницы и электронно-хирургических чудес. Инга осталась с Мэрчисоном один на один.
Роль менеджера, однако, ничуть ее не испугала. Инга остановила свой выбор на оркестре виртуозов Гвидо Кауфмана, заранее зная, что Крис не одобрил бы этой кандидатуры. Но теперь у Инги к Мэрчисону было чувство сродни ревности.
— Алло, Гвидо, это Ингебьерг. Слушай, мне нужен ты и твои ребята.
— Ты с ума сошла, моя прелесть. У меня «Кольцо Нибелунга» с Барбарой Хельмут.
— Она еще не подписала контракт. Сдвинь сроки.
— Прелесть моя, она возьмет полмиллиона, и потом разгар сезона — каждая минута расписана. Что там у тебя такое?
— Увидишь.
Инга, захваченная Мэрчисоном, выплатила неустойку берлинской примадонне, в муках родилась партитура, и начались репетиции. В середине февраля Инга позвонила Гуго:
— Гуго, ты можешь мне сделать Карнеги-Холл?
— А луну с неба ты не хочешь? — спросил директор концертного зала «Олимпия» и вице-президент «Олимпийской музыкальной корпорации», принадлежащей Рамиресу Пиредре. — Ладно, что-нибудь придумаем.
Концерты — полностью второе отделение — состоялись тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого марта в Лондоне, в новом здании «Шелтон-оперы». Инга, разумеется, волновалась, но отнюдь не чрезмерно, ей не терпелось опробовать на большом зале силу своего нового увлечения.
И это ей удалось вполне. Несмотря на то что трактовка Гвидо Кауфмана вышла, пожалуй, более техничной, нежели какая-либо другая, Инга, безусловно, захватила публику мэрчисоновским гипнозом. Когда она закончила выступление и замер последний звук, еще минуту в зале царило молчание. Потом были аплодисменты, несколько истерик и две машины «скорой помощи» у подъезда. Успех приобрел несколько скандальный характер. «Музыкальное ревю» назвало свою рецензию «Два часа в аду». «Музыкальный курьер» «Интеллидженсера» написал, что исполнение было инфернальным, а Инга оказалась гвоздем уходящего сезона. Было также немало ругани и ехидства, обвинений в вагнеромании (что это такое, не знал, кажется, и сам автор), но и на второй, и на третий вечер зал был переполнен критиками и прессой.
«Исполнение ранее неизвестного Второго концерта Чарльза Мэрчисона оркестром Гвидо Кауфмана с фантастической фортепьянной партией Ингебьерг Пиредры погружает слушателя в кошмар, но этот кошмар притягивает, как наркотик», — так отзывалась «Панорама полуночи». Как раз в полночь, покинув в вестибюле гостиницы шумную компанию поздравителей, Инга, нагруженная букетами в хрустящей бумаге, поднялась к себе на десятый этаж и там, в холле, на белокожем бугорчатом диване вдруг увидела знакомую коротконогую фигуру. Надо сказать, что уже после второго вечера к Инге подступили неизвестно откуда взявшиеся тревога и усталость — но сейчас сердце сжал откровенный страх. Она подошла и села рядом, сложив цветы на низкий столик.
Крис сильно изменился. Он осунулся, еще больше оброс, глаза выдавали болезнь. Голос, однако, остался прежним.
— Что это вы такое произвели? Где вы это нашли? Нет этого. Я уж не говорю о том, что ты совершаешь самую дилетантскую из всех ошибок — ты показываешь себя, а не композитора. Ладно, сейчас это не важно. Главное в другом. Вот первый музыкальный квадрат. Что это за паузы? Вы что, напугать кого-то хотите? Это же симфонический танец, как у Рахманинова, а вы людей стращаете — бу! бу! — вот, мол, ужас. Он, может быть, хотел заворожить, но не подчинить же и не запугать! — Говорил Крис необычно спокойно и даже как-то отрешенно. — Я, конечно, знаю, что напрасно здесь все это рассказываю, просто считаю, что надо сказать, для проформы, для совести — моей совести. Я, разумеется, представлю все материалы, ради бога. Мэрчисон не твой и не мой. Я по прежнему адресу — можешь звонить.
Окончив речь, Крис, не дожидаясь никакого ответа, поднялся и ушел. Инга смотрела ему вслед в полной растерянности. Она чувствовала, что происходит что-то непоправимое, что ориентиры спутались, но не понимала, что это и как быть. В номере Инга подошла к зеркалу и долго с недоумением всматривалась в отражение. «Чушь, — сказала она себе, — чушь, чушь». Но в глазах женщины, глядевшей на нее из зеркала, не было уверенности.
А тем временем усилия по пропаганде творчества Мэрчисона получили несколько неожиданную поддержку. На родине титана в Стимфале лидер оппозиционной партии поднялся на парламентскую трибуну прямо с «Музыкальным курьером» в руках и среди прочего ядовито поздравил правящую коалицию с наступающей сто тридцатой годовщиной со дня рождения композитора. Правительство настолько поглощено стараниями, как бы это получше угодить Земле, что даже забыло о юбилее национального гения, а произведения его исполняются иностранными энтузиастами вдалеке от отчизны; не есть ли это официальная точка зрения на возрождение и патриотизм?
Словом, когда Инга и Гвидо Кауфман первый раз вышли на сцену стимфальского Дворца музыки — ту самую, где она сидела сейчас, — зал поднялся и разразился овацией. Гвидо даже смутился и пробормотал: «Черт возьми, мы еще ничего не сыграли!»
Стимфальские знакомства Инги (даже не пуская в ход отравы своего очарования, она получила поддержку весьма влиятельных кругов) двинули поезд мэрчисоновской эпопеи на всех парах. Расставшись с Гвидо, Инга записала — начался период записей — оба концерта с Дрезденским симфоническим оркестром, и далее произошло событие, знаменующее собой достижение высшей ступени в карьере любого музыканта. Ей позвонил ассистент Карла Брандова.
Патриарх европейской музыки предлагал Инге записать с зальцбургским оркестром Седьмую и Двенадцатую симфонии Мэрчисона. Несмотря на всю гордыню и независимость, Инга ощутила нечто вроде священного трепета, однако твердо дала себе слово отстаивать собственное мнение до конца и в случае чего решительно сказать «нет». Все же, вступив в громадную комнату с окнами от пола до высокого лепного потолка, где всю обстановку заменял одинокий «стейнвей», отражавшийся в зеркальном паркете, Инга волновалась больше, чем перед любым выступлением; волнение ее подскочило еще выше, когда она увидела, что Великий Карл, которого ввез на каталке не менее ветхий старик, не смотрит на нее. Инга вообще не могла разобрать, какие у него глаза: под редкими кустиками бровей — складки, морщины, а в прорезях между ними — две узкие полоски беловатой мути. Карл не вымолвил ни слова, но ассистент с костлявым лицом, похожий на патологоанатома, почему-то шепотом распорядился: «Начинайте».
В самом скверном разброде духа Инга поклонилась расположившемуся к ней едва ли не спиной маэстро, села за рояль, не сняв ни колец, ни браслетов, раскрыла ноты, оглянулась на синий зимний вечер в старинном городе и вдруг сразу приободрилась: Карл явно наблюдал за ее отражением в окне. Инга сразу же почувствовала себя уверенно, возник контакт, и она перешла к Мэрчисону.
Играла Инга собственную интерпретацию — с запаздыванием на одну восьмую, с переменой темпа в финале и отсутствующими в партитуре паузами, которые так возмущали Криса. Великий не выказывал никакой реакции, и, когда Инга остановилась (партия фортепьяно в Двенадцатой симфонии далеко не главенствующая) и собиралась пояснить некоторые моменты, ветхий старичок, следуя невидимому тайному знаку, укатил Великого Карла прочь. Ассистент почти с испугом посмотрел ему вслед и сказал: «Я вам позвоню».
Он позвонил в тот же вечер, и на следующий день Инга, уже без перстней и браслетов, в рабочем свитере, заколов волосы на затылке, сидела за роялем в окружении музыкантов прославленного зальцбургского оркестра, который Карл Брандов собирался сделать единственным серьезным театральным оркестром, считая, что исполнителей необходимого ему уровня в Европе хватит только на один театр. Репетиции вел все тот же ассистент, сам Карл появился лишь на двух последних. Ингину концепцию он принял полностью, расширив ее до уровня оркестровой модификации. Кроме записи, патриарх решил дать один концерт, на что публика давно уже не рассчитывала — великого маэстро к пульту выносили на руках и подключали к питающей системе, управляемой компьютером, встроенным в то, что осталось от левой ноги, съеденной тромбозом и артритом, — в эти минуты телевидение деликатно показывало зал.
Во время репетиций они с Ингой сказали друг другу едва ли больше двадцати слов, и тем не менее между ними установилось странное взаимопонимание. Инге все-таки удалось заглянуть в душу Карлу, и там она увидела желчь, мрак, предчувствие скорого конца и жгучее неприятие смерти. В своем прощальном порыве гений изливал злость и зависть-ненависть к остающимся жить.
Настал час рецензентов. Вокруг мраморного цоколя брандовского авторитета закружился пестрый хоровод критиков всех мастей и масштабов. Возможность наклеить на патриарха ярлык авангардиста разогревала самые сдержанные перья. Впрочем, припев не веселил разнообразием: «колдовской мир», «мистическое исполнение», «мистический мир», «колдовское исполнение»; телевизионные и газетные целители предостерегали от прослушивания гипертоников и сердечников. И уж чего никто не ожидал, так это реакции таких изданий, как «Роллинг Стоунз», «Рок энд фолк» и подобных им. «Джаз-панорама», наиболее солидный еженедельник, издал прямо-таки радостный вопль: «Братцы, появился новый джазмен — Мэрчисон! Кто похоронил симфоджаз? В Зальцбурге воскрес ритм-рояль! Мэрч, мы с тобой!» Находились и такие, кто именовал исполнение «сном разума», а одно стимфальское издание дошло до эпитета «национальная катастрофа». В общем, перепалка вышла изрядная.
Было все это меньше года назад. Сейчас едва тронула осень — и на Земле, и в Стимфале — в пике шестилетний цикл совпадения, а тогда стояла зима, прихватившая Европу неожиданной стужей, схваткой циклонов и антициклонов, что-то даже стряслось с лыжниками в Альпах, и той зимой началась у Инги самая глубокая депрессия из всех, какие бывали в ее жизни.
За окном царствовал колючий декабрь, снежный в инее бульвар за окном выглядел совершенной гравюрой. Инга лежала на своем «досадном» диване, ей хотелось взять топор и ударить раскрытый напротив рояль по его ребрам и золотым струнам, чтобы произвести над ним радикальный опыт и прислушаться к его предсмертному звучанию.
Обрушившийся вал успеха («представьте себе, девять лет назад она дебютировала здесь же, в Зальцбурге, и тоже великолепно!») задел ее в очень малой степени — главным образом потому, что, подобно своему сугубо интуитивно мыслящему отцу, Инга, достигнув какого-то, пусть даже самого заветного рубежа, мгновенно теряла интерес к нему. Было в ней что-то от завоевателя, который, не успев даже толком собрать дань с только что покоренного племени, тут же забывает о недавних победах и обращает взор к новым горизонтам. Это можно назвать жаждой жить, а можно — ненасытностью. Да, публика открыла Мэрчисона и пришла в восторг, но Инга-то оценила его прелесть и магию много раньше, тогда, когда они с Крисом вместе брели, спотыкаясь, по тернистой нотной строке, и никакие последующие триумфы не могли заменить ей откровений тех дней. Последующий же музыкальный марафон основательно измотал, но обрадовал мало.
Здесь волей-неволей приходится сделать довольно горькое признание. Инга вовсе не была настолько преданна искусству, как это требовалось бы в классическом идеале. Музыка для нее была интереснейшим, захватывающим — но средством или, того хуже, орудием, и если спросить: а могла бы быть Инга кем-нибудь другим, а не музыкантом? — увы, надо ответить, что, несомненно, могла. Кем? Да кем угодно, лишь бы не упускать ощущения наполненности жизни и самой решать, чему быть, а чему нет. Словом, музыка в ту тревожную зиму не могла ей доставить необходимого утешения. Даже то неизъяснимое чувство, которое испытывает артист от контакта со слушателями, — и то как-то приелось и отступило.
Да, оставалась власть. Над людьми и над избранными мужчинами в частности. Основа той самостоятельности, которую Инга возвела в принцип жизни. Тут тоже не стало былой отрады. Начиная с той черты, которая отделяет девочку от девушки, она использовала свой магнетический дар с постоянством естественного отправления, и здесь сложилась картина, обратная ее музыкальным достижениям: Инга насыщалась, не рассуждая, как не рассуждала бы, например, дикая кошка, и вот из пантеры голодной она превратилась в пантеру сытую, а потом — в пресыщенную. Вкус ее утончался и истончал до того, что истаял вовсе, истинное же чувство никак не могло проложить себе дорогу через лабиринты изощренности ее опыта. Ингой овладели неожиданная нерешительность и усталость — прежний путь кончился тупиком, нового она пока не видела.
Как и многие в подобной ситуации, Инга пришла к тому парадоксальному выводу, что настало время начать семейную жизнь — по той причине, что этого она еще не пробовала. Однако для замужества необходима если и не любовь, то, по крайней мере, что-то… что-то такое нужно непременно.
У Инги воли было куда больше, чем любви, да вот беда — колдуньям в любви редко везет, а правду сказать — не везет никогда; вечно они глушат в себе память о ком-то ушедшем и призрачном и в память о нем терзают и мучают ныне существующего и живого; вся их сверхчувствительность — это сверхчувствительность раны и надлома. Не от хорошей жизни прислушиваются к голосам мира иного, за таинственную свою власть колдунья платит несчастной женской судьбой, и никто доселе не слыхивал о ведьме — счастливой матери семейства.
Инга не оказалась исключением. Первым, к кому обратились ее умозрительные помыслы, был Крис, и ничего удивительного в том нет. Именно Крис первый, и пока единственный, дал ей возможность почувствовать, что на чье-то мнение можно безоглядно положиться и довериться ему. За время знакомства с ним Инга в большой степени успела перейти в его систему координат и взглядов — и не только музыкальных. С Крисом можно было спорить (Инга без внутренних уверток расценила свое поведение по отношению к нему как предательство, но и без лишних угрызений совести полагала дело вполне поправимым), можно было не соглашаться, но опереться можно было без опаски — уж она-то видела, что Крис не предаст и не продаст. Что же до разных странностей и всего остального, то подобрать цвет галстука, дезодорант и организовать карьеру она сможет не хуже, а пожалуй, и получше многих других.
То, что пророк Мэрчисона был давно бестолково, но счастливо женат и имел троих детей, Инга даже не стала принимать в расчет. Подобные проблемы она улаживала без труда.
Однако в это время князь тьмы потребовал оплаты по кредиту. Уйдя той ночью из отеля «Блессингтон», Крис навсегда ушел и из жизни Инги. Он не отказался встретиться с ней и раз, и другой, был вежлив, шутил, рассказывал курьезные истории, но во время этих встреч ей не удалось узнать, где он теперь и чем занимается. Его мир стал закрыт, непроницаем, и, растерявшись от собственного бессилия, Инга даже не решилась на атаку в лоб. Крис то ли благодаря энергии того неугасимого огня, который в нем горел, то ли благодаря еще чему-то, непостижимому для Инги, был теперь очерчен для нее запретным кругом, в который ни вступить, ни даже увидеть, что там происходит, права и силы не было. Инга, естественно, слыхом не слыхала о приключениях киевского философа Хомы Брута, иначе бы ей в голову могли прийти забавные аналогии.
После одной из таких бесед, оказавшейся, кстати, последней, Инга вернулась к себе в «Пять комнат», чтобы в одиночестве пережить горечь поражения. Было около пяти пополудни, и в этот серединный час она надеялась, что ей никто не помешает. Увы — первым, кого Инга увидела, закрыв за собой дверь, оказался сам хозяин, Гуго Сталбридж, уютно устроившийся у телевизора в компании окорока и «Джонни Уокера». Атмосфера царила настолько домашняя, что Инга, полная своих треволнений, не устроила, а именно закатила настоящую полновесную истерику — одну из немногих в своей жизни.
Глядя на прыгающие стулья, слушая вопли и ругань на четырех языках, Гуго сочувственно покивал головой, отставил бутылку, достал из ящика то, что Инга по женской терминологии именовала револьвером (это был почтеннейший «Люгер-08»), и через всю квартиру принялся палить по кухонным полкам и кастрюлям, благо промежуточная стена была убрана.
Начался страшный гром и звон. Инга на секунду изумленно замолкла и затем закричала:
— Ты что, с ума спятил?
— Почему? — обиделся Гуго, в котором добрый шотландский напиток уже успел произвести умиротворяющее действие. — Я поддерживаю твой эмоциональный ритм. — Он снял со стены расписное арабское блюдо и торжественно вручил его Инге: — На вот, разбей тарелочку, сразу полегчает.
— Оно же тебе нравилось, — пробормотала Инга, несколько смутившись.
— Сейчас не время, — сурово прервал ее Гуго. — Круши. Об телевизор всего удобней.
— Дурацкие шуточки, — буркнула Инга, вернув ему блюдо. Тем не менее ей полегчало, она выпила предложенную Гуго рюмку и вдруг ощутила, насколько проголодалась.
За судьбу арабского блюда можно было теперь не беспокоиться, но душа Инги была далека от спокойствия как никогда. Впрочем, смятение чувств выразилось у нее довольно деятельно. Зажав депрессию в кулак, Инга приступила к делам. Для начала она выкинула совершенно нежданное коленце: подписала контракт с джаз-роковой группой «Козероги» легендарного Эрика Найджела и закупила всю рекламу для их мирового турне, а чуть позже, чтобы не прерывать связи с Мэрчисоном, записалась в конкурсную программу стимфальского музыкального фестиваля.
И вот теперь она сидела на сцене двухсветного зала, текли полтора часа, отведенные на медитацию, солнце горело в пурпуре и синеве витражей, судя по стебельчатому рисунку теней от рам, наверху, на галерее, открыли окна; ясности же в уме не наступало никакой. Все же какие-то догадки уже забродили в голове, потому что Инга люто возненавидела Колхию.
Колхия — рыжая кошка, с безупречной, к сожалению, фигурой — бедра полноваты, злорадно отмечала Инга, — воцарилась у них в «Пяти комнатах» с явным намерением прибрать Гуго к рукам. Женщины там случались и раньше, но на этот раз происходило нечто омерзительно серьезное.
Инга косо взглянула на одну из клавиш, и та, чуть помедлив, беззвучно утонула. Эта Колхия ведет себя в «Пяти комнатах» с такой бесцеремонной простотой, словно она подобрала Гуго где-то на большой дороге, хотя было все как раз наоборот. Не то чтобы она строила из себя хозяйку — похоже, Колхия о подобной роли вообще представления не имеет, но держится с независимостью, низводящей Гуго до уровня «осчастливленного» — «не нравится — пожалуйста, ухожу». А Гуго, бедняга, похоже, и впрямь боится, что она уйдет. Инга не отдавала себе отчета в том, что в ней говорило наивное инфантильное собственничество, зато ясно чувствовала, как дрогнуло и шевельнулось ядовитое жало.
Вот такое неопределенное недовольство, неопределенная злость, смутные предчувствия занимали Ингу в ее медитационное время перед роялем, которому она так и не уделила внимания. И рояль, обидевшись на ее пренебрежение, запел сам — тревожно и печально, сначала высокими тонами, затем присоединились басы; в унисон отозвались витражи — сперва чуть слышно, потом все заметнее. Инга невольно повернулась. Где-то в вышине зародился свист, перешел в вой, стал нарастать, оброс гулом, каждую секунду заставляя ожидать, что адское завывание достигнет высшей точки и вот-вот начнет затихать — не тут-то было! Грохот и рев заполнили зал, заложило уши, померещилась болезненная, ватная тишина, и в этой тишине было Ингебьерг видение.
На центральный витраж пала тень, мгновенно оформилась, и огромное стекло взорвалось, в зал хлынул поток разноцветных брызг и вместе с ним — что-то черное и пылающее.
Под потолком, чуть ниже белых светильников, на огненном столбе восседал черноволосый юноша с лицом падшего ангела и печально смотрел на Ингу. Потом огненный столб рухнул, черные кудри взметнулись, как вороновы крылья, и юноша провалился в развороченный партер. Два ряда кресел встали вертикально, ударила косматыми струями пена пожаротушителей, треск, шипение, хлопанье, и через некоторое время все затихло. Сквозь разбитый витраж по ворвавшемуся солнечному лучу вытекал прозрачный дым.
Отстегиваясь от каких-то конструкций, падший ангел завозился и выбрался из переломанного частокола кресел, сдирая с себя оранжевую рванину. Поднявшись на ноги, он осторожно прикоснулся к закопченному лицу, словно желая удостовериться, что действительно уцелел, и обратился к замершей Инге:
— Простите, я без стука.
Инга и впрямь сидела не шелохнувшись и думала, как ни странно, снова о Гуго Сталбридже. Что-то ей открылось в нем сейчас, именно в этот момент. Вот оно что — случайная смерть, бессмысленная и грубая; отпечаток знакомства с нею всегда присутствовал во взгляде Гуго, но до сих пор Инга не различала его — печать готовности, печать приятия этой готовности лежала в тени складки меж бровей Гуго Сталбриджа. И сейчас она выругала себя — дура, девчонка — не видела. Теперь увидела.
Тем временем события развивались дальше. Пилот подошел к сцене и зачарованно уставился на Ингу — до нее долетела его радость по тому поводу, что ситуация позволяет вести себя как вздумается, благо случай временно устранил оковы условностей. Перед глазами этого мальчика колдунья остановилась в некотором замешательстве, как перед запертыми крепостными воротами, удивительно — самая настоящая твердыня, с башнями и стенами, рвами и засовами. После секунды промедления она проскользнула внутрь.
Невероятно. Сколько же ему лет? И что здесь происходило? Развалины и развалины, немыслимые руины, смертные оскалы обрушенных фасадов; крепостные стены — много рядов, чья-то сила расколола их и практически сровняла с землей; дома и церкви невиданной архитектуры — неведомые битвы оставили от них редкие фрагменты среди хаоса и распада; еще от чего-то не уцелело ничего, кроме гор обломков да контуров фундаментов. И все смотрело на Ингу в мрачной готовности гореть еще многократно, но отразить. Отразить что? Инга покачала головой: ничего не понимаю.
Башня. Странно видеть жизнь неживого — поверх лопнувших и сорванных железных запоров вкривь и вкось нарастали новые, раздвигая стены, торопливо и жадно свежие контрфорсы закрывали шрамы старых, и какая-то сокровенная тайна настороженно следила за пришедшей сквозь узкие бойницы. Не встретив сопротивления, она вошла.
Нет, это бастион, это то, что она искала, — храм, такая же цитадель, как и все здесь. В честь кого он воздвигнут и кого хранит? Инга остановилась, не веря глазам. Она увидела себя.
Возможно ли? Среди руин сохранилось святилище женщины, как две капли воды похожей на нее. Тут не надо приспосабливаться и что-то изображать, нет нужды завоевывать: все и так принадлежит ей. Инга даже растерялась и почти растрогалась — вот так сюрприз, такого не бывало. Нет такой женщины, которой не было бы приятно вдруг оказаться идеалом.
Тряхнув головой, она не без труда покинула мир тонких взаимодействий — и вот он, дивноглазый и прекрасноволосый, обгорелый пилот стоит у края сцены.
— Прошу простить меня за нескромность, — начал он чуть севшим голосом. — Не каждый день падаешь с неба в такое общество.
— У вас произошла авария? — спросила Хозяйка Разваленной Души.
— Да, — кивнул парень. — Где-то в двигателе пробило изоляцию. В общем, мелочь, но что-то уж очень много всего отказало. Я разбил вам окно и там по пути еще какие-то перила снес — не успел разглядеть.
— Но с вами все в порядке? Вы горели.
— Я не горел, — удивился юноша. — А, это выхлоп. Но скажите, прекрасная дама, куда это я попал?
— В стимфальский Дворец музыки, прямо на национальный фестиваль.
— А где же зрители? Я сорвал вам выступление?
Инга, развеселившись, покачала головой, встала из-за рояля и, потребовав: «Подайте мне руку», спрыгнула со сцены. Глаза их сблизились, и она явственно уловила восторженный вой, родившийся у него в мозгу.
— Пойдемте-ка, и быстро, — скомандовала Инга. — Сейчас здесь будет очень много народу. Сегодня я обедаю с отцом, мы встречаемся тут неподалеку, и у нас с вами есть полчаса — надо отпраздновать ваше спасение.
Пилот ответил «ага», они обошли сцену, Инга сказала: «Нет, сюда», на выходе через задние двери их встретили трое запыхавшихся антично сложенных мужчин — при виде Инги они поначалу замерли, затем молниеносно отпрянули в сторону, уступая дорогу, — ее же их поведение ни капли не удивило, она была полна интереса к своему спутнику.
Таких лиц Инга еще не встречала. Но как же он страшно зажат, она почти физически ощущала исходившую от него дрожь напряжения, но вместе с тем держится прекрасно, речь свободна и непринужденна. Бедняга, какие же замки ты сейчас сжигаешь в себе? И она заговорила о Стимфале, о конкурсе, о всевозможных пустяках. Они вышли из Дворца (за их спинами пронеслась аварийная команда), пересекли жаровню площади и отгородились от нее стеклянной стеной кафе, полного искусственной прохладой. На столе появились две вазочки с мороженым, атмосфера начала понемногу успокаиваться.
— Послушайте, — восхитился он. — Ведь мы еще не познакомились! Давайте начнем немедленно. Как вас зовут?
— Меня зовут Ингебьерг — это норвежское имя, так меня назвала мать, она родилась в Норвегии. Фамилию тоже надо говорить?
— Можно и фамилию.
— Пиредра, мой отец испанец, видите, как интересно.
— Интересно. Меня зовут Эрлен Терра-Эттин, хотя вторая часть не очень-то и моя, еще я студент Института Контакта, и мне двадцать пять лет.
Инга засмеялась:
— Вы очень мило намекаете, Эрлен Терра-Эттин, но все равно, спрашивать женщину о возрасте нетактично. Я достаточно старше вас — и довольно.
Эрликон протестующе отклонился назад и приложил руки к груди:
— Ни единым помыслом! Взгляните, однако, злачные места отдают предпочтение музыкальным жанрам перед техническими.
Инга обернулась — на широкой колонне была наклеена афиша «Музыкальный фестиваль. Заключительный концерт».
— Но это пятого. А завтра?
— А завтра у меня контрольное прослушивание.
— Я обязательно приду.
Инга улыбнулась и отрицательно покачала головой:
— Ничего не получится. На контрольное прослушивание зрителей не пускают. Только жюри и комиссия. И к тому же у вас будут хлопоты из-за аварии?
— Да, авария противная, — согласился Эрликон. — Будет дело. А что за комиссия?
— Фирмачи.
— Кто?
— Представители музыкальных фирм. Еще должен быть кто-нибудь из профессуры и критики.
— Обстоятельства против меня, однако еще посмотрим. — Эрлен уже расслабился настолько, что начал рассуждать вслух, но в этот момент у кафе затормозили две неразличимые, как близнецы, голубые «каравеллы», и наваждение кончилось.
— Папа, — сказала Инга. — Мне пора. Желаю вам удачи, было очень интересно познакомиться, и спасибо за мороженое.
Она встала, подхватила сумку и, на секунду задержавшись в дверях — лицо поделено тенью, темная прядь перечеркивает белые серьги, в зрачке огненная точка, — указала ему все на ту же колонну с афишей и, сгинув за стрельнувшей бликом дверцей, унеслась прочь.
Эрликон, не очень-то понимая, где у него руки, где ноги, подошел к двери. Оказывается, на той же колонне, только с другой стороны, была приклеена еще одна афиша: «Первый тур Кубка по высшему пилотажу. Мемориал Дж. Дж. Кромвеля. Кольцевая трасса Котловины. 2 сентября». Он посмотрел на нее пустыми глазами, потом повернулся к площади, привалившись к нагретому солнцем косяку. Тело было как ватное. Прямо перед Эрликоном с металлическим воплем остановился черный глидер с эмблемой Национальной летной ассоциации, и из него вывалился злой как черт старший тренер Холуэл Дэвис. Был он лыс, широкоплеч и приземист.
— Ну? — прогремел он, пошевеливая толстыми пальцами, словно рассвирепевшая горилла.
Они стояли против друг друга, как будто собирались драться.
— Послушайте, Хэл, — сказал Эрликон, рассеянно глядя мимо глаз с толстыми складчатыми веками. — С какой я сейчас познакомился девушкой… Она играет на рояле…
Тренер выслушал это сообщение, не дрогнув ни единым мускулом, и с минуту постоял перед Эрленом гранитной глыбой, затем, не сказав ни слова, завалился обратно в глидер и уехал. Эрликон вернулся к своему нетронутому мороженому.
Жил сто лет за семью заборами, за семью запорами. Никого к себе не подпускал, даже Кристину, и вот, пожалуйста, рухнули твои запоры. Сколько лет смотрел на женщин и говорил себе: нельзя, а то крышка, но нет, нашлась, вскрыла тебя, как консервную банку.
Откуда взялось это смятение и мороз по коже? Дело давнее, многое позабылось — во сколько лет все произошло? — какой-то фильм, бог с ним, с названием, но была в нем сказочная принцесса — прекрасная, заколдованная, беззащитная, бесплотно-юная, но уже по-женски изящная. На нее обрушивались напасть за напастью, с ветром и дождем, до тех пор, пока не появился прекрасный принц — вот его память не сохранила, вероятно, потому, что на месте принца он воображал себя, самому хотелось увидеть, упасть в обморок от восторга, потом очнуться и совершить в ее честь нечто необычайное.
Прошли годы, и много чего занесло песком, но заветный образ не утратил ни прелести, ни очарования. В нем как-то соединились и детская мечта, и сразу все противоядия от лютой многоголовой тоски. Взлелеянный и тщательно сберегаемый в тайниках души, он был панацеей и от вечного укора зеркала, и от неизменно ровно-равноправного, как бы без капли сочувствия, дружеского тона в разговорах.
Сказочная эта женщина (Эрликон не затруднял себя фрейдистскими изысканиями) жила незримо за панцирем закаленной в передрягах психики, не ведая себе равных среди реальных многогрешных сестер, коим было запрещено даже предполагать о ее существовании. Но вот нашлась… Трудно предположить, что же было в Инге от той давней волшебницы, но, видимо, что-то было — привычный горячий кулак ударил в солнечное сплетение, Эрликона сотрясла дрожь — «У вас произошла авария?»… Боже, благодарю тебя за то, что я надел олимпийку под перегрузочный костюм… «Сегодня я обедаю с отцом… Подайте мне руку»… Мог бы сам догадаться, идиот. И наплел какой-то чепухи… А дальше вообще кошмар — принц вместе с каблуками и шапкой волос на добрых полголовы ниже своей принцессы. Боги святые, а он-то думал, что ему никакая психологическая встряска нипочем. Эрликон оставил окончательно растаявшее мороженое и окунулся в уличное пекло.
Прямо над ним возвышалась бредовая громада отеля «Томпсон» с фестонами мансард на крыше. Постояв немного, задрав голову и поглядев сначала налево — на Дворец музыки, а потом направо — снова на отель, Эрликон поднялся по ступенькам под длинный козырек и заглянул в вестибюль гостиницы. Полумрак, багрово-красные тона, в глубине, за деревянной стойкой, виден портье и светлый раструб дисплея.
— Не то, — сказал Эрлен и, обойдя здание, очутился в грузовом дворе вместе с затянутым в синюю пленку трейлером со стрелами «Фуд траст» на бортах.
Здесь, на полу необъятного лифта, сидел джентльмен лет четырнадцати в джинсовой кепке с густо приколотыми значками. Он читал сборник комиксов издательства «Панч» и что-то меланхолично жевал. Эрликон беззвучно хмыкнул. Гены непревзойденного контактера Диноэла Терра-Эттина вдруг явственно подали голос.
— Эй, парень, — произнес Эрликон по возможности более хрипло, — ты хозяин этой машины?
— Ну, — отозвался парень, глядя на Эрленовы летные сапоги с застежками, замками и шнуровкой.
Эрлен присел рядом и для вящей убедительности продемонстрировал свой значок пилота первого класса:
— Давай поговорим, как мужчина с мужчиной.
Пасмурным утром третьего сентября, спустя час после жеребьевки, в крохотном скверике перед Дворцом музыки, а также в нижнем холле до лестниц — дальше лестниц никого не пускали — бродило, курило и переговаривалось множество разного народа, имеющего отношение к музыке и к фестивалю. Все они — от репортеров, стерегущих неизвестно что, поскольку на решение жюри нечего было и надеяться раньше четырех-пяти часов, и до студентов, торопящихся встретить товарища дурацким вопросом «Ну как?» — были полны ожидания вестей из недоступного ристалища — все окна и витражи Дворца сияли в целости и первозданности, система звукоизоляции включена, двери заперты, и никого не волновала пальба запускаемого где-то неподалеку мотоцикла, даже та странность, что звук этот доносился вроде бы откуда-то с неба. Мало ли что бывает.
Высоко над музыкальными болельщиками, на белой крыше «Томпсон-отеля» Эрлен Терра-Эттин заводил свой «Харлей-Дэвидсон», а прямо напротив, через темную щель улицы, простирались ребристые плоскости, башенки, желоба и люки верха Дворца музыки. Крыша гостиницы была как бы двойной: первый ярус — всевозможные службы и трубы, второй — трамплинный гофрированный навес над мансардами — дюралевая «чайка», которая и видна с улицы; в ее-то изгибы Эрликон и упирался сейчас левой ногой, то убирая, то наращивая обороты и вслушиваясь в громовой треск. Ветерок с моря пошевеливал ничем не прикрытые волосы и нес над площадью синюю гарь. Алюминиевое крылышко где-то метра на два не доставало до последних ограждений, но Эрлен надеялся на мощность двигателя и на то, что разница в высоте была в пользу отеля.
Мотор заревел во всю хромо-молибденовую глотку, Эрликон дал два расширяющихся круга и, вывернув газ до упора, проскочил свой поднебесный трамплин — темные глаза мансард за спиной отнесло назад и вверх; старина «харли» целое мгновение сверкал в воздухе между домами никелем спиц, и в следующую секунду его уже юзом волокло по крыше Дворца музыки, развернуло, толкнуло, ударило — стоп, приехали. Итог: содрана кожа на локте, всех и дел; единственный зритель, юный лифтер на противоположной крыше, завопил от восторга и захлопал в ладоши — вот это действительно пилот!
При помощи немудрящего куска проволоки и ролика скотча, предусмотрительно захваченных с собой, Эрлен без особых трудов проник в чердачные помещения музыкального храма. Здесь было очень уютно, веяло теплом, горели лампы, гудели неизвестные приборы, и во все стороны стройными рядами расходились разнокалиберные трубы. Пошарив минут пять, Эрликон отыскал какую-то нору обслуживания, побрел, терзаясь сомнениями, по неведомым переходам и в конце концов, едва не вывихнув ногу, выпал на ковер одного из дворцовых коридоров. Пусто и тихо.
Он мысленно сопоставил все свои перемещения и прикинул, что находится где-то справа от зала, ближе к сцене, посему быстро зашагал налево и вскоре очутился в зимнем саду, где среди цветного камня вились лианы, цвели кактусы и даже нимфея плавала в темном овале бассейна. За этой красотой вставал каменный парапет, и дальше Эрликон увидел отделенную от него пустым пространством стену вестибюля. Он подошел к парапету: далеко внизу, наполовину срезанный балконом, белел квадрат вестибюля, и по нему передвигалось множество черных точек.
Трудно сказать почему, но эта картина подействовала на Эрлена угнетающе и пригасила его боевой пыл; тем не менее он стал искать, как спуститься. Оказалось, что это чрезвычайно просто: от зимнего сада под прямым углом к коридору шла широкая белая лестница, и точно такая же зеркально спускалась ей навстречу с противоположной стороны. Миновав один пролет, Эрликон наконец обрел искомое — величественные двери с фигурными бронзовыми ручками, и перед ними — людей за столами с какими-то бумагами.
Ах, с каким бы удовольствием я описал, как Эрлен, окрыленный успехом, при помощи некой остроумной выдумки и природного очарования обошел всех церберов и в награду за мужество и изобретательность погрузился в стихию музыки! Увы, произошло совершенно обратное — Эрликон упал духом. Его помыслы и воля были настолько поглощены тем, как попасть во Дворец, что все остальное он предоставил импровизации. Но его, как обычно, хватило лишь на однократную вспышку, запал был истрачен, и новое нежданное препятствие, необходимость объяснений и обходных путей пришлись на хорошо знакомый спад нервной энергии. Вновь подступили всегдашняя тоска и усталость: невозможно будет сейчас подойти, что-то сказать, что-то наврать… Эрликон уже проклинал себя, но не мог заставить сделать хотя бы шаг. Он с бессильной ненавистью чувствовал, что уже готовы оправдания, что он уже подспудно выжидает, пока минут сроки и можно будет, ни в чем себя особенно не упрекая, уйти отсюда, не сказав никому ни слова — что ж, опоздал, дело законное, а значит, если быть честным с самим собой, можно уйти и прямо сейчас…
Полный омерзения, силясь справиться с собой и осознавая, что, как всегда, ничего не выходит, Эрлен сделал несколько шагов назад и снова поднялся в зимний сад. На этом наша история могла бы и закончиться, но шалые Эрленовы звезды судили иное.
Из коридора на Эрликона вышли двое мужчин. Один — высокий, зрелых лет, лысоватый, его превосходная серая тройка пребывала в явном контрасте с глазками, надбровьем и подбородком как раз такого типа, какие описывал бессмертный Ломброзо; второй — молодой парень в белой футболке, перехваченной подтяжками, с фигурой полностью квадратной: даже шея имела вид какой-то усеченной пирамиды и распирала ворот. Завидев Эрлена, оба абсолютно синхронно исполнили движение почти танцевальное: каждый дернул рукой, словно, спохватившись, собрался размашисто перекреститься справа налево, потом отставил ногу и присел, как бегун на высоком старте. Ап! — и менее чем за секунду, вытянув перед собой руки, они целились в лоб Эрликону из большущих черных пистолетов.
Ситуация оказалась настолько удивительной, что Эрлен даже не испугался. С сожалением должен заметить, что он испытал своеобразное облегчение, будучи столь решительно освобожден от инициативы. Видя, что объект без признаков агрессии стоит, свесив руки, квадратный парень с бычьей шеей вернул курок в исходное положение, выразительно отставив большой палец, затем приблизился вплотную и, хлопнув Эрликона по плечу, развернул и скомандовал:
— Руки на стену, ноги шире, — после чего со знанием дела принялся ощупывать и похлопывать со всех сторон; второй тоже встал рядом и неделикатно упер ствол своей пушки Эрлену между ухом и челюстью.
Скосив глаза, Эрликон узрел черную металлическую панель, в которой коридорные светильники отражались светлой полосой на полированной поверхности; полосу прерывал прямоугольный вырез, уходящий краями в глубь орудия. «А отсюда вылетает гильза», — отрешенно подумал пилот. Пока шел обыск (не очень понятно, на какие арсеналы была надежда, поскольку на Эрлене были только кроссовки, тонкие спортивные брюки и майка без рукавов с надписью «Штат Мичиган»), старший из незнакомцев достал рацию и сказал несколько слов на незнакомом Эрлену языке. Квадратный же, закончив, перешел к допросу — похоже, несмотря на молодость, именно он был главным:
— Твоя машина? — и кивнул на потолок.
— Моя, — честно признался Эрликон.
— Назови марку.
— «Харлей».
— Так. Кто такой?
— Поклонник.
— Чей?
Эрликон не был уж совсем бездарным студентом Института Контакта. За прошедшие краткие минуты он успел кое-что припомнить, а именно — точно такие же костюмы у тех трех молодцов, что столь обеспокоенно встретили тогда Ингу у входа, и два одинаковых лимузина, в которых она укатила от кафе. Поэтому на последний вопрос он, сообразив, что к чему, ответил:
— Ингин.
Этот ответ произвел замешательство — последовала оживленная дискуссия, все на том же неведомом языке, на какой-то момент Эрлен неизвестно почему решил, что это греческий. Старший что-то доказывал младшему, тот как будто неохотно возражал. Одна фраза вдруг прозвучала по-немецки, и ее Эрликон понял — «он запретил». Впрочем, беседа скоро завершилась, и после красноречивого жеста вся компания направилась обратно в тот коридор, из которого Эрлен и начал свои странствования.
Пройдя до конца и завернув за угол, они очутились в небольшом холле с пандусом для уборочных машин. Тут же и стояли эти машины, выстроенные в ряд и поднятые горбом пола почти к самому потолку. Забравшись туда, ломброзианский тип отомкнул низенькую массивную дверцу, скорее даже люк с четырехгранным язычком запора.
— Давай, — сказал квадратный. — Ты ведь сюда собирался?
— Спасибо, — пробормотал Эрлен. — Вы слишком хорошо обо мне думаете, — помедлил чуть-чуть, зачем-то оглянулся и полез головой вперед.
Поначалу он ничего не понял — кольца, уложенные в мостик, нависают подхваченные скобами кабели, но, продвинувшись и глянув вниз, слегка обмер: прямо под ним была сцена с роялем и сидящими в зале людьми. Напротив — гроздья всевозможных осветительных приборов, за ними — толстый, как бревно, рельс, завитушки золоченой резьбы, и дальше во всей торжественной красе — органные трубы. Эрлен снова посмотрел назад — квадратный парень уже уютно устроился в дверном проеме, перегородив его на альпинистский манер — ноги выше головы; он поощрительно пошевелил рукой — мол, давай-давай — и даже добавил свистящим шепотом:
— Она еще не выступала.
Кажется, в театре эти штуки называются колосники. Эрликон пополз по рамам и сеткам по направлению к потолку. Здесь он мог спокойно просидеть или даже пролежать все время прослушивания, и никто бы не заметил, но это счастье уже показалось ему сомнительным: дело в том, что кривая его боевого духа снова пошла вверх; стрелять по нему, похоже, не собираются, так что есть еще шанс поспорить с судьбой.
Потолок был, естественно, подвесной, как и во всех заведениях с управляемой акустикой, — огромные пористые квадраты, чешуйчато расположенные над залом. Переползая с одного на другой, Эрлен добрался до середины партера. Отсюда казалось, что стилизованные под какие-то экзотические цветы белые светильники достигают едва ли не кресел, а между тем он отчетливо помнил, что свободно пролетел под ними менее суток назад. Семь бед — один ответ, по крайней мере, будет видно, как из ложи. А если кто-нибудь посмотрит наверх? Во-первых, не сразу и увидишь, а во-вторых, нечего им туда смотреть. Эрликон обхватил кронштейн и съехал по нему в наружный лепесток центральной лилии. «Не зажгли бы эту лампу, — подумалось ему. — Быстро запахнет жареным». Да, если бы кто-то из зрителей вздумал присмотреться к люстрам, то мог бы запросто углядеть Эрленов зад, обтянутый защитными штанами, и потрепанные кроссовки.
Но наверх действительно никто не смотрел — со сцены звучала музыка, и Эрликон, поглощенный своими перемещениями, только сейчас обратил на это внимание. Исполнитель не произвел на него впечатления — худосочный блондин с неправдоподобно синими веками, — играл с закрытыми глазами и время от времени вдохновенно запрокидывал голову. Сама пьеса звучала смесью совершенно убийственных диссонансов; в минуту душевного подъема Эрлен даже пожалел, что пропустил название композиции: может, хоть что-нибудь прояснилось бы. Группа людей, сидевших на другом краю сцены у ширмы, — десять человек — слушали, однако, вполне одобрительно. «Жюри, — подумал Эрликон. — Сплошь знаменитости. А кто в партере?»
Вся собравшаяся публика занимала с промежутками восемь-девять первых рядов. Народ подобрался самый разнообразный — возрастом от семи до семидесяти, мужчины и женщины, в одежде представлен весь спектр моды — от фронды до консерватизма. «Фирмачи, — вспомнил Эрлен объяснения Инги. — Похоже на авиацию. Сидят, решают, на кого ставить. А вот, разрази гром, самый главный фирмач».
Слева от прохода, а значит, и от Эрликона сидел внушительный бородатый мужчина, с благородными сединами и тускло мерцающим перстнем на правой руке. Сидел он с чрезвычайно независимым видом и очень изящно. Костюм на нем был ослепительно белоснежным. «Аристократический профиль. Не удивлюсь, если он окажется каким-нибудь графом-меценатом. Или князем».
Неожиданно князь фирмачей повернул голову, посмотрел наверх и встретился взглядом с Эрленом. Парень оцепенел, его обдало холодом, потом жаром, мысли дико заплясали и спутались. Но красавец меценат только усмехнулся и, подперев голову рукой, снова стал смотреть на сцену. Эрликон перевел дух: «Вот спасибо. Ну и глазищи. Хитрюга».
Тем временем вдохновенного блондина сменила широкая в кости девица с косами вокруг головы и в синем костюме. Она грянула нечто не менее невразумительное и вдобавок невыносимо минорное. Эрлен поймал себя на том, что зевает. Фирмач внизу тоже явно скучал.
Немного погодя пришла другая девушка, и на этот раз прозвучало что-то мелодичное — фирмач оживился, Эрликон тоже, хотя, к сожалению, вряд ли отличил бы Берлиоза от Бетховена.
На сцену вышла Инга. Она была в сером платье до пола, волосы собраны, поэтому лицо ее было полностью открыто, даже обнажено, как нож, так что Эрлен в первую минуту даже не узнал ее, а узнав, внутренне блаженно застонал. Он смотрел на нее, на ее руки, и музыка некоторое время не доходила до его сознания, но потом какая-то фраза словно окликнула его, и Эрликон стал прислушиваться.
Похоже, Мэрчисон начинал писать свою композицию, будучи сильно не в духе. Громоздились и ворочались какие-то мрачные силы, угрюмо, хоть и не без грации, выстраивались и наслаивались. В их движении обозначалась величественная и зловещая наступательность. «Печальное сочинение», — подумал Эрлен. Но дальше Пошли интересные вещи. Черные силы раскрутились в полный хаос, в бессвязное торжество, а из хаоса возник разболтанный, чуть ли не издевательский мотив в духе чарльстона, бредовый как по нахальству, так и по сложности, и весь мрак немедля обрушился на него тяжкими аккордами. Темп сразу возрос, над залом гремела и кружилась схватка темных музыкальных чудес со свихнувшимся развеселым ритмом.
В итоге слабоумный чарльстон доконал-таки мистический минор, тот скончался в патетических вздохах, и после едва уловимой паузы по бренным останкам в щенячьем восторге проскакал чокнутый победитель — что-то наподобие «Это, братцы, без сомненья, янки-дудль-датч-вторженье». И разбойники пустились в пляс. Инга сняла руки с клавиатуры. Все.
Эрликон, впервые столкнувшийся с психотропной музыкой Мэрчисона, минуту переживал потрясение, потом захлопал изо всех сил. Эффект получился не бог весть какой, но Инга подняла голову и, разглядев Эрлена, улыбнулась.
— Доброе утро, Ингебьерг, — сказал Эрликон. — Мне страшно понравилось, никогда ничего подобного не слышал!
— Правда? — спросила Инга.
— Правда!
— Я очень рада.
Во время этого бесхитростного диалога в зале происходило смятение. Жюри вылезло из своего загончика и диковато уставилось на парня, словно не веря собственным глазам, фирмачи задирали головы, некоторые встали, некоторые, вывернувшись в креслах, взирали на Эрликоновы подметки. Самый главный хохотал в полном удовольствии, прочие же возмущались беспредельно: «Совесть у вас есть?», «Надо же знать границы!», «Вызовите охрану!», «Вы хоть понимаете, где находитесь?». Досталось и полиции, и организаторам.
Киборг внутреннего обслуживания водворил Эрлена в комнату с двумя столами, но без окон; зашел неизвестный мужчина, поинтересовался, не журналист ли он, посулил полицейских и ушел.
«Хотел бы я знать, какое мне предъявят обвинение, — размышлял новоявленный поклонник Мэрчисона. — Уж не авто ли инспекции? Шутки шутками, а вдруг я перелетел улицу на красный свет?»
Спустя еще какое-то время дверь отворилась снова. Эрликон встал со стола, на котором сидел, ожидая увидеть представителей местной законности, но вместо шерифа в комнату вошла Инга, и с ней — тот самый бородатый фирмач, или фирмовый бородач, как угодно, в глазах у него искрилось неподдельное веселье.
— Познакомься, Эрлен, — сказала Инга. — Это мой отец.
— Добрый день, — оторопело пробормотал Эрликон.
— Рамирес Пиредра, — представился бородач, подавая Эрлену широченную ручищу с перстнем. — Счастлив познакомиться. Вы летчик?
— Да, что-то вроде.
— Очень приятно. Наша встреча доставила мне немало удовольствия.
Рамирес улыбался улыбкой хозяина, решившего сыграть со своими гостями в какой-то веселый заговор; давний U-образный шрам делил его правую бровь аккуратно пополам. «Левша заехал», — машинально отметил Эрликон.
— Я приглашаю вас к нам на ланч. Инга вообще сегодня не ела — уж эти мне йоги, — а вы нам расскажете о своих приключениях.
— Благодарю вас, но я не при параде…
Рамирес негодующе отмахнулся и повлек Эрлена к выходу. Формальности испарились как по волшебству, везение подхватывало сладостной волной и кружило голову, как хмель. Они вышли на проглянувшее вдруг солнце в окружении разного люда и множества молодцов сродни тем, что сопроводили Эрликона в зал. Компания расселась в машины, и, пропуская вперед Ингу, в поклоне перед дверцей черного коллекционного «мерседеса», Эрлен углядел за фигурным срезом кузова характерный голубоватый отблеск, и на нежно обхватившее сиденье пилот опустился в полном изумлении. Дело в том, что он знал цену этому малозаметному свечению — оно принадлежало отражательному полю Дремлера, Д-полю, такие установки монтировались на космических кораблях для защиты от метеоритов: далеко не на всех кораблях, и включались они лишь в экстремальных ситуациях. Кем же, интересно, надо быть, чтобы установить такую штуку на автомобиле?
Кортеж пролетел тысячебашенный, полный машин Стимфал, затем двухэтажные предместья и помчался дальше на север — туда, где вдали от шума городского, в горах разместилась резиденция Пиредры. Слово «в горах», собственно, ничего не значит. Стимфал — это подкова на искусственном заливе, вырубленном в столообразных приморских предгорьях, и направиться отсюда по суше куда-либо, кроме как в горы, совершенно невозможно, поэтому многие, в зависимости от достатка и возможности тратить на дорогу лишние три четверти часа, стремились обосноваться повыше от уровня моря и исправно оплачивали безупречность шоссейных дорог, мостов и туннелей.
Эрликон, впавший в состояние некоего сказочного сна, вряд ли смог бы ясно описать дом Рамиреса. Ворота открылись и закрылись автоматически, машины въехали во двор, но в парадные двери с Эрленом вошли только сам Пиредра да Инга, об остальных оставалось лишь с запозданием уразуметь, что все они были телохранителями; далее распахнулось царство трех составляющих — золота, белой эмали и фарфора. Двери, ручки дверей, потолки, стены, рамы зеркал — повсюду или золотые кренделя, или бело-розовое сверкание, или наворот фарфоровых лепестков. На столе, кроме, естественно, расписного фарфора, появилось изобилие серебра, так что Инга, видя эйфорию гостя, даже слегка забеспокоилась: совладает ли он со всеми этими вилочками. Но на этот счет волновалась она зря: Эрликон и впрямь не очень разбирал, что ел, но у него, как у студента Института Контакта, а значит, будущего дипломата высшего ранга, разница между фруктовым и рыбным ножами была отпечатана в спинном мозгу.
Разговор шел самый обыкновенный — Рамирес подтрунивал над Ингой за ее тягу к естественности, похоже, это был какой-то давний спор, а она отвечала, что живет по собственным законам, потом подали мороженое и опять о чем-то шутили, говорили о музыке, о манере исполнения, о сложности партии левой руки… Они вдвоем с Ингой вышли на балюстраду перед парком, и она сказала, что не любит этого дома, и назавтра они договорились поехать и посмотреть Альмаденское ущелье.
В конце концов Эрликон оказался у себя в гостинице, куда, как выяснилось, еще раньше был доставлен его мотоцикл, причем без каких бы то ни было претензий со стороны полиции; плеснул в лицо водой и в чем был завалился на постель в твердой уверенности, что не сомкнет глаз всю ночь, после чего без всякого перехода провалился в сон, как в бездонную пропасть.
На следующий день быстротечного стимфальского бабьего лета — короток его век, и уже на подходе зимние шторма — Эрликон сидел в офисе Летной ассоциации в высоком кресле на шести ногах с шарами-колесами и смотрел в окно. Там был виден перекресток, эстакада и вдали — мачта телебашни. Сегодня мы едем в Альмадену. Машина, и целый день вместе. Неизвестно, на что там, в этой Альмадене, смотреть, неизвестно вообще, что там такое, но тем лучше. Волшебство, сон, конец света.
Хотя его, конечно, судили. Напротив, за красной откатной дверью, второй час шел судейский совет, он же квалификационная комиссия. Обсуждение: авария, поведение пилота и последствия.
Жара, и кондиционеры не тянут — сломались, что ли. Надо сосредоточиться. Вопреки инструкции двигатель вручную не отстрелен. Так. Аварийная посадка не произведена. Еще краше. Второй двигатель в безаварийном состоянии, далее — заход в запретную зону. Словом, дисквалификация, минимум на год. Радуйся, Скиф.
Альмадена, Альмадена, что бы там ни произошло.
Правда, за красной дверью сидел сейчас толстый старый Дэвис — хитрая черепаха, он ради пилотов себя в жизни не жалел, старший тренер, единственная надежда. Но что же им сказать?
Думал Эрликон долго, но мысли блуждали вразброд, и выходила какая-то бессвязица. Такого-то числа, курс 202, в 11.54 произошло спонтанное схождение силового плаща внутренней оболочки левого двигателя по причине… По причине сами разберитесь какой. Скорость одна двести, высота по скорректированному альтиметру три сто, боковой снос шесть и четыре… Автоматика аварийного отстрела… Дубляж отказал… Здесь вопрос зыбкий, потому что Эрлен, к стыду своему, абсолютно не помнил, почему не отстрелил двигатель вручную, да и пытался ли это сделать вообще. Ладно, а потом? Кто бы объяснил, что было потом. Куда это, спросят, вас понесло, молодой человек?
Альмадена, вот что я вам скажу. Нет, так нельзя. Эрликон затряс головой и попытался представить КТ перед аварией, но вместо приборов явилось лицо Инги с солнечной точкой возле зрачка. Но тут красная дверь отворилась, и все мысли Эрлена смешались и провалились, а в желудке похолодело. На пороге показался мужчина в развязанном галстуке и сказал: «Заходите».
В нагретой солнцем комнате гудели четыре вентилятора, но свежести это добавляло мало. На серо-зеленом экране дисплея компьютер держал колонки многозначных чисел, а спиной к ним сидел Антон Незванов — председатель комиссии, похожий на седого цыгана, разве что без серьги в ухе, и с ним еще шесть человек за столами, сдвинутыми буквой Т. Кое-кого Эрликон знал — шатен с запавшими скулами и острым носом — электронщик, стендовик, зовут, вроде, Уильям, рядом — Шукум из Международной ассоциации, Пибоди — джентльмен с рекламной фотографии, спонсор и представитель «Хевли Хоукерс» — авиастроительной фирмы, в недобрую, как видно, минуту, предложившей Эрлену контракт, и, само собой, Дэвис — капли пота поблескивают на загорелой лысине, взгляд устремлен на собственные руки, лежащие на столе.
Вид у комиссии был замученный, даже какой-то одурманенный, и разговор тоже получился странный. Сначала неизвестный Эрликону специалист стал допытываться, не было ли чего-нибудь необычного в работе КТ во время старта. Потом электронный Уильям поинтересовался, не было ли запоздании по корректировке приборов. Прочие же устало молчали и лишь отрешенно наблюдали, как вентиляторы закручивают вихри в пластах табачного дыма.
— Второго ноль девятого, — робко начал Эрлен, — в одиннадцать двадцать восемь стартовал с платформы Мартин-Флишь. Курс 202. Боковой снос — шесть и четыре. На двадцать шестой минуте…
Собственно, непонятно, зачем все это рассказывать, если у судей есть полная запись всего, что происходило на борту, плюс общая телеметрия.
— Дальше не надо, — остановил его Незванов. На Эрликона он смотрел одновременно и со скепсисом, и с сочувствием. — Вот что, парень. Ни черта мы в твоей аварии понять не можем. Похоже, кто-то тебе в бортовой компьютер запустил большого-пребольшого вируса. Не знаешь у себя такого друга? Ну, который так любит шутить? Но даже если и так, и это не очень все объясняет. Система аварийного отстрела должна была сработать независимо от компьютера, если в канале оставалась хоть капля горючего. Да и двигатель твой прожгло неизвестно чем — никакого перегрева там не было.
«Компьютер, — мелькнуло в голове у Эрлена. — Вот оно что. Я же наверняка жал на ручной отстрел, но компьютер не работал. Ну, уже легче, хоть за это не засудят».
— И не в этом дело, — продолжал Незванов, — штука, видишь ли, в том, что при срыве силовой оболочки взрыв должен был произойти меньше чем через секунду. А ты летал еще семь минут.
— Ну, расскажи о пузыре, — вдруг с неудовольствием вмешался Уильям.
— Да, расскажу. Значит, теоретически, на непросчитываемом уровне, возможен такой вариант: в момент аварийного выхлопа в столбе топлива левой консоли образовался разрыв, и пилот путем выполнения фигур высшего пилотажа сумел бы… сумел удержать горючее в топливном канале.
Тут Эрликон впервые слегка расслабился и уперся ногами в пол. Незванов поднес стакан к сифону, тот зашипел, как гремучая змея, но не выдал ни капли. Незванов свирепо отодвинул их в сторону, зазвенев стеклом о металлическую сетку баллона.
— За твои выкрутасы тебе полагается — сам знаешь, что полагается. Но дисквалифицировать пилота, который удерживает подачу на эволюциях, думаю, мы не вправе. Поэтому, — голос Незванова изменился и стал официальным, — комиссия сочла возможным предоставить пилоту кромвелевский балл и оставляет его на трассе.
Эрликон растерялся — такого поворота событий он не ожидал. Кромвелевский балл — это судейская скидка, существующая только на этом мемориале. В случае, если пилот по каким-либо причинам выбывал из борьбы на очередном этапе, но успевал при этом продемонстрировать какое-то летное новшество или экстра-классное мастерство, судейская коллегия, в память о трюках самого Серебряного Джона, могла засчитать ему средний балл по сумме всех участников плюс двадцать с половиной за чистоту исполнения элемента. Последний раз кромвелевский балл присуждался три года назад аргентинцу Кабрере, у которого в воздухе встали оба хронометра, и он со своей оригинальной программой выбился из графика.
— Но у меня нет машины, — сказал Эрликон.
Незванов на это ничего не ответил, а посмотрел на толстого Дэвиса. Тот, в свою очередь, загадочно посмотрел на Эрлена, вылез из-за стола, обнял ошеломленного пилота за плечи и вывел в коридор. «Эге, — подумал Эрликон, — да здесь заговор».
Увлекая Эрлена к лифту, Дэвис со всей значительностью произнес:
— Скажешь Скифу, что «Дассо» держит в Стимфале оба бракованных «Миража». Попроси его разобраться. — После чего Эрликон, полный неясных вспышек и звонов, канул вниз, охваченный кубом зеленого света. Судилище завершилось.
На улице он слегка пришел в себя, но лишь наполовину — другая половина его сознания оставалась прочно занятой Ингой. Мы, хвала святым угодникам, уезжаем в Альмадену. Машинально проводив взглядом омнибус, с боков которого томатно-красные буквы приглашали покупать тренажеры Вейдера, Эрлен наискось пересек брусчатую и полную народа Гринвич-сиркус с ее витринами и колоннами и взял курс на шеренгу черных телефонных коконов. Ветерок с моря неожиданно подмешал прохладную струю в дыхание разгорячившейся осени.
Цифры номера буйствовали в голове, но все же поддавались прочтению; пробежав пальцами по уступчивым никелированным квадратам, Эрликон встретился с удивительным фактом проникновения сказки в действительность — оказывается, владычицу его грез могут позвать к телефону, не сразу найти, попросить подождать и наконец — Боже правый! — ее голос, измененный электроникой, но все же, несомненно, ее, наполняет трубку. Эрлен вряд ли смог бы повторить, что именно она ему сказала, ибо в тот момент разум его, похоже, решил передохнуть, но тем не менее непостижимо очутился в положенное время на положенном углу, где имел возможность понаблюдать за усатым шарманщиком, завлекавшим публику при поддержке двух котят, возившихся в корзине у его ног. В зубах у шарманщика была антикварного вида гнутая трубка, но курил он не ее, а обычную сигарету, которую украдкой доставал из-за шарманки. Но вот подлетел красный, космического вида «бугатти», открылась дверца, и пилот упал на пропахшие духами велюровые валики сиденья.
Если наряд Эрликона не блистал новизной, разве что появились джинсы, а так все та же майка да зеленая ленточка, перехватывающая кудри, то Инга преобразилась совершенно. На колдунье была светлая блуза с пленительным вырезом и с широкими рукавами такого свойства, будто из них и взаправду можно было пускать лебедей, и легкие белые брюки. Волосы были свободны, и в их беспорядке Эрлен, естественно, проглядел изощренное мастерство парикмахера, а в том, что касается серебра, Инга в этот раз проявила удивительную сдержанность: две-три тонкие цепочки на шее, немного колец и совсем воздушных браслетов. Правда, серьги в форме старинной прялки с каплевидными подвесками несколько возвращали ситуацию в нормальное русло, но все равно — учитывая, что Инга не страшилась среднеазиатских гарнитуров, которые по размеру и массивности приближались к украшениям верблюжьей упряжи, — аскетизм был налицо.
Они снова пролетели Стимфал, на сей раз — с севера на юг, и, пока Эрликон любуется на высокие скулы Инги, два слова о том, куда они держат путь.
Стимфал — не первый порт, зашедший на сушу так далеко от моря, но, пожалуй, единственный, забравшийся так высоко. На протяжении нескольких тысяч миль побережья материк здесь обрывается к океану неприступной стеной — то выше, то ниже, отвесно или более полого, но повсюду — без малейшей надежды на самую крохотную бухту или гавань. Поэтому начальным зодчим морской части Стимфала стал инженер Тротил.
Уклон же открывается в глубь континента, и реки текут не к морю, а от него. Такова и Амальдена. Вероятно, она уже текла по этим краям в те незапамятные времена, когда силы природы вдруг начали понемногу приподнимать этот кусок земли. Горы росли, а Альмадена собирала дожди, родники и талые воды и сквозь скалы год за годом прогрызала себе право не менять накатанного пути. Двести метров, триста, полторы тысячи — плоскогорье, срезанное к океану, ушло вверх, а Альмадена осталась на месте, и памятником ее неодолимого упорства остался громадный ступенчатый каньон красно-коричневого камня с фантастическими столбами, карнизами и — довольно средненькой, изобилующей мелями речкой на дне.
Альмаденское ущелье было коронным номером всех туристических мероприятий. Пятьдесят второе континентальное шоссе здесь образовало вырост, выглядевший с самолета как хоккейная клюшка — подъезд к четырем основным смотровым площадкам. Однако кроме видов самого каньона — на закате, на рассвете, при луне и так далее — смотреть в этих местах было, по сути, не на что. Чуть ниже по течению — развалины древнего рудника, где неведомые пращуры добывали ртуть, еще дальше — уже полностью невнятные руины безвестного замка — и все. Альмадена убегала на юго-восток, к горным пустошам Котловины, над которыми недавно прокувыркался Эрликон, — кладбищам былых военных баз империи и обиталищам жутких мифов.
Но именно сюда, к югу, мчался, вздымая пыльную гриву, вишневый «бугатти». Инга не отпускала акселератор, и воздух яростно пел в обтекателях. Вначале дорога шла вдоль реки, и Эрлен мог любоваться разломами багровых скал и столбчатыми эркерами, похожими на стопки сложенных монет, но затем река осталась справа, а слева показались уступы таких же каменных террас, или гряд, с провалами между ними — как только машина проезжала очередной гребень, за ним поднимался другой, казалось, самый высокий, но стоило миновать его, как вставал следующий, еще выше, и так до потери счета.
Наконец «бугатти» вывернул на одну такую гряду и покатил по камням, похожим на лошадиные зубы со стертыми краями. Здесь проезд перегораживала металлическая цепь, натянутая меж двух сигнальных столбов с замками и отражателями.
— Ого, — сказал Эрликон. — Чьи-то частные владения.
— Да, — ответила Инга. — Мои.
Она вышла, отперла замок, и еще через милю машина остановилась у обрыва террасы.
Отсюда открывался вид сразу на две долины, уже не такие безжизненные, как альмаденская, а с густо-зелеными зарослями по склонам и скалами уже не красного, а тускло-песчаного цвета; над ними вдали синела все та же цепочка гор Котловины.
Эрлен огляделся, разминая затекшие ноги. На этом хребте, окруженном со всех сторон такими же неприютными провалами и вершинами, были видны следы каких-то сооружений. Посмотрев под ноги, Эрликон обнаружил, что стоит не просто на земле, а на плитах чего-то, что было некогда, по-видимому, полом не то коридора, не то галереи. Галерея эта уходила к обрыву, и там, под прямым углом друг к другу, из камня вырастали две стены — точнее, их основания, чьи толщи с окаменевшей перекладиной балки служили в давние времена, возможно, цоколем какой-то крепости, да и сейчас являли пример стойкости в беспощадной схватке со временем.
Сентябрьское солнце нырнуло в длинное облачко, посвежевший ветер поднял крылья Ингиных рукавов и с трудом шевельнул тяжелые пепельные пряди. Тени сгустились, и высокая фигура Инги потемнела на фоне каменного нагромождения.
Изменил ли что-то ее взгляд, или это были виноваты упавшие тени, но к Эрликону подступило иное, неожиданное чувство — колючий холодок пробежал по коже и даже прокрался внутрь. Привычным глазом летчика Эрлен оценил, как одинок этот утес, выдвинутый последним в ряду собратьев, и вдруг ощутил, как ревниво обступают его с боков неприступные кручи. На миг пилот испытал приступ безотчетного страха подобно тому, какой накатывает в мертвой долине динозавров, когда стоишь среди окаменевших отпечатков и вроде бы знаешь, что давно уже нет чешуйчатых чудовищ, но все же… Все же что-то…
Он поежился:
— От разных древностей на меня как-то веет холодом. Где это мы?
— Тебя приветствует Фраскенское аббатство. По преданию, это место сбора ведьм, а еще раньше тут приносили жертвы какие-то племена. Потом здесь построили монастырь, его освятил сам епископ Фраскенский, сюда заточали колдуний и непокорных монахинь. Среди них оказалась одна… Она исчезла, ее искали, но не нашли, и монастырь пал и весь разрушился.
— Да, это заметно.
— Нет, до войны были вполне пристойные развалины, но здесь стояла зенитная батарея, и, естественно, все разгромили, верхняя часть склона обвалилась… Я приезжаю сюда каждый раз, когда бываю в Стимфале.
— Ты купила этот участок?
— Да, и совсем недорого. Туристы здесь не бывают… Тут я чувствую себя по-особенному.
Инга рассказала Эрликону широко известную легенду в сильно авторизованном варианте, запросто перемахнув через триста лет, и уж, конечно, умолчав о том, что именно на это место в своих снах или видениях она прилетала, закогтив очередную душу; но ворожба ее коснулась Эрлена и без слов.
Что-то произошло с ним, неясная, но важная часть его жизненного инстинкта впала в цепенящую летаргию. Все происходящее над этим заросшим можжевельником и самшитом обрывом казалось ему настолько прекрасным и чудесным, что Эрликон не испытывал ни отчуждения, ни боязни перед тем, что здешнее очарование витает над давным-давно погребенными и непогребенными мертвецами, которые, и будучи живыми, сулили мало хорошего людям и вряд ли изменились к лучшему, став прахом и тленом, что жрица их темна душой и в сущности совершенно ему неизвестна.
Молчала интуиция Эрлена, он не насторожился, как не насторожился в доме Рамиреса, где избыток охраны и недостаток вкуса также наводили на недвусмысленные выводы — напротив, чувство восторга и приближающегося счастья достигли в нем апогея. Судьба подарила ему слишком мало примеров счастливых ситуаций, чтобы он умел их узнавать и различать. Королева его души стояла рядом, власть ее была несомненна, горы и небо смыкались райским сводом, и Эрликон сказал единственное, что счел достойным этого момента:
— Инга, выходи за меня замуж.
Инга склонила голову и засмеялась. Что скрывать, она была тронута. Признаний в любви и всевозможных диковинных и диких ее доказательств она повидала более чем достаточно, но все это были результаты завоеваний, плоды ее усилий. А Эрлен пришел сам, и пришел именно к ней — только у нее в руках был ключ от трижды секретного замка его сердца. Непривычно… и приятно.
— Давай поедем пообедаем для начала, — предложила она. — Сегодня выступление, и слишком поздно есть нельзя.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Прямоугольный лабиринт сорок восьмого этажа Главного управления, занятый Скифовым Четвертым отделом, был закрыт. Пропускали только сотрудников и только по предъявлению удостоверения. Эрликон не был сотрудником, удостоверения у него не было, но его пропустили, не сказав ни слова. В коридоре была изрядная суматоха — главным образом из-за киборгов, перетаскивавших оборудование в контейнерах. Здесь Эрлен столкнулся с Лестером — с тем, который якобы встретил в институтском лесу кабана. Лестер почти бежал за киборгами с чайником в руке, но, завидев Эрликона, сразу же остановился, оттеснил его к стене и в зверском рукопожатии засвидетельствовал свое почтение. Был он, как всегда, загорел, худ, носат, но на этот раз еще и в полной капитанской форме, с галстуком и при кортике.
— Знаю, — сказал он, люто стискивая Эрликонову ладонь, — Горел. Герой. Молодец. Чепуха. Прости. Спешка. Валентина. Шеф. Вот. — Он показал на горло и побежал дальше.
Эрлен вошел к Скифу. Тут ничего не переменилось — та же суета автоматов внизу, и Эрих по-прежнему сидит за столом, словно никуда с тех пор не уходил, на нем все тот же черно-белый свитер, но внешность начальника управления стала чуть иной. Лысина исчезла под покровом русых, мелко вьющихся волос, отчего его лицо еще более помолодело, и, кроме того, привычный ко всякой медицине глаз Эрликона немедленно отметил тщательную хирургическую штопку по уху к щеке. На полу кабинета, расстелив крылья, точно птеродактиль, лежало большое кожаное пальто с поясом, заляпанное белесой грязью, и такая же грязь была на двух здоровенных чемоданах, затянутых ремнями и стоявших возле стола.
Скиф говорил по телефону — тоже предмету новому в этой комнате.
— Нет, какое там пять, восемь — десять метров, не меньше. — Увидя Эрликона, он кивнул ему на кресло. — И остатки химии какой-то нашли — не баран же чихнул. Хорошо, я приеду — и посмотрим. Все.
Скиф положил трубку и молча посмотрел на Эрлена.
— Что случилось? — спросил тот.
— Валентинская торговая палата. Мы только что приехали и сейчас, видимо, снова уезжаем.
— Какой уровень?
Скиф с одобрением шевельнул бровями:
— Голос специалиста. Пятый уровень. Драка и скандал. Валентина есть Валентина. А что у тебя?
— Ах, дядя… Это не девушка, это моя судьба. У нее даже имя необыкновенное.
— Да, ее зовут Ингебьерг, и она дочь Рамиреса Пиредры.
— Ого. Вот это спешка. Ты что, и разговоры наши писал?
— Естественно.
— Слушай, а тебе не кажется, что ты далековато заходишь?
— Мой дорогой, ты даже не представляешь, как далеко зашел ты сам и каких трудов мне будет стоить тебя оттуда извлечь.
— Может, объяснишь, что к чему?
— Можешь не сомневаться. Весь сегодняшний вечер и, по-видимому, два последующих дня мы только и будем, что заниматься объяснениями. Но сначала ты сделаешь вот что: спустишься на первый этаж, в архив. Там тебя встретит киборг-архивариус, назовешь ему свое имя и прочитаешь, что он тебе даст. Запоминать не обязательно, постарайся разобраться в сути дела. Потом вернешься сюда.
Спустившись на лифте, Эрликон пересек восточный двор, за ним — коридор, потом вестибюль архива, и вот он, архивариус какой-то неведомой допотопной модели. Что же это за история?
Шестой нижний этаж хранилищ — о существовании этих подземелий Эрлен только слышал, да и то пару раз. Такое же кружение ломающихся под разными углами переходов, но вместо кабинетов и канцелярий — полутемные залы с редкими лампами и рядами стеллажей. Непонятно — ведь любую запись можно подать наверх. Или Скиф настолько не хочет афишировать их дела?
Над одним из стеллажей был опущен плафон, киборг защелкал замками, выдвинул плоский металлический ящик, открыл и ушел. Эрликон остался один. Конус света в обступившей тьме, откуда-то слабо веет теплом. Он положил руки на шероховатый металл. Страшно не хочется заглядывать в этот ящик и окунаться в неизвестные страшные секреты, ясно, что обратной дороги не будет. Контакт. Все мы служим Контакту. Куда уйдешь? Эрлен помедлил еще чуть-чуть и, вздохнув, вытащил кожаную папку.
Сей реликт был велик и тяжел, уже один вид предвещал нечто зловещее. Парень совладал с запорами и открыл. Как он и предполагал, внутри находились скрепленные листы бумаги, запрессованные для сохранности в силиколовую пленку. Первый лист ничего существенного не сообщил — две колонки цифр и незнакомых индексов, на втором, титульном, Эрликон обнаружил обширную латинскую надпись, набранную старинным шрифтом, — единственное, что он сумел разобрать, было имя Пиредры. Значит, Пиредра, вот оно что. Тревожное предчувствие усилилось, он поспешно перевернул страницу.
Цветная стереофотография. Портрет. Юноша, почти мальчик, очень красивый, застенчиво смотрит в объектив. Это еще кто, подумал Эрлен, и тотчас же узнал, и даже не столько узнал, сколько сообразил. Правую бровь юноши уродовал шрам, который невозможно спутать ни с каким другим, и тут же все лицо проявилось угаданными чертами — перед Эрликоном был юный Рамирес, совсем непохожий на теперешнего серебрянобородого фирмача. Дальше были фотографии других людей, совершенно незнакомых, с подписями на той же латыни; Эрлен пропустил все это и сразу заглянул в середину.
Тут шел машинописный текст на английском, но углубившись в него, Эрликон совсем растерялся. Безвестный острослов в саркастическом тоне разбирал загадочные правовые проблемы. Насколько можно было понять, речь шла о каком-то грандиозном судебном процессе, о подкупах, склоках и попустительстве властей, часто упоминался Пиредра.
Эрлен наткнулся на описание знаменитого «орхидейного процесса», так взбудоражившего мировое общественное мнение конца тридцатых годов; к сожалению, написано оно было специалистом, сделавшим упор на юридические казусы, которыми столь богата эта история («Комментарий Гаркнесса»), так что представление Эрликон получил довольно смутное, зато некоторые факты привели его в изумление. «Было совершено, — читал он в случайно выхваченной строке, — в общей сложности восемьдесят два убийства, из них не менее шестнадцати — лично Пиредрой, общая же сумма взяток приближается к пятидесяти миллионам…» Окончательно сбивала с толку дата — 428 год — едва ли не сто лет назад! Приговора суда Эрлен не нашел, зато нашел сообщение о побеге с еще одной фотографией Рамиреса, обаятельно улыбающегося — совсем как вчера — в компании какой-то великосветской дамы. Дальше почему-то фотография Кромвеля во всех регалиях и еще симпатичного блондина с удивительно знакомым лицом. «Согласно докладу Овчинникова от 16.04.31, Пиредра, несомненно, является преемником Джино Валлачи и, следовательно, доном „Пяти семейств Нью-Йорка“. По прямым связям проходят: Штаты — Джозеф Гендерсон, он же Папа Дюк; Сталбридж, он же Звонарь…» Список был нескончаем, и Эрликон стал быстро листать дальше, перескакивая сразу через десять — пятнадцать страниц.
Львиную долю занимали ссылки: «смотри том такой-то, страницы такие-то» — жизнеописание Рамиреса было составлено с необычайным тщанием. Этот том был сводным, предварительным, но и он достаточно красочно иллюстрировал быт и нравы международной мафии. Пиредра был признанным князем преступного мира и редко опускался до грязной работы, но для Эрлена, бесконечно далекого от ледяной морали гангстерской жизни, даже и те немногочисленные «тротиловые Джульетты» и цементные мешки вызывали чувство, близкое к тошноте.
И главное — сплошь довоенные даты! На фотографиях — стильное ретро тридцатых годов — чопорные прилизанные проборы, широкополые шляпы, старинные глидеры со втяжными фарами, старичок «томпсон»… Что же, Пиредре сто пятьдесят? Или он киборг с двухсотлетним зарядом?
Из дебрей Эрленовой шевелюры выкатилась холодная капля, пробежала по виску и дальше по шее. Он не то чтобы сообразил, но почувствовал, еще без слов предугадал, каков будет финал этой антикварной саги; перекинув налево всю толщу непрочитанных листов, Эрликон заглянул в самый конец.
Точно. Восемь пуль, пять навылет, продырявленный фас, неповрежденный профиль — Рамирес, педантично обнесенный белым скотчем, лежит у забрызганной стены гостиничного номера. Рядом, на врезке, возле пунктиров баллистической экспертизы, фото белозубой смуглой красотки с умопомрачительным бюстом, вместо имени — подпись «Фонда» и почему-то серийный индекс. Дата — 446 год. Полвека с лишним назад какая-то патологическая девица расстреляла в упор отца Инги. Такие дела. «Тогда он был без бороды», — меланхолично подумал Эрлен, захлопнул папку и пошел прочь. Киборг-архивариус, звякнув ящиками, заспешил вперед.
Далеко внизу и в стороне, за окном кабинета Скифа, неровным многоцветным заревом горели городские огни, среди которых голубыми ярусами выделялась подсветка здания мэрии. На северо-востоке тонкой нитью тлело и пропадало за холмами шоссе, и над ним — красные глазки опор внешней связи, а совсем уж на севере над горизонтом поднималась неясная, перерезанная облаками багряная шапка — там был порт и разгружались корабли.
— Ну как? — спросил Скиф. — Прочитал?
— Прочитать-то я прочитал, но ничего не понял. Кто он такой?
— Гангстер и убийца. Правда, очень одаренный.
— А эти даты? Там же сплошь прошлый век.
— Ну, век пока что этот, а с датами все точно — Рамирес умер в конце сорок шестого года. Я воссоздал его.
— Как это?
— У меня есть мнемограмма.
— Но, дядя, это же открытие, такого свет не видывал…
— Во-первых, свет действительно не видывал, а во-вторых, это не открытие, а преступление — я все сделал без санкции руководства, без ведома Совета и создал социально опасную ситуацию.
Переплетя пальцы, Скиф сложил руки на столе и говорил очень спокойно, почти с нарочитой медлительностью.
— Эрлен, сосредоточься и выслушай меня внимательно. Я открыл тебе некоторую информацию, чтобы ты правильно оценил серьезность положения. Мои разработки — это то, на что я как должностное лицо не имел права идти.
— Но, дядя, это же известно, в нашем деле без этого нельзя, что же тут, в конце концов, такого?
— То, что ты не должен был с ним встретиться. Никогда, ни при каких условиях.
— А что случится?
— Уже случилось. Теперь он приложит все усилия, чтобы тебя убить.
Тут воцарилась пауза, и Эрликон, как и несколько дней назад, съехал спиной на сиденье кресла.
— Интересный поворот. Может, я ему за обедом «спасибо» не сказал?
— Постарайся меня понять. Вынужден произнести банальную фразу: мы оба профессионалы. Есть большое-большое дело. Я им занимаюсь на собственный страх и риск, без ведома начальства и кого бы то ни было вообще. Допускаю, что придет время — хотя мне этого и не хотелось бы, когда тебе придется это дело продолжить. Но пока я рассказываю только то, что тебе положено знать. Возможен вариант, что тебе придется подробно отчитываться об этом разговоре, и надо, чтобы ты мог сказать «нет» с чистой совестью.
Вот это да. Скиф сразу превратился в шефа разведывательного управления. На Эрлена повеяло холодом.
— Но ведь получается, что Рамирес — твой человек?
— Да, мой, — легко согласился Скиф. — Но у него в психике существует неподконтрольная зона, и, к сожалению, он мне нужен вместе с ней, то есть целиком.
— Но он же должен соображать…
— Пиредра не соображает. Он, если тебе интересно, природный уникум — стопроцентный интурист, логика в мышлении у него отсутствует полностью.
— Но он же руководит фирмой, он интересный собеседник…
— Собеседник… Да. Ничем особенным он там не руководит — у него практически нет никакого образования. Но если человек по одному твоему, скажем, темпу дыхания может определить, какое ты хочешь принять решение, еще за полчаса до того, как ты его примешь, его карьера несколько меньше зависит от диплома. Однако сейчас речь о другом. Речь о том, что мне необходимо срочно быть на Валентине, и я лично не в состоянии оградить тебя от подозрений Пиредры, в которых он и сам не отдает себе отчета. Нейтрализовать его стандартным путем я не могу — слишком многое поставлено на карту, и он об этом знает.
Как ни был растерян Эрликон, но некая зловещая двусмысленность и неопределенность слов Скифа дошла до его сознания. Не такое желаешь услышать в минуту опасности от единственного друга и наставника. Что-то древнее и мудрое, скрытое в глубинах подкорки, рявкнуло изо всей мочи: «Беги!» — но Эрлен не внял. Слишком велика была вера в Скифа, да и вдобавок еще, как всегда, эмоции перехлестнули за волнолом рассудка.
— Дядя, извини, что лезу с советами, но, может быть, ввести меня в эту игру уже сейчас? Я контактер с образованием, взрослый человек…
— Эрлен, я руковожу разведкой более тридцати лет и до некоторой степени знаю, что делаю. Три года тебя учили и воспитывали как аналитика, им ты пока что и оставайся. Разные, как ты выражаешься, игры сегодня не для тебя. Другое — я все же, как ты, надеюсь, не забыл, улетаю на Валентину, пробуду там неизвестно сколько, и ввести тебя оттуда куда бы то ни было мне будет чрезвычайно затруднительно. И наконец, я вообще хочу этого по возможности избежать.
— А возьми меня с собой на Валентину?
— Не болтай глупостей. На Валентине война.
— Так что же мне делать?
— То, что я скажу, балда! — впервые за время беседы Скиф повысил голос. — Для чего мы тут, по-твоему, сидим и теряем время? Соберись, в конце концов, с мыслями и слушай. Я сейчас уеду. Ты оставайся здесь. Можешь бродить по всей территории, но держись ближе к телефону или возьми с собой модуль интеркома. Послезавтра — ты понял? — послезавтра, если ничего не произойдет, около десяти вечера я тебе позвоню. Ты возьмешь мой «опель» — пропуск у Генриха — и поедешь в то место, которое я назову. Все ясно?
— Ясно, ясно.
— Вот и хорошо. — Скиф встал и направился к двери. — Да, постарайся выспаться.
Четверг, седьмое сентября, два часа ночи. У Эрликона сна — ни в одном глазу. За рулем древнего, но юного двигателем «опель-атташе» он едет по набережной Северного канала. Слева — черная полоса воды за чугунным узором, справа — высокий травянистый склон. «Напротив монастыря», — сказал Скиф. Эрлен притормозил и, наклонившись, выглянул в окно. Вот она, над головой, кладка монастырской стены в плетях плюща; дальше, темнее ночи, небо перегораживал массивный пролет здания шлюза, стрельчатой аркой перешагнувшего через шоссе и канал, и во мраке под ней Эрликону призывно мигнули длинные горизонтальные фары.
В кабине приземистого «плимута», развернутого против движения, сидел Скиф; в свете огонька сигареты можно было различить, что начальник Четвертого управления вновь стал самим собой — русые кудри сгинули, открыв прежнюю залысину и седину; взгляд неизменно спокоен, но Эрлену показалось, что выглядит Скиф более сумрачно и устало, чем обыкновенно. Машины съехались окно в окно, Эрликон опустил стекло.
— Отгони на пандус и иди сюда, — сказал Скиф.
Начал накрапывать дождь. Эрликон приткнул машину у гранитной бровки широкого монастырского въезда и, подняв воротник, сбежал вниз; сунулся было обойти «плимут», но Скиф передвинулся и велел сесть на место водителя. Плюхнувшись за послушно отклонившуюся рулевую колонку, Эрлен машинально посмотрел назад — и обмер. Он увидел привидение.
Настоящий, переливающийся изнутри огнями, белый как лунь, даже в зелень, старик — костлявый, хрящеватый, при виде Эрликона его губы раздвинулись в жутком оскале.
— Вот это жизнь, — вымолвил пилот.
— Познакомьтесь, — предложил Скиф. — Джон, это и есть мой племянник. Эрлен, это Джон Джордж Кромвель, имя тебе известное, он твой коллега и маршал авиации.
— Очень приятно, — поклонился маршал-призрак. Голос у него был самый обыкновенный, несмотря на то что сквозь его фигуру проглядывала ромбовидная строчка сиденья и то и дело пробегали вспышки, выделяя то кисть руки с редкими седыми волосами и узором сосудов, то темный глаз, то рисунок свитера; улыбка же его показалась Эрликону явно издевательской.
— Маршал, — продолжал Скиф, — это личность Джона Кромвеля, посаженная на стандартный мю-фантом с автономной подпиткой. Как видишь, я вновь нарушаю закон. — Он щелчком выбросил окурок в окно и дальше говорил отвернувшись, глядя неведомо куда в ночную темень. — Пиредра сейчас займется и, вероятно, уже занялся подготовкой несчастного случая. Ты будешь летать, и, скорее всего, он постарается устроить тебе воздушную катастрофу на соревнованиях. Впрочем, это не исключает чего-то иного. Поэтому я поручаю тебя заботам маршала. У него большой опыт общения с Пиредрой, кроме того, он будет летать с тобой и обеспечивать безопасность в воздухе. Хочу, однако, напомнить, — Скиф взглянул сначала на Эрликона, потом на Кромвеля и снова отвернулся, — маршал — военный преступник, по его приказам уничтожены многие тысячи ни в чем не повинных людей. Поэтому советую критически относиться к его рекомендациям относительно всего, выходящего за рамки техники выживания. Джон, надеюсь, вы на меня не в обиде.
— Нет, нет, ради бога, — добродушно отозвался Кромвель.
— Связываться с Институтом будешь по моему коду. Деньги сзади, в дипломате.
Эрликон было открыл рот, но тут Скиф положил ему на колени какой-то тяжелый предмет. Будто не своей рукой парень вытащил из открытой подплечной кобуры пистолет — револьвер с массивным барабаном, гребнем дырчатой планки на коротком стволе, шомполом и кольцом на рукояти — «рюгер». Гравировка заботливо сообщала калибр и тип патрона, фигурные грани блестели солидностью и надежностью — почти утешительно.
— Все, — сказал Скиф. — Желаю удачи, — и протянул Эрлену руку.
Тот машинально пожал ее, силясь уразуметь, что же происходит, и тотчас же все и выяснилось: Скиф повернулся, толкнул дверцу, обошел машину и растворился во мраке, направившись, видимо, к стоявшему в стороне «опелю».
Эрликон остался сидеть с совершеннейшей кашей в голове и пистолетом в руках. Он бесчувственно положил палец на спусковой крючок, и у него мелькнула дикая мысль незамедлительно сдвинуть предохранитель и застрелиться от великой досады на непутевую судьбу. Но в это время Кромвель почти без всякого усилия протиснулся сквозь спинку сиденья и уселся рядом с Эрленом. Вдали заработал и затих, отдалившись, мотор «опеля».
— Шеф отбыл, — заметил Кромвель. — Он торопится. У нас же, напротив, время есть. Познакомимся еще раз. Добрый вечер. Меня зовут Дж. Дж. Кромвель, два дня назад я воскрес из мертвых, правда не до конца.
Дж. Дж. снова радостно улыбнулся, по его лицу разбежались многочисленные морщины, глаза смотрели на Эрликона едва ли не влюбленно, но с напряженным вниманием; улыбка светилась радушием, готовым заранее извинить все, что угодно, и одновременно с явным глумливым сарказмом. В другое время подобная маска показалась бы Эрлену страшноватой, но сейчас он этого не ощутил, скорее, наоборот, расслабился; Кромвель почему-то напомнил ему старую умную собаку.
— Почему Эрликон? У тебя действительно такой бешеный характер?
— Да вроде бы нет, а что?
— «Эрликон» — это фирма и марка пулемета. Кстати, о пулеметах — надень эту босоножку.
Глядя, как Эрлен, сняв куртку, управляется в тесноте с перекрутившейся портупеей, Дж. Дж. проворчал:
— «Бульдог-44», пукалка полицейская. «Скорчера», конечно, этот самоходный примус для нас пожалел. Наоборот, резинку направо, ремень налево, ты же не левша.
Эрликон замер с задранными руками. За долгие годы он совершенно перестал вспоминать об искусственном происхождении Скифа.
— Прошу извинения, если оскорбил тебя в лучших чувствах, — добавил Кромвель, по-прежнему скаля зубы, — но я всегда страдал недоверием к разным арифмометрам.
— Ну и ну, — сказал Эрлен. — «Скорчер». Электронное оружие запрещено.
— Скажи это Пиредре, когда он врежет по нам из миллионновольтного, — посоветовал Кромвель. — А Скиф — скаред. На текущие расходы он нам выдал — сколько ты думаешь? — десять тысяч — и все.
Эрлен поднял брови — сумма показалась ему значительной. Оскорбления же, нанесенные Скифу, он оценил в полной мере, но почему-то промолчал — сумбур в голове перемешал все привычные понятия. Кромвель тем временем продолжал:
— Хорошо, я успел завернуть к твоей матери и взять у нее еще столько же. На редкость обаятельная женщина, вот уж не скажешь, что ученый. Все равно, ни на одну взятку не хватит.
Эрликон даже зажмурился. Это уже не лезло ни в какие ворота. Его мать, туманная фигура, отстоящая от его жизни на тысячу световых лет, оказывается обаятельной женщиной, у которой запросто можно прихватить десять тысяч на сыновние нужды. Конец света.
— Скиф знает? — спросил изумленный сын.
— Нет, — ответил удивительный маршал. — Для него это будет сюрпризом. Он оставил меня в библиотеке, ну, а я решил уделить время банковским операциям.
Да, теперь можно кое-что понять — людей, которые способны устраивать сюрпризы для Скифа, стоило воскрешать; Пиредра тоже, наверное, оригинал в своем роде — вспомнилась Эрлену фраза из старинного романа.
— Моя мать… — сказал он. — Я не видел ее лет пять точно, а может, и больше…
— Это нехорошо, — нравоучительно произнес Кромвель. — Впрочем, грех общепринятый. Данной мне Богом и людьми властью отпускаю тебе его. Аминь. Сегодня я устраиваю вечеринку по случаю собственного дня рождения и приглашаю тебя. В восемь пятьдесят мы вылетаем из Дортмунда в Стимфал. Я не поклонник портовых ресторанов, вечно в них резиной воняет, пусть будет что-нибудь семейное, с сосисками и джазом. Заводи.
Эрликон положил одну руку на пестро оплетенный руль, другой повернул ключ зажигания. В жизни не водил таких роскошных машин. Не приборная доска, а выставка дизайна.
— Значит, в Стимфал, вот оно что, — подумал он вслух.
— Да, — подтвердил маршал. — Включи «дворники». Называй меня маршал, потом, возможно, перейдем на более фамильярное обращение.
«Плимут» выскользнул из-под арки и помчался, глотая мерцающие лунки разметки.
— Ты вообще-то где летаешь? Кроме соревнований?
— Вообще-то нигде, — ответил Эрликон, не отрывая глаз от убегающего под колеса полотна. — Я студент ИК, третий курс, у нас поощряется подобная деятельность.
— Значит, ты не профессионал… Хоть летаешь-то за деньги?
— Да. «Бритиш аэроспейс» платит три тысячи за выступление.
— Три тысячи? — Кромвель засмеялся. — А поститься ты не пробовал? На чем ты разбился?
— НАТ-63, «Хевли Хоукерс». — Эрлен почувствовал, что и это покажется Кромвелю смешным, и прибавил: — Маршал, я только еще на третьем курсе. А «скорчер» мы сдаем на пятом.
— Дерьмо твой «Хевли Хоукерс», — отозвался Кромвель философски. — Зачем ты связался? Тяп-ляп — готово. На заднем дворе. А со «скорчером» ты прав. Если Пиредра узнает, какой пушкой нас Скиф одарил, прирежет в пятнадцать секунд.
— Зарежет?
— Конечно. Что же тут удивительного? — Кромвель пожал плечами. — У всех свои слабости. Я, например, люблю по утрам пить кофе с коньяком, тебе нравится пиредровская дочка и самолеты «Хоукерс» — вот уж, на мой взгляд, странные фантазии — ну, а Рамирес предпочитает убивать людей ножом — что делать, все мы разные.
Машина летела вперед, мерно постукивали стеклоочистители, горела подсветка приборов, и Эрликону, как ни странно, было уютно в компании этого вынырнувшего из преисподней насмешника — наверное, оттого, что Эрлен не ощущал потребности внутренне прятаться и изощряться — кромвелевская саркастическая манера, несмотря ни на что, очевидно, предполагала в Эрлене равного собеседника — такого же Кромвеля, возможно, еще чудней и заковыристей.
— Маршал, — решился Эрликон, — вот вы сказали, что воскресли из мертвых. Какие впечатления… ну, как оно там? Извините, это, конечно, дурацкий вопрос.
— Вопрос не дурацкий, а вполне естественный, а там… Как в песне: ничего там хорошего нет.
— Да. А вот еще. Как мы будем вместе летать?
Кромвель ничего не ответил, а вдруг надвинулся, и, прежде чем Эрлен успел сказать «а», маршал вошел в него, вошел с такой легкостью, словно совпали две тени, смешались струи двух рек. Эрликона подхватила волна необычайной ясности и уверенности, черные замки сомнений в душе рассыпались и пропали. Более того, он остро почувствовал все движения мотора, чуткую дрожь рессор, тугое давление колес; нервы добежали до перегибов обводов, до краев и пределов кузова. Рука сама собой переключила скорость, педаль газа ушла в пол. Двигатель завыл фальцетом, Эрлен, по-кромвелевски оскалившись, вывернул руль, на мокром покрытии машину занесло, и метров двести она пронеслась на двух колесах, потом, подпрыгнув, вернулась в прежнее положение. Кромвель покинул Эрликона, все встало на свои места.
Сердце у парня билось о самые ключицы, пот затопил брови и заструился по носу и глазам, пульс горячими толчками сотрясал руки. Эрлен автоматически сбросил газ. Но и Кромвеля, похоже, захватило, он неожиданно приказал:
— Тормози.
Не глуша мотора, оба вывалились под дождь. Эрликон поднял голову, с силой провел ладонью по мокрому лицу, на некоторое время снова почувствовав в себе чужое горло и чужие легкие, неясное торжество наполнило сердце, но тут же отступило. Черная платформа «плимута», откинув крыло дверцы, лила на дорогу желтый свет из салона; пилоты вернулись внутрь. Кромвель произнес загадочно и с печалью:
— С напряженьицем совмещаемся; мне семьдесят, курсант, давай в кабак.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Рамирес Пиредра был гангстером, или, проще сказать, бандитом. Еще он был авантюристом высочайшего класса и, кроме того, — вместе с Лемке, Джентильи, Сталбриджем и прочими — видным деятелем франко-итальянской и международной мафии. Словом, все, что излагалось о нем в документах Скифовой папки, которую так и не дочитал Эрликон, было чистейшей правдой.
Главную особенность его натуры Скиф тоже назвал Эрлену, но тот, к сожалению, обратил на это мало внимания, а зря: именно сей причуде было суждено во многом изменить судьбу нашего пилота.
Известно, что сознание — лишь тонкая пленка над пучинами подсознания, которое эту пленку колышет, морщит и даже иногда прорывает. У Пиредры этой пленки не было вовсе. Создавая Пиредру, мать-природа — Гея, Деметра, как ни назови, — решила странно пошутить: выпустить в свет человека, лишенного способности сознавать самого себя, без всякого посредника столкнуть мир телефонов и космических кораблей с изощренностью первобытных инстинктов.
Любой человек многие вещи делает автоматически, не думая. Пиредра так делал все. Не хочу создать превратного представления, будто Рамирес был клиническим идиотом. Если он и был идиотом, то гениальным. Да, мышления у него не было, будто решение любой комбинации и ситуации он находил мгновенно, так, что казалось, он знал ответ заранее, или по некоему вдохновению — тот логический мостик рассудка, который соединяет мотивацию и поступок, у него отсутствовал с рождения.
Естественно, в этот раздел утрат сознания попали все морально-этические условности: честь, совесть и прочие, и тот незанятый уголок личности, который они формируют, был отдан мимикрии — Рамирес без усилий становился кем угодно и когда угодно: верил во всех богов, в зависимости от необходимости, и клялся любыми идеологиями. Перевоплощения его изумляли. Возможно, в нем погиб величайший актер, которого когда-либо давала миру Каталония.
С другой стороны, плата за эти мудреные отклонения была велика. Пиредра был музыкальным виртуозом, играл на любых инструментах, но понятия не имел о нотах. Он говорил на всех европейских языках и сленгах так, что кто угодно принимал его за соотечественника, но читать и писать было для него проклятием. Всю жизнь он гонялся за деньгами, но считали их для него жена и подручные, потому что от цифр ему становилось дурно. Странно представить себе личность, вооруженную столь парадоксальным способом общения с действительностью, и невольно хочется спросить: как же он вообще жил?
Хорошо жил. Пиредра был жизнерадостен, ибо размышления не отягощали его, а могучая интуиция, подлинно звериное чутье, превосходно заменяла ему интеллект. Там, где других подводил расчет, Рамирес не ведал промахов, поскольку отродясь ничего не рассчитывал; поведение его было непредсказуемо, алогично и неоднократно ставило в тупик и уголовный мир, и органы юстиции многих государств. Ущербность обернулась талантом, и кто знает, что могло бы выйти из Пиредры, получи он другое воспитание.
Воспитанием Рамиреса никто, собственно, не занимался. Его отец, Хорхе Пиредра, — контрабандист, пьяница и картежник, родом из Валенсии, тучный, коренастый и черноволосый — не дотянул двух месяцев до рождения сына и скончался во время какого-то выяснения отношений от традиционного крупнокалиберного заболевания. Произошло это обыденным образом, в парикмахерской, и мыльная пена густо перемешалась с разными иными веществами. Мать Рамиреса, Изабелла Сфорца, — дама родовитая, высокая сухопарая блондинка и, между прочим, дипломированный авторитетный эксперт-технолог — вскоре присоединилась к своему супругу. Увы, позднее материнство не пошло ей впрок. Союз их был фантастичен, загадочен, хотя и регистрирован и в церкви, и в мэрии. Как бы то ни было, дело обернулось так, что домом Рамиреса стали улицы Барселоны.
От матери Пиредра унаследовал необычный светло-каштановый цвет волос, да и вообще, он больше пошел в родню Сфорца — ростом, худобой, удлиненным овалом лица. Рамиреса, несомненно, можно было назвать красивым, но красота его была неопределенной, незапоминающейся, разве только глаза — какие-то желтые, взгляд их постоянно ощупывал собеседника и, казалось, хотел влезть в душу, независимо от того, смеялся Рамирес в эту минуту или грустил.
Нельзя сказать, что Пиредра с детства был совершенно брошен на произвол судьбы. Люди, возле которых он рос, относились к нему по-своему неплохо и сначала научили играть на гитаре, а потом и всему остальному. Десяти лет Рамирес оставил за спиной родную Коста-Дораду и половину Средиземного моря и неисповедимыми путями очутился в Калабрии, где сделался любимцем весьма могущественного клана Валлачи. Оттуда, собственно, и берут начало его приключения.
Что и как он делал? В мире, поделенном на сферы семейного бизнеса — профсоюзы, проституция, игорные дома, контрабанда оружия, производство и доставка наркотиков, продажа наркотиков, — Рамирес не занял никакой конкретной ниши, не прибился ни к какой стае. Он предпочитал быть волком-одиночкой — пришел и ушел, везде и нигде. Договор — организовать, убить, уговорить, привезти — исполнение, деньги и — прощайте. Такая методика требует неизменного везения, и оно у Рамиреса было в достатке. Главное — стать настолько своим, чтобы не вызвать и тени сомнения. Входя в любое новое общество, поначалу Рамирес только слушал и запоминал. Память у него была феноменальная, не было случая, чтобы он затруднился процитировать стихотворение, услышанное мельком десять лет назад. Он впитывал информацию и терминологию, все тончайшие нюансы и оттенки, кто здесь главный, кто оппозиция, на кого ориентироваться. На это время у него были две излюбленные маски: рубаха-парень, которому все нипочем, и недотепа интеллигент — блюдо, что не все любят, но все едят. И не было такой компании, где он не был бы почетным членом — от Латинского квартала до биржи наемных убийц в Палермо.
Иллюстрацией может послужить один курьезный эпизод. Как-то раз, унося ноги из очередной перепалки, Рамиресу пришлось смешаться с группой студентов. Дело было в Бомонте, в Штатах. Он попал на экзамен по какой-то экономике и просидел в аудитории минут сорок, слушая вопросы и ответы, после чего встал и сам отправился отвечать. Для него не существовало разницы в понятиях знать и чувствовать, говорил он в полемичной манере, дольше остальных, не очень даже глядя на преподавателя, и получил высший балл. Позже, в беседе со следователем, профессор признал, что незнакомый студент произвел самое благоприятное впечатление нестандартностью подхода и глубиной владения материалом.
Что же, после этапа овладения материалом, согласно методу Пиредры, наступала заключительная фаза — как правило, весьма лаконичная. Вслед за действием всепроникающего и всесокрушающего обаяния в ход шли деньги, обман, взрывчатка «си-16» или же универсальное разрешение любого конфликта — благословение Пьетро Беретта.
Да, интуиция может многое. Но, лишенная последующего осмысления, она, как ни грустно, остается бесплодной. У Пиредры отсутствовал дар творчества. Он не создал ни собственного синдиката, ни новой ветви подпольного бизнеса; несмотря на свои музыкальные таланты, не придумал ни одной мелодии. Подобно Гарринче, Рамирес знал блистательный, но единственный финт — вклиниться в чужую струю, выхватить куш и выйти сухим из воды. Иссякала струя — вместе с ней иссякал и Рамирес, одаренность его всегда носила некий паразитарный уклон.
Приходится признать, что эксперимент матери-природы принес довольно скудные результаты. Феномен бессознательного человека выродился хотя и в крайне удачливого, но в целом заурядного бандита. В итоге всех махинаций и душегубств в возрасте шестидесяти семи лет Рамирес бесславно окончил свои дни — через год после войны, летом, на тридцатом этаже отеля «Мексикана», Англия-VIII, его застрелила красотка Фонда — робот-хранитель в ту пору уже опального маршала Кромвеля. Похоронили Пиредру там же, неподалеку, в Глостерфилде, на маленьком католическом кладбище. Возможно, кто-то из старых экскурсоводов и припомнит, что где-то здесь похоронен известный гангстер, но точно указать его могилу вряд ли кто-нибудь возьмется.
Однако ставить точку в этой истории было бы рано. Сорок лет спустя после выстрелов в «Мексикане» Эрих Скиф приступил к своим исследованиям и вступил с Рамиресом в весьма своеобразные отношения, не поняв которых нельзя понять и того, что произошло с Эрликоном. Сейчас речь пойдет о научной работе, читать о ней всегда скучно, и я не обижусь, если вы просто пролистаете эти страницы. Итак —
Скучная интерлюдия. ПРОГРАММА, или Как Скиф Пиредру воскрешал. Скифа произвела на свет мало кому известная технократическая цивилизация, прекратившая существование задолго до начала всех наших событий. Судя по некоторым данным, там была предпринята попытка спасти мир путем сотворения бога из машины, для чего и были созданы четыре необычайно совершенных и компактных искусственных интеллекта. Судьба двух неизвестна, а двое дошли до людей, посаженные на антропоидную основу; один из них и есть Скиф. Это, разумеется, не имя, а номенклатурный псевдоним, имя же — Эрих Левеншельд — также выбрано абсолютно произвольно; точный возраст известен, пожалуй, только ему самому, и это, несомненно, только к лучшему, поскольку, как известно, вечность — звук не для земных ушей.
В прошлом его масса черных и белых пятен, но мы начнем нашу историю с осени 421 года, когда Скиф появился на Земле — в полном смысле слова неизвестно откуда, — он приехал выступать в качестве второго адвоката Гестии в нашумевшем тогда Хэмпстедском процессе. Ничего выдающегося с ним в это время не происходит, после Хэмпстеда Скиф перебирается в Ганновер, затем — в Крайстчерч, где получает степень доктора исторических наук и остается работать в местном университете на кафедре истории религии до 428 года. Вероятно, уже в это время он был связан с разведкой, но сказать об этом что-либо конкретное трудно, да это и не столь важно. На данном этапе для нас гораздо интереснее совсем другой человек.
Его звали Отто Бранчевский. По отцу немец, по матери поляк, родился в Англии, а жил и работал в Канаде, как раз в начале двадцатых годов. Если Скиф в ту пору — безвестный сотрудник захолустного университета, то Бранчевский в исторической науке фигура весьма заметная и колоритная, правда, с несколько скандальным оттенком — то ли гениальный маньяк, то ли хулиган. Бранчевский ратовал за введение математики в исторические исследования, выстроил на этот счет серию остроумных концепций и в одной из них приводил многоэтажную формулу взаимодействия гипотетического экспериментатора и экспериментального исторического процесса. Эта формула в графике разворачивалась в зубчатую кривую, названную кривой Бранчевского, или синусоидой Бранчевского.
И формула, и все построения долгое время оставались математическим курьезом, человечество вспомнило о них много лет спустя после смерти автора концепций, а в те времена мимо них прошли, ибо ни опровергнуть, ни доказать справедливость утверждений ученого не было никакой возможности.
Но вернемся к Скифу. Война и послевоенное лихолетье увели его далеко от науки и одновременно выдвинули в первые ряды невидимой касты разведчиков-универсалов. Связи именно тех лет позволили ему впоследствии создать собственную резидентуру в Западных секторах — даже в имперском Генеральном штабе практически всю войну просидел кто-то из людей Скифа.
В этих секторах Скиф пробыл довольно долго — почти до середины пятидесятых. Организация Института Контакта, равно как и признание идей Бранчевского, прошла без него. Позже стало принято считать, что Скиф стоял у самых истоков контактных дел. Нет, не стоял. Без него был построен и десять лет просуществовал на холмах Стоунбрюгге знаменитый «дом в тысячу этажей» из стали и зеленого стекла. В сыром августе шестьдесят третьего в структуре Института был создан таинственный оперативно-тактический отдел, будущее Четвертое управление, и среди зелени Контактерской деревни впервые сверкнула лысина Скифа.
Разведка бывает разная — военная, политическая, техническая и еще бог весть какая, целый мир направлений и специальностей. Но в Контакте разведать — это еще полдела. Знание — сила, сказал родоначальник научного мировоззрения и был совершенно прав: за временем знания наступало время силы, и это было время Скифа. Он предложил использовать схемы Бранчевского как ключ не только к оценке, но и к воздействию на ход развития иных миров, чем, кстати, еще больше отграничил разведку от контрразведки и положил начало бесконечной межведомственной склоке. Как бы то ни было, но политику, да и всю жизненную направленность других государств и цивилизаций следовало направить в желательное для Земли русло, определяемое Мировым Советом, и, напротив, не дать отклониться в направлении, угодном, например, Англии-VIII или тому же Стимфалу. Для этой цели у Скифа были дипломаты, агенты влияния, научные центры, институты, независимые эксперты и так далее, и в качестве последнего довода — подчиненная руководству управления группа быстрого развертывания «Дельта».
Много чего было за прошедшие годы, и вот теперь управление подходило к сорокалетнему юбилею. Беспристрастно оценивая перспективу, Скиф понимал, что рано или поздно придется уходить. Специфика профессии такова — на каком-то этапе знания и опыт начинают работать против тебя. Слишком больших авторитетов на таком посту не потерпит никакое руководство, ибо с определенной отметки опасность их начинает превышать пользу. Но Скиф, просчитывая ситуацию далеко вперед, не сомневался, что предвидение и то мастерство, с которым он владеет механикой своего ремесла, позволят ему еще долго оставаться хозяином положения и получать удовольствие от разрешения проблем Контакта, которые ему доверило человечество. Так Скиф делал ход за ходом, заставляя служить то науку политике, то политику науке, как вдруг…
Вдруг, как сказал классик, на этой шахматной доске, точнее, за этой шахматной доской, появилась еще одна, невиданная фигура.
Точную дату открытия Программы назвать невозможно, хотя бы уже потому, что неясно, что за такую дату считать. Однако можно достаточно уверенно предположить, что события начались зимой шестьдесят девятого года. В это время Скифу пришлось составлять программы интраобсчета по воздействию на группу каких-то планет — скорее всего, для слушателей внутренней академии ИК. Случайно или не случайно оказалась в этом списке Земля, теперь уже никто не узнает, но вот попала, а компьютеру безразлично, что считать, и распечатка графика по Земле оказалась у Скифа на столе вместе со всеми остальными.
Впервые в жизни Скиф не поверил собственным глазам. С оранжевой координатной сетки на него смотрела кривая Бранчевского.
Мгновенье он пробегал ее взглядом, затем встал и в два шага очутился у дисплея. Здесь у него начался довольно сумбурный диалог с компьютером — мыслительные операции в мозгу у самого Скифа занимали миллионные доли секунды, основное время уходило на передачу, так что за двадцать с лишним минут он успел нагородить пропасть разных диковин. Скиф менял программы и языки, вводил по Ледингу и Кормаку, добавлял самые немыслимые коэффициенты — все в надежде отыскать ошибку. Ошибки не было. ЭВМ послушно растягивала кривую, чудовищно сжимала и переворачивала, но с железным упорством не переставала утверждать: цивилизация Земли находится под неослабным и непрерывным воздействием неведомого внешнего экспериментатора.
Отключившись от компьютера, Скиф вернулся за стол, опять взял график и для начала изобразил на нем квадратик, а потом не торопясь принялся рисовать вокруг всевозможные стрелки и цифры. Квадратик означал некую трибуну, с которой Скиф мог бы громогласно объявить о своем открытии, а стрелки — варианты последующего развития событий. Вариантов всего набежало четырнадцать, и двенадцать из них явственно вели к финалу самому плачевному, и дальше за этим финалом начиналось уже что-то абсолютно невообразимое. Так зародился великий обет молчания вокруг Программы, переросший затем в атмосферу строжайшей секретности, окутавшей все позднейшие исследования.
Не позволяя себе никаких эмоций, Скиф сделал следующий ход, который иначе как научным подвигом не назовешь: он разработал собственный комплекс специальных программ и пропустил через компьютер всю более или менее достоверную историю Земли. На это у него ушло два года, и в итоге получилась удивительная разведсводка за период в четыре тысячи лет. Вынырнув из хаоса всех этих доверительных границ и чисел до и после запятой, Скиф почувствовал себя одновременно озадаченным и уязвленным.
Неизвестная сила — пора уже назвать ее Программой — действовала, во-первых, с непонятной целью, во-вторых, на восхитительном, по-библейски примитивном уровне и, в-третьих, необычайно артистично. ОНИ не применяли ни полей, ни излучений, ни экстрасенсорной чертовщины. Было так: появлялся обыкновенный человек и совершал поступок, и вся особенность только в том и заключалась, что человек этот ни по каким законам тогда и в том месте не мог ни возникнуть, ни знать того, что он знал. Для профессионала, каким и был Скиф, это значило, что пускай пока и теоретически, но Программу можно поймать за руку. В Скифе заговорил одновременно и ученый, и разведчик, и еще некое чувство сродни ревности — ему претила мысль предоставить право еще какой-то инстанции распоряжаться человечеством.
На подступах к новой игре Скиф проделывает еще один колоссальный по объему труд — составляет Антологию Загадочных Случаев, открыв счет знаменитой Синей Папки. Таинственные личности Программы, предположил Скиф, должны и появляться таинственным путем или уж, по крайней мере, оставлять след каких-то необычных обстоятельств. По такому случаю он перекопал необъятные архивы ИК, что тем, несомненно, пошло на пользу — до сих пор многие считают наиболее крупным достижением Скифа «архивную реформу».
Естественно, довольно скоро он натолкнулся на легенду о Базе Предтечей — предмете вожделения нескольких поколений довоенных авантюристов — и, листая документы, не без удивления убедился, что База — это отнюдь не плод хмельной фантазии капитанов-дальнобойщиков, а реально существовавший объект, построенный ныне исчезнувшей цивилизацией. Именно в материалах по Базе Скиф впервые встретил запоминающееся имя: Рамирес Пиредра — единственного из людей, кто побывал на Базе трижды, и не только побывал, но однажды неведомо как погрузил ее на баржу и увез в неизвестном направлении.
Это что еще за тип, подумал Скиф, отчетливо уловив в этих перипетиях душок Программы. В тех же архивах нашелся ответ более чем исчерпывающий — плод кропотливой работы разноплеменных полицейских служб занимал многие увесистые тома. Прочитав их, Скиф заключил, что бандит был редкостного и таланта и везения, и что такого никогда не вредно иметь под рукой.
Так на рубеже семьдесят третьего года план «Программа» зародился в очередной раз. К этому времени Скифу уже было известно достаточно, чтобы предпринять попытку взглянуть на искомую сверхъестественность вблизи. Он не боялся, что его опередит кто-то из коллег, поскольку постоянно был в курсе всех исследований, способных составить ему конкуренцию, и видел, что в ближайшее время опасаться нечего. Скиф рассчитал и учел все возможное и приступил к делу.
Однако дело он замыслил неподъемное. Люди. Вот проблема. Где их взять? Выделить из управления? Вербовать со стороны? Лишь чрезвычайно далекий от жизни человек может думать, что существуют какие-то агенты, или агентурные звенья, или просто имеющие соответствующую подготовку люди, которые могут предпринять какие-то шаги вне поля зрения хотя бы одного из многочисленных затененных зубастых ведомств. Можно сманеврировать деньгами. Труднее — информацией и связями. Но найти группу нигде не задействованных и неподотчетных профессионалов — задача технически неосуществимая.
Но даже техника была в этой ситуации не главным. Главной оставалась научная сторона. У Скифа были все основания предполагать, что многие из ныне живущих людей внесены в своеобразный «реестр Программы» и, следовательно, любая акция с их участием свела бы на нет чистоту эксперимента. Выходило, что нужны люди, которые бы не только на сегодняшний день ни в каких списках не значились, но как бы и вовсе не существовали. Казалось бы, полный тупик. Но Скиф знал выход.
Запись личности, или мнемограмма, как это почему-то именовали, известна еще со времен беспутного отца современной нейрофизики Ричарда Барселоны. В Центральном фонде хранилось немало пленок и кристаллов, хранящих память о генотипе, уме и характере разных знаменитостей, но бессмертие по-прежнему упрямо не давалось в руки. Индивидуальность отказывалась стопроцентно воспроизводиться, и возрожденный гений никак не желал продолжить свою уникальную сущность, проявляя, напротив, тенденцию к деградации и нежизнеспособности. Поэтому из морально-этических соображений эксперименты были запрещены и все подступы к ним перекрыты с мудрой тактичностью. Но на всякого мудреца довольно простоты. Скифу был ведом потайной лаз в казематы этой неприступной крепости. История связана с именем все того же отца-основателя. Дик Барселона (настоящее его имя так и осталось неизвестным, во всех работах и документах он подписывался старинным детским прозвищем) на своем бурном, но удивительно долгом жизненном пути — девяносто два года отпустила ему судьба, это звучит феноменальным рекордом, учитывая тот образ жизни, который он вел, — собственноручно создал в разные годы не менее сотни записей. Они считались научными реликвиями — что-то вроде микроскопа ван Левенгука — и хранились в архивах Института нейрофизики. Директором этого Института была Мэриэт Дарнер, мать Эрлена Терра-Эттина, с которой Скифа связывали давние и близкие отношения. От нее Скиф знал, что записи эти, несмотря на древность, благодаря хитрому множественному дублированию и дьявольскому искусству Барселоны, мало того что во многом превосходят современные, сделанные на новейшей аппаратуре, но еще и являются действующими. Вполне естественно, что однажды сей перечень экспонатов оказался в руках у Скифа.
Список был необычайно пестрым. Проститутки, коммивояжеры, коллеги-ученые, воры, люди вообще без имени — похоже, титан экспериментировал на всех, кто попадался под руку. Охватив их всех одним взглядом, Скиф поднял свое кресло на дыбы, покачался на задних ножках и даже засмеялся. Семь записей из ста, с различными промежутками, были произведены с Рамиреса Пиредры, все того же гангстера, и первая галочка тут же встала напротив его фамилии.
Скиф недаром держал в памяти весь до последней запятой перелопаченный им архив — формула дальнейших действий сложилась практически без усилий. Помедлив самую малость, Скиф рассадил еще трех птичек — эти люди, по его плану, должны были обеспечить выход Пиредры на контакт с Программой.
Почему именно Рамирес? Потому что, во-первых, он был мастером своего дела — об этом говорил его послужной список, а во-вторых, Пиредра умело и удачно рисковал. Этой способности, столь порой необходимой, Скиф, при всех его качествах, был, увы, начисто лишен и знал об этом.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Дальняя дорога разделяет кассету, пусть даже и с самой совершенной записью, и живого резидента, правящего бал в пекле событий. Для того чтобы по закодированной бог весть когда информации произвести на свет реального человека, необходим комплекс размером с небольшой завод, стоить он будет как хороший авианосец, да и плюс к тому, чудо сие надо сотворить в полной тайне как от врагов, так и от друзей. Не все сошло гладко, и, произведя свои манипуляции, Скиф породил немало версий и догадок в ГАЛБЕЗ — спецподразделении криминальной полиции. Будучи об этом осведомлен, Скиф методично заносил в память координаты всех тех, кто мог что-то видеть, слышать и припомнить, и, едва приступив к своим обязанностям, свежеиспеченный Рамирес Пиредра отправился в турне с этим Скифовым каталогом в кармане.
Поэтому, когда комиссар Бартон, кое-что сопоставив и сообразив, бросился задавать вопросы, то не смог найти практически ни одного из вероятных свидетелей. Этому-де оставили наследство, и он уехал его получать, второй перебрался на работу в другой город, а третий просто вышел однажды отправить письмо, да так до сих пор и не вернулся.
Для любопытного читателя расскажу, что многие из этих пропавших обрели успокоение в опорных бетонных блоках различных инженерных сооружений, в виде сульфатов и нитратов унеслись прочь по городским канализациям, навеки соединились с атмосферой в мусоросжигалках — об иных же история вообще умалчивает.
Конец скучной интерлюдии. Писать о Рамиресе — задача неблагодарная. Безнадежное занятие — рисовать пустоту, сказал Цвейг; не менее безнадежно изображать характер там, где нет ни характера, ни мысли, а есть лишь жадность, осторожность и неистребимый оптимизм. Получается какая-то история болезни, но без Рамиреса в моем рассказе обойтись никак нельзя.
Пиредра вступил в пятое послевоенное десятилетие, будучи в полном восторге. Свобода. Деньги. Рядом незаменимые подручные — Хельга и Гуго Звонарь. Время прибрало и друзей и врагов, и нет нужды попусту растрачивать обаяние и патроны. Рамирес жмурился, будто сытый кот на солнце, земля и небо, сев за сдвинутые рояли, грянули рэгтайм.
Над трупами и бетономешалками первого Скифова задания Рамирес пролетел с легкостью мотылька — он вовсю наслаждался жизнью, и сам факт существования и деятельности доставлял ему живейшее наслаждение. Однако долго порхать Скиф не позволил. Пиредра водворен в тюрьму, отнюдь, впрочем, не утратив веселого расположения духа, в тюрьме его снабдили самыми настоящими документами, и таким образом он родился уже вполне официально, затем началась подготовка к первому контакту с Программой.
Скиф вычислил пробный камень. Это был человек по имени Асгот Грюн, и работал он в английском посольстве на Гестии. По всем расчетам, он был той самой «фигурой запрещения», которая должна была открывать реакцию воздействия. Скиф предполагал, что у Грюна имеются какие-то инструкции программного руководства. Эти бумаги, кассеты или уж что там Скиф желал видеть на своем столе.
В налете на особняк Асгота участвовали трое: сам Рамирес, Звонарь и еще никому не известный друг Звонаря. Подобно Монморенси, Гуго обладал способностью мгновенно обрастать знакомствами с самыми невероятными личностями, готовыми за него в огонь и в воду. Мероприятие прошло с успехом, Рамирес прекрасно продемонстрировал свою даровитость и самобытность, Скиф получил, что хотел, и незамедлительно выложил пятьсот тысяч, отдав одновременно приказ быть наготове.
Звонарь со своим непонятным другом забрали причитающуюся им долю, спрятали пистолеты и без лишних слов пропали с горизонта, а Рамирес отправился домой. Правое крыло у его «Мерседеса-280» было сорвано вместе с фарой, так что вся анатомия торсионной подвески глядела наружу; какая-то смятая железяка вспахивала в протекторе неровную борозду; рукав костюма Пиредры отсутствовал полностью, да и от рубашки на руке уцелел только драный фестон, залихватски развевающийся на ветру, точно вымпел, являя всему свету мохнатое гангстерское запястье с браслетом электронных часов. Грюн довольно решительно выразил свое недовольство — зато на сиденье возле Рамиреса лежал заветный чемоданчик, содержимое которого сулило передышку и широкий выбор поля деятельности. Словом, жизнь была прекрасна.
Домой. С момента второго рождения Рамиреса прошел год, и за это время у него появился дом — на Земле, в Париже, купленный Хельгой, неизменной подругой Пиредры, на деньги Скифа. Дом этот свободно можно было назвать дворцом, и там как раз происходил то ли бал, то ли прием, окна сияли огнями. Когда поздно ночью через заднюю калитку в него вошел Пиредра, заросший густой черно-синей щетиной, все в том же драном наряде, с чемоданчиком, он по подземному кирпичному коридору направился на кухню, где немедленно запустил ложку в первую же попавшуюся кастрюлю, ибо зверски хотел есть.
Минут через десять в пустынную кухню с царящим в ней гастрономическим разбоем вошла необычайной красоты дама в мехах, похожая на Снежную королеву. Это и была Хельга, великолепие ее вечернего туалета существенно отразилось на бюджете ИК. Окинув ледяным взором супруга, в тот момент более всего похожего на нищего бродягу-итальянца, Снежная королева сказала:
— Идем.
— Сейчас, доем, — ответил Рамирес.
— Брось свои глупости, — посоветовала Хельга.
Рамиреса ожидал удар, от которого он потом не мог оправиться всю жизнь. Глядя на колыбель с младенцем, он в недоумении спросил:
— Что это такое?
Хельга пропустила этот идиотский вопрос мимо ушей:
— Я назвала ее Ингебьерг. В честь бабки.
К тому факту, что у него есть дочь, Рамирес так и не привык последующие двадцать восемь лет. Родительские чувства в нем так и не пробудились, что-то не сработало в той системе инстинктов, которая управляла его эмоциями и поступками. Ингебьерг навсегда осталась для него лишь дополнительной зоной уязвимости и беспокойства, а значит — страха и раздражения. Впрочем, это никогда и никому не приходило в голову — Рамирес делал все, что положено делать любящему отцу, и эта маска удалась ему не хуже других.
Любопытно, что Инга, повзрослев, сохранила дружеские отношения именно с отцом, в то время как с матерью у нее все более нарастало охлаждение, перешедшее позднее в острую неприязнь. Между тем Хельга была человеком примечательным.
Жизнь авантюриста трудно назвать монотонной, но назвать однообразной можно вполне. Начиная лет с двенадцати Рамирес постоянно повторял один и тот же отработанный фокус — пришел, обманул, забрал; предприятия его отличались друг от друга лишь географией да величиной ставки, и даже воскресение из мертвых, сколь ни парадоксально, ничего в этой схеме не изменило. Иное дело Хельга. Она знавала такие перевороты и метаморфозы, которые и не снились ее двумерному супругу.
Хельга Торбергстуен — Хельгой Хиллстрем она стала, приняв шведское подданство, — появилась на свет в Норвегии, в Олесунде, городке, с незапамятных времен ставшем и остававшемся провинцией. Здесь она росла и в семнадцать лет завоевала первый приз на конкурсе красоты — видимо, сказалась ее стопроцентно скандинавская внешность — у членов жюри взыграло патриотическое чувство. Образ жизни ее до этих пор вполне скромен и добропорядочен — примерная дочь почтенных родителей.
Вдруг — в отличие от Рамиреса, в жизни которого не было никаких «вдруг», — менее года спустя после олесундского конкурса мы встречаем нашу красавицу во Франции, в банде Карла Вайля — шизофреника и маньяка-убийцы, и по крайней мере треть садистских выходок этой милой компании была делом рук белокурой Хельги. Кстати, и половина всех награбленных денег была положена в различные банки на ее имя.
Потом шайка распалась, Вайль отбыл на гильотину, а Хельга — ей уже двадцать один — объявляется в Италии, несколько не у дел, зато при деньгах. В Милане с ней происходит очередной головокружительный поворот: она поступает в университет и с блеском оканчивает факультет экономического правоведения, проявляя работоспособность и отменную ясность мышления.
В ту же пору происходит ее встреча с Рамиресом, находившимся тогда в самом начале «базовой» эпопеи, вниманию к которой испанец и обязан загробными приключениями. Они обвенчались с прелестной валькирией через полгода, и своды церкви не обрушились на головы новобрачных убийц. Способны ли монстры любить? Трудно сказать, но хочется верить, что не все в этом браке решали расчет и привычка. Хельга считала свое супружество тяжким крестом, но всегда отдавала должное талантам Рамиреса; за долгие годы она имела массу возможностей с большой выгодой и абсолютно безболезненно избавиться от мужа, однако не пошла на это, и в самых критических ситуациях Рамирес не боялся повернуться к Хельге спиной.
Как бы то ни было, семейная жизнь сложилась удачно. Став женой Пиредры, мадам перешла в следующую свою ипостась: превратилась в светскую даму. Красота, эрудиция и деньги открыли перед ней обширнейшие перспективы, в ее салоне была заключена львиная доля сделок «хендерсоновской аферы», и математический ум Хельги превосходно дополнял гениальные прозрения Рамиреса. Муж да жена — плоть едина: супруги совместно сели на скамью подсудимых «орхидейного процесса», комментарий к которому так смутил Эрликона, вдвоем бежали из-под стражи, но пересказывать здесь судебные материалы я не стану.
Явившись волею Скифа на свет божий по второму заходу, Хельга вновь сменила тактику. Довольно немыслимых затей и авантюр в надежде на какое-то призрачное, пусть даже и безграничное могущество! Ей нужна реальная власть не откладывая, сегодня, сейчас. Она вновь отправляется учиться, затем на деньги ИК открывает собственную фирму — «Норд Хиллстрем мода» — со своими журналами, ателье, выставками-ярмарками и прочим. Хельга правила твердо, безжалостно, с размахом и прозорливостью, перекупала и заманивала и скоро прочно заняла одно из ведущих мест в вечной индустрии, превращающей ткань, мех и кожу в предел мечтаний современного общества.
Имея за спиной поддержку Скифа, Хельга здраво оценила обстановку и решила, что может позволить себе ребенка. Так появилась Инга. Никаких сомнений на этот счет Хельга не ведала — до тех пор пока существуют рекомендации д-ра Спока, музыкальные школы и психоаналитические консультации, она прекрасно справится с проблемами воспитания, и ее дочь непременно выйдет в люди. Отчуждение, возникшее между ними с годами, Хельгу тоже особенно не испугало — главное, девочка взяла верную линию в жизни, а прочее утрясется. Что же до того, что она порой ведет себя как-то необычно, ничего не поделаешь — дурная наследственность, и Хельга лишь пожимала роскошными плечами.
Сам автор дурной наследственности в памятный вечер своего возвращения, начисто сраженный таким сюрпризом, как рождение дочери, поначалу остолбенел, а потом, осознав безысходность ситуации, захохотал, как гиена, вывалил на пол упаковки стодолларовых банкнот и кончил тем, что напился до бесчувствия, украсив банкет фирмы «Хиллстрем мода» картинкой нравов преступного мира.
Заполучив в руки даже не просто деньги, а состояние, Рамирес решил заняться музыкальным бизнесом — единственным ремеслом, которое знал. Скиф не возражал, но требовал быстрее наладить связи с мафией — скоро понадобятся люди. Что же, в таком деле Рамирес чувствовал себя как рыба в воде.
Он выехал в Нью-Йорк — «понюхать атмосферу»: как нынче рок, как джаз и кантри, какие теперь авторитеты и течения, сколько кому платят. Встречаясь с музыкантами и менеджерами, он говорил, что собирается открыть собственную студию, и это было чистой правдой. Слово за слово, в одном из разговоров он мимоходом заключил краткосрочный контракт на два выступления здесь, в Штатах, с безработной в то время группой симфоджаза, провернув в миниатюре операцию, которую потом проделывал четверть века в самых разнообразных формах и масштабах. Суть ее предельно проста: Рамирес заплатил музыкантам аванс, снял для них помещение, закупил рекламу и за это оговорил себе тридцать пять процентов со сбора.
Условия более чем божеские, просто благотворительные, ни на какие барыши Пиредра не надеялся, но с не лишенным суеверия интересом ожидал результатов запуска своей микромодели. И результат не заставил себя ждать.
Арендованная в Южном Бруклине сцена — наполовину двухдолларовый спортзал, наполовину кинотеатрик с литературным названием «Жерминаль» — оказалась в полосе ожесточенных военных действий. Поблизости выясняли отношения два милых семейства — старинный и могущественный клан Джентильи и менее влиятельная, но щетинистая семейка Ригозо — хозяева портовых профсоюзов. Что они там не поделили, для нас сейчас несущественно, но вышло так, что Рамирес, никем не предупрежденный, влез на спорную территорию как невежа и нахал, не заплатил дани ни той ни другой стороне и очутился между двух огней.
То, что Пиредре и его парням дали возможность выступить и получить деньги, свидетельствует о величайшей неразберихе в делах дона Антонио Джентильи-младшего, который, к печали всей родни, пошел не в деда, как многие ожидали, а в отца. Когда все-таки Антонио узнал, что в пограничном районе, куда нахрапом лезут свиномордии Ригозо, какой-то наглец что хочет, то и делает, то впал в неописуемую ярость, ибо темпераментом пытался заменить ум, и сгоряча едва не приказал разнести в куски несчастную «Жерминаль», но потом поутих и распорядился разнести одного Пиредру, а труп забросить в доки — пусть-ка Тоскано Ригозо покумекает, что к чему.
Ригозо тоже доложили о вторжении, но тот, к его чести, выяснив, что Рамирес — человек случайный, махнул рукой: есть дела поважнее.
Ничего не подозревающий Пиредра мирно пил кофе в крохотном ресторанчике все в том же Бруклине, когда у дверей остановилась машина и вошел смуглый курчавый кубинец в выцветшей рубашке и куртке, перекинутой через плечо. Он подошел к столику Рамиреса и с мягкой, чуть даже извиняющейся улыбкой спросил:
— Разрешите?
Рамирес скользнул по нему равнодушным взглядом и кивнул на модернистский пластмассовый стул. Пиредру на его веку столько раз пытались убить и повидал он столько всяких убийц, что экстерьер этого застенчивого посетителя оценил почти не глядя. Из ресторанчика они вышли вместе, сели в машину и уехали неизвестно куда.
В первом часу того же дня Джентильи-младший вызвал к себе капо, отвечавшего за ликвидацию Рамиреса, и среди прочего поинтересовался, почему до сих пор нет доклада по ригозовскому музыканту. Тут выяснилось, что ни исполнитель, ни шофер с задания не вернулись. Джентильи молча посмотрел на капо. Тот выскочил за дверь и бросился нажимать на все кнопки. По рождению он был не сицилиец, а сиенец, и эта деталь биографии во многом осложняла ему карьеру.
Машину отыскали через три часа в мусорном портовом тупике. Подоспевший капо, снедаемый недобрыми предчувствиями, собственноручно открыл багажник. Открывшаяся картина недвусмысленно сообщала, что Рамирес задавал вопросы и что отвечали ему не сразу и неохотно.
Капо связался с Джентильи. Состоялся краткий, но необычайно образный разговор. На ноги были подняты все, у кого они были. В конце концов Рамиреса обнаружили. Выяснилось, что он уже сорок минут как сидит в самолете, который сейчас над Северной Атлантикой, и держит он путь в Реджо-ди-Калабрия. Джентильи невесело помянул некоторых святых, почесал в голове обеими руками одновременно и велел соединить его с Мессиной.
От Калабрии до Мессины путь не так чтобы очень близкий, но ход времени и обстоятельств привел солидную часть обоих городов и побережья под власть одного человека — дона Альберто Дженовезе, патриарха сицилийской мафии, одного из полузабытой породы старозаветных усачей, чьи деды некогда перевезли через океан лупару и гарроту. В штатовских синдикатах подобные динозавры давно вывелись, но в глубинке еще попадались и почитали себя солью земли. Поэтому просить помощи у старика Дженовезе дон Антонио решился от великой нужды.
— Здравствуйте, дон Альберто, — начал Джентильи-младший. — Как поживаете? Как здоровье?
— Спасибо, сынок, — отвечал Дженовезе. — Мне болеть некогда. Мне еще много успеть надо. Это у вас, у молодых, время есть.
— Скоро Рождество…
— Да, Рождество. Не тяни, сынок, говори, что случилось. Так просто ты бы обо мне не вспомнил.
Благостный тон дедушки итальянской преступности отдавал ехидцей, и Джентильи почувствовал, что роняет достоинство. Но отступать было некуда.
— Дон Альберто, у вас девятичасовым рейсом будет такой Рамирес Пиредра. Он тут очень грубо поступил с моими мальчиками, и я хотел просить вас, дон Альберто, чтобы вы сначала узнали у него, кто он такой и откуда, а потом отправили к рыбам на дно вашего пролива.
— Сынок, даже твой отец сказал бы — нашего пролива.
— Нашего пролива, — повторил Антонио, наливаясь кровью, и скрепя сердце добавил: — Мой дед называл вас другом, дон Альберто, пусть ваши люди приходят ко мне в Нью-Йорке, к чему нам этот Ванунцио.
— Спасибо, сынок, — поблагодарил Дженовезе. — Не очень-то ты меня радовал последнее время, но если ты хоть чуть-чуть станешь похожим на деда, то знай — я умру спокойно. Я помогу тебе. Будь здоров.
Джентильи-младший на своем конце провода тоже повесил трубку, с ненавистью посмотрел на телефон и пробормотал что-то об индюке. Через три недели его застрелили в этом же самом кабинете вместе с двумя помощниками, но это уже не имеет отношения к рассказу. Четверо специалистов отправились в аэропорт встречать Пиредру, но их ожидал необъяснимый казус: Рамиреса не было. Поиски ни к чему не привели: загадочный объект как в воду канул.
Нашелся он спустя сутки. Накануне праздников Альберто Дженовезе выбирал подарки внукам и правнукам в громадном супермаркете «Бенавера», в изобилии насыщенном розовыми эскалаторами и фигурным пористым известняком. Сопровождения обычной свиты охранников он в этих случаях не терпел. Остановившись возле аэродрома с «Конкордами» и «боингами», которые самостоятельно взлетали и садились по радиокоманде с земли, дон Альберто вдруг обнаружил рядом с собой незнакомого высокого шатена с лункой посреди правой брови и желтыми веселыми глазами. Дженовезе оглянулся, ища взглядом телохранителя. Телохранителя не было. Вместо него невдалеке виднелась разбойничья физиономия Гуго Звонаря. Дон Альберто остро ощутил всю непрочность и ломкость своей восьмидесятилетней оболочки.
— Привет, — дружелюбно произнес шатен. — Я Рамирес Пиредра. Ну, пойдем со мной, — и скорчил дону Альберто «козью морду».
Держа в руках объемистый пакет с покупками, Дженовезе проследовал на второй этаж, в кафе, отделенное от зала стеной из волнистого стекла, и сел за столик.
— Что, дед, — приветливо заговорил Рамирес, — убить меня захотел? — но потом на мгновенье примолк.
Против него сидел грузный осанистый старик и смотрел напряженно, но с пониманием и без страха. Бесступенчатая коробка передач в голове у Рамиреса пришла в движение, и он без всяких объяснений сменил свое безупречное тосканское произношение на провинциальное сицилийское наречие, нимало не смущаясь, что каждое четвертое слово из этого диалекта — загадка для современного уха.
Авантюрист, как всегда, не ошибся. Услышав знакомый с детства деревенский говорок, дон Альберто расслабился. Кто бы ни был этот парень, он свой. Чужой — будь он хоть семи пядей во лбу — не может знать этого языка. Уже через пятнадцать минут Дженовезе полыхал перстнями у носа Рамиреса:
— Сорок процентов? Не круто ли берешь, сынок?
А тот нежно улыбался ему.
Еще через десять минут в двери кафе, где в нормальных условиях могли разойтись двое людей, разом вбежали пятеро дженовезовских телохранителей, засунув правые руки под левые полы пиджаков, но дон Альберто остановил их властным движением подагрической кисти — не мешайте, у нас разговор, а Пиредра вообще не повернул головы.
Добившись рекомендации Дженовезе, Рамирес решительно повел свои веселые доллары на тучные нивы грамзаписи и музыкального менеджмента. Здесь организованная преступность проросла не слишком густо, хотя из смежных и плотно контактирующих областей, в первую очередь киноиндустрии, где синдикаты давно захватили главенствующие высоты, и на Рамиреса посмотрели косо. Однако, ведомый Скифовой стратегической информацией, поддержанный звонаревскими автоматчиками, Пиредра безошибочно вел свой корабль в бурном море профсоюзного рэкета и одно за другим вдохновенно лепил прокатно-арендные студийные объединения: вначале это была итальянская «Музыка», затем итало-испанская «Валенсия-джаз-студио» и, наконец, французская «Олимпийская музыкальная корпорация». К моменту появления Эрликона ее бюджет шагнул далеко за миллиард, а Рамирес превратился в одного из самых преуспевающих боссов музыкального мира. Таким образом, в лице Пиредры Эрлен встретился не с чем иным, как с собственной, сознательно избранной профессией. Однако, чтобы понять, почему эта встреча обернулась столь роковым сюрпризом, надо хотя бы в общих чертах представлять, чем же именно занимались Рамирес и Скиф за своим эстрадно-граммофонным фасадом.
В том невидимом миру котле, который раскочегаривал неутомимый исследователь Программы, пиредровская мафия составляла одну ложку — пусть даже самую наваристую, но отнюдь не решающую. Главную часть варева стряпали люди, вставшие под знамена Скифа еще в те времена, когда Рамирес тихо-мирно почивал в гробу, похожий на ситечко для чая.
С разгромом Стимфальского союза и падением Стимфала вторая мировая война, строго говоря, не закончилась. Колонии, оставшиеся без метрополии, всевозможные группировки, содружества и просто пиратские соединения, густо обогащенные разными воинскими частями, вплоть до дивизий, отколовшимися и затерявшимися в финале космической бойни, продолжали куролесить по дальним и не слишком дальним рубежам. В отсутствие кромвелевской железной десницы землянам самим пришлось заняться регулированием их притязаний.
На поставки оружия и военных систем было наложено множество эмбарго, вето, принято немало мораториев, но «черные караваны» со смертоносным грузом продолжали кочевать по Вселенной от одной горячей точки к другой. Контрабанда оружием была делом налаженным, разветвленным, главари его на удивление успешно пережили все военные коллизии, падение империи, и теперь лишь с интересом осматривались: что это за новая власть, от которой, как и от прежней, придется отстреливаться и откупаться.
В Гео-Гестианском секторе, то есть на линии, соединяющей Землю и Гестию, такой властью оказался Скиф, в начале сорок восьмого года перешедший из резидентов в бюрократы и назначенный навести порядок в хорошо ему знакомых местах. Ознакомившись с ситуацией, он понял, что подобный шанс — редкость даже для его нечеловечески долгой жизни.
В ту пору ни о какой Программе еще и речи не было, не было еще и Института Контакта, но ученым Скиф уже был, желал им остаться и знал, что за научную независимость надо платить большие деньги, а за независимость историка-экспериментатора — деньги громадные. С другой стороны, он не строил никаких иллюзий относительно своей дальнейшей карьеры — ему, наполовину роботу, пусть уникальному, пусть даже уравненному во всех правах с людьми, — в служебном продвижении был положен незримый, но неодолимый предел. Поэтому Скиф загодя начал возводить золотой мост в будущее и создал то, что позже стало «Олимпийской музыкальной корпорацией».
Военная и послевоенная неразбериха позволили Скифу примерно за год сделать то, на что в другое время мог потребоваться не один десяток лет: практически вся верхушка иерархической пирамиды кланов, контролировавших контрабанду оружия, была срезана или, точнее сказать, вырезана. Их насмешливое ожидание нового начальства было окончено без предупреждений и переговоров, и опустевшие кресла заняли те, кого Скиф хотел там видеть.
В сущности, ничего не изменилось. Платили все — фирмы-производители, перекупщики, транспортники, платили и группировки-заказчики, в руководстве которых уж и подавно сидели Скифовы люди. Плату взимали давно известные корпорации, и вряд ли кто догадывался, что где-то в далеких краях все эти денежные ручейки соединяются в единый поток, льющийся на одну, вполне определенную мельницу.
Разумеется, Скиф не собственноручно сгребал эти заляпанные кровью банкноты. Их судьба была куда сложнее. Сразу по получении, а то и раньше они вкладывались во множество раскиданных по глубинке предприятий — от проката стали до стриптиза. И вот их-то вполне реальная прибыль и переводилась сначала в периферийные банки, а из тех — в филиалы банков «Олимпийской корпорации», офис которой находился на Земле, в Париже, на рю де Бриссе, где со вкусом и расположился президент компании Рамирес Пиредра со своим закадычным приятелем Гуго Сталбриджем.
Только эти двое на всем белом свете знали истинного владельца «Олимпик мьюзикл», только им были известны масштабы дела и точные цифры, но мало этого. Только Рамирес и Гуго были в курсе того, на что эти деньги расходуются, — их руками Скиф контактировал с Программой, и лишь эти двое могли быть хоть сколько-нибудь шокированы его экспериментальным богоискательством. Но они не удивлялись и ни о чем не спрашивали, хотя и по разным причинам.
Рамирес, мафией вскормленный и вспоенный, полагал безупречно естественным тот факт, что, достигнув высших позиций в криминальном мире, он пользуется поддержкой главы международных разведслужб. То, что при этом требовалось выслеживать и нападать на каких-то странных людей, его вовсе не смущало, даже наоборот — на том стоим, услуга за услугу, а лишние вопросы жизнь не удлиняют.
Гуго Звонарю, явившемуся в наш век прямиком из внеземельного средневековья с его баронами и лесными разбойниками, Скиф представлялся типичным ученым, а стало быть, колдуном, магом и чернокнижником. Такое суждение Гуго вынес из знакомства с владыкой своего родного края принцем-регентом Ричардом Длинноруким Тратерским, буйным алхимиком и некромантом, и несколько наивно считал, что если уж кто занялся наукой, то волей-неволей должен идти всяческими дьявольскими путями и при необходимости платить за это дьявольские деньги. Гуго Сталбриджу еще предстоит сыграть в нашей истории весьма значительную роль, но пока вернемся к Пиредре.
К началу событий ему — второй раз в жизни — перевалило за пятьдесят, а выглядел он едва-едва на сорок, дела его шли превосходно: поддерживаемый самым могущественным из тайных управлений, Рамирес в своей сфере уверенно теснил конкурентов; музыкальный бизнес, звукозапись и профсоюзы несли ему дань официально и неофициально, и в европейском списке «крестных отцов» бывший барселонский мальчишка прочно занимал верхнюю строчку. Был ли он счастлив?
Нет, не был. Напротив, на рубеже шестого десятка Рамирес вступил в пору психологического кризиса — жесточайшего по форме и необъяснимого по сути. И здесь в гангстерской саге начинается самая темная по смыслу строфа.
Психический сдвиг, настигший Рамиреса в самом расцвете его поприща, столь же непостижим, как и все, происходившее под этой каталонской шевелюрой. Вначале было просто беспокойство — зудящее чувство, невнятно напоминающее то ли об упущенной возможности, то ли о каком-то промахе, — словом, ощущение опасности. Рамирес, как и всегда, реагировал молниеносно: проделал все необходимые вольты, обманные ходы, и зрачки пистолетов — колодцы смерти — с готовностью уставились в окружающее пространство.
Но вот чудо! — в пространстве никто не появился. Непогрешимый контакт с действительностью разладился, биологические часы прозвонили вхолостую. Прибыль шла, а Рамирес чувствовал, что для таких денег пригрозил слабовато; Тино Джильо, горячая голова, по всем законам должен был организовать покушение — милости просим! — а он пожал руку да и уехал в Бостон. Беспокойство Рамиреса перешло в давящий страх, его ясновидящая интуиция, как севильский бык с подпиленными рогами, стала раз за разом бить мимо — ошибка, правда, выходила не больше миллиметра, и здравый смысл мог легко подсказать, что ничего смертельного не происходит, но как раз осмысления-то Рамирес и был начисто лишен, и, подобно растерянному быку, его внутренний голос заревел во всю глотку. Жизнь авантюриста превратилась в дурной сон.
Допускаю, что определенному типу лиходеев противопоказано достигать покоя и благополучия — они теряют форму, стимул к жизни и деградируют. Возможна и другая, более глубокая причина — поставленный Скифом во главе консорциума, Рамирес оказался в совершенно чуждой ему роли — он был хватом, пройдохой, убийцей, но никаким не лидером. Дар его заключался в виртуозной подстройке под чужие ориентиры, а здесь требовалось задавать ориентиры другим — задача для Пиредры непосильная.
Или, может быть, гангстерская депрессия была вызвана внутренним раздором его натуры волка-одиночки с теми жесткими границами, в которые поместил его Скиф? До этих пор Рамирес был сам себе хозяин, а теперь — пусть и цепь золотая, и конура под серебряной крышей, а все по своей воле не придешь и не уйдешь.
Вероятно, что и сорокалетний перерыв сказался на его чутье не лучшим образом — за время отсутствия и мир, и люди чуть-чуть, но переменились, а прикус его инстинктов еще хранил довоенный закал. Неизвестно, какая из этих гипотез верна; охотно верю, что во мраке подсознания Пиредры могла скрываться какая-то еще более невероятная причина — мне ее не угадать, да и сам Рамирес ее не знал. Важно не это. Важно то, что из этого психологического сумбура последовало несколько очень конкретных выводов.
Теряя почву под ногами, выбитый из колеи, Рамирес приступил к осуществлению одного из самых парадоксальных своих решений. Он решил бежать. Вряд ли это стоит приписывать некоему вещему предчувствию скорого краха Скифова концерна — просто не смолкающий ни днем ни ночью глас заблудившейся интуиции приказывал уносить ноги, пока вышедшая из-под контроля ситуация не кончилась каким-то громом небесным. К черту все — Хельгу, музыку, положение — не первый раз. Адье, мои дорогие, я исчезаю и уложу как раз столько трупов, чтобы меня не только не нашли, но и не искали. Будьте здоровы, я уплываю, растворяюсь в глубинах космоса, и время несет меня с края на край.
Но бесследно затеряться в современном мире — дело нелегкое, тем более для такого известного человека, тем более под опекой всевидящего Скифа. Тут требовался какой-то чрезвычайно хитрый способ, и такой способ Пиредра знал. Он решил скрыться в одной из закрытых зон Контакта, о существовании которых слышал от Грюна, Терра-Эттина-старшего и самого Скифа.
Были во Вселенной места, не посещаемые кораблями и даже мало пересекаемые трассами; там находились планеты, населенные вполне разумной жизнью отчасти и земного происхождения, однако огражденные человечеством рукой ИК от любого вторжения и вмешательства. Их цивилизации не должны были иметь с внешними мирами никаких контактов, ибо мировой Совет посчитал, что всякое инородное влияние будет для них преждевременно, нежелательно, а порой и губительно. Загвоздка же в том, что соблюдала заповедность тех мест служба Комиссии по Контактам, сотрудники которой испытывали к ведомству Скифа неприязнь, граничащую с ненавистью, — законное чувство к давнему конкуренту, попившему немало крови, поэтому в зонах власти Скифа имелся серьезный противовес.
Само собой разумеется, что длинная рука начальника Четвертого управления рано или поздно дотянется куда угодно, но Рамирес, во-первых, видал руки и подлиннее, а во-вторых, вовсе не собирался навечно хоронить себя в безвестной глуши. Никаких планов он не строил, поскольку отродясь этого не делал, но знал, что если умело переждать в тихом месте, то со временем нужное течение подхватит и вынесет куда надо. Удача выпадает на долю умов подготовленных.
Правда, расположение этих областей и подходы к ним были тайной за семью запорами неведомого сейфа где-то в недрах Института Контакта, и, за базой какого государства следует искать вход, Пиредре никто не торопился рассказать. Но как раз это обстоятельство смущало Рамиреса меньше всего — лучше других ему было известно, что слухом полнится не только земля, но и весь космос, и если уж шила в мешке не утаишь, то целую Солнечную систему — тем более. Главное, чтобы зоркий глаз Скифа ничего до поры не заметил — гангстеру приходилось вести себя подобно древнему ниндзя, маскируя свои действия под естественный ход событий, и неприметно, шаг за шагом готовить себе путь к отступлению. И вот в самый разгар этой сверхпотаенной и малопонятной деятельности и упал с неба Эрлен.
Ко дню их встречи у Пиредры в мозгу между извилинами уже искрила изрядная вольтова дуга, на что необходимо сделать серьезную поправку, оценивая его дальнейшее поведение. Кроме того, интуитивное мышление Рамиреса, в механике которого черт ногу сломит, по-прежнему доставляло своему владельцу лишь готовые решения без всяких промежуточных выкладок, так что нам самим придется разбираться, отчего во время памятного обеда на стимфальской вилле Рамирес, взяв чашку кофе, прекрасно относился к Эрликону, а отставив ее, уже был твердо уверен, что от парня нужно незамедлительно избавиться.
Едва взглянув на Эрлена, лицо которого было своеобразным отражением в кривом зеркале красавца Дина, Рамирес понял, кто перед ним, и, несомненно, обрадовался — вот он, ключ к ИК! — единственный сын героя Контакта и сам контактер, да еще безнадежно влюбленный в Ингу, любимец Скифа, вхожий, благодаря имени и образованию, в самое святая святых…
Но радость Рамиреса быстро угасла. Пока травка подрастет, лошадка с голоду помрет, плюс еще под самым носом у Скифа, плюс еще бабушка в решето видала… Тут мысль Пиредры выкинула и вовсе головоломный трюк — опередила саму себя: еще ничего не было решено, а Рамирес, мгновенно пропутешествовав в будущее, увидел, как Скиф узнает об этой встрече, делает вывод, что он, Пиредра, решил Эрликона ликвидировать, и принимает ответные меры, для начала сообщив племяннику всю его подноготную. Вернувшись к настоящему моменту, Рамирес отхлебнул следующую порцию кофе и отломил кусочек пирожного. С другой стороны, «Скиф не выдаст», и в случае чего любые нежелательные действия Эрликона, если тот сгоряча на что-то решится, Скиф пресечет. Или, по крайней мере, проконтролирует то, что Эрлену где-то вздумается наговорить. Чего же бояться?
Было чего бояться. Был в той колоде, которую из-за неосторожности Эрликона могли распечатать враги Рамиреса, скрыт непобедимый джокер, бьющий все Скифовы козыри.
Джокера звали Диноэл Терра-Эттин, и он был отцом Эрлена. Бывший друг, соратник и названый брат Скифа был Скифом же, в пору их послевоенных разногласий, устранен от контактных дел и заблокирован, но при всем том отнюдь не утратил ни влияния, ни авторитета, ни, что самое главное, профессионального таланта. А уж по уровню своих способностей Диноэл мог свободно потягаться и со скифовским аналитическим монстром, и с пиредровской интуицией, вместе взятыми.
Диноэл очень хорошо знал, кто такой Рамирес и по чьей воле он, как феникс из пепла, мог вновь явиться в этот мир. Достаточно Эрликону сказать отцу два слова (а как заставить его молчать?) — и Дин сделает весьма далеко идущие выводы и, пожалуй, пробудится от своей многолетней спячки. Учитывая, что по внутриконтактерским масштабам Терра-Эттин-старший был фигурой куда более значительной, чем Скиф, начальнику Четвертого управления — а следовательно, также «Рамиресу и К±» грозило, как минимум, расследование правительственной комиссии с более чем непредсказуемым исходом.
Итак, в ту минуту, когда могучая перистальтика пищевода Рамиреса отправляла в желудок очередную порцию кофе, перемешанную с бисквитом, Эрликон тоже переместился в графу нежелательных свидетелей, а с людьми этой категории вечно что-то случается…
Все очень мило, но нельзя же, в самом деле, среди бела дня вот так просто взять да и пристрелить племянника, да что там, без малого сына самого Эриха Левеншельда! Ситуация, как пишут в старинных романах, становилась крайне щекотливой. Но людей, подобных Скифу, — электронного они происхождения или какого другого — Рамирес знал прекрасно. Скиф заинтересован в молчании Эрлена более чем кто бы то ни было, и надо лишь помочь ему договориться с совестью. Пиредра был уверен, что если он все сделает достаточно тактично, то его, как лорда Меррея, в пустыню не изгонят. Эрликон совершенно случайно погибнет, а Скиф тоже совершенно случайно не станет слишком давить на следствие. Пиредра поставил чашечку на блюдце и улыбнулся Эрлену с лукавой укоризной: хлопот с тобой, парень.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Первое, что увидел Эрликон, проснувшись поутру: прямо перед носом фаянсовый таз с эмалевыми цветочками и чуть в стороне — хромированное колесо сервировочного столика на красно-желтом узоре ковра — элементы стиля «ретро», который активно рекламировался пиредровским синдикатом во всех доступных областях. Таз был чист. Спустя некоторое время Эрлен осознал, что лежит на кровати, свесившись лицом вниз; он оттолкнулся руками от пола и вернулся в нормальное положение. Голова была как чугунок с трещиной, в ней гуляли шорохи и перегуды, кожа на лице казалась тесной, и бледность ощущалась без зеркала.
— Да, хорошо, ничего не скажешь, — заметил Кромвель, возникая перед кроватью. — Голова не кружится? Попробуй сесть.
— Очень страшная картина? — спросил Эрликон, опуская ноги на пол.
— Вполне пристойно, — успокоил его Дж. Дж., — только синеватый немного, а так все в порядке.
Сначала был какой-то подвальчик в Хамме. «Начнем без спешки», — распорядился Кромвель, овладевая Эрленом, как рука перчаткой. «Что начнем?» — поинтересовался парень. «Каждый младенец знает, что начинать следует с вермута, — объяснил маршал. — Поехали». Они проехались от «Кечкемета» через «Мартини бьянко» к «Чинзано», затем Дж. Дж. объявил «ликерный крюк» и навестил «Черри Марньер». Эрликон пришел в восторг и хотел задержаться, но Кромвель сказал, что движение — все, а цель — ничто, и перешел к бренди. Дальше грянул «Джонни Уокер» обеих мастей, а за ним — «Длинный Джон». На можжевеловом рубеже пилоты, словно невинность, утратили всякую официальность в обращении, и маршал превратился просто в Джона; окончательный же удар по осмысленности бытия нанесла «Белая лошадь» своим огненным шотландским копытом. Бытие раскололось. В разломах промелькнул еще, кажется, «Джим Бим». Подсаживались и пили какие-то девицы, одна вдруг заговорила кромвелевским голосом — маршал развлекался вовсю; в какой-то момент Эрлен загрустил до слез и все порывался напомнить о билетах, потом — провал, потом — салон корабля, подозрительный разговор Кромвеля с командиром. Дж. Дж. вроде бы говорил: наш коллега, пилот, чемпион, а командир — еще совсем молодой, в синей форме с золотыми шевронами — отвечал: понимаю, сделаем, положим в медицинский отсек. Дальше — каюта с белыми аппаратами и проводами, Эрликона устроили в странное кресло почему-то со стременами, кто-то спрашивал: «Вам принести сюда, он не выйдет в салон?», и вот, пожалуйста — лежим лицом в фаянсе.
— Мы в Стимфале? — спросил Эрликон.
— В Стимфале, в «Томпсон-отеле», прямо под нашими окнами — консерватория, где выступала твоя драгоценная.
— Это хорошо.
— Просто замечательно. Теперь подкати к себе столик и позавтракай, потом спустимся в бар, потому что спиртное почему-то в номера не подают.
Тут в голосе Эрлена впервые прорезалась живая нотка:
— Джон, я больше не могу пить.
— Пить будем, когда выиграем кубок. А пока просто лечебная мера, ну, и дань моим многолетним привычкам.
Завтрак Эрликона ограничился чашкой кофе, так как выяснилось, что съесть что-либо он не в состоянии. Натянув джинсы и чувствуя противную легкость в ногах, пилот вслед за Кромвелем спустился в бар. Там было еще закрыто, но Дж. Дж. мгновенно с кем-то договорился, и в губчатые голубые кресла гостиничного холла им вынесли толстодонный зеленого стекла стакан виски. Эрлену один запах тотчас же достал до печенок, но Кромвель оказал поддержку, и все неприятные ощущения разом исчезли. В желудке разлился жар, и Эрликон ощутил некую недостававшую цельность — как будто подключилась заглохшая было энергетическая подстанция. Реальность вернулась в русло, очертания предметов обрели четкость.
— Вот беда так беда, — произнес Кромвель, практически без помощи Эрлена вращая стакан на полированном столе. — Дело наше такое сложное, что уж даже не знаю, как и подступиться. Вот, например, не имею ни малейшего понятия, что сказать человеку по имени Ричард Бартон.
— Кто это?
— Это такой полицейский.
— Да, но Скиф… — начал было Эрликон и замолчал. Протекция Эриха была для него темой, которую он старался обходить.
— Что Скиф? — спросил Дж. Дж. — С ума вы тут все посходили с вашим Скифом. Страшнее его зверя нет. Он, конечно, авторитет, не спорю, но он даже не директор Института, кроме Скифа, если я ничего не путаю, есть еще Мировой Совет, есть Галактическая безопасность, есть КОМКОН, наконец, которого никто не отменял. Воскрешая всю свою шатию, твой Скиф черт-те каких дров наломал — думал, в нашем деле можно обойтись одной математикой. Они с Пиредрой трупов наворотили на дюжину смертных приговоров, да и сейчас еще вряд ли поутихли.
— На дюжину? — машинально повторил Эрлен.
— Может, и больше, кто их считал. Но ГАЛБЕЗ они себе накаркали — вот как раз этого Бартона-младшего.
— Есть и старший?
— Вот уж не представляю. О сути дела он, правда, ни сном ни духом не ведает, но о Скифовой музыке кое-что слышал.
— Так что же?
— А то, что если мы где-нибудь вслух скажем слово «Скиф», то сейчас же примчится Бартон и начнет нам задавать вопросы. На наше счастье, у него ума гораздо меньше, чем энергии, но зато есть кретинское везение появляться где и когда не надо.
— Послушайте, Джон, — сказал Эрликон, глядя на отражение своих ботинок в зеркальном полу. — Зачем вы мне все это говорите?
— От смущения, — ответил Дж. Дж. — Сейчас нам предстоит заниматься откровенной глупостью, а я в подобных случаях всегда смущаюсь.
Кромвелевский волчий оскал замерцал над столиком, и Эрлен усомнился в способности маршала смущаться по какому-либо поводу.
— Объясните, Джон, я же ничего не понимаю.
— Пока вы, юноша, спали, я заплатил кому надо, и сегодня нас примет официальный представитель «Дассо» на чемпионате. Его зовут коммерческий советник Реншоу, и вообще-то он в Стимфале глава торгового представительства.
— А что мы ему скажем?
— Не знаю! — вдруг прошипел Кромвель. — Возьмите нас, мы хорошие! Знаю только, что он нам скажет.
— Что?
— Подите к такой-то матери и такому-то отцу, я не дам вам несерийную машину. Вставай, пошли.
— К такому-то отцу?
— Вот именно.
По дороге в представительство — они взяли глидер — Эрликон спросил:
— Джон, а почему все-таки «Дассо»? Из-за того что у них тут резервные самолеты?
— Из тебя будет толк, — усмехнулся Дж. Дж. — Это тебе Дэвис так сказал? Резервные — попал пальцем в небо. У «Локхида» этих, как ты выражаешься, резервных, вдвое больше, а у «Мицубиси» — вчетверо. Нет, не будем строить иллюзий. Дэвис потому и заговорил о «Дассо», что знал: у них со Скифом какие-то интересные отношения. Какие, почему? Этого твой самоходный дядюшка сказать не пожелал.
Ведомая общим дорожным компьютером, исправно тормозя у светофоров, черная лепешка глидера влекла пилотов через центр города, через Гринвич-сиркус, где Эрлен недавно поджидал Ингу, и дальше, на сей раз — на север.
— Вообще в этой истории все непонятно, — продолжал Кромвель, с удобством разлегшись по диагонали салона. — Я начинаю думать, что Скиф что-то перемудрил, когда погнал нас в Стимфал. Если уж «Дассо», то отчего же не выяснить все прямо в Париже? Что ж, время-то он точно выиграл… Знаешь, как Понтий Пилат умыл руки?
— Ну, было что-то… При чем тут Понтий Пилат?
— Было, было… При том, что Скиф сейчас на Валентине и, ручаюсь тебе, увидим мы его не скоро… Ладно, это все присказка, теперь слушай сказку. О чем мечтало человечество на протяжении многих-многих лет?
— О счастье.
— Верно, а счастье заключается в том, чтобы построить многоцелевой универсальный истребитель-бомбардировщик, чтобы он дал и изоляцию района, и превосходство в воздухе, и для ПВО, и так далее. Правда, опыт все того же человечества показывает, что создать универсальную машину невозможно, но вспомним перпетуум-мобиле — соблазн велик. Короче, строят все — «Мессершмитт», «Боинг», «Сухой»… «Дассо», к которому мы едем, тоже строит уже, наверное, лет десять, если не больше.
— Джон, но ведь на Земле производство оружия запрещено.
— Оставь этот детский лепет и вникай. Что именно у них там вышло, никто не видел. В этом году они вроде бы испытали и закончили. Все ждали, что они выставятся весной в Бурже, а «Дассо» — молчок! — и ничего. Летом в Фарборо — хоп! — снова тишина. Вот какая загадка. Я боюсь, что именно эту Несси Скиф нам и подставляет.
— В таком случае мало у нас шансов.
— Я же сказал: делаем глупость. Впрочем, говорят, что дуракам везет…
Северный Стимфал — преддверие Портового Стимфала с его роскошными рыбными рынками — никакими достопримечательностями не блещет, и туристы сюда заглядывают редко. Это типичный стеклянно-бетонно-алюминиевый деловой район офисов, банков, биржи и дневных закусочных — после шести вечера улицы вымирают.
Представительство фирмы «Дассо Бреге» отличалось от прочих разве что скромной мраморной рамкой портала. Глава отделения располагался на пятом этаже в подобии аквариума с торцовой стеной из малахита; в самом центре этой стены висел миниатюрный морской пейзаж с полосатым спинакером. Почтенный Реншоу сидел на красном вращающемся стуле возле низкого стола, на котором стояла пепельница и больше ничего не было.
— Прошу вас, садитесь, — вежливо предложил он. Полномочный представитель «Дассо» был мал ростом, лыс, толст, носил очки в черепаховой оправе, и на носу его росла внушительная скульптурная бородавка. В голосе Реншоу звучало неподдельное добродушие, но с оттенком совершеннейшей безнадежности, так что Эрлен успел подумать: «Кромвель прав, дело плохо», однако сам маршал, практически невидимый в свете дня, устремился вперед с боевым задором.
— Дорогой господин Реншоу, — начал он с наигранным подобострастием и даже несколько вкрадчиво, — жестокая судьба заставляет меня заниматься крайне неблагодарным делом, и единственное, на что я рассчитываю, — это на вашу снисходительность и сочувствие, известные всему летающему миру.
В ответ Реншоу ласково улыбнулся и сложил руки на животе.
— В недобрый час, — тягуче гнул Кромвель, — я принял предложение «Хевли Хоукерс» и поплатился за это. Вы слышали мою печальную историю. Позвольте мне теперь обратиться к вам с вопросом: не поможет ли мне ваша уважаемая фирма, имея в виду, что до второго этапа осталось двенадцать дней?
Сочувственно склонив голову набок, советник ответил:
— Молодой человек, ваш случай, эта авария вызвала у нас живое участие, все мы очень рады, что вы остались живы, ваша профессия… вы понимаете. Я очень рад, что могу вас лично поздравить, но увы, увы. У фирмы в настоящий момент нет никаких возможностей хоть сколько-нибудь вам посодействовать.
И господин Реншоу грустно улыбнулся.
— У вас доброе сердце, — произнес Кромвель задумчиво. — Но хорошо ли вы подумали? Скоро полгода, как в Стимфале простаивают ваши экспериментальные модели. Нет ли возможности напомнить о них руководству компании и не поможет ли мой приход некоторому ускорению вашей карьеры?
Советник сразу перестал улыбаться:
— Молодой человек, я не знаю и не намерен…
— Придется, — сказал Кромвель чрезвычайно мягко. — Послушайте меня, Реншоу. Я знаю, что прошу невозможного, но постарайтесь напрячь мозги и не возмущаться, а уразуметь, что я говорю. Фирма платит вам шесть тысяч в месяц. Что бы вы сейчас ни натворили, вашей пенсии ничто не угрожает. У меня есть все шансы выиграть этап на той машине, о которой идет речь, и превратить ваши шесть тысяч в двенадцать. Сделайте хоть однажды решительный шаг. О вас напишут все газеты. Чего вам регулярно желают? Дерек, будь же мужчиной!
Бог весть что маршал имел в виду, но на Реншоу это явно произвело впечатление.
— Я… — каркнул он. — Я…
— Знаю, знаю. Вы это не решаете. Но слово замолвить вы можете, а только это от вас и требуется.
Реншоу запыхтел, как древняя паровая машина, потом вдруг заявил:
— Вы не понимаете, о чем просите. Машина несерийная и даже не внесена в каталог.
— Внесена, — возразил Кромвель. — В экспресс-каталог «Дассо». Этот год, С-270.
— Я имею в виду фарбороский каталог.
— Зачем? — спросил Кромвель. — Почему вы его имеете в виду? Где, в каких правилах записано, что машина должна обязательно числиться в фарбороском каталоге? Это традиция, не спорю. Но традиции иногда полезно менять.
— А коллегия? — уперся Реншоу.
— А заводские испытания? Машина прошла заводские испытания.
— Это к делу не относится, — заметил коммерческий советник. — Все равно у нее нет ни серии, ни номера… И если ваша осведомленность так велика, то вам должно быть известно, что машина не гоночная и вообще не спортивная.
— На это я вам отвечу вот что: у «Дассо» в этом году на стендах остались две заявленные модели и вместе с ними — изрядный кусок репутации. Господин Реншоу, вы не хотите его оттуда достать? У меня есть все основания для уверенности.
Советник снял очки и бережно притронулся к своей бородавке.
— Руководство выразило недоверие к С-270.
— Кто бы мог подумать, — огрызнулся Дж. Дж. — Я и предлагаю вам рискнуть.
— Я не уполномочен.
— Господин Реншоу, — Кромвель даже не зашипел, а засвистел, сцепив призрачные зубы, — я же сказал с самого начала: рассчитываю только на ваше сочувствие. Вы уполномочены взять телефонную трубку и сказать, что приходил пилот Терра-Эттин, производящий хорошее впечатление, и предложил то-то и то-то? Кстати, кому это вы будете говорить?
— Директору Бэклерхорсту.
Тем временем пилот Терра-Эттин сидел, чувствуя себя абсолютно не в своей тарелке: за все время разговора ему не пришлось сказать ни слова, а все реплики Реншоу адресовались к нему, несмотря на то что Кромвель, махнув рукой на условности, говорил на расстоянии полуметра от Эрлена.
— Я надеюсь, директор Бэклерхорст человек душевный, — выразил надежду Дж. Дж.
— Без сомнения, — уверил его Реншоу, нехотя сменив гнев на милость. — Я даже думаю, что ваша история заинтересует его, он любит… м-м-м… нечто подобное.
— Во всяком случае, был счастлив познакомиться, — заключил Кромвель поднимаясь, и поостывшие собеседники даже пожали друг другу руки.
Из представительства друзья вышли в молчании, прошли по улице, свернули под арку и оказались в краснокирпичном дворе со стрижеными кустиками и пирамидой расписанных под трафарет ящиков. Кромвель и Эрликон уселись на тронутое солнечным теплом дерево, помолчали еще немного, затем Дж. Дж. скомандовал:
— Закуриваем.
Эрлен достал пачку «Сансдейла» и зажег длинную коричневую сигарету.
— Не затягивайся, — сказал Дж. Дж., — успеется.
— Да я курил, — ответил парень.
С минуту Кромвель наслаждался эрленовскими ощущениями, потом заговорил:
— Да-с, лобызаний с порога не получилось. Бэклерхорст. Я когда-то был знаком с одним Бэклерхорстом — милый, интеллигентный человек, феодал, завоеватель… Кстати, превосходный фотограф.
— Как это — фотограф-завоеватель?
— Жизнь заставила, — туманно пояснил Кромвель. — Нет, все равно ничего не могу придумать.
Он поднялся и встал перед Эрликоном. Тот уже научился различать маршала в деталях в любое время суток и сейчас ясно видел его белую косматую гриву, сквозь которую проглядывала стена и свежестриженая зелень акации, морщинистую черепашью шею и глаза с сумасшедшинкой и вечным шальным издевательством.
— Мне не нравится, как вы одеты, юноша, — объявил Дж. Дж. — Ботинки, правда, ничего, брюки…
— Вельвет, — промолвил Эрлен с достоинством — ему неожиданно стало легче. — Сам красил.
— Против брюк тоже не возражаю. Но, во-первых, рубашка должна быть черной, а во-вторых, что это за синий баллон?
— Куртка как куртка. Все носят. Между прочим, мода.
— Ты не все. Ты — пилот. Пилот должен выглядеть соответственно. Что я подразумеваю под словом «соответственно»? Я подразумеваю старую летную куртку с потертыми сгибами и белыми швами и к ней — темную водолазку либо рубашку.
— Первый раз про такое слышу, — ответил Эрлен.
— Бог тебя простит, ты в этом не виноват. Итак, сегодняшний день мы посвящаем решению следующих проблем: экипируем тебя сообразно положению, потом звоним в службу Скифа, сообщаем о наших успехах и, кстати, узнаем, что поделывает проклятый Пиредра, после чего идем в военный музей — ты был там?
— Нет.
— Тем более, а вечером посещаем какой-нибудь театр. Какой здесь сейчас лучший театр?
Эрлен пожал плечами:
— Наверное, опера.
— Опера… — протянул Кромвель. — С удовольствием послушал бы Вебера… Но нет, сейчас нам нужно что-нибудь современное. Я бы согласился даже на мюзикл. Надеюсь, Пиредра завел в этих краях какое-нибудь варьете?
Когда они уже выходили на улицу, Эрликон спросил:
— Джон, а кто это говорит Реншоу: «Дерек, будь мужчиной»?
— Его секретарша.
— Когда это ты слышал?
— Когда они думали, что их никто не слышит. Пойдем, вон автобус.
Стимфал был не просто столицей, но и признанным духовным центром национального возрождения, так что слава кромвелевских дел напоминала о себе на каждом углу. Как ни парадоксально, но именно Дж. Дж., великий фрондер, занял на патриотическом знамени то место, которое по праву должно было принадлежать основателю и вождю Стимфальской империи Элу Шарквисту.
Да, удивительную шутку сыграли с покойным диктатором время и политические страсти. Три десятилетия послевоенной оккупации и в последующую эпоху владычества землян его имя было под строжайшим запретом, и для нескольких поколений он превратился в фигуру абсолютно нереальную, призрачную, вдобавок донельзя противоречивую и обклеенную ярлыками. Зато легендарный главнокомандующий в мученическом каторжном венце на роль символа подходил идеально. Он Пронес По Вселенной Огненный Меч Стимфальского Воинства. Он Первым Ступил На Землю Солдатским Сапогом. Он До Последнего Мига Удерживал Рубежи Отчизны. Он В Трудные Послевоенные Времена Не Поддался Посулам И Угрозам. Нелишне также вспомнить, что и цензура к его личности придиралась меньше.
Следует учесть еще и то, что основной тон в политике противодействия с самого начала задавали именно кромвелевские ветераны. Один из них, Саша Брусницын, в прошлом — генерал-артиллерист, и основал — еще в то время, когда все и вся было запрещено, — таинственную авиационно-экологическую партию, смысл которой, впрочем, был вполне ясен и заключался в двух словах: Сопротивление и Реванш.
Ныне, спустя более полувека, она именовалась национал-демократической и по численности быстро догоняла правящую либеральную; в кабинете председателя, Дитриха Гесса, висел громадный портрет Кромвеля в полный рост, в парадном облачении, с кортиком и именным оружием. Дни рождения Дж. Дж. партия отмечала митингом и факельным шествием на центральной площади Кинг-Фридрихсплац. Кромвель взирал с мемориальных досок и страниц школьных учебников; молодежь, хлынувшая в партию, щеголяла именно в таком кожаном облачении, которое Дж. Дж. иронически рекомендовал Эрликону, щедро разукрашенном хромированным железом; в память о своем кумире юнцы обесцвечивали прядь волос и носили шнурованные десантные сапоги на подковах, которые уж и вовсе непонятно почему тоже назывались кромвелевскими. Биографии же маршала всевозможных интерпретаций пестрели в каждом киоске.
Одно такое роскошное девятисотстраничное издание с портретом Дж. Дж. в фуражке со шнурами и орлом оттягивало карман потертой летной куртки невысокого юноши, около часа дня вошедшего в стимфальский военный музей.
— Предлагаю послать экскурсию к черту, — произнес голос рядом с ним. — Просто пойдем и посмотрим все подряд.
Биографию велел купить сам Кромвель. «И еще вот такую книгу, — распорядился он в супермаркете и пояснил: — Вечером посмеемся». Очевидно, что посмертная слава маршала волновала мало, но Эрликону все же было любопытно: что же заинтересует Кромвеля в этом хранилище военных реликвий — документы? Какие-нибудь планы или схемы-реконструкции? Пересчитанные варианты хода событий? Дж. Дж. шел от стенда к стенду не спеша, но и нигде не останавливаясь. Ни оружие, ни карты, ни овеянные легендами знамена у него, казалось, никаких чувств не вызывали. Возле целой стены фольмеровских «скорчеров» на кронштейнах он проворчал, ни к кому не обращаясь: «Труха», и Эрлен не понял, что же он имеет в виду.
Наконец, в верхнем зале третьего этажа размером с небольшой стадион — его регулярно арендовали национал-демократы — «торнадо» и «спитфайры» поднимали к потолку, все пространство заполнялось креслами, и с трибуны под гранитной кромвелевской головой Дитрих Гесс произносил свои зажигательные речи. Здесь маршал задержался у фотографии — любительского снимка, увеличенного до исполинских размеров. На фоне серого рассветного неба спиной к зрителю стояли пять фигур в шинелях и фуражках, устремив взгляды куда-то за неразличимый горизонт. Подпись гласила: «Штаб генерала Кромвеля за час до начала второй мировой войны».
— Штаб одиннадцатой бригады, — сказал Дж. Дж. — Кто же это снимал? Слева, конечно, Маккензи… А остальные? Высокий — наверное, Брусницын, рядом — Волхонский… Или нет?
Впервые Эрликон увидел Кромвеля загрустившим.
— Память… Вот уж думал, чего я никогда не забуду…
— И что произошло через час?
— Через час мы начали войну. Высадились на Ригль-19. Вторжение. Пошли.
Сидя в крохотной закусочной за стейком и очередным коктейлем среди наворота искусственной кожи и зеркал, Кромвель сказал:
— Сегодняшний день не в счет, пролетел, в нашем распоряжении осталось двенадцать. Через двенадцать дней мы должны, хоть тресни, выйти на этап. Положение мудреное, хуже не бывает, но возможна же и здесь какая-то догадка! Все думаю, не с ума ли мы спятили, что вцепились в этого «Дассо», как алкаш в «однорукого бандита».
— Бывает, что везет, — заметил Эрлен с набитым ртом.
Кромвель с сомнением покачал головой:
— На Реншоу надежда слабая. Уж очень он, знаешь ли, туповат, хотя у него есть свои положительные стороны… Вот что. Доедай и давай-ка сходим к «Грифу» — есть такой аэродромный ресторанчик, поищем там какого-нибудь парня из «Дассо», пусть он нам расскажет ситуацию поподробней. Пиредра обязательно бы так поступил на нашем месте.
«Гриф» оказался вполне приличной гостиницей в двух шагах от космопорта, с длинным залом ресторана, где, судя по всему, царило оживление в любое время суток. В основном здесь собирались пилоты-каботажники, меньше — трассовики, редкие транзитники в Стимфал-Главный и всевозможная техническая обслуга всех компаний — начиная от гигантов типа «Трансгалактик интернешнл лайнз» и кончая загадочными по названию и, очевидно, контрабандистскими по сути «Калгари вояджерс».
Не тратя времени на достопримечательности, друзья пересекли зал и спустились в тихий для этого времени полумрак бара. Тут за стойкой лихо управлялась статная дама, одаренная природой обильно и со вкусом; обилие это было заключено в синюю мужскую рубашку с закатанными рукавами и перехваченную узорными подтяжками. Возраст дамы, перешагнувший за тридцать, исчез как таковой вообще, а пышность волос, оттенок кожи и разрез глаз недвусмысленно утверждали, что кто-то из ее предков некогда охотился на антилопу среди высокотравных африканских равнин.
При виде этого зрелища Кромвель даже приостановился:
— Ах, черт возьми!
Эрликон тоже замедлил шаг, но совсем по другой причине. На всем облике и повадках экзотической барменши лежал отпечаток такого непередаваемого жизненного опыта, а из ее глаз — кстати, таких же восхитительно синих, как у Эрлена, — исходило такое спокойствие и ледяное презрение ко всему сущему, что пилот оробел. В присутствии людей, излучающих подобную несокрушимую уверенность, он неизменно казался себе маленьким и ничтожным и от смущения часто говорил то, что вовсе не следовало.
Кромвель этих опасений никак не разделял.
— Вперед, — сказал он, — вот кто нам поможет.
Они припали к стойке, и маршал начал речь, время от времени заставляя Эрликона судорожно и не синхронно открывать рот. Впрочем, сперва Дж. Дж. обошелся вообще без слов.
— М-м-м-м… Мммммм-мм-мм-мммм! — промычал он. — Красавица, тебе никто не говорил, что у тебя не шея, а национальное достояние? Из-за такой шеи может быть еще одна мировая война!
— Все? — спросила дама.
— Нет, не все. Обо всем остальном я бы тоже сказал, но у меня нет слов. Ни у кого нет. Таких слов еще просто не придумали.
— Давай к делу, — сухо предложила дама.
— С такой женщиной и говорить о делах… О Господи, куда катится этот мир. Но ладно, хорошо, давай о деле, — миролюбиво согласился Кромвель и Эрленовой рукой вручил ей четвертную бумажку с портретом Стояна Второго.
— Значит, так. Ищем человека. Из «Дассо». Видимо, инженер или механик. Приехал примерно полгода назад. В чемпионате не участвует и вообще болтается без дела. Расплачивается кредитной карточкой.
Вид у дамы стал еще более отрешенный. Тыльной стороной ладони она постучала по стойке. Эрликон растерялся, но Кромвель тут же вложил в эту ладонь еще червонец.
— На фараона ты не похож, — в задумчивости произнесла барменша.
— Я — пилот, моя прелесть, лучший в мире пилот. А тебя, наверное, зовут Вулкан?
— Все вы тут лучшие. Есть такой, какой тебе нужен, Вертипорох его зовут. Живет здесь, в 802-м. Чокнутый. Сейчас дома.
— Пьет?
— Еще как.
— Тогда дай мне вон ту лошадку.
Ухватив «Белую лошадь» за крутой бок, Эрлен уже было с облегчением решил, что разговор закончен, но не тут-то было.
— Послушай, Вулканчик, — продолжал неугомонный Кромвель, — так как же тебя по-настоящему зовут?
— Шейла меня зовут.
— Шейла… Имя у тебя такое же красивое, как ты сама. Как видишь, нас с другом гнетут заботы, но я забыл про них, когда увидел тебя. Сжалься и ответь: с тобой вообще, в принципе, можно встретиться где-нибудь в другой обстановке?
— Ты это серьезно? — спросила Шейла, звеня чем-то скрытым стойкой от приятелей.
— Уж куда серьезнее. Мои чувства самые искренние, посмотри сама — совсем растерялся, слов не нахожу.
Надо сказать, что за время этого краткого разговора под черным облаком Шейлиных волос произошел процесс, точно предсказанный Скифом: внешность Эрлена, прекрасного, но отверженного ангела, имела сильнейшее действие на женские сердца. Для Эрликона, ушедшего в свой обыкновенный зажим, беседа была привычной мукой, а тем временем его романтический вид вкупе с раскованной маршальской манерой произвел в душе красавицы барменши нечто подобное тому, что производит ключ, поворачиваясь в замке; к полному изумлению Эрлена, она ответила гораздо более теплым тоном:
— На этой неделе не получится. Зайди в понедельник.
Кромвель, который как раз ничего удивительного в ситуации не находил, сказал:
— Надеюсь, что ты тоже не шутишь. — И с тем друзья отправились дальше.
Пока они поднимались сначала по лестнице, а потом в лифте, маршал вполне оправился от чар темнокожей хозяйки бара и пожаловался:
— Докатились мы с тобой, Эрли, рыщем по притонам, теперь вот сумасшедшего подсунули; не Пиредре ли все тут продались…
За его шутовской горечью трудно было что-нибудь разобрать, и Эрлен без всякого воодушевления постучал в дверь с бронзовыми цифрами 802. С третьего раза их услышали, и дверь отворилась.
Когда-то в детстве, читая и слушая сказки, Эрликон был необыкновенно заинтересован таким выражением: «ростом со столетний дуб, голова — что пивной котел». Эрлен спрашивал тогда — что это за котел? Сейчас он сам внезапно понял, о чем шла речь. Котел упирался в притолоку и до глаз зарос рыжей бородищей с завитками по краю — где та часть, которая росла на шее, соединялась с растущей на подбородке, так что вся борода получалась как бы двухэтажной, причем был еще и балкон — полукруглый участок, шедший от нижней губы, и, когда Вертипорох ее закусывал длинными желтыми зубами, этот фрагмент становился дыбом, словно полк древних пехотинцев наставлял копья. Спутанные волосы падали на голые плечи — похоже, механик поднялся, еще не проснувшись: в одних джинсах, а левый глаз его упорно не желал расклеиваться.
— Ну? — сипло спросил Вертипорох, привалившись для вящей твердости к косяку.
Несмотря на рост, голова была самой массивной частью его тела, и было ясно, что многодневный хмель сидит в ней плотно, как гвоздь. Тем не менее, глядя из-под зарослей своих бровей, как тать из логова, Вертипорох явственно переводил взор с Эрлена на Кромвеля — пилот изумился: значит, механик видел маршала! Вот так штука! Но что же этой диковине сказать?
— Эй, дядя, — дружелюбно предложил Дж. Дж., — ты бы нас пустил — видишь, мы с бутылкой.
Вертипорох сказал «хм», откачнулся от двери и пошел внутрь, а Эрликон с Кромвелем вошли следом. Это был первоклассный двухкомнатный номер, украшенный кожаным занавесом и батареей пустых бутылок. Войдя, Вертипорох направился к столу и привычным движением взгромоздил на нос очки в металлической оправе а-ля Рэй Тэнго. За время этого отработанного годами движения Эрлен успел угадать по открывшейся картине всю историю вынужденного человеческого безделья: радость от синекуры в первой фазе, загул во второй и, наконец, депрессия в третьей.
Без разговоров появились стаканы, хрустнула пробка, стекло забренчало о стекло, и Вертипорох неожиданно заговорил:
— Я тебя знаю. Ты Эрлен Терра-Эттин. Вертипорох. Одихмантий. Ну, по чуть-чуть.
Эрликон новыми глазами взглянул на литр «Белой лошади» и с ужасом уставился на Кромвеля. Тот остался непреклонен; Вертипорох же мялся, в тоске жевал губу, но в конце концов решился и спросил:
— Слушай, а ты тоже его видишь?
— Ага, — ответил Эрлен, не очень зная, что говорить.
Вертипорох шумно сглотнул:
— Ты давно пьешь? С самой аварии? Слушай, надо нам с этим завязывать — видишь, что делается? — Он кивнул на Кромвеля.
— Вы не очень-то вежливы, молодой человек, — отозвался Дж. Дж. — Как, вы сказали, вас зовут?
— Одихмантий… инженер-механик… двигателист…
— Чрезвычайно приятно. Джон Кромвель, маршал авиации.
Расширенные зрачки Вертипороха перекатились на Эрликона.
— Ты посмотри, — зашептал Одихмантий, — вот ты пилот, я инженер, и вот не черт какой-то нам является, а, что характерно, сам Кромвель. Нет, давай тормозить, а то завтра кто-то похуже может прийти.
— А кто хуже? — спросил Эрлен.
— Не знаю, — пробормотал Вертипорох.
Он храбрился, но было ясно, что механику здорово не по себе, и он дорого бы дал, чтобы это наваждение как можно скорее сгинуло. Но наваждение и не собиралось исчезать, а, напротив, подступало все решительней.
— Скажи-ка мне, механик Одих… Одихмэн…
— Можно просто Дима, — белыми губами вымолвил Вертипорох.
— Да, — согласился Кромвель. — Скажи-ка мне, Дима, что это ты здесь все сидишь и сидишь и в чемпионате не участвуешь? Может, по какому-то приказу твои самолеты не летают?
— По приказу… не летают…
— А что это, Дима, у тебя за самолеты такие?
В жизни Эрликон не видел подобной бледности. Вся кровь отхлынула у Вертипороха от лица, даже виски вроде бы начали западать, и отвечал он неживым голосом:
— Это коммерческая тайна… тайна фирмы…
Было ясно: привстань теперь Кромвель, протяни к механику призрачные, в зеленых огнях руки — и Вертипороху придется выбирать между изменой долгу и параличом. И Дж. Дж. даже как будто немного качнулся вперед, чтобы осуществить это намерение, но вдруг раздумал, решив, видимо, не пугать будущего соратника насмерть, и сменил тон:
— Пилот, разлей-ка с механиком еще по одной… Я, Дима, выпытывать у тебя ничего не стану… потому что сам все знаю. Машина твоя называется С-270.
— «Милан-270», — видимо отчаявшись, еле слышно прошелестел Вертипорох.
— Да, и сказал мне это не сатана в чистилище, а советник Реншоу. Это истребитель-бомбардировщик крейсерского класса, тебе велено тут, в Стимфале, за ним присматривать до приказа, а приказа полгода как нет, ты заскучал и со скуки загулял. Так все было?
— Так.
— Ну вот, радуйся, Бог услышал твои молитвы, привалило тебе счастье.
— Где? — в ужасе спросил Вертипорох и оглянулся.
— Да вот оно, перед тобой, — ласково проворковал Кромвель. — Пришли к тебе замечательные пилоты, великой души люди, а ты выпучился на них, как рыба-пугало, и все толкуешь о каком-то приказе. Это Бэклерхорст должен отдать приказ?
— Да, через Реншоу.
— Видишь, от нас ничего не скроешь.
Похоже, Вертипорох, решив, что все кончено, уже и не собирался ничего скрывать; в отличие от Эрлена, которого разбирал смех, механик еще не научился разбираться в маршальских интонациях.
— Расскажи-ка нам про Бэклерхорста, ведь это не коммерческая тайна? Старый он, молодой, давно ли работает в фирме, даст нам самолет или не даст… и все такое.
Вертипорох отрешенно уставился в стену:
— Человек Бэклерхорст не старый. А даже почти молодой. Пришел он в компанию простым фотографом…
Тут настал черед Кромвеля удивляться. Он откинулся в своем кресле, на некоторое время его лицо утратило всякое выражение.
— Как? — переспросил он. — Фотографом? Ты ничего не путаешь?
Но тут Вертипороху изменили душевные силы, и он смолк, будто зачарованный.
— Биспорамин в доме есть? — зарычал Кромвель, мгновенно возвращаясь в норму. — Что? Где? Эрлен, посмотри в шкафу. Есть? Одну таблетку себе, две механику. Водкой не запивать! И под душ, живо. Эрли, ну-ка, подхвати его.
Начались мытарства на кафельном полу и скользком уступе бассейна. Вертипорох с мокрой головой и бородой стал похож на кошмарного водяного из омута. Застоявшийся хмель упорно сопротивлялся химии и холодной воде. Наконец Эрликон с трудом вывел Одихмантия из ванной в комнату. Снова увидев перед собой мерцающий силуэт Кромвеля, Вертипорох заревел и попятился.
— Стой, дурья голова! — скомандовал Дж. Дж. — Пилот, объясни механику, в чем дело.
Эрликона самого вместо протрезвления крутила какая-то муть, и объяснения его тоже вышли до крайности невразумительными.
— Ты не бойся, старик, ты не спятил, и это не привидение, а научный факт — настоящий Кромвель… такое техническое достижение, с ним можно общаться… Ты только помалкивай, это дело секретное, а мы на службе…
— Ладно, достаточно, — вмешался маршал. — Потом объяснишь в деталях.
К слову сказать, никаких дальнейших пояснений потом не потребовалось, теперь же Кромвель, подойдя к Вертипороху вплотную и склонив голову набок, вопрошал с гримасой почти страдальческой:
— Дима, сокол ты наш золотой, не каждому в жизни выпадает такой шанс, как тебе… Точно Шелл Бэклерхорст — фотограф?
Мягкая и податливая натура механика в краткий срок безропотно поддалась маршальскому натиску.
— Ну вот, чтоб мне… я не знаю что, — поклялся Вертипорох.
— Так… Портрет его, фотография где-нибудь есть? Может, у Реншоу?
Вертипорох вновь закусил губу, вздыбив рыжую бороду, и вновь невидящим взглядом уставился в стену. Пробыв так недолго, он очнулся:
— А! Да! У Елены был юбилейный «Интеллидженсер» — там должна быть фотография.
Менее чем через минуту пилот, механик и научно обоснованный маршал очутились перед дверью с номером 821.
— Если она дома, — сказал Вертипорох и постучал. — Елена, это я.
Из-за двери ему немедленно ответил приятный женский голос:
— Уйди, пьянь, видеть тебя не могу!
Вертипорох переступил с ноги на ногу и загудел снова:
— Елена, открой, срочное дело.
В замке дважды щелкнул ключ.
— Заперлась, — растерянно заметил механик.
— Это что же, и есть ответ? — поинтересовался Кромвель, подождал еще полминуты и, покачав головой, протиснулся сквозь дверь, исчезнув в сомкнувшейся эмалевой глади.
Слышен был начавшийся разговор: «Мадам, я весьма огорчен…», и дальше голос отдалился, стал неразборчивым. Спустя какое-то время женский голос произнес, приближаясь: «Извините, но вам легко, а вы бы видели, что тут творилось…» Ключ еще раз ожил, и Эрлен оказался нос к носу с симпатичной пухленькой блондинкой лет двадцати с небольшим. Разговоры с Ингой, Кромвель, виски и начинающаяся головная боль в значительной степени поубавили Эрликону застенчивости, и, когда Вертипорох, повинуясь маршальскому начальственному крику, ворвался внутрь, словно разъяренный кабан, Эрлен вдруг решил проявить вежливость.
— Вас зовут Елена? Елена, простите нас, пожалуйста, за вторжение, им надо («Почему я говорю „им“?» — подумал он машинально) посмотреть какой-то номер «Интеллидженсера».
— Послушайте-ка, — весьма ядовито ответила Елена, — от вас самого разит, как от бочки. И вода с вас течет. Вы не из канализации вылезли?
— Нет. Это случайность, — принялся было разубеждать Эрликон, но тут, несмотря на усиливающуюся ломоту в виске, его одолел очередной приступ смеха, и он только и смог выговорить: — Честное слово, это случайность. Это не каждый день.
— Кабак, — вздохнула Елена. — Психи.
— Эрлен! — позвал Кромвель из комнаты.
Вертипорох стоял возле открытого шкафа и держал в руках толстый красочный журнал.
— Гляди, — сказал Дж. Дж.
На синем с дымкой развороте были изображены космические корабли, космос и метеориты, шел текст с какими-то поздравлениями, и по бокам — серия портретов в кружевных белых рамках. На одном был запечатлен весело улыбающийся белозубый мужчина в усах.
— Он, — сказал Кромвель. — Помнишь, я тебе рассказывал, мой знакомый, феодал-фотограф?
Эрликон потер лоб:
— Ничего не понимаю. Феодал. А вдруг совпадение?
Маршал пожал плечами:
— Возможно, что и совпадение. Но придется рискнуть. Лен, — добавил он неожиданно, — налей нам чего-нибудь и сама садись.
— Спасибо, — гневно поблагодарила Елена, однако выставила на журнальный столик бутылку муската и одну чашку. — Где остальная посуда, вот у этого алкоголика спросите. Как это я вам вообще дверь открыла? И что-то не пойму, кто это говорит.
— Какая разница, — ответил Кромвель. — Говорит и говорит. Ну, за великие дела. Хороший ты человек, Елена. Выходи вот за парня замуж — смотри он какой!
— Вот еще.
— Ну не хочешь — как хочешь. Механик и пилот, слушайте мою команду. Поход в театр сегодня отменяется. Мы вылетаем на переговоры к Бэклерхорсту. Дима, останешься здесь, смотришь за машинами и ждешь инструкций, дело тебе привычное. Понятно?
— Понятно.
— Теперь еще вот что. Знаешь Рамиреса Пиредру? Испанец, на гитаре играет?
— Слышал.
— Мы с ним в большой ссоре, так что остерегайся: от него жди беды, он и болт в сцепление не постесняется засунуть. Гляди в оба, у него везде свои люди.
— Какое сцепление? — спросил Вертипорох. — Ну ладно, разберусь.
— Последнее. Сухого закона пока не объявляю, но пить бросай, скоро пойдут дела… Елена, будь здорова, привезем тебе конфет. Она ест конфеты?
— Ест, — признал Вертипорох.
— Нахалы, — беззлобно сказала Елена. — Слушайте, кончайте этот спиритизм, мне сегодня статью сдавать.
Из центрального стимфальского космопорта Рахмарз-Топ Кромвель сначала позвонил в службу Скифа, чтобы узнать, как идут дела у врагов и не ожидают ли их с Эрленом какие-нибудь сюрпризы в пути. Стимфальская дежурная сообщила, что пока у Пиредры голова занята другими неприятностями и никаких опасных передислокаций не обнаружено. Потом Кромвель набрал номер представительства и потребовал Реншоу. Тот незамедлительно явился на экране видеофона.
— Еще раз, Терра-Эттин, здравствуйте, — поприветствовал Дж. Дж. бородавчатоносого чиновника. — Через полтора часа я улетаю на Землю разговаривать с Бэклерхорстом, о чем и ставлю вас в известность.
— А… — Реншоу пожевал губами. — Мне сообщать о вашем приезде?
— Сообщите, — разрешил Кромвель.
— Ага, — пробормотал Реншоу. — Надеюсь… э-э-э… все сложится удачно.
По пути был также нанесен прощальный визит к «Грифу». Шейла оказалась на месте и сказала Эрликону «привет» как старому знакомому, отчего у него потеплело на душе. Кромвель же вообще чувствовал себя как дома.
— Вулканчик, на два пальца неразведенного. Вот пришли сказать тебе «до свидания». Улетаем на Землю. Если пройдет как надо, через два дня снова будем здесь, выйдем на этап, выиграем, и — у тебя тут телевизор висит — увидишь, когда вылезем из самолета, первое, что скажу, — самая красивая женщина в Стимфале — Шейла… как тебя дальше?
— Джексон.
— Да, Шейла Джексон из «Грифа».
— Не зарекайся, — посоветовала Шейла. — Дурная примета.
— Если зайдет Вертипорох, скажи: пить я ему запретил.
— Слушай, кто ты такой?
— А вот это, бог даст, скоро узнаешь. Лучше пожелай нам счастья.
— Желаю, — сказала Шейла.
Они сдали в багаж чемодан, в котором лежал Скифов шестизарядный «бульдог», завернутый в старую куртку пилота, прошли освидетельствование и через полчаса уже разместились в креслах салона. Приятели не пожалели денег на первый класс, и в высоком гофрированном коконе, окруженные целым складом полезных в дороге вещей, Эрлен с Кромвелем разместились вполне свободно, без всяких ухищрений со стороны маршала.
— Джон, что же это за феодал, откуда он?
— Обычный феодал, — ответил Кромвель, устраиваясь поперек Эрликона в позе римского патриция на пиру. — Ты слыхал что-нибудь про Тамерлана или Чингисхана? Вот примерно такой же, завоеватель. А откуда взялся — давай порассуждаем. Начав творить чудеса, наш затейник воскресил авантюриста, модельершу и бандита — Рамиреса, Хельгу и Звонаря. Нигде не сказано, что он этим ограничился. Почему бы ему вдобавок не воскресить заодно и феодала, да еще такого толкового?
— А ты его откуда знаешь?
— По Тратере. Есть такая планета, меня там сбили однажды. В мои времена там был десятый век и всего-то стоящих феодалов, что Глостер да Бэклерхорст. Ты не торопись, может, мы еще и ошиблись.
Но Эрлена томило другое.
— Послушай, Джон… Ну, Бэклерхорст, хорошо… А не будет ли это чересчур — вот так просто прийти в «Дассо»? В конце концов, у меня в контракте с «Хевли Хоукерс» есть гарантийный пункт… Можно позвонить…
Кромвель — умышленно или нет, кто его знает, — истолковал слова Эрликона по-своему:
— Что да, то да. Мало чести явиться в одной рубашке, как погорельцы. Впрочем, греха тут большого нет, все однажды начинают с нуля. Мне тут не нравится совсем другое: уж больно нас ведут да подставляют.
— Ну, так это Скиф ведет.
— Скиф, Скиф… Ну да, тебя он воспитывает. Но меня-то воспитывать несколько поздно… Я уже говорил, мне эта история не нравится, она похожа на какую-то дурацкую игру. А любая дурацкая игра что-то за собой скрывает. Возьми наш высший пилотаж. Считается, что это спорт. Но почему-то забыли, что все, что есть в пилотаже — до последнего поворота, — все было изобретено летчиками во время войны.
— Как это?
— А, тебе это в голову не приходило. Для чего ты делаешь «змейку», «глиссаду» или «сжатие», или как там это ни назови? Для того чтобы противник, который зашел тебе в хвост, проскочил вперед и ты мог в него стрелять. Для чего нужна «кобра»? Да чтобы неожиданно выйти из сферы поражения и успеть выстрелить самому, тем более если у тебя кассета с поворотником. «Плоский штопор» — это же не для красоты придумано, это ты изображаешь, что убит, тебя закрутило, крышка, и, если он в это поверил, а ты тактично из «штопора» вышел, будет отменный сюрприз… «Лестница» — противозенитный маневр, и так далее. Кстати, раньше на стимфальских соревнованиях были еще и стрельбы, потом, конечно, убрали. Скиф тоже заставляет нас играть во что-то… Что-то. Он, хоть и жестяной, но разведчик, зря ничего делать не будет… Давай-ка закурим.
Друзья прибыли на Землю, в Эль-Хомру, ночью, а в девять утра уже прилетели в Бурже. Парижская осень немного обгоняла стимфальскую, здесь тоже наступил сентябрь, но сентябрь прохладный, степенный, без ветров и пекла; лето умирало в слабеющем тепле, тиши и не торопилось облачаться в багряный саван. Красные листья по Сене не плыли, а шли традиционные баржи и экскурсионные пароходики с прозрачными кабинами и красно-белыми тентами.
Штаб-квартира «Дассо» была построена в классической манере раннего Брейера: крохотный, тщательно отреставрированный особнячок в стиле Людовика XV, выступающий углом фасада на площадь против Центра Помпиду, был утоплен в современном гиганте стеклянно-силликоловой готики. Попасть к Бэклерхорсту оказалось на удивление просто — или это Реншоу успел составить протекцию? — пришли, сказали, позвонили, подождали семь минут, поднялись на лифте, секретарша кивнула, и пилоты вошли в дверь с ручкой в форме увитого листьями шара.
Кабинет по размерам в пять или в десять раз превосходил прозрачную клетушку стимфальского полномочного представителя. Стены были скрыты за резными панелями темного дерева, потолок трамплином поднимался в сторону высокого, в три с лишним человеческих роста, окна и переходил в него плавным изгибом. Боком к окну стоял многоярусный стол, и вот за этим столом и сидел первый вице-президент транснационального авиа- и ракетостроительного концерна «Дассо Бреге» Шелл Тервельс Бэклерхорст.
Нечасто за время последних приключений Эрликону приходилось видеть людей абсолютно нормальной внешности. На лице Бэклерхорста не было ни шрамов, ни чудовищных бородавок, ни безумных глаз, даже усов, которые были на фотографии в «Интеллидженсере», и тех не было. Вице-президент выглядел как обыкновенный мужчина лет сорока пяти, довольно красивый — красотой, правда, отнюдь не классической, но мужественной и приятной для глаза, темноволосый и коротко подстриженный. На нем были синий костюм, голубая рубашка и галстук в полоску с платиновой булавкой. Словом, перед Эрликоном сидел стандартный преуспевающий бизнесмен, ни в каком кошмарном сне его нельзя было представить жестоким средневековым завоевателем — уж скорее Реншоу походил на какого-нибудь хитрого и вероломного визиря.
Протянув руку в часах с серебряным браслетом, Бэклерхорст показал Эрлену на кресло перед столом и, когда тот сел, доброжелательно посмотрел на него, ожидая, что ему скажут. На пальце вице-президента пилот увидел обручальное кольцо и от этого почему-то окончательно пал духом. Ужас его подскочил до леденящих высот и лишил дара речи. «Ошибка, — прострелило в голове. — Горим».
Но Кромвель, как видно, считал иначе. Подойдя к столу и опершись на него, маршал без колебаний произнес:
— Здорово, феодал.
В отличие от Пиредры Бэклерхорст, удивляясь, поднимал сразу обе брови. Он взглянул сначала на то место, откуда раздался голос, потом на Эрликона и ничего не сказал.
— Сейчас все поймешь, — продолжал Кромвель. — Убери свет.
Помедлив мгновенье, Бэклерхорст опустил руку и нажал что-то внизу стола. Окно потемнело, в комнате наступил полумрак, и Дж. Дж. проявился полностью. Он был ясен, серьезен, свои длинные белые волосы заправил за уши, отчего сразу сделался похож на премудрую сказочную старуху. На сей раз на нем была такая же потертая летная куртка, как и у Эрлена, только с маршальскими погонами с гербами.
— Ну как? — спросил он почти сурово. — Узнаешь? Что тебе напомнить, чтобы ты поверил, что это я? Казанову? Сибирь-68? «Трансгалактик»?
— Ничего не нужно, Джон, — ответил Бэклерхорст. — Я вижу, что это ты. — Говорил он с едва уловимым мягким акцентом, и от всего его облика веяло удивительным спокойствием. — Прости за нескромный вопрос: откуда ты?
— Откуда мы все. — Дж. Дж. пожал плечами, усаживаясь напротив Эрликона. — От Скифа. Кстати, он не предупреждал о том, что мы можем здесь появиться?
— Нет, Джон. Я давно его не видел.
— Верю, верю… Если бы он и знал, что этот разговор состоится, то вряд ли заставил тебя врать… Что же, сказ простой — вот он имел удовольствие чем-то не угодить нашему другу Рамиресу…
— Наш друг Рамирес теперь знаменитый музыкальный деятель.
— Да, он расстроился, разволновался, даже, кажется, собирался парня убить, и Скиф пригласил меня разобраться в ситуации. Вот я здесь. Но расскажи о себе.
— О, моя история не столь романтична, — сказал Бэклерхорст, и Эрлен явственно ощутил, как он пристыковывает одно слово к другому. — Я опять немножко фотографировал, хотел открыть студию, но вот снова оказался за таким столом, еще раз стал функционером.
Первый раз во время разговора Кромвель привычно усмехнулся:
— Как же, очень хорошо себе представляю: хотел студию, а тебя пригласили работать фотографом, ты хотел отказаться, а тебя назначили начальником отдела рекламы, тебе и это не понравилось… а что было потом?
— Потом было много всего. — Бэклерхорст улыбнулся.
— Было много всего, и ты хотел уходить, а тебя вот сделали директором и вице-президентом. Когда тебе надоест и это, тебя изберут президентом, а там, глядишь, «Дассо» переименуют в «Бэклерхорст».
— Это вряд ли возможно, но в основном ты прав: я не гонялся за этим креслом.
— Я так и думал — оно гонялось за тобой. Восемьдесят лет назад ты был точно таким же. Однако, как ты думаешь, зачем мы пришли?
— Я думаю, затем, — предположил Шелл, — чтобы повидать старого друга.
— Конечно, — согласился Кромвель.
— Но также думаю, что тебя привели и деловые причины. — Бэклерхорст повернулся и достал из верхнего отделения стола массивную, окантованную хромовой гусеницей папку. — Мне звонил Реншоу. Видимо, этот мальчик и есть тот самый пилот, который вызывает такой всеобщий интерес?
— Да, это он, — подтвердил Кромвель. — Шелл, ты не хочешь нас купить?
— Джон, не торопи события, а то я запутаюсь, и придется все начинать сначала. Помни, что я не ждал твоего прихода.
Вице-президент нажал на столе еще что-то невидимое и спросил:
— Анна, с кем я обедаю сегодня?
— Ни с кем, шеф, — ответил женский голос под потолком.
Бэклерхорст посмотрел на Эрликона:
— Молодой человек, скорее всего, хочет есть. У юности свои неоспоримые преимущества. Джон, я предлагаю покинуть это помещение и перейти в другое.
Он встал из-за стола, взяв с собой папку, и открыл совещание словами: «Как я понимаю, ты хочешь летать на „Милане“ и на меньшее не согласен…» Загадочный феодал и маршал разложили бумаги и зажгли проектор в оранжерее на самом верхнем этаже здания «Дассо» под скосом стеклянного потолка, а Эрлен устроился за изысканным двухэтажным столиком, щедро нагруженным всеми видами закусок, коктейлей, соков и фигурно нарезанных фруктов.
Здесь, в подражание Цезарю, придется пояснить, что летное ремесло делится на три части. Первая, наиболее зрелищная, — это демонстрация зрителям, судьям, соперникам спортивного мастерства. Вторая — более затаенная сторона, раздел инженерных секретов, тех конструкторских ухищрений, которые обеспечивают ставки на многомиллионные барыши; а третья часть и вовсе скрыта от людских глаз — это магическая область менеджмента, сделок и гонораров — от дьявольского искусства заключения многостраничного контракта с хвостатыми подписями до византийских интриг из-за надписей на фюзеляже.
Эрлен знал — и то не в совершенстве — лишь пилотажную часть профессии. Не в совершенстве потому, что многие из обязательных элементов не любил, не работал над ними и старался по возможности обойти, шлифовал же то, что доставляло в воздухе удовольствие ему самому, и слабых мест у него в программе всегда было предостаточно. Что же касается электроники или моторов, то Эрлен вряд ли сумел бы поддержать даже самый нейтральный разговор со своими же техниками или электриками. К деловой части его отношение было еще более незамысловатым: он глубокомысленно выслушивал все то, что говорили ему люди, которых приводил ему тренер Холуэл Дэвис, потом брал бумаги, открывал сразу последний лист, где стояло число с тремя нулями, и рисовал — сначала большие буквы Эй-Ти-Эй, а дальше что-то вроде энцефалограммы шизофреника с росчерком на конце; потом звонил Скифу и с важностью в голосе говорил: «Ну, я заключил контракт».
Дж. Дж. явно придерживался иного взгляда. Уплетая мясное ассорти, Эрлен прислушивался к полному технической тарабарщины разговору, который шел по ту сторону заросшей кипреем альпийской горки, и очень скоро понял: да, Кромвель презирает и спорт, и спортсменов, для него все это дурацкая игра, но знает он эту игру досконально и играть в нее будет на полном серьезе, придираясь к каждому блоку в дубль-схеме и к каждой запятой в договоре.
Пока вице-президент и маршал ожесточенно препирались по поводу неведомых деформаций, фиксаций, компенсаций, а также лобового сопротивления и нестандартного бака, Эрликон слушал вполуха, попивая сок и листая одной рукой последний фарбороский каталог, в котором круглая физиономия Эдгара Баженова, друга и разлучника, врезалась в блистающий лаком профиль СУ-1027. Каталог был доставлен вместе с едой — «Дай ему пока какую-нибудь книжку с картинками», — велел Кромвель. Прозвучало это не очень-то лестно, но Эрлен решил не обращать внимания. Вырвавшись из клещей стресса, он автоматически впал в нечто наподобие эйфории — слава богу, зарулили в колею, эти двое знают, что делать, вот и пусть делают, а наша планида — ручкой крутить. Правда, на дне его блаженства уже закопошился какой-то червячок, но Эрликон не пожелал его замечать: «Устал. Успею. Сейчас мне хорошо, и точка. Все».
Разговор тем временем перешел на вещи более интересные. Он отложил каталог и, не встречая сопротивления, пересел поближе.
— Джон, — очень деликатно говорил Бэклерхорст. — Боюсь, ты не отдаешь себе отчета, насколько неудачный момент мы выбрали. В начале октября в парламенте начинаются дебаты об отмене линейной подпитки. А мы менее чем за месяц до этого выставляем на международное обозрение серийную машину с топливным баком. Многие скажут, что это нахальство.
— Вот и прекрасно. Выиграем и докажем преимущество топливной кассеты.
— Разумеется, если закон об отмене линейной подпитки будет принят. А если нет, репутация «Дассо» за последнее время не слишком поднялась, и такой удар по ней был бы нежелателен. Этот самолет мы никак не сможем выдать за спортивную модель.
Впервые Эрлен видел Кромвеля озадаченным и ищущим выхода.
— Но, послушай, ведь вы все равно продаете свою технику в страны «третьего мира», а они не входят в конвенцию о подпитке.
— Сегодня не входят, но завтра войдут, и потом это скверная реклама.
Речь Бэклерхорста была размеренна и даже медлительна, и Эрликон решился задать вопрос:
— А почему хотят отменить линейную подпитку?
— Формальная причина — экологическая: энергетическая перенасыщенность среды, токи высокой частоты, электронный резонанс. Кроме того, по последним данным, линейная авиация утрачивает эффективность.
Совершенно ясно, что у Бэклерхорста можно спрашивать что угодно, не стесняясь. Эрлену такие люди очень нравились.
— Если закон будет принят, — неспешно втолковывал вице-президент, — нас обвинят в лоббизме и милитаризме, но победителей не судят. Но если нет, на нас с вами упадет весьма густая тень.
— Черт возьми, — сказал Кромвель, — так если у вас есть лобби, вот и сделайте, чтобы авиационные фирмы одолели линейщиков, а уж мы тебе устроим пропаганду.
Бэклерхорст успокаивающе поднял руку:
— Разумеется, у нас есть лобби, и у линейщиков есть лобби, но я этим не занимаюсь. Я занимаюсь самолетами. Я в настоящее время должен убедить президента выставить машину на салон.
Кромвель нетерпеливо дернул головой:
— Шелл, так ты на нашей стороне или нет?
— Я на нашей стороне, но немедленного ответа дать не могу. Для начала я должен собрать совет директоров. Случай беспрецедентный — машина с суперкомпенсаторной тягой, на границе допустимой формулы, потребуется очень большое давление на судейскую коллегию. Твое имя решило бы многое, но, как я понимаю, у нас его сейчас как бы нет. Даже если совет решит дело в нашу пользу, я все равно не могу гарантировать полновесный контракт и фирменные наклейки.
— Мы очень хорошо слетаем, — пообещал Дж. Дж.
— В этом, Джон, я не сомневаюсь.
Опустив глаза от голографического многоцветного разреза двигателя, висевшего над столом, Эрликон заглянул в разложенные чертежи и тут-то наконец увидел изображение того самолета, на котором ему предстояло летать. Юный питомец ИК не обладал способностью Кромвеля по одним цифрам без всякого компьютера представлять себе машину во всех ракурсах «живьем», но прилежно расчерченная схема — с традиционной разметкой на выпущенное и невыпущенное шасси — все же изумила его.
Кромвелевская мечта человечества более всего имела сходство с карикатурой на любой современный истребитель — стандартный профиль был неимоверно вытянут, но не по горизонтали, а по вертикали, словно строили самолет в колодце и громоздили в высоту из-за нехватки места. Типический перехват «талии» за кабиной при этом сохранился, а пара и без того громадных вертикальных косо посаженных килей приобрела уж и вовсе гротескный вид. Но что было самое странное и удивительное, так это то, что под крыльями монстра очень складно пристроилось множество остро— и тупоконечных ракет самого хищного вида!
— А вот у меня такой вопрос, — начал Эрлен, радуясь тому, что говорит с такими людьми, в беседе с которыми вещи можно называть своими именами. — Всю жизнь меня учили, что на Земле производство оружия запрещено, а вот тут нарисовано всякое такое…
Бэклерхорст посмотрел вначале на Кромвеля, потом на Эрликона, и в голосе его зазвучало бесконечное терпение:
— «Дассо» не производит оружия на Земле. Оружие производят другие фирмы и в других регионах. Но мы с этими фирмами в хороших отношениях, так что на сборке все стыки — электроника, механика — совпадают, и закон при этом не нарушается.
— Вернемся к нашим баранам, — вмешался Кромвель, не желая тратить время на подобную азбуку. — У тебя будет много хлопот с оппозицией?
— Да… если я скажу, что все без исключения обрадовались, когда я вошел в тот кабинет, это будет неправдой.
— А если мы проиграем? — опять полез напрямик Эрлен.
— Многие вздохнут с облегчением, — ответил Бэклерхорст. — А я открою фотостудию и осуществлю свою давнюю мечту. Я охотно приглашаю вас в мое скромное заведение.
— Когда соберутся твои директора? — спросил Кромвель.
— Сегодня, — невозмутимо отвечал вице-президент. — Они, наверное, уже начали собираться. А через шесть часов мы должны сообщить свое решение главе компании.
И он дружески улыбнулся Эрликону. В эту минуту пилот посмотрел на вице-президента по-новому. Если от Кромвеля исходило ощущение коварства и опасности, то от Бэклерхорста просто веяло силой и сознанием этой силы — от его неторопливости, от благожелательно-внимательных глаз, от сложенных на столе спокойных рук. Каков же он может быть, если, не дай бог… Спустя считанные часы он все с тем же хладнокровием поставит на кон свою блестящую, судя по всему, карьеру. Неясный шепот былого донесся до Эрлена, какие-то тени незримо встали за спиной Бэклерхорста — огромные, бородатые, в рогатых шлемах… Впечатление исчезло так же легко, как и появилось, но, кажется, вице-президент и впрямь гораздо больше похож на грозного феодала, чем показалось сначала. Средневековый воитель достал из внутреннего кармана бумажник змеиной кожи.
— Купи мальчику приличное пальто, — сказал Бэклерхорст. — В какую это рванину ты его нарядил.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Убить Эрликона Рамирес поручил Гуго Сталбриджу по прозвищу Звонарь — своему первому заместителю и лучшему другу Инги. Так в пестрый узор судьбы Эрлена вплелась еще одна нить, и еще от одного человека стала зависеть жизнь пилота.
Звонарь — земляк и современник Бэклерхорста, он тоже из Тратеры, хотя и из других краев — владений герцога-чернокнижника, принца-регента Ричарда Длиннорукого, второго из двух, согласно мнению Кромвеля, «стоящих» феодалов на Тратере. Предвижу здесь упрек — что-то уж больно тесен этот мир! — но нет, читатель, мир тут ни при чем, виноват список мнемограмм, попавший в руки Скифа, кому на горе, кому на радость. Но все по порядку.
Крестьянский сын, пастух, солдат, разбойник. Все сведения о жизни Гуго Сталбриджа на Тратере путанны, темны и недостоверны. По официальной версии, Гуго с войском длиннорукого герцога (действительно обладателя фантастических рук, хотя ростом — карлика) был в походе за Эккские хребты, дошел до Междуречья, где-то и как-то воевал, но вскоре вновь очутился в родных местах с вольной ватагой в зеленом лесу, который, сообразно созвучию, можно назвать Бэрнисдельским. Брал, как водится, у богатых, раздавал бедным, творил справедливость по собственному разумению, а разных неугодных, в том числе и монахов, вешал на колокольных языках, за что и был прозван Звонарем.
В 431 году по земному летосчислению легенда о лесных братьях с мечами в мохнатых ножнах, мастерах натянуть тетиву так, что оперение длинной ясеневой стрелы цепляло за ухо, надолго прерывается. Герцогов меч, обращенный внутрь отчизны, был не менее остер, чем обращенный вовне. Любимец всемогущего регента, Рыжий Монмаут, дважды сумел подстеречь лихих молодцов, Звонарь оставил на поле битвы немало своих верных и сам спасся едва ли не чудом. Небо над косматой разбойничьей головой начинало наливаться бездонной осенней синевой, и, глядя на первые желтые листья, Звонарь крепко призадумался. Конечно, в непролазных чащобах можно пересидеть какого хочешь Монмаута, но ведь по морозу из берлоги носа не покажи, а там весна. И что весной?
Гуго решил выждать и на рожон не переть. С немногими сотоварищами он отправился через болотистые дебри на северо-запад, к побережью. Туда королевские шерифы пока не доехали, там правят самовластные бароны, народ — рыбаки да разбойный морской люд, и дышится свободней. А в Бэрнисделе стереги, Монмаут. По весне видно будет.
Держа все это в голове, Звонарь явился в край шхер и фиордов и там обнаружил, что в своих чаяниях обманулся. Проклятый коронованный колдун ухитрился побывать тут раньше — сначала восстановил баронов против поморской вольности, и те все здешние логовища обратили в дым и пепел, а потом перебил и самих баронов. Однако именно над приморскими головешками и произошла памятная встреча — Гуго Сталбридж столкнулся с двумя величайшими лоботрясами всех времен и народов — хитроумным испанцем Рамиресом Пиредрой и феноменально одаренным и столь же феноменально безалаберным Дикки Барселоной.
Рамиреса в эти места привела точно та же причина, что и Звонаря, — желание оказаться подальше от герцогских чудес — правда, путь он проделал подольше, чем Гуго. После крушения всех затеянных им смут, уйдя от длиннорукого владыки в одной рубашке, Пиредра пересек почти пол-империи, имея при себе лишь друга-приятеля Барселону да безграничные перспективы. Со Звонарем они договорились в пять минут, оружие вернулось в ножны и кобуры, и судьба лесного атамана повернула на новый этап.
Хочу напомнить, что Рамирес был не просто бандитом, но еще и авантюристом. На Тратеру он явился в поисках легендарной Базы Предтечей, — никаких ограничений, налагаемых рассудком, он не знал и знать не хотел, ему было мало обычных денег и обычной власти, как бы велики они ни были, его жадность простиралась до границ сверхъестественного — урвать такое, чего ни у кого и никогда не бывало, и опередить ораву лютых и беспощадных конкурентов.
В тот год Пиредре не везло страшно. Сначала — смерть покровителя, папаши Хендерсона, и как снег на голову — арест; за ним процесс, потом побег, и прямо со скамьи подсудимых Рамирес угодил в лапы ехидины Кромвеля, который продержал месяц и, грозя карцером, заставлял, издевательства ради, читать и пересказывать «Избранное» Макиавелли, после всего — неудачное столкновение с Терра-Эттином-старшим (младшего в ту пору и в помине не было), и, наконец, здесь, на Тратере, в двух шагах от Базы, что таит в себе неисчислимые богатства и могущество, только бери — нет! — какой-то безумный Длиннорукий не дает житья.
Естественно, о том, чтобы повернуть назад и пройти через герцогские земли, ныне и речи быть не могло. Что же делать?
Придумали. Новоявленные братья по оружию проделали фокус, неожиданный для любого герцога: раздобыв по случаю поморскую ладью, они подняли полосатый парус и двинулись на юг морем, не более чем за месяц обогнув берега будущей Серединной империи! Блестящий спортивный рекорд, если учесть, что в экипаже не было ни одного профессионального моряка. У румпеля в основном стоял Звонарь, и к началу ноября по осеннему ветру он привел судно в Запроливье.
Смелым Бог помогает. Друзья-разбойники переправились через Пролив, перевалили горы и долы, где еще не успела осесть пыль, поднятая железоковаными ордами Бэклерхорста, и там, на востоке, Пиредра преуспел-таки в своих притязаниях, кажущихся бредом любому нормальному человеку, — компания дошла до Базы пришельцев, и Звонарь без всякого предисловия перешагнул из средневековья на две с лишним тысячи лет вперед. Так банда аферистов на столетие опередила и Скифа, и всю мировую науку. Впрочем, не будем забывать, что один из трех был ведущим нейрокибернетиком эпохи, а второй — самым талантливым авантюристом своего времени.
На Земле Рамиреса ожидали хлопотливые дела по восстановлению оборванных связей и укреплению авторитета: преступный мир успел списать со счетов своего непутевого сына. Место под солнцем надо было завоевывать заново, и в жизни Звонаря воцарился кровавый сумбур.
Сохранилось несколько фотографий тех довоенных лет, но они, к сожалению, только лишний раз доказывают вечное и неоспоримое превосходство живописи над самой совершенной фототехникой. На снимках мы видим ничем не примечательного молодого человека, явно ниже среднего роста, с очень правильными чертами лица и, если верить линиям одежды, весьма могучими плечами. Вот, пожалуй, и все, разве что в губах, в рисунке плотно сжатых челюстей ощущается что-то строгое, даже чопорное. Нет и намека на то, что показывают позднейшие портреты, — жуткий, всепонимающе обреченный взгляд, массивные, почти одутловатые и одновременно чем-то привлекательные черты, словно сошедшие со стен древнемексиканского храма Надписей.
И уж конечно, ни один из этих посредственных и случайных кадров не подскажет, что на них запечатлен самый знаменитый убийца тридцатых годов. Скверную шутку сыграл с недавним защитником угнетенных и обиженных неожиданный талант в обращении с огнестрельным оружием. Дьявол ли его так наградил, или уж как так вышло, но выяснилось, что Гуго словно родился с пистолетом в руках. Стрелял он непостижимо, против всех правил, с нетронутой цивилизацией дикарской ухваткой, не разбирающей разницы между броском копья и выстрелом из винтовки; стрелял, ведомый чутьем пастуха, который, крутанув над головой рукоять трехметрового кнута толщиной в руку, с точностью до четверти дюйма чувствует, куда с громоподобным хлопком ляжет крошечный с венчиком узелок на конце. Пистолет для Звонаря всегда оставался родичем грязнухи баллисты, скажем так — пулебросом, и крепостной арбалет Гуго уважал куда больше любого гранатомета. Поэтому, доверяя верности глаза и руки, а не автоматике, он остановил свой выбор на старомодном, но испытанном временем кольтовском восьмизарядном 44-м. Итак, непревзойденный стрелок, человек невероятной физической силы — и удивительной честности. Верный данному еще на Тратере обещанию, он служил Пиредре не за страх, а за совесть, впадая, правда, подчас в припадки бешеной ярости, но неизменно свято полагая братство по оружию самыми неколебимыми узами между людьми. Рамирес знал, что Звонарь стерпит все, что угодно, кроме вранья, и потому врал ему с особой тщательностью и осторожностью, предпочитая вообще обходиться по возможности правдой. Сам же Гуго сделался с годами молчаливым и угрюмым и приобрел пристрастие к умиротворителю, разлитому в высокие литровые бутыли.
Немало поучительных историй оборвали звонаревские выстрелы, немало мафиози на том свете ломают головы, когда это Сталбридж успел вытащить пистолет, но всему положен предел. Комплекс вины, тоски и отчасти ностальгии у Гуго рос, рос, дорос до критической массы и однажды взорвался. В разгар очередной ошеломляющей эпопеи Звонарь неожиданно поведал Рамиресу, что быть бандитом и убийцей ему осточертело, и если Пиредра не может без него обойтись, то пусть с легким сердцем провалится к дьяволам в ад. Ситуация не позволила Рамиресу покарать ослушника, и Гуго невредимым вернулся в Бэрнисдель путаными бродяжьими тропами; там о его дальнейшей жизни и смерти повествует множество противоречивых преданий, народных баллад и песен.
Прошли годы. Отпылало военное десятилетие. Не стало Пиредры, расстрелянного по приказу Кромвеля, сгинул и сам Серебряный Джон, и вся его эпоха, поменялись границы и правительства, минуло более полувека, в людской памяти стерлись многокалиберные перепалки главарей затененного мира. На землях отступивших Северных морей было воздвигнуто здание Института Контакта, и там, на сорок восьмом этаже, в один прекрасный день Эрих Скиф на листе миллиметровой бумаги принялся рисовать свои кружочки и квадратики. Лист этот он вскоре сжег, а построения продолжил в голове. Все без исключения варианты предусматривали в своих схемах квадратик с литерами Г. 3. — Гуго Звонарь.
Создатель учения о Программе прекрасно разобрался в структуре довоенной мафии и понял, что без поддержки чудаковатого скорострельного лесовика Рамирес много потеряет и в оперативности, и в надежности. Переписанный из консервного фонда Барселоны, разбойник явился на божий свет вместе с остальной братией, не ведая ни о своем последнем бунте, ни о возвращении на родину. Пиредра знал, но тактично молчал.
Итак, согласно официальным данным, двадцать первого июня семьдесят четвертого года в Топеке был арестован Гуго Сталбридж, чьи кости давным-давно легли в далекую тратерскую землю под высокими соснами веселого Бэрнисдельского леса. Без всякой охоты жертвуя собой ради науки, Гуго вновь ступил на ненавистную большую дорогу. Однако впереди его ждала «Олимпия».
Нельзя дважды войти в одну реку, а в одну и ту же судьбу тем более. Повторный тандем начался с того, чем кончился первый, — со ссоры и разрыва. Теперь, правда, под бдительным оком Скифа обошлось без скандала, внешние приличия были соблюдены, но сюзеренные претензии Рамиреса Гуго отверг и, согласившись работать по контракту, отвоевал себе право оставаться тем, кем всегда и был, — вольным стрелком, хотя уже и без тратерского колчана, посему, забрав первый скифовский гонорар и выждав ровно столько, сколько ушло на изготовление знаменитых заказных ручек для пистолетов, Сталбридж отбыл в неизвестном направлении. Рамирес только плюнул и загнул крутое каталонское словечко: деревенщина в своем дикарском репертуаре.
Девять лет отделяли тогда Гуго от «Олимпии». Это была, пожалуй, самая пестрая полоса в его жизни: нашего стрелка носило по миру поистине без руля и без ветрил, но, судя по всему, его интерес к музыке уже тогда был велик — большую часть времени он проводит на концертах классики и групп всевозможных стилей, играет на фортепьяно и даже пытается собирать коллекцию записей. С другой стороны, можно заметить, что ни любви, ни подлинного участия за это время Гуго не встретил — отчужденность и привычка к запоям и загулам прочно вросла в его натуру, и Рамиресу частенько приходилось вызволять его из разных дурацких историй: то в какой-то захудалой гостинице Звонарю помешала спать возня мышей в шкафу, и он, будучи серьезно не в духе, с двух стволов снес этот шкаф, в результате чего проститутка в соседнем номере получила дырку в ноге. В итоге Пиредра, выложив круглую сумму, увозил Гуго и от правосудия, и от темпераментной дамочки, которая прямо в зале суда отозвала иск и объявила о намерении выйти за Звонаря замуж. То на провинциальной ярмарке крепко поддатого разбойника переехал автомобиль, и Гуго, перед тем как погрузиться в небытие, успел-таки вырвать пушку, и единственная пуля угодила в аварийный компенсатор, так что от машины и водителя осталось одно колесо, которое позже нашли за полмили от места происшествия на поле для гольфа, и реанимация повезла Звонаря прямиком в тюремный госпиталь. Случалось Рамиресу избавлять и удерживать Гуго от выполнения разного рода сгоряча данных обещаний — несмотря на ругань и требования не мешать жить, как хочется.
Но вот как-то раз на кухне некой заправочной станции, затерянной в тридесятой тмутаракани, отворилась дверь, и Рамирес прошел в своих узорчатых спортивных туфлях по зашлепанному кафелю. За алюминиевым столом со скудной закуской, в компании диковатого вида опухших личностей, восседал скорее уже бородатый, нежели небритый, Гуго — синий, всклокоченный и пребывающий в обычном сомнамбулическом состоянии.
Никто не обрадовался и не сказал «здравствуйте», Пиредра оценил обстановку и, зная манеру Звонаря весьма горячо заступаться за друзей-собутыльников, просто подошел и положил на стол две тысячи двадцатью бумажками. Их он заранее держал между пальцами, дабы не волновать публику движением руки в карман.
— Через неделю, — произнес Рамирес внятно, — жду тебя во Франции. Через неделю. Бенц по твоей части.
Звонарь смотрел перед собой, как вареный судак. Пиредра повернулся и вышел.
Однако ровно через неделю, день в день, загудел зуммер, секретарь сказал: «Шеф, вас Сталбридж», и, сняв трубку, Рамирес услыхал низкий, с хрипотцой голос Звонаря. Каждый раз, слыша его, Пиредре неизменно хотелось откашляться самому. Но, словно в противовес, природа наделила Гуго изумительной, совершенно актерской дикцией — тот же Рамирес с удовольствием разбирал ясную речь Звонаря сквозь шумы и помехи самой дефектной записи без всяких фильтров. Кстати, забавно, что и почерк его отличался удивительной четкостью — едва научившись писать (почти в тридцать лет), в любом состоянии духа Звонарь выводил по бумаге идеально ровные строки мелких и каллиграфически выписанных букв.
Рамирес ждал Гуго на улице за столиком кафе. Стоял месяц май прохладной весны восемьдесят третьего, до полудня было далеко, ночью прошел дождь, пронизанный мостами Ситэ плыл над рекой, а над островом, в свежей зелени, возвышался великий собор; за обрезом набережной был виден край резного парапета, еще дальше — следующего, и над ними — дома с грифельными крышами и окнами мансард. Пиредра, в жемчужно-серой тройке, сидел, откинувшись на белом гнутом стуле, вытянув ноги, и щелчками сбивал со стола крошки на потеху толпящимся голубям; ухоженная борода, волосок к волоску, упиралась в узел галстука. Не страдая никакими идеями, авантюрист до бесстыдства любил жизнь и умел радоваться ей во всех ее проявлениях.
Голос под дымчатым пиджаком Рамиреса произнес: «Сталбридж на подходе, шеф», и в самом деле через минуту показался Гуго. Он вышел со стороны набережной, протиснулся между припаркованными машинами и, разгоняя голубей, направился к кафе.
Одет был Звонарь в просторную крупной вязки хламиду со спортивной ветровкой поверх, рабочие штаны с огромными карманами и охотничьи ботинки; на плече, будто коробейник, нес нечто наподобие кожаного кофра, Пиредра был вынужден внутренне признать, что одеяние, несмотря на странность, имело своеобразный стиль. К тому же разбойника где-то коротко подстригли: путаные пряди исчезли, и Гуго приобрел сходство с древнеримскими скульптурными портретами с их прямолинейной резкостью черт и грубой чувственной красотой. Выглядел Звонарь свежо, был выбрит, что свидетельствовало о путешествии по крайней мере вторым классом.
— Привет, — сказал Гуго, устанавливая кофр и усаживаясь напротив Пиредры.
— Твои бегемоты?
— Мои, мои. Вот такие ребята. Ешь, это все для тебя. Ты, кусок задницы вонючей, ты что на меня таким зверем смотрел?
— Что, правда? Я что-то не все помню.
— Ладно, какое там дело?
— Хорошее дело, — ответил Рамирес. — Посмотри-ка сюда, чертила. Видишь?
— Ну, стройка какая-то.
— Это не стройка, а ремонт, но суть не в этом. Называется концертный зал «Олимпия».
— Та самая?
— Почти что да. Короче, мы ее купили. Корпорация «Олимпийская» и зал — «Олимпия», очень складно. Угадай, кто будет директором?
— Что гадать — ты и будешь.
— Нет, друг, у меня фирма на плечах. Берись-ка ты.
— Интересные дела.
— Интересные, интересные. Дорогой, ты вот что, — Рамирес приблизился к болезненной теме, — ты пока бросай. Тут планы серьезные, завалишься — я тебе сам такую торпеду вклею — до смерти будешь икать. Сам знаешь — за нами Контора.
— Я пока завязал, — хмуро пообещал Гуго. Это не было пустыми словами — ни Пиредра, ни кто угодно не поставил бы на Звонаря и копейки, если бы тот хоть раз в нужный момент оказался вдруг не в форме; никакое мастерство не спасло бы Гуго в этом мире, если бы не способность брать себя в руки до дела и независимо от дозы спиртного замогильно молчать после.
— Значит, так. — Пиредра водрузил на стол и открыл «дипломат». — Чековые книжки и удостоверения; это записная книжка — все телефоны, которые могут понадобиться поначалу, дальше разберешься сам; перво-наперво позвонишь вот этому парню — он тебе устроит как и что, поедешь с ним в салон, там оденут и обуют.
Звонарь хмыкнул:
— Это не к Хельге?
— Станет тебя Хельга одевать. Полистай вот это и попробуй вникнуть — стиль сейчас пошел замысловатый, народ свихнулся на ретро, так что вспоминай, что носили в тридцатых, и держись этой линии. Альбомы тебе дадут.
— Угу, — кивнул Гуго. На своем веку он видел приготовления и почуднее и гордился профессиональным умением ничему не удивляться.
— Бумаги на тебя все готовы. Ты человек новый, сразу не светись, чуть что — спрашивай у меня. Консультантов и разных там адвокатов будет миллион, подскажут, твоя задача — распоряжаться представительским фондом и кадрами. Счета только наши, «олимпийские».
— Это как же понимать?
— Нанимай ребят. Пожарная охрана, фельдъегерская служба и так далее, шелупони не надо, зови самых надежных и поначалу смотри, копытом особо не бейте, сидите тихо — надо будет, я скажу нужное слово.
— Так, — сказал Звонарь, уразумев наконец, в чем дело.
— Кого надо — угощай, но марку держи. — Рамирес подмигнул. — Мы теперь не вахлаки, наш номер европейский. Такие дела. Да, сегодня в три — у меня. Посмотришь на рожи.
«Олимпия», в здание, точнее, в стены которого Звонарь вошел в компании архитекторов, дизайнеров, строителей, электриков, акустиков, механиков и сантехников, пребывала в самом плачевном состоянии. Кризис жанра, вереница неудачных сезонов, один из самых глухих пиков нескончаемого многовекового упадка французской эстрады — все довело старушку до закрытия, банкротства и распродажи — целиком и по частям, ее ободрали снаружи и изнутри, и самым реальным было сделать здание залом игровых автоматов. Купив ее, «Олимпийская музыкальная корпорация», президентом которой был Пиредра, заплатила скорее за землю, нежели за все прочее. «Больше ушло на взятки», — пояснил Рамирес, посвящая Звонаря в курс дела.
Посему ни от Гуго, ни от самой «Олимпии» никто никаких чудес не ожидал. Пиредра видел в ней прикрытие для разношерстной гвардии специалистов, необходимых для концерна, Скиф тоже предполагал под этой вывеской разместить свою «отмывочную бухгалтерию», а все остальное — для фасада. Звонарь по идее также предназначался для фасада, но разбойный «чертов самородок» вдруг круто повел собственную линию и принялся творить вещи необыкновенные.
Робел Сталбридж вначале ужасно, отчего, впрочем, держался еще решительней и суровей, но по своей закоренелой наивности искренне верил, что способы управления шайкой лесных разбойников и шоу-бизнесом не просто схожи, но по сути одни и те же. Одевшись в духе пожеланий Пиредры (авантюрист при помощи Хельги тогда только-только начинал проталкивать в моду родное довоенное ретро и вел великую битву с набиравшим силу стилем «фар космик») — кожаное пальто, черная велюровая шляпа, сапоги, — Звонарь с первого дня засел на стройке, окружил себя экспертами, секретарями и телефонами и не на шутку взялся руководить.
Финансовая его обеспеченность была безупречной, а знание людей — горьким опытом двух жизней. Гуго умел молчать на редкость грозно и убедительно, а когда говорил, в голосе звучали необычное мрачное обаяние и варварская уверенность во всеобщем равенстве перед стволом 44-го калибра. На музыкальный мир Звонарь неожиданно произвел самое благоприятное впечатление. Среди менеджеров начали расти и множиться слухи, что бородач Пиредра выкопал откуда-то на диво пронзительного мужика и как бы старая «Олимпия» не пошла в гору.
Рамиресу Гуго практически не звонил: «Завалюсь, вот тогда присылай своих громобоев, пусть пристрелят к чертовой матери». Пиредра, однако, скоро сам залез в Звонарев кабинет, где пока не было ни одной стены, заглянул в бумаги и через минуту не знал, смеяться или плакать.
— Это что такое?
— Репертуар фестиваля.
— Какого еще фестиваля?
— «Спасем французскую песню».
— Друг милый, это тебя спасать надо! У тебя потолки еще не сделаны!
— Имя не с потолка берется, — рассудительно возразил Гуго. — Имя вот такими делами делается. Я с телевидением договорился.
— Вот я тебе что дам под этот фестиваль… — предупредил Рамирес.
— Вставь себе и поверни три раза, — ласково успокоил его Звонарь. — У меня кредит Благотворительного фонда и пять миллионов от Дюпре. И пока я здесь, такой фестиваль буду проводить каждый год.
Пророки музыкального мира угадали — «Олимпия» пошла-таки в гору! «Глупо, но, кажется, мы начали зарабатывать на этом чудилище», — сказал Пиредра Хельге. Методы работы Звонаря были, возможно, архаичны и наивны, но, несомненно, действенны. Дав слово, он его держал, и скоро многие убедились, что если уж Сталбридж обещал, то хоть с угоном самолета, хоть с пальбой, но ты будешь на сцене в положенное время, и пеняй на себя, если окажешься не готов. Гуго поддержит и деньгами, и длинной рукой и на первый раз не станет торговаться, прийти к нему можно и днем и ночью, но избави боже его обмануть. Звонаревские бесхитростные речи одинаково хорошо понимали и воротилы звукозаписи, и до мозга костей пропитанные наркотиками звезды эстрады. «Олимпия», возрожденная золотом Скифа и колоритом Гуго, начала постепенно возвращать себе славу парижской достопримечательности.
Видя, как лихо Звонарь вошел в роль, никто, даже хитромудрый Рамирес (прочие же и помыслить не могли, что это роль), не догадывались, сколь мало Гуго верит в прочность своего положения. Чем дальше, тем больше ему нравилась эта новая афера, но еще многие годы, уже имея за спиной и мировые триумфы, и независимое состояние, Сталбридж не мог отделаться от мучительного подсознательного ожидания, что вот-вот, в любую минуту, раздастся звонок, Пиредра скажет: «Сорвалось. Сматываемся», и вновь — в кармане пачка денег, под мышкой — пистолет, под ногами — дорога неизвестно куда.
Тем временем он продолжал игру на полном серьезе. На средства концерна Звонарь нанял себе преподавателей фортепьяно, сольфеджио и теории музыки, а также эстетики и истории культуры. Пиредра визжал и кудахтал: «Медведюшка, нет, ты точно съехал; гаммы играешь?» Гуго в ответ молчал и смотрел отрешенно. Поглощал он науки не без труда, но напористо и жадно, со всем пылом человека, для которого полжизни грамота была чем-то сродни магическому таинству. Что же касается языков, то тут Гуго ни в чем не уступал Рамиресу и свободно изъяснялся на большинстве существующие наречий.
Свой кабинет он так и оставил в самой «Олимпии», и каждое утро в восемь часов был там, собственноручно открывал окна, читал корреспонденцию и выслушивал доклад ночного секретаря. По утрам «Олимпия» бурлила, как котел с кипящей кашей: люди приезжали и звонили со всех концов света — продюсеры, менеджеры, представители всевозможных фирм, юристы и репортеры. Часов в десять в видеофоне появлялся заспанный Пиредра и спрашивал, зевая: «Ты еще не прогорел? Приезжай обедать»; в одиннадцать Звонарь обычно спускался вниз и в компании Бэта Мастерсона, главного режиссера, смотрел прогон; проверял дневную сводку, и так до вечера.
Вечером зажигались огни, к подъезду съезжались машины, начинался праздник. В этом для Звонаря скрывалось какое-то непроходящее очарование, и, несмотря на то что механизмы и тайны всех чудес были известны ему досконально, а отчасти им и устроены, все равно он не переставал удивляться театральному волшебству, настороженно, впрочем, оберегая свои восторги от чужих взглядов, ибо страшился проявления слабостей.
Совсем поздно, уже ночью, Гуго часто ехал ужинать к Равальяку — как правило, в одиночестве. Там для него зажигали свечи и заводили лютневую музыку, которую он любил, и оттуда, прихватив неизменную бутылку, завернутую в мягкую бумагу, он отправлялся домой, в «Пять комнат над бульваром», как говорила Инга.
В жизни Звонаря Инга была великим утешением. Их первая встреча произошла, когда юной леди едва исполнился год, и Гуго по контрактным делам приехал к Пиредре в его «Лесной домик». В те времена никакой «Мьюзик интернешнл» еще не было, а существовало загадочное объединение «Валенсия-джаз-студио» и «Норд Хиллстрем мода», которые и пользовались услугами Звонаря и его молодцов. Отодвинув в сторону коктейли, Рамирес — в ту пору еще не седой, не бородатый — сказал:
— Пойдем, познакомлю с девушкой.
Они сошли в сад, где под сенью деревьев возлежала в шезлонге Хельга, немедленно возвестившая о себе неопределенно-вопросительным возгласом. Норвежская авантюристка и бэрнисдельский разбойник плохо друг друга выносили, и Рамирес, шепнув: «Минуту», направился к жене.
Гуго оглянулся. На травяной дорожке стояло миниатюрное — чуть выше его колена — существо в панаме и со свистулькой в руке. Оно приблизилось и, ухватив Звонаря за штанину и задрав голову, уставилось на него серьезными испанскими глазами, потом вдруг в задумчивости село на землю. Гуго опустился рядом на корточки, так что кобура под курткой уперлась в бедро, поставил чудо на ноги и спросил:
— Это что же за зверюшка?
— Девицу зовут Ингебьерг, — сообщил подошедший Пиредра. — Не утаю также забавного факта: она моя дочь.
— Интересно.
— Не сомневайся, у меня тоже глаза на лоб полезли, но, говорят, бывает. Так вроде сходится, и похожа, а там черт его знает, поживем — увидим. Она веселая.
Малышка Ингебьерг сосредоточенно исследовала часы на мосластой Звонаревой лапе и даже попробовала на зуб. В бродяжьей душе что-то перевернулось, и началась какая-то чепуха и несообразность. Гуго потребовал от Рамиреса монополии на право дарить девочке кукол, и скоро «крестные отцы» с печальным уважением приняли к сведению факт тихого помешательства на почве игрушек одного из самых достойных своих собратьев. Далее Звонарь, выложив в качестве первого взноса двадцать тысяч, создал у Пиредры «фонд дня рождения», чтобы Рамирес поздравлял Ингу в тех случаях, когда сам даритель в памятный день не сможет присутствовать по причине ранения или тюрьмы.
Пиредра, надо отдать ему должное, исправно исполнял эту обязанность, отправляя Звонаря на Рождество в командировку за Дедом Морозом, а на именины — за живым медвежонком в лес. Но чаще Гуго появлялся сам, приносил и медвежонка, и бог весть что еще, вел со своей подругой глубокомысленные беседы, водил ее в зоопарк, на всевозможные премьеры и невиданные представления. Одна их такая экскурсия даже попала в газеты.
Они поехали на финал чемпионата по стендовой стрельбе. Стоял промозглый осенний денек, низко стелились тучи, дождь никак не мог решиться на что-то определенное, и на трибунах было неуютно. Инга, вытягивая губы трубочкой, крутила головой, прилипнув к артиллерийскому биноклю, но смотреть было особенно не на что: уже первый подход вышел крайне неудачным, после второго предупреждения судья отозвал стрелков с рубежа, потом они снова заняли места, и снова кто-то, не совладав с нервами, пальнул раньше времени. Рефери опять покачал головой, поднял руку, мишени развернулись, и спортсмены пошли на исходную позицию. Наэлектризованные зрители отчаянно засвистели.
— Гуго, — сказала Инга. — Это же неинтересно. Они совсем не умеют стрелять.
— Да, что-то не клеится на этот раз, — согласился тот, чувствуя досаду и ответственность. — Ладно, мы сейчас разнообразим это дело, а потом сразу уйдем, договорились?
— Договорились. А как ты будешь их разнообразить?
— Смотри на те две крайние мишени. Нет, справа. Смотри внимательно, только надень наушники… Готова?
Вечером «Спорт экспресс» дал статью под громким заголовком: «Клод Вернье, двукратный олимпийский чемпион: „Я НЕ ВИДЕЛ, КАК ОН СТРЕЛЯЛ!“» Прославленный стрелок-спортсмен, а ныне обозреватель, так излагал события: «…среднего роста, коренастый, лет сорока с небольшим на вид. Рядом с ним сидела девочка в желтой куртке и джинсах, она смотрела на поле, а он что-то ей объяснял. Когда финалистов во второй раз отвели на запасную линию, этот человек поднялся, и я, помнится, еще подумал, что он собрался уходить со своей дочкой. Признаюсь откровенно: я не увидел никакого движения, но в тот момент он уже стрелял, причем с двух рук одновременно! Он разрядил обоймы не больше чем за три секунды, и девочка, наблюдавшая в бинокль, захлопала в ладоши. Мужчина убрал пистолеты — теперь-то я разглядел две подплечные „сандалеты“! — и оба исчезли.
Автоматика мишеней оставалась включена, весь стадион увидел цифры на табло — по восемьсот очков на каждой из мишеней — максимум! За двадцать с лишним лет в спорте я не встречал ничего подобного. На трибунах творилось что-то невообразимое. Такой результат — фантастика. Неизвестный стрелял с острого угла и с расстояния, в полтора раза превышающего любую пистолетную дистанцию. Невозможно целиться в две мишени одновременно, да он и не целился. Невозможно избежать рассеивания при таком темпе нажатия на спусковой крючок. Невозможно, но ни одна из выпущенных им пуль не отклонилась от „десятки“ больше чем на пять миллиметров. Кто же это был?
Если он прочитает эти строки, Национальная ассоциация стрелковых клубов…»
«Папа, мы с Гуго всех обыграли на стрельбище», — объявила Инга отцу.
Рамирес отшвырнул «Спорт экспресс», и единственная фраза, которую подслушивавшая Ингебьерг разобрала из его оживленного телефонного разговора со Звонарем, действительно имела некоторое отношение к стрелковому спорту. «Моча тебе в голову стрельнула?» — заорал Пиредра.
Впрочем, к тому времени Инга своей жизни без Звонаря не представляла, и даже Хельга скрепя сердце мирилась с этой дружбой и нехотя говорила мужу: «Ну уж зови и своего алкоголика».
Время шло. Инга превратилась в длинноногого, нервного подростка со странными фантазиями и на целую голову переросла Звонаря. Гуго сел в кресло директора «Олимпии», но отношения их не менялись. Разбойник учил Ингу водить машину, ездить верхом, готовить окорок на вертеле, освобождаться от захвата сзади и спереди, и его дом она считала своим в гораздо большей степени, нежели родительский. Пару раз, когда пятнадцати-шестнадцатилетняя Инга переживала период вседозволенности, Звонарь, пуская в ход все свои связи, выручал ее из скандальных историй с участием полиции. «Ты бы собралась с мыслями, — говорил он ей, увозя в машине из участка. — Ну куда тебя несет?» Инга обиженно надувалась, но не выпускала его руки.
Здесь надо отметить, что в их взаимопонимании присутствовал один неприметный, но чрезвычайно существенный аспект: Гуго вполне лояльно относился к Ингиным колдовским замашкам. Едва ощутив в себе парапсихологические, говоря научным языком, а попросту — дьявольские задатки, Инга, естественно, захотела первым делом поэкспериментировать, а вторым — поделиться этими открытиями. С Хельгой у нее ничего не получилось по той причине, что матери Инга откровенно боялась, а позднее и вовсе не терпела ее, к тому же Хельга испытывала отвращение ко всем отклонениям от нормы у дочери. Смешно сказать, но с годами мадам Пиредра становилась все более богобоязненной дамой! С отцом также ничего не выходило, и его неприятие носило уж совсем парадоксальный характер: в спинном ли, в головном ли мозгу, но у Рамиреса начисто отсутствовало то место, на которое действуют чары! Инга была ведьмой недюжинных способностей и мощи, но все ее усилия значили для Пиредры не больше чем струйка дыма в известном романсе, он ничего не чувствовал, ни во что не верил и попросту отмахивался от подобных тем. У прочих, убедившихся в реальности темного дарования, оно вызывало то болезненное любопытство, то корыстный интерес, но неизменно — боязнь и отчуждение.
Для Звонаря колдуны, лешие, домовые, черти в ступе были делом естественным и обыкновенным. Кроме того, он твердо придерживался убеждения: уж если кто ему друг, то совершенно не важно, кто это — человек, зверь или нечисть рогатая. Поэтому, например, открыв дверь и застав квартиру, полную кошмарных пятнистых чудищ, он только хмыкал и сокрушенно качал головой:
«Послушай, имей же совесть, я так на кухню не попаду».
«А это я тебе изображаю белую горячку, чтобы ты больше не пил», — отвечала невидимая тринадцатилетняя хозяйка.
«У меня? Белая горячка? — наполовину притворно, наполовину искренне возмущался Звонарь и пускался на коварство. — Ты лучше ответь: вечернюю норму отыграла?»
«Отыграла-отыграла, не хитри, — отзывалась Инга. — А на что ты был похож вчера, не помнишь? Я сейчас покажу».
«Это вепрь лесной какой-то, где ж тут я? — возражал Гуго. — Бросай свое мудрование, поедем куда-нибудь поужинаем».
«Я готова, — томно отвечала девочка, появляясь в натуральную величину, уже одетая и накрашенная. — И не больше двух коктейлей».
На Ингу же Звонарь тратил большую часть своих так называемых «свободных денег», а это подчас были числа астрономические. «Избалуешь мне девку», — говорил Пиредра, но больше для проформы. Он и сам, вслед за Андерсеном, полагал, что детей следует баловать. Как бы то ни было, Инга продолжала занимать апартаменты в «Пяти комнатах», по-хозяйски нейтрально уживаясь с их краткосрочными обитательницами и посетительницами. Однако с годами каникулы, а затем гастроли и конкурсы уносили ее все чаще дальше, и Гуго оставался один и ужинал по вечерам у Равальяка.
Между тем музыкальный бизнес разворачивался, «Олимпия» стала считаться законным символом «Мьюзик интернешнл», выступить на ее сцене означало признание музыкального мира. Мрачный Звонарь становился знаменитостью; фестиваль французской песни по-прежнему ничего, кроме убытков, не приносил, зато породил вполне серьезные толки об ордене Почетного легиона. Каждый год двадцатого октября при великом стечении фирмачей, критиков, продюсеров и репортеров Гуго выходил на сцену и рассказывал о намеченном репертуаре сезона.
Это было не хуже любого представления. Сцена утапливалась до уровня зала, зал же, напротив, поднимался амфитеатром. На дне этой исполинской чаши стояли микрофон, рояль и Звонарь в извечном черном свитере — с пиджаком он так никогда и не освоился. С великолепным нормандским акцентом, без всякой записки, своим низким рваным баритоном (казалось, звук проходит не через связки, а через полотно ржавой пилы) он говорил о своих планах, симпатиях и антипатиях, о том, как представляет себе течения в современной музыке. Часто, чтобы пояснить свою мысль, он садился за рояль и показывал, что имел в виду. Благодаря накопившемуся опыту и природному вкусу, Гуго к тому времени уже свободно ориентировался в зыбком мире приходящих и уходящих тенденций, да и репетиторы его тоже не зря получали бешеные деньги: высказывания Звонаря бывали порой диковинны, но всегда оригинальны, а магнетизм личности захватывал и держал аудиторию от первой до последней минуты.
Он охотно отвечал на все вопросы, иногда лукаво усмехаясь, иногда со страстью и серьезностью, никогда не обижаясь на ехидство, а журналистские подвохи считал естественной частью игры. Он любил этих людей как гостей, пришедших к нему в дом, как тех, кто тоже любит и понимает музыку, хотя большинству из них знал цену до копейки.
Первое такое его выступление всех изумило и наделало шума, на следующий год с интересом ожидали, повторится ли эта странность, а затем «тронная речь», как ее называли, стала традиционной, и, когда Звонарь появлялся перед микрофоном, люди в зале поднимались с мест и аплодировали. В такие минуты Гуго иронически вспоминал слова известной песенки, эквивалентной русскому «И все биндюжники вставали…», но втайне был доволен.
И вот как-то однажды на него снизошло озарение. Гуго проснулся посреди ночи с абсолютной ясностью в голове и некоторое время лежал с открытыми глазами, охваченный поразительным спокойствием. Что-то произошло. Он почувствовал себя дома, человеком на своем месте, которое и было отведено ему судьбой; вдруг нежданно-негаданно явилось осознание истины, что музыка, бесконечные хлопоты, режиссура, в которой он осторожно начал себя пробовать, «Пять комнат», сцена — все это не хитрый камуфляж и не временная легальная передышка, а та самая жизненная колея, для которой он, возможно, был предназначен с рождения.
Звонарь, не шевелясь, лежал в темноте. Ну и дела, ай да разбойничий полночный час! В комнату залетал приглушенный гул и шорох машин, на потолке лежали неровные светлые пятна, узкая полоска лунного света вырезала из мрака и делала серебряным дубовый листок на книжном шкафу, сбегала на пол и взбиралась на стул возле постели; блик высвечивал контур висящей на спинке «сандалеты», и дальше лучик терялся в пушистых складках одеяла. В Звонаре словно разжалась невидимая пружина, сошло на нет державшее долгие годы напряжение.
Сколько всего кануло, и годы за плечами, и что за профессия — продюсер, или того хуже — администратор, но ему нравится его дело, он делает его хорошо и со вкусом. Провалитесь вы все к сатане, Звонарь больше ничего не будет искать, и спасать свою шкуру ему тоже пока незачем. С тем Гуго уснул, и через несколько дней по «Олимпии» пошли разговоры, что у шефа улучшился характер.
Вторая, затененная часть его жизни протекала в ту пору без особых проблем. Ошибается тот, кто думает, будто патриархи преступного мира сплошь тем и заняты, что беспрестанно взрывают машины и палят друг в друга. Во-первых, уже очень давно ни Звонарь, ни Пиредра сами ни в кого не стреляли, во-вторых, даже в тех горячих сферах, особенно на высших уровнях, случаются периоды договорного затишья, и порой довольно длительные.
В 484 году, в самом начале олимпийской одиссеи Звонаря, в хлебосольный Страсбург слетелись для интимной обстановки двадцать восемь глав семейств и группировок, не имеющих отношения к европейскому наркобизнесу. Председательствовал на этом уютном сборище Пиредра, а лидером французского музыкального проката был Звонарь.
Заседали несколько дней и, даже не повысив голоса, оговорили множество дел, начиная от курса немецкой марки и кончая проблемой найма рокерских банд; немало разных пальцев — толстых, худых, костлявых, волосатых и иных — погуляло по оригинально перекроенной карте Европы. Спорить с Пиредрой никто не захотел, а он, в свою очередь, движимый инстинктом хищника, запрещающим откусывать кусок не по горлу, тоже не стал перегибать палку. В итоге весьма долгое время эта сторона дела не причиняла Звонарю практически никаких хлопот.
Другая часть — валютно-оружейная отмывка — и вовсе никак его не касалась. Здесь полновластно распоряжались службы Скифа, сюда мафию не подпускали на версту, и единственным известным Гуго результатом их деятельности были разные по времени и размерам суммы — неведомые проценты с неведомых отчислений, которые вносились на олимпийские счета за символической подписью Пиредры. К этой же статье относились их совместные с Рамиресом крайне нерегулярные поездки по делам Программы, где самым трудным было, пожалуй, вызубрить железный регламент абсолютно необъяснимых подчас действий.
Единственной по-настоящему напряженной и требовавшей постоянного внимания областью оставалась звукозапись. Эта отрасль была необычайно сильно американизирована, точнее сказать, калифорнизирована, и ее жаркое дыхание долетало до Звонаря даже через Атлантику. Так уж повелось, что звукозаписывающее производство тесно переплелось с киноиндустрией, а киноиндустрия — это Шесть семейств с Западного побережья, полтора десятка ершистых кланов: народ все нахрапистый и неуступчивый, да плюс якудза, одесситы, еще какие-то «новые чикагцы» и вообще невесть кто — только знай приглядывай. И Звонарь глядел в оба, смекалка и разбойничий нюх ему никогда не изменяли, слов на ветер он не бросал, и к этим словам прислушивались по обе стороны океана.
Как бы то ни было, «весь этот джаз» оставлял Звонарю время для приключений духа, которые, как известно, раз подцепив человека на вилку, незамедлительно перебрасывают на другую. Следующая вилка оказалась, пожалуй, самой интересной. Когда-то в незапамятные времена Звонарю довелось провести пару недель в четырех стенах в полном одиночестве. Тогда с ним приключилась странная чертовщина: он начал видеть музыку — словно линии, то уходящие вверх, то ныряющие в глубину, казалось, он мог их нарисовать.
Теперь это же повторилось. Однажды, после тяжелого дня и ночной репетиции, когда все шло через пень-колоду, он поднялся к себе в кабинет, снял свитер и, включив одну настольную лампу, принялся сворачивать металлическую пробку у «Длинного Джона», врезая в горячую ладонь ледяную гофрированную реборду, и тут увидел загогулину. Это был фрагмент мелодии, но спеть его было нельзя, он сидел еще где-то глубоко внутри, но виделся отчетливо — Звонарь без труда начертил его в воздухе бутылкой.
Но теперь разбойник был не тот, что много лет назад в одиночной камере. Теперь он знал, что существуют ноты, такты, четверти, осьмушки и прочая премудрость. Гуго сел за стол, достал какую-то старую нотную тетрадь красный тонкий фломастер и на свободных местах начал осторожно разматывать загогулину. Вышло пять нот и два такта. Звонарь отложил фломастер и, не сводя глаз со знаков, покачал с удивлением головой, потом подошел к пианино и тихонько сыграл то, что получилось.
Наваждение прервалось. Отвлекшись, Гуго наполнил забытый стакан, посмотрел на часы, сказал: «Угу» — и потянулся за телефонной книгой. Но тут загогулина явилась снова. Вглядевшись в нее поверх стакана, а затем отставив его, Звонарь понял, что загогулина — это перемычка между двумя длинными кусками. Он опять сел за стол и, поколебавшись мгновенье, стал перекладывать хитрые извивы, зубцы и провалы в нотную строку, начав с нового фрагмента. Несколько раз линия загадочно пропадала, и тогда разбойник принимался, закрыв глаза, страстно мычать на разные лады, угадывая, что очередная нота выпадает из общего звучания и надо менять ее высоту.
До начальной завитушки Звонарь дописал уже вполне уверенно и приступил ко второму фрагменту, как начались новые странности. Линия расщепилась, и пошла какая-то вязь. Гуго сообразил, что это инструментовка, соло, сопровождение, ритм и прочее, но писать сразу сделалось трудней. Звонарь забыл про все, разгорячился и, время от времени потирая шею, строчил уже сразу в двух альбомах, положив один вверх ногами, криво отчеркивая такты и раскидывая между строк ему одному понятные крючки и стрелки.
Закончив, он бросил бумаги, быстрым шагом вышел из кабинета, схватил у кого-то бутерброд, проглотил, как крокодил, не жуя, запил полбутылкой минеральной воды и сел переписывать начисто. Было четыре часа утра. С охапкой нот Звонарь сел за пианино и, глядя в собственную писанину, заиграл. Получилась джазовая пьеса, в духе середины двадцатых годов. Сыграв ее раз десять, а может, и двадцать, Гуго немного успокоился и завалился спать тут же на диване.
Днем начались мучения. Прихватив скрученные в трубку ноты, Звонарь, как хищный зверь, рыскал по студиям «Олимпии», подстерегая уединение кого-нибудь из освободившихся музыкантов. В обеденный перерыв ему повезло, и в пятом блоке, в двух шагах от буфета, он нашел гитариста Стива Лонга и басиста Саймона Вильфранша, расположившихся среди пустых пюпитров.
— Хорошо, что я вас застал, — сказал Гуго, разыгрывая равнодушие и отчаянно волнуясь в глубине души. — Вот посмотрите-ка сюда.
Джазисты заглянули в ноты и не выразили ни возмущения, ни удивления.
— Здесь нужен сакс, — заметил Вильфранш. — Хаксли только что отчалил пожевать, я его сейчас позову.
Звонарь кивнул. Детище рвалось прочь из рук создателя, стремясь заявить о себе миру. Появился Хаксли, тоже не нашедший в ситуации ничего сверхъестественного, и взял свой саксофон. Разложили ноты. Звонарь уселся за фортепьяно, сказал два слова, на каких цифрах паузы, и тихонько повел мелодию. Бас, гитара и саксофон присоединились один за другим и повели свои партии то рядом, то отставая, сразу же уловив характер пьесы — олимпийские музыканты были профессионалами, и им ничего не нужно было объяснять. В финале Хаксли даже сымпровизировал в духе той загогулины, которая первой привиделась Звонарю, и все остальные в этом же ритме уже совершенно уверенно вывели пять заключительных аккордов.
Точка. Гуго оторвал пальцы от клавиш и смахнул с брови каплю пота.
— Неплохо, — сказал Лонг. — Это Митчелл?
— Ты бы вставил это в программу? — спросил Звонарь.
— Да, куда-нибудь в финал. Концовка удачная.
— Ага, и с басами, — добавил Вильфранш. — Вот так.
Звонарь собрал ноты. Загогулины, завитушки, плюшки и горбушки пели в нем, как обезумевшие соловьи, троились, множились и рассыпались фейерверком.
— Гуго, так это Митчелл? — Лонг, почувствовав наконец что-то необычное, поднялся со стула. — Или Хаммерсмит?
Звонарь с каменным лицом направился к дверям. Темноликий Хаксли, сообразив, что ни для какого Митчелла директор «Олимпии» не стал бы садиться за инструмент, завопил в восторге:
— Шеф, это вы сочинили!
На прямой вопрос Звонарь всегда давал прямой ответ. Он обернулся и, не сдерживая усмешки, признал:
— Да, я.
Лонг склонил голову набок и с недоверием протянул:
— Да ладно…
Меньше чем через год вышел первый альбом Гуго. На одной стороне обложки была черно-белая фотография старинного парохода на Миссисипи с высоченными трубами и прочими диснейлендовскими причиндалами, на палубе в обнимку стояли Лонг, Вильфранш, Хаксли и Костелло-ударник, на огромных гребных колесах было написано «СТАЛБРИДЖ». На другой стороне на темно-багровом фоне был изображен сам Звонарь, сидящий перед микрофоном на табуретке с гитарой в руках.
Любительница подсолить чужие раны «Джаз-панорама» вещала устами некоего Д. Гриффитса:
«Новоявленный джазмен из „Олимпии“ успешно доказывает, что даже в наше время, желая сказать новое слово, вовсе не обязательно смешивать в компьютере Гайдна с Моцартом или свинговать Баха. Достаточно иметь голову на плечах, и рамки классического джаза окажутся не так уж тесны. Все определяется таким затертым выражением как „талант“.»
— Я — талант, — сказал Звонарь Инге за завтраком. — Ешь петрушку.
Инга замотала головой:
— Йоги вообще запрещают что-нибудь есть по утрам.
— Йоги чокнутые, а в петрушке витамины.
И на «Джаз-панораму» поставили кофейник.
Однако наша картина была бы незавершенной без еще одного штриха, еще один вираж заложила разбойничья судьба до встречи с Эрликоном. Года за полтора до того, как пилот нарисовал на контракте с «Хевли Хоукерс» свое Эй-Ти-Эй и влетел на заклиненном керогазе в окно стимфальского Дворца музыки, появилась Ленка Колхия.
Ленка — это полное имя, по крайней мере, так оно писалось на афишах, кроме того, в некоторых вариантах произношения последняя «эйч» не читалась, и фамилия звучала как Колия. Впрочем, не будем спешить.
Снежным январским понедельником директор Сталбридж сидел у себя в кабинете и смотрел на дисплей, а компьютер показывал ему разноцветный календарь. Календарь был Ветхим и Новым Заветом «Олимпии», в каждой его клетке вели непримиримую схватку налоги и доходы. Звонарь лично изобрел особый цветовой шифр, определяющий контрактную загрузку каждого числа месяца, и, страшно гордый, считал эту программу высшей стратегической тайной корпорации. Число 24 высветилось на экране мерзко фиолетовым, а в правом верхнем углу выскочил белый квадрат. Гуго нахмурился и стукнул по квадрату своим длинным пальцем. Число 24 сжалось и уехало вбок, а квадрат рассыпался на дюжину строчек с номерами и индексами. Одна такая строка была в белом прямоугольнике, словно попала в стакан с молоком.
Звонарь сделал пол-оборота в кресле и постучал уже по клавишам интеркома:
— Алло, Бэт, уже расчесал усы? Арон, я хочу, чтобы ты послушал наш разговор с режиссером, не уходи никуда… Бэт, скажи-ка мне, кто такой Л. Колхия? Это он или она и где у нее ставится ударение?
— Не знаю никакой Колхии, — отозвался главный режиссер. — Откуда ты это выкопал?
— Нет, друг, это ты выкопал, и еще в августе, потрудись-ка вспомнить, контракт Д–128–59, через две недели — отсчет страховки. Если у тебя лежит экземпляр с твоей же подписью, рекомендую застрелиться, как честному человеку… пока я к тебе не спустился и сам не застрелил… Арон, твое слово, загляни в архивы.
— Уже заглянул, — ответил Арон Хэнкок, главный юридический консультант «Олимпии». — Все правильно, 128–59, группа Д, истекает в марте.
— Бэт, слышал? Давай ищи.
Бэт Мастерсон что-то проворчал, затих и спустя некоторое время заговорил снова:
— Я нашел. Колхия, гитара-фольклор. И что теперь?
— Теперь думай, что сказать этому парню, когда он через две недели подаст на нас в суд. Черт возьми, что такое Колхия? Это группа или направление? Или, может, часть тела? Это ты его позвал?
— Спроси его, где он проспал весь сезон.
— А он в ответ скостит с нас пятьдесят тысяч по сорок второй. Бэт, я жду от тебя других речей.
— Хью, ты спятил, середина сезона. Куда я дену эту гитару?
— Нет, лучше это ты мне ответь, как это вышло, что все эти августовские контракты аннулированы, а один почему-то остался. О чем ты думал, когда его подписывал? Ладно, погоди, у Синклера с его парнями неясно…
— Хью, ты обезумел. Синклер — единственный джаз после фестиваля.
— Ребята, не ссорьтесь, — вмешался Арон. — Ничего платить не придется. Эти контракты достались нам от «XX века», они все без сорок второй.
Наступило молчание.
— Нет, — сказал Гуго, подумав. — Что же, обдерем музыканта за то, что у него вовремя не оказалось адвоката? По принципу «мы-вам-сами-позвоним»? — Голос Звонаря набрал наконец начальственные обороты и прорезался знаменитым рыком: — Вызывай на четверг. Будем слушать. Да, попроси еще Бака из «Галактики», все равно человек мается… Разберемся.
В полдень четверга Звонарь с Мастерсоном шли по подземному коридору, веселясь из-за того, что долговязый Селье совершенно не выносит контрового освещения. «Я все боюсь, он спрыгнет в партер», — говорил Мастерсон, и тут мраморная стена рядом с ними разверзлась, и прямо на приятелей вышла рыжекудрая древнегреческая богиня в джинсах и с гитарой в футляре. Ее красота дышала такой античной ясностью, что Звонарь с Мастерсоном остановились как по команде.
— Здравствуйте, — сказала богиня. — Вы не знаете, как найти третью студию?
— Знаем, — ответил Бэт, — мы как раз туда идем.
Директор и режиссер посмотрели на гитару и переглянулись.
— Ммммм… кажется, — предположил Звонарь, — мы видим перед собой прославленную Л. Колхию?
— Совсем не прославленную, — удивилась гитаристка. — А откуда вы меня знаете?
— Все знаем, — многозначительно произнес Мастерсон. — Мы думали, что вы дядя с бородой.
Колхия уставилась на него, пытаясь, видимо, понять, всерьез он говорит или шутит, и в глазах ее мелькнула догадка. Бэт Мастерсон смотрелся рядом со Звонарем, как бегемот рядом с волком. Главный режиссер был огромен, тучен, величественно усат и, ко всему прочему, облачен в церемонно-ритуальную черную тройку с цепочкой от часов поперек живота, в то время как на Гуго был рабочий свитер с закатанными рукавами.
— Я тоже, кажется, вас знаю, — сказала Колхия, обращаясь к Мастерсону. — Вы директор Сталбридж. Я угадала?
Мастерсон не успел и рта открыть: неслыханное дело, нашелся человек, не знающий в лицо директора «Олимпии», как Звонарь среагировал в лучших пиредровских традициях.
— Да, — немедленно подтвердил он. — Вы угадали, самый настоящий директор. — И сжал Бэту локоть.
Розыгрыш — один из китов, на которых стоит актерский мир, но Мастерсон не ожидал такого поворота и, засопев, мрачно покосился на Гуго. Тот смотрел невозмутимо, и главный режиссер с сомнением пробормотал что-то вроде «как вы узнали».
— Просто я именно так вас себе и представляла, мне о вас рассказывали, — радостно ответила Колхия.
— Да, он таков, — согласился Звонарь. — Суров, но справедлив. Однако пойдемте в студию, раз уж все собрались.
По дороге новая Афина Паллада объясняла: «Понимаете, у меня был контракт с „XX век Фокс“», Мастерсон кивал: «Да, я знаю, они аннулировали ту серию контрактов», а Звонарь шел впереди, неся гитару Колхии, вошел в студию первым и объявил:
— Это директор Сталбридж, он у нас сегодня всем распоряжается!
В зеленоватом свете среди нагромождения аппаратуры сидели несколько человек, и все они порядком удивились. Маленький, с пегой бородой Арон Хэнкок покачал головой и состроил кислую мину, означавшую: «Вот-вот, только такую глупость от вас и можно ожидать»; эксперт-искусствовед Морис Фоше поднял брови, затем пожал плечами; лохматый Бак из «Галактики», героинно-синерожий, вначале выпучил глаза, потом понимающе ухмыльнулся — улучив момент, Звонарь послал ему грозный взгляд; только Реми, второй режиссер, вообще ничего не заметил, потому что во все глаза смотрел на Колхию.
Гуго прошел в звукооператорский отсек, сел за микшерский пульт, надел наушники и махнул Мастерсону сквозь силликоловое окно.
— Дайте «ля», — попросил он по внутренней связи, — и парочку аккордов.
Колхия достала гитару из футляра и, подстроив, взяла несколько аккордов. Звонарь на полном серьезе показал кольцо из большого и указательного пальцев, и прослушивание потекло привычным чередом.
Гуго отключил наушники и только наблюдал, не слыша ни звука, как Мастерсон что-то объясняет, указывает на «Галактика», тот тоже что-то говорит, все пересаживаются, Арон обращается к Фоше… Как же все-таки зовут эту Колхию? В зеленоватом студийном освещении ее глаза и волосы тоже казались зелеными, словно у русалки или дриады. Сколько, интересно, ей лет? Двадцать восемь? Тридцать один? Может, вообще зря его повело на всю эту благотворительность? Разберемся… Гуго вернул звук в наушники.
Колхия села у открытых микрофонов, начала медленное вступление, и Звонарь, внутренне похолодев, забыл, на каком свете находится.
Это была песня его родной земли. Не то чтобы самой родины, Бэрнисдельских лесов, но все равно оттуда, с Тратеры. Тогда ему исполнилось семнадцать, от кентурии осталось восемь человек, с ним — девять, они ехали по степи, по бесконечному разнотравью Междуречья — у Гуго в ноздрях даже вдруг ожил тот пряно-тошнотворный цветочный дух; они покачивались в седлах, свесив головы и освободив ноги от стремян; между ушей своей лошади будущий Звонарь видел, как выворачивает на ходу бабки лошадь, идущая впереди; стояла жара, дорога была бесконечной, и такой же была эта песня, которую тянул кто-то рядом. Позже, годы спустя, он не раз пытался припомнить ту завораживающую мелодию и что-то вспомнил, как ему казалось, почти точно, но лишь теперь понял, насколько его приблизительный вариант отличался от странной прелести оригинала. Да откуда она это знает? Речной обрыв, космы травы… У Колхии, несомненно, был голос, низкий и хорошо поставленный, его интонации будили в Звонаре еще нечто, кроме даже тех давних воспоминаний, но, что именно, он не смог бы сказать.
Когда песня закончилась, Бэт Мастерсон первым делом посмотрел на шефа, увидел его остановившийся взгляд — а все его взгляды Бэт изучил в совершенстве — и тут же попросил спеть что-нибудь еще.
Вторая песня никакого отношения к Тратере не имела, это была русская песня, и Звонарь был знаком с русской музыкой; хотя из всего текста он едва ли понял десять слов, впечатление получилось не меньшим; показалось ли ему, или на самом деле смысл доходил до него сквозь языковой барьер. Это разбойничья песня, решил Звонарь, разбойник — живой упокойник, удалой молодец, он бесстрашен, но ведает о своем горьком конце, поминает неотвратимое лихо, а все же не хочет уступать судьбе… Уж кто-кто, а Гуго знал эти темные предчувствия атаманской души. Он сбросил наушники, вышел в студию — там шел разговор — и сказал:
— Я полагаю, достаточно.
Вот напасть, забыл, он же не директор, но, как видно, это уже было не важно, Морис Фоше — опять бровями — давал понять, что он не против, Арона, ожидающего, собственно говоря, перехода к финансовой стороне, тоже как будто пробрало, вурдалакообразный Бак, которого никто не спрашивал, демонстрировал Гуго оттопыренный большой палец. Бэт Мастерсон, верный товарищескому чувству, произнес традиционную фразу:
— Нам нужно посоветоваться. Пройдите пока… м-м-м-м… вот со звукооператором.
Звонарь подошел к Колхии — она была здорово разволнована и еще не поняла, что выиграла, — и предложил:
— Пока отцы совещаются, пойдемте выпьем кофе.
Они вышли из студии, и она спросила:
— Ну, как вы думаете?
— Мне очень понравилось, — сознался он честно. — Такого здесь еще не слышали. Могу я узнать: первое — как вас все-таки зовут, и второе — откуда вы знаете эти песни?
Похоже, что голос родины-матери здорово поколебал его душевное равновесие, потому что как раз в этот момент рядом с ними выросла вторая дневная секретарша, волоокая Герда, и Гуго рта не успел раскрыть, как она протараторила:
— Мсье Сталбридж, вам только что звонил Пиредра и просил обязательно быть к двум часам.
Оказывается, у Колхии действительно были зеленые глаза, даже с разными оттенками зелени, и очень большие. В пол-лица. Герда, проклятая ведьма, злорадно улыбнулась и сгинула. Звонарь сокрушенно почесал висок:
— Все-таки давайте выпьем кофе. Мне в самом деле понравилось.
Надо сказать, что никаких других знаменательных событий до того, как Колхия переехала в звонаревские «Пять комнат», не происходило, кроме разве что бесчисленных совместных поездок на странноватые сборища «поющих поэтов», бардов, исполнителей стихов под музыку — Звонарь называл их вагантами, и это, пожалуй, самое близкое к истине определение. Тогда, в коридоре «Олимпии», он назвал Колхию прославленной, и выяснилось, что не так уж и ошибся. В тех кругах она и впрямь пользовалась огромной популярностью, и ее друзья-ваганты без труда заполняли какой угодно зал. Стиль их жизни был беспорядочным и бессребреным, музыка — абсолютно некоммерческой, но тем не менее Гуго устроил для них серию вечеров и «сделал» несколько имен.
На главный же вопрос — почему именно Колхия затронула сердце Звонаря? — я не знаю ответа. Были красивее? Да, были. Умнее? Тоже были. В чем же дело?
К замку можно подойти со ста ключами, но откроет лишь один. Почему? Совпала комбинация. Можно развинтить и убедиться. К сожалению, не родился еще такой гений, который смог бы так же развинтить человеческую душу. Тристан и Изольда выпивают роковую чашу, но даже легенда не называет состава колдовского напитка; этого секрета не раскрывают нам ни граф Толстой, ни Шекспир, ни Маргарет Митчелл. Нельзя сказать, за что любят, можно — вопреки чему. Нельзя объяснить. Можно описать.
Итак, согласно сотне причин, которые я могу предположить, и двум-трем, о которых, вероятно, не догадываюсь, Колхия и Звонарь объединились в своеобразный союз, включавший в себя также двух сыновей и собаку. Собака была большая, разноцветная и разноухая, таинственной породы. Звонаря она сначала обнюхала, потом облизала, потом прошла на кухню «Пяти комнат» и там шумно завалилась, словно вязанка хвороста, и так и осталась лежать, будто это всегда было ее место. С сыновьями вышло посложнее. Старшему, Борису, было пятнадцать, младшему, Ричарду, — десять, оба уже до мозга костей пропитались той охотой к перемене мест, что двигала их матерью, и необходимость в каком-то постоянном мужчине в постоянном доме на первых порах их сильно озадачила. Вскоре, однако, Борис оценил возможность являться в любое время, отоспаться и стрельнуть денег, встречая полное понимание своих проблем. Звонарь пару раз сходил с ним на разборки, и Борис в конце концов сформулировал свое отношение в высшей форме комплимента — «нормальный мужик». Младший же, Ричард, вообще через некоторое время уверился, что Гуго — их настоящий отец.
Постепенно, поглощая холостяцкий быт, возникало совместное хозяйство. Увы — несмотря на присущую ей душевную щедрость и готовность поделиться последним куском, Колхия оказалась хозяйкой скверной, а вернее сказать — вовсе никакой. Готовить она не умела и не любила, и ее представления о семейном очаге далее того что можно уложить в рюкзак, были крайне смутны и состояли в основном из рецептов «быстрого реагирования», а от служанки в доме Колхия отказалась наотрез. Такая же картина наблюдалась и в отношении уюта в доме: насколько Инга изыскивала и изобретала изощренный, почти экзотический дизайн, настолько же Колхия была равнодушна к виду своего местообитания. В денежном вопросе тоже творилось что-то непонятное: то на нее нападала невероятная скупость, то охватывала прямо-таки царская жажда расточительности. Зато Колхия показала себя истинным мастером, когда требовалось кормить и лечить животных; если же доходило до лечения собственных детей, на нее порой накатывала редкая беспомощность.
Многолетней привычки исчезать неведомо куда по первому зову, если вдруг на краю света надо было помочь кому-нибудь из бесчисленных друзей, она не утратила и утрачивать не собиралась, и в этой ситуации между ней и Звонарем пробежала, как ни странно, первая черная кошка. Странно, ведь и сам Звонарь был готов прийти на выручку когда угодно — но, во-первых, ситуации у друзей Колхии случались куда как менее крутые, а во-вторых, семью Гуго все же ставил на первое место. Да, трудно себе представить, но Звонарь мечтал о нормальной семейной жизни!
Но Колхия — и тут мы сталкиваемся еще с одной загадкой, — несмотря на то что любила и Звонаря, и этот дом, отнюдь не отдавала им приоритета. Встречи, музыка, поездки были для нее не менее, а подчас и более важны. Сказывалась ли привычка к вольной жизни, увлеченность ли — трудно решить. Ей было тридцать два, детям был нужен родительский кров и возможность учиться, и, с другой стороны, пока развивалась любовная эпопея, Гуго год почти не пил… Курьезно то, что дети чувствовали обстановку гораздо острее, чем мать; десятилетний Ричард, пробравшись к Звонарю однажды ночью, шепотом попросил его: «Гуго, не бросай нас…» Сталбридж не скандалил, даже не роптал, занимался с ребятами и был настроен держаться до последнего. Однако ситуация частенько приближалась к критической черте.
Итак, их союз был, несомненно, трогательным, поэтичным, но семьей так и не стал. Тем не менее важно сказать, что к тому времени, когда Гуго столкнулся с Эрликоном, никакого разрыва не было. Да, напряженность нарастала, но перспектива утеряна не была, даже когда Гуго снова начал попивать, Колхия стойко сдерживала его и боролась как могла. Случалось, они ссорились, она уезжала, в том числе и на свои выступления, — оставляла детей и Гуго, но это в их совместном житье считалось в порядке вещей. Последний ее уход оказался завершающим лишь в силу его трагического финала. Богу ведомо, сколько рыжая Колхия могла бы еще пропадать и возвращаться, а Звонарь — переживать, пить и писать музыку. Но все по порядку.
Да, по порядку. В то самое время, когда руководство «Дассо» размышляло, в какое пальто лучше нарядить Эрлена Терра-Эттина, на другом берегу речки Сены Рамирес Пиредра выкладывал перед Звонарем фотографии все того же Эрлена.
— Вот этот парень, — говорил Рамирес, шевеля шероховатые снимки точеными музыкальными пальцами. — Пилот, сейчас на соревнованиях в Стимфале. Если скажет лишнее, много нас ждет хлопот.
Гуго тоже перебрал свежие компьютерные отпечатки — Эрликон у Дворца музыки, Эрликон выходит из гостиницы, Эрликон просто на улице.
— Интересное лицо. Кто такой?
— Некто Терра-Эттин. Вышел на нас через Контору. Пока что в отключке, но, когда очухается, и у нас, и у Дедушки будет море неприятностей.
Здесь Пиредра ступал на очень тонкий лед — достаточно было Звонарю припомнить и сообразить, что речь идет о сыне легендарного Терра-Эттина, друга и соратника Скифа, как становились неизбежными весьма неприятные для Рамиреса объяснения. Но совсем обойтись без помощи Звонаря Пиредра не хотел: ему непременно нужно было впутать Гуго в эту историю, чтобы, в случае отсутствия взаимопонимания со стороны Скифа, во-первых, завязаться со вторым незаменимым человеком в организации и тем хоть немного подстраховаться, а во-вторых, при исходе уж и вовсе пиковом, подставить Звонаря и на этом выиграть по крайней мере сутки. К тому, чтобы все бросить к чертовой матери и унести ноги, Рамирес был уже практически готов.
Но, к счастью для Пиредры, Гуго был далек от имен прошлого, а в настоящем — от институтских дел; к тому же, в отличие от Рамиреса, знакомство разбойника с Диноэлом было довольно эпизодическим. Словом, в ту минуту Звонарь ничего не вспомнил. Однако инстинкт все же что-то ему подсказал, и Гуго недовольно спросил:
— Слушай, а не зря мы ввязываемся в конторские дела? Пусть бы Дед сам в своем ведомстве и разбирался.
— Нет его сейчас, в том-то и дело, а ждать нельзя, сам знаешь — Толборны за плечом.
На это Звонарь ничего не ответил, а только вытряхнул сигарету из пачки и стал разминать.
— Но в общем-то ты прав, — согласился Рамирес. — Контора — дело тонкое. Надо сделать так, чтобы комар носа не подточил. Никаких дров. Придумайте что-нибудь. У самолета, я там не знаю, шасси не вышли, аллергия шибанула, со шлюхами перегулял… изобретите. Трупа тоже не надо, на кой нам черт экспертиза. Не спешите, разнюхайте, проверьте охрану. Времени — до конца соревнований. Как отлетает, этот дух точно заговорит.
Вслед за тем Пиредра наговорил еще много всего, в том числе и разного вздора, сокрушался по поводу Инги, вспоминал былые дни и даже упрекал сам себя и каялся в былых ошибках, но Звонарь уже слушал его вполуха. На него, как все чаще бывало в последнее время, накатила глухая тоска, томительное предзапойное состояние. В такие дни ему хотелось забраться куда-нибудь подальше, в пустыню, в пещеру, в шкаф, похожий на гроб, втиснуться между камнями и никого и ничего не видеть. Почему? Гуго по старой привычке клял и винил во всех своих несчастьях Ричарда Длиннорукого Тратерского, что так круто обходился со Звонарем в молодые годы, и даже имя его разбойник вплетал в концовку самых навороченных ругательств, суля в горячую минуту адское пекло со сковородами и смолой.
Но дело, конечно, не в злобном регенте, просто душевное одиночество Звонаря дошло до такой безысходности, от которой не могли спасти ни работа, заполненная общением, ни творчество, ни любовь. В этом состоянии у Звонаря не было ни Инги, ни Колхии, лишь огненная стихия виски — все глушащая, уносящая все глубже, все дальше, и все сильнее становилось горькое чувство обреченности. Друзья, подруги — все оставалось за какой-то стеной, не соприкасаясь с метаморфозами разбойничьего духа. Думается, если бы Гуго решил вести дневник, то он получился бы сухим и безжизненным как бухгалтерский отчет.
Ну, а Ричард Тратерский горит, разумеется, в аду.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Стимфал, вторник, двенадцатое сентября, триста метров под землей, ангары «Транс интернешнл». Эрликон и Кромвель сошли с платформы у отметки 172 и направились в боковой тоннель, освещенный мертвенно-желтыми лампами.
— Летим без наклеек, — говорил Дж. Дж. — Стыдно. Не нарисует нам на боку молодое поколение «Пепси». Но претензий к Бэклерхорсту никаких. Он сделал все, что мог. Теперь вся дассовская шушера затаилась и ждет, когда мы свернем шеи. А мы тем временем пришли, и единственное, чего я не понимаю, это где Вертипорох.
Тоннель упирался в металлическую стену, сбоку от которой горели желтые цифры 10.04.
— Десять ноль четыре, — пояснил Кромвель. — Если кто-то не понял. Все очень мило, но куда делся наш пьянчуга?
В ответ стена дрогнула и, показав многослойность с золотым узором контактов, утонула в полу. Они вошли, и тут Эрлен внутренне обмер.
Ангар, арендованный «Дассо», был огромен — не меньше двух футбольных полей, в нем стояли два огромных горбатых самолета, и хищный нос первого нависал над самой Эрленовой головой, а стойка переднего шасси была выше его ростом, и, о боже, какая это была стойка! Три сочлененные между собой никелированные колонны, перевитые гидравлическими жилами в руку толщиной, украшенные тремя — тремя! — прожекторами. Эрликон вдруг вспомнил, как они вдвоем с Эдгаром да еще с киборгом-механиком без труда выкатывали на поле бедолагу НАТ-63. А здесь, кажется, залез бы с ногами в воздухозаборник. Эрлен, холодея, пошел вокруг. Темные чаши сопел глянули на него, как два черных тюльпана, сложное плетение их лепестков терялось во мраке зевов, но пилот знал, что, когда через них хлынет поток плазмы, эти провалы превратятся в две звезды, видимые и с земли, и из космоса.
Оттолкнувшись от концевого обтекателя бака, нахальным копчиком выпиравшего между сопел, он двинулся было назад, но тут же, впрочем, остановился. Левый вертикальный киль поднимался над ним, как самая высокая стена самого высокого зала; оглядывая ее широкое поле, испещренное узором головок винтов с крестообразной насечкой, Эрликон окончательно упал духом, у него мимолетно возникла и угасла безумная надежда, что они ошиблись ангаром, зашли не туда… Он любил маленькие изящные машины, ценил компактность и остроумие конструкций — дикая мощь этой горы металла действовала на него угнетающе. Но дело было не только в этом.
Бывает так, что человек, блуждая по малознакомой местности, никак не может разобрать — в нужную ли сторону идет. Дорога вроде бы та или не та? Нет… похоже… и лишь когда упрется в совершенную глухомань, где и дороги никакой нет, в сердцах завернет крепкое словцо и махнет рукой — ну ведь точно не туда шел!
Не то чтобы Эрлен захотел выругаться или с досады ударить кулаком по обшивке фюзеляжа, и не настолько уж он испугался механического чудища, предложенного Бэклерхорстом, но крейсер этот будто говорил: смотри, куда завела тебя твоя новая судьба! Да неужели бы я, думал Эрликон, сам согласился сесть в такую кабину? Ему вспомнилась поговорка: это не моя чашка чаю, — и он невольно усмехнулся: ничего себе чашечка. Бог ты мой, как легко было клясть постылую, но привычную колею, а теперь? Кромвель, Бэклерхорст, Вертипорох… Ничего не понимаю, думал Эрлен, Господи, вразуми меня.
— Джон, — проговорил он не без усилия. — Нет, что — мне на этом летать?
Кромвель, как и всегда, предпочел понять его по-своему.
— Конечно, каракатица, — отозвался он откуда-то с другого края. — Что же делать, но не грусти, Бэклерхорст говорит, она хорошая.
— Джон, я никогда не водил крейсер.
— У тебя классность EF, без проблем. Садись хоть на рефрижератор, права у всех одинаковые. Брось глупости, пойдем посмотрим, как там внутри.
Маршал появился перед Эрликоном, лучезарно улыбнулся и устремился к носовой части. Надо сказать, что после свидания с Бэклерхорстом Кромвель чрезвычайно повеселел, постоянно взирал на Эрлена не иначе как с неизъяснимой радостью и складывал верхнюю губу хоботком над нижней — эта полусумасшедшая морщинистая гримаса означала некую крайнюю степень счастья; издевательства его сделались гораздо церемонней и изысканней, Эрликон нехотя побрел за ним. Вот, думалось ему, кого не разволнует самая устрашающая техника, он-то готов поднять в воздух не то что этот «Милан», а целый авианосец, на котором двести таких «миланов», и разбить, и сжечь, и построить новые, и все это будет не важно, а важно то, чтобы все это железо служило службу и выполняло то, что он задумал. Эрлен даже затряс головой — под ваши крылья, ангелы небес, не готов я к такому, совсем не готов. Но что же делать?
Бока «Милана» густо, словно уголовник татуировками, были расписаны инструкциями на двух языках, грубо и назойливо указывавшими, как и куда крепить ракеты, бомбы, заправлять пулеметные и орудийные кассеты; никогда Эрликону не приходило в голову, что убийство человека может быть стандартом какой-то индустрии; некоторые надписи вызывали удивление:
— Джон, что значит «воздухо-воздушный индикатор»?
— Оба контура воздушные… Что? Слушай, я тебя жду!
Пренебрегая полосатой лифтовой площадкой, по приставной лесенке они поднялись к фонарю — вершине того горба, который и придавал машине столь необычный вид. Стоявший на полувзводе колпак был приоткрыт — и там неожиданно нашелся Вертипорох. Механик спал мертвым сном в кабине, развалившись в освобожденном от противоперегрузочных хламид кресле, уронив на плечо косматую голову, Эрлен пошевелил его за руку — Одихмантий заворочался, зачесался и, с трудом продирая глаза, уставился на приятелей.
— Эй, Москва, — позвал Кромвель. — Своих не узнаешь? Вылезай, дела будем делать.
Вертипорох обеими руками потер физиономию и прочистил горло кашлем:
— У, черт, а я думаю — кошмар снится.
— Восхитительно. Отправляйся вниз, неси свои книги, а мы здесь пока осмотримся. Да не сюда, дурила, направо, вот медведь сонный…
Механик перевалился через борт и канул вниз на лифте; Эрликон с маршалом остались в кабине. Тут Эрлену стало еще неуютней. Вместо привычной сводно-контрольной таблицы на него тупо уставились сразу три дисплея, усыпанные по краям индикаторами, словно торты — орехами; приборов было втрое больше, чем ему где-либо случалось видеть, и о назначении половины из них можно было только догадываться — не вмещаясь на приборной доске, они какой-то рамкой с пестрой разметкой вылезали даже на лобовое стекло, а уж ручка управления… У НАТ-63 была ручка, а у «Милана» — здоровенная драконья нога с ребрами, уступами и даже гребнистым забралом, тоже со сплошными тумблерами, кнопками и переключателями.
— Джон! — взмолился Эрликон. — Да я за этим всем просто не услежу!
— Ничего, ничего, — ответил Кромвель, внимательно озираясь. — Навигацию… это зачем?.. навигацию компьютер тебе отразит на стекло и на экран шлема, на остальное внимания не обращай, всякое там наведение и захват цели будут мигать, бог с ним…
— Экран шлема? Как это? Для чего?
— Чтобы ты головой не вертел… Какой деревянный идиот вас там учил? Истребитель заходит на цель на высоте шестьдесят метров, ты через минуту обалдеешь от тоннельного эффекта, а еще надо от ПВО уклоняться и цель высматривать. Далеко ты таким манером улетишь? До первого телеграфного столба… Ладно, шлема у нас все равно пока нет, что тут еще… Курсографа не ищи, нет его; на ручке пускачи — не спутай с триммером, непременно промахнем мимо полосы…
— А это что за ключ приклеен? Консервы открывать?
— А? Да, это гнездо кодовой кассеты, для голосового управления, тоже не понадобится, автоматика запрещена, судья нам карлойд опечатает, и правильно — будем показывать свое искусство, а не какого-то там биомозга… Хорошо. Слезаем. Вертипорох! Гони платформу!
Спустились. Кромвель приказал сесть: «Я скажу речь». Они с готовностью уселись на низкие пенопластовые ящики под крылом и приготовились слушать. Странная получилась компания — тоненький синеглазый и темноволосый Эрлен, вокруг шеи — серебряная цепочка, запавшая в ямку над острыми ключицами, кудлатый Черномор Вертипорох, смотрящий на Кромвеля с верой фанатика, и сам маршал — долговязый седой призрак, кожаная куртка с погонами, на груди белые волосы пробиваются сквозь сетчатую майку. Когда-то, подумал Эрликон, это был высоченный костлявый старикан; почему-то в эту минуту страх перед содеянным некогда Кромвелем впервые коснулся его сердца. Старикан же прошелся перед ними, будто профессор перед невесть какой аудиторией и заговорил точно по писаному:
— Не хочу вас пугать, но положение наше сложное. За восемь дней, как в сказке, мы должны подготовить к соревнованиям абсолютно необкатанную машину, причем капсула автономного жизнеобеспечения, в просторечии — «кишка Маркелова» — прибудет только накануне этапа, так что до самого последнего момента у нас не будет ни малейшего представления о том, как эта горбуха поведет себя в воздухе.
Более того. В таких условиях нам надо, я бы даже подчеркнул — мы обязаны, выиграть этап. В противном случае многие доверившиеся нам люди поплатятся головами, в первую очередь — Шелл Бэклерхорст и этот безмозглый пингвин Реншоу, который тем не менее проявил немалое сочувствие к нашим проблемам. Если мы не наберем полторы тысячи очков, их выгонят с работы, и альтернативы никакой нет.
Далее, по причинам космического свойства мы оказались в конфликте с шайкой проходимцев, именующих себя «Олимпийские музыканты». Они, видимо, постоянно будут подсылать к нам различного толка шантажистов, диверсантов и прочих злонамеренных лиц. Им мы станем выражать наше сугубое неодобрение. Эрли, ты не забыл шестизарядный в гостинице?
Эрлен распахнул куртку, продемонстрировал торчащую из-под мышки рукоять с колечком, и Кромвель продолжил:
— Самого же главаря Пиредру приказано сберечь для научных целей, поэтому по возможности не убивать. Таким образом, как вы видите, все это смеху подобно. Ввиду особой тяжести ситуации руководство объединения «Дассо Бреге» направило сюда лучшие кадры — пилота-снайпера Эрлена Терра-Эттина и чудного механика Диму Вертипороха. Командует операцией неоднократный чемпион мира и Олимпийских игр маршал авиации Джон Кромвель, ныне покойный. Выше головы, соратники, нас ждут великие дела. Не посрамим же и не уроним.
Немного подумав, Эрликон и Вертипорох захлопали. Кромвель кивнул:
— Теперь план такой. Ты дозвонился в Стимфал-Главный?
— Да, — ответил Вертипорох.
— Какой код?
— 108-Е.
— Ага. Тогда мы сейчас перегоним «фантом» в бокс, а ты собирай вещи и отправляйся за нами. Времени в обрез.
— А какой взять? — спросил Вертипорох. — Можно любой.
— Да, задача… Но не станем уподобляться буриданову ослу — или барану? — не помню. Ты почему-то спал в первом, устами механика глаголет истина: наверное, он чем-то лучше… Так что беги на мостик.
Они поднялись назад в кабину, и Кромвель вновь вступил в Эрлена. Это было как дуновение ветра, только изнутри, а не снаружи; ощущение обладало странной двойственностью: легкости, мощи, быстроты реакций и — его же, Эрликона, но уже и стороннего, презрения и жалости к отдалившемуся придатку-телу, сотрясаемому сердцебиением и залитому потом. Эрлен никогда не употреблял ни допингов, ни наркотиков, иначе мог бы призадуматься над сходством впечатлений. Как бы то ни было, вновь преграды пали, вновь он был перчаткой на всепокоряющей длани. Кромвель принялся щелкать тумблерами. Пневматика зашипела, фонарь опустился и, чмокнув, сел на место; загорелась подсветка шкал, зеленые цифры индикаторов; на экране заднего вида, в пространстве между килями, проскочил Вертипорох, спешащий вверх по лестнице, и Эрликон подивился ширине самолета — при взгляде сверху «Милан» напоминал гигантскую пятиконечную звезду с двумя чуть усеченными нижними лучами. Дж. Дж., не переставая трещать переключателями и не отрывая глаз от приборов, заправил за ухо серебристый стебелек переговорника:
— Алло, Вертипорох, как меня слышно?
— Слышу нормально.
— У меня шесть тысяч на баке, пленка, наверное. Ты вчера закачивал?
— Вчера.
— Ладно, я сейчас дуну, а там, может, дозаправиться придется.
— Понял.
С потолка спустились исполинские белые коконы и присосались к грозно разверстым соплам «Милана».
— Присматривайся, присматривайся, — сказал Кромвель. — Гироскопы — это система контроля зажигания; алло, Вертипорох, не слышу доклада, как там?
— Есть тяга. Ноль шесть ноль семь.
— Понял. Ключ зажигания.
— Норма. Жми по малой.
Кромвель чуть шевельнул сектора газа с лезвиями в стиле модерн. Двигатели тихонько запели, указатель топливомера быстро заскользил назад, к красной отметке.
— Алло, Дима, у меня двести пятьдесят на баке, все в порядке, собирайся и поспешай, я поехал, ждем тебя на испытательной.
После этого Кромвель сменил волну и повел другие речи:
— Я «Дассо» 108-Е, вызываю Стимфал-Главный.
Щелкнуло, свистнуло, заулюлюкало, потом неживой голос произнес:
— Я Стимфал-Главный, слушаю вас, 108-Е.
— У меня бронь Ванденберг-Испытательная, десять, прошу выход в систему.
— 108-Е, подтвердите тип.
— Я 108-Е, тип «Милан-270».
— Вас понял, 108-Е, даю двухминутную готовность.
— Есть двухминутная готовность.
Наступила пауза. На циферблате хронометра огненно плясали десятые доли секунды.
— Я Стимфал-Главный, 108-Е, разрешаю запуск, ваш индекс — двадцать семь.
— Вас понял, индекс двадцать семь.
Плазма, утекающая в отводящие каналы, загудела басовитее.
— Я Стимфал-Главный, 108-Е, разрешаю старт.
Кромвель передвинул сектора, потянул ручку; самолет, слегка задирая нос, начал подниматься вместе с приросшими трубами коконов; гидравлики подняли шасси, повернули, уложили и скрыли под обтекателями; створки потолка медленно раскрылись, пропуская машину, и так же медленно сомкнулись. Трубы отошли, и тотчас же на выгнутые стены пало зарево выхлопных факелов. Стены эти стремительно понеслись назад, зарево, светя ровным кольцом, летело рядом, лучик спидометра подрагивал возле цифр 100, впереди через равные промежутки времени вспыхивало белое число 27. Тоннель раздваивался и троился, сворачивал, зажигал схемы указателей. Кромвель прибирал ручку то вправо, то влево, не убавляя скорости; только один раз он резко отдал сектора и толкнул носовую тягу — впереди сбоку, в спирально охваченном белым пунктиром ответвлении, потемнело, затем вспыхнуло, двойка и семерка замигали красным, что-то мелькнуло и скрылось. Кромвель молниеносно переключил рацию и гаркнул в переговорник, влепив непонятное Эрлену излюбленное хлесткое словечко:
— Ты, б…, колдун, куда прешь на встречный индекс?
В ответ в наушнике кто-то с раскаянием прохрипел: «Пардон…», и помчались дальше.
Ванденберг, ангары «Дассо». Номера боксов: 15, 14, 13, 12, 11, 10. Стоп. Испытательная, дайте шлюз. Вы такой-то? Я такой-то. Заходи. И вот «Милан» стоит на керамическом, в черно-рыжих подпалинах полу снежно-бело-кафельного испытательного бокса.
Ванденберг — северный и почти на сто миль удаленный от моря отросток стимфальского мегаполиса, и если сам по себе Стимфал, подобно Далласу или Лас-Вегасу, абсолютно искусственное образование на земном лике, никак не связанное ни с природой, ни с водными, ни с сухопутными людскими дорогами, то Ванденберг — самая искусственная его часть. Однако именно благодаря Ванденбергу Стимфал некогда обрел статус имперской столицы.
Ванденберг — город-космодром, точнее даже, город пяти космодромов — как раз столько их уместилось на этом «голландском кухонном столе», как называли его в старину; более того, все то, что делало Стимфальскую империю вооруженным выше бровей агрессором, готовым до последнего отстаивать захваченное, Ванденберг являл в квадрате и в кубе. Каждый стартовый комплекс был здесь превращен в крепость, а каждая взлетно-посадочная полоса — в форт, все службы и коммуникации дублировались пятикратно, наземно и подземно, бетон и броня уходили в глубь гранитов и базальтов. Прекрасно это зная, союзники во время битвы за Стимфал уделили Ванденбергу особое внимание, и вследствие их усилий две трети сего нового Кенигсберга были старательно перемешаны с землей и костями защитников. Но и того, что осталось, впоследствии хватило, чтобы на его основе построить два современных космопорта, два аэродрома и оставить за Ванденбергом титул авиационной столицы мира.
Тут держали свои базы практически все авиастроительные фирмы, компании, институты, лаборатории, центры подготовки и просто летные училища; небо над горячими камнями плоскогорья было разделено на зоны, сектора, эшелоны, и там днем и ночью под рев и свист рассекали воздух машины всех марок и моделей, и, слыша порой смягченный расстоянием грохот взрыва, жители северных районов с пониманием поглядывали в сторону гор.
— Добро пожаловать в Голландию, — поприветствовал Эрликона Кромвель.
— Почему в Голландию?
— Не знаю, уж так раньше называли этот Ванденберг.
Колпак фонаря со вздохом встал вертикально, Эрлен стер пот с шеи и лица. Как всегда, после контакта с Кромвелем ломило висок и дрожали руки.
— Закурим, — предложил Дж. Дж.
Эрликон осторожно покачал головой:
— Не могу. Давай попозже. Джон, ну что ты все время скалишь зубы? У тебя улыбка как у крокодила.
— Ты мне нравишься, — ответил Кромвель. — Я вселяю в тебя бодрость. Что, не в коня корм? Подожди, еще сам засверкаешь, дай срок.
Появился Вертипорох, увешанный баулами, прицепил лестницу, пилоты спустились, и маршал незамедлительно приступил к руководству действиями:
— Перво-наперво активировать киборгов, пусть прозванивают схемы, это одно; второе, механик, ты все на свете знаешь, ну-ка ответь, куда нам приспособить магнитофон или кристаллофон с музыкой?
— А зачем нам музыка в воздухе? — удивился Эрлен.
— Я думал, ты знаешь, — издевательски ухмыльнулся Кромвель. — Слушать будем.
— Насчет магнитофона я не знаю, — сказал Вертипорох, — а компьютер с голографией здесь есть, программу я подготовил, все можно посмотреть.
Предложение возражений не вызвало, они уселись в затененном зале, и перед ними зависла первая, самая общая схема самолета — объемная, всех цветов радуги, усеянная цифрами и буквами. Эрликон, едва взглянув на эти хитросплетения, с безнадежностью отвернулся, Кромвеля же смутить какой бы то ни было картинкой было трудно, он вгляделся и пакостно захихикал:
— Если я ничего не путаю, здесь дублирование по карлойду.
— Да, — с гордостью подтвердил Вертипорох. — Дублирующая карлойд-схема.
— Да-да-да. А золотого унитаза у тебя тут нет?
— Э, э, — вмешался Эрлен, — а зачем вообще нужен карлойд? Почему не просто компьютер?
— Затем, — ответил веселый маршал, — что карлойд — это искусственный интеллект. Можешь с ним поговорить. По душам.
Вертипорох почти обиделся.
— Карлойд расширяет возможности пилота, — проворчал он.
— Расширяет, расширяет, — согласился Дж. Дж. — До пределов — до таких, за которыми уже ничего не видно — ни возможностей, ни пилота.
Он завладел левой рукой механика и, быстро прикасаясь пальцами к клавиатуре, принялся демонстрировать свое умение говорить об одном, а думать в это время совершенно о другом. В то время как круглые совиные глаза маршала скептически пробегали картины узлов и систем, его лицо и особенно необычайно подвижные губы вовсю изображали восторг некоего слабоумного лектора.
— Да-с, биоэлектронный мозг, или карлойд, — вещь, безусловно, нужная и полезная. Представим себе, что какой-то бестолковый пилот на планете класса Валентины попадает в многовекторный атмосферный поток с высокой концентрацией твердой составляющей — всякой наэлектризованной пыли, каменной мелочи — словом, с физическим стоком. Ни зги не видно, приборы врут как по писаному, дело плохо. Но наш пилот духом не падает — у него на борту есть карлойд, чей пращур некогда именовался автопилотом. Карлойд начинает анализировать локацию, инфракрасные и прочее, шарахаться от каждой песчинки и через минуту крепко задумывается о том, не перейти ли в унифакторный режим, и за этими раздумьями как-то незаметно врезается в первый попавшийся курятник, который по блоку информации совпал с его родным ангаром, после чего ученые мужи и жены громогласно удивляются — как это электронное оснащение авиации растет, а количество катастроф не снижается.
— Вот и будь пилотом, — заметил Эрликон.
— Не будь только дураком, — посоветовал Кромвель. — Ладно, принимаем такое решение. — Тут его мысль пришла в соответствие с речью. — Один дубляж отключаем намертво. Вертипорох, отвинти к чертовой матери все разъемы; я бы и второй отключил, но без него кибитка не поедет, поэтому пусть судейская коллегия впаивает в него блок-контроль, и перепрограммируем на звукозапись и воспроизведение — вот и будет патефончик.
— Стой, стой, — всполошился Вертипорох. — Как это — отвинтить, перепрограммировать? Жидкие биокристаллы?
— Вертипорох! — сказал Кромвель маршальским голосом.
— Я, — уныло отозвался механик. — Ничего себе… отвинтить…
— Отвинтишь, отвинтишь… Воткни-ка теперь движки.
Двигатели на Кромвеля впечатления не произвели.
— Все тот же пятиступенчатый пакет, «ял-скевенджер», дедушка английской авиации… С войны ничего нового не придумали. Гаси это кино, пошли подключаться к тренажеру.
Началась выматывающая круговерть подготовки. «Милану» разворотили брюхо, упрятали в трубы, оплели кабелями, обвешали датчиками, которых, сколько можно, Кромвель натащил в кабину, и Эрлен вылезал оттуда только поесть, да и то не всегда. Маршал чудил напропалую и никого в свои планы не посвящал; Эрликон попробовал было выяснить, в чем суть, но Дж. Дж. в ответ лишь посоветовал заниматься делом и не забивать голову чем не надо: «Ты пилот, твое дело — кнопки нажимать». Главный тренажер испытательной станции мог воссоздать прямо в самолете любую ситуацию в воздухе со всеми допустимыми и недопустимыми перегрузками во время фигур высшего пилотажа, и Эрлен ожидал, что теперь они начнут гонять элементы по программе, разбираясь, где сильные, где слабые места, но Кромвеля, похоже, волновало совсем другое. Он взялся мучить двигатели и приборы на бесчисленных переменах режима, прибавляя и убавляя обороты, остекленело таращась на колеблющиеся стрелки индикаторов. Они с Эрликоном часами сидели под фонарем с включенной блокировкой, вглядываясь в разнобой электронных сигналов, которые, кажется, что-то говорили Кромвелю — некоторые программы режимов он пропускал почти не глядя, иные прокручивал по десяти и более раз. Кривые он писал на компьютер и потом, в перерывах, просматривал еще и еще. По приказу маршала Вертипорох, набравшись храбрости, даже направился с претензиями к центральному мозгу Испытательной.
— Сдается мне, Джон, — сказал Эрлен, — что ты с трудом удерживаешься от желания понюхать свои амперметры. Так ты нюхай, я ничего такого в этом не вижу.
Нюхать Кромвель ничего не стал, но в горячий двигатель залезал неоднократно.
Хотя Дж. Дж. ругал и безжалостно изгонял всех посетителей, положение в ангаре никак нельзя было назвать затворническим. Являлись эксперты из судейской коллегии и зеленели от злости, выслушивая участливые вопросы маршала о том, кому они продались на этот раз — «Боингу», как в прошлом году, или перекинулись к «Локхиду» — Дж. Дж. щедро, но с хитрым выбором тратил информацию, полученную от Скифа; регулярно наведывались киборги-контролеры — те невозмутимо выслушивали кромвелевские высказывания типа: «Ну, давай, давай, железяка»; очень скоро прикатила красавица барменша из «Грифа» Шейла Джексон.
Разговор с ней вышел странный и какой-то мистический. Обменявшись со смуглокожей обольстительницей несколькими таинственными фразами, Кромвель отозвал Эрликона в сторону: «Пойдем-ка со мной на пять минут…» Втроем они отправились в один из дальних закутков бокса, и по дороге Эрлен успел обратить внимание на то, что вид у Шейлы несколько потрясенный, но решительный. Когда две стены отделили их от чужих взоров, Кромвель скомандовал: «Отвернись». Эрликон повернулся лицом к двери, и Шейла с явной робостью, что совершенно ошеломляюще звучало в ее устах, спросила: «Как, прямо так?», а Дж. Дж. ответил: «Тихо, тихо», — и спустя короткое время произнес: — «Ну как, чувствуешь что-нибудь?», Шейла только отозвалась: «Ого», и прозвучало оно на самом нижнем регистре ее голоса. Кромвель сказал: «Спасибо, Эрли, можешь идти». Эрлен вышел и, уже закрывая дверь, услыхал, как Шейла спрашивает: «Ты что, в самом деле африканский дух?»
Они появились в испытательном зале минут через сорок, оживленно беседуя.
Шейла сказала:
— Черт побери, не могу же я в самом деле выйти замуж за привидение?
— Все бывает; отлетаем этап, вот тогда поговорим. — Кромвель в эту минуту, кажется, уже думал о другом. — Сейчас цейтнот. До воскресенья.
— Ну, еду-то я могу возить, у меня фургон есть.
— Что, каждый день мотаться сюда из Стимфала? Да еще Пиредру на хвосте привезешь. До воскресенья, не раньше. Все, будь хорошей девочкой, беги. Смотри телевизор. Я тебе позвоню.
На вопрошающие взгляды Эрликона и Вертипороха (Эрлен страшно растерялся, услышав, как такую сногсшибательную даму называют девочкой) маршал ответил сдвинув брови: «Женщины — потом».
Но тут нашла коса на камень, и ничего из этих строгостей не вышло, поскольку Шейла исправно приезжала практически через день, и Кромвель только пожимал плечами.
Заходил и Реншоу — проведать своих подопечных, — но и ему Дж. Дж. никаких объяснений дать не пожелал, а лишь обрушился с нападками на пищевой рацион, утверждая, что-де чемпиона следует кормить по системе Хэйни. Реншоу ни слова на это не возражал, покорно тряс головой, и, хотя Кромвель не дал ему и рта открыть, сама обстановка в боксе — гул, суета киборгов, развороченный «Милан», черный от недосыпания Вертипорох — все понравилось почтенному представителю, и он оповестил Бэклерхорста о том, что команда старается.
Команда старалась. Маршал поднимал своих парней в половине восьмого, гнал сначала в душ, потом на завтрак и немедленно в бокс. Прогрев двигателей и дальше экспозиция. Фиксация режимов таких-то. Стоп, переход не добирает. Что думает карлойд? Мала подача? Сначала. Стоп! Смещение фокуса сгорания. Мозг просит полторы секунды. Черепаха. Сначала. Перегрев лопаток. Проверить, где-то в холодильнике упало напряжение. Сначала. Стоп! Вылетел чип-вкладыш. Горят они там, что ли? Сначала. Эрликону пару раз крупно влетело за легкомыслие: он как-то предложил «фурыкнуть не глядя». Кромвель обругал его непонятными словами, а после посоветовал забыть о катапульте.
— Эта штучка, — сказал он, — стоит, как хорошая космическая яхта, но это бы еще полбеды, она еще, видишь ли, вдобавок не застрахована. Представь-ка себе на минуту, что машина сгорела, а мы уцелели. Какая нас ждет участь? С твоей манерой заключать контракты тебе предстоит расплачиваться с «Дассо» лет эдак пятьсот.
Ко всему прочему, Дж. Дж. заставлял Эрлена ежедневно отжиматься на брусьях и крутить велотренажер. Вертипорох тоже то входил в милость, то лишался ее; именовался то «черт мохнорылый», то «головушка наша золотая». За обедом Кромвель обычно продолжал свои нравоучения:
— Мы должны думать о Бэклерхорсте, пожалеть его. Шелл — человек феодальный, а значит, наивный до предела.
— Что-то я не пойму, — отвечал Эрликон, поглощая салат по системе Хэйни. — Он же, ты говорил, великий завоеватель. Да и на вид он делец вполне современный.
— Да, увы, таков общий глас. Нет, Эрли, нет, Шелл Бэклерхорст человек необычайно мягкий, интеллигентный, чужие несчастья всегда переживает как свои. В дни его юности, в десятом веке, мамаша Шелла с сородичами на коленях умоляла сына: помоги, защити, не ударь в грязь лицом! Бэклерхорсту не хотелось огорчать близких людей, он и пошел убивать да крошить направо и налево. И до того хорошо у него это выходило, что он в конце концов завоевал полмира. А потом один мудрец ему растолковал, что эдак вести себя неприлично, и Бэклерхорст смертоубийства бросил, перебрался в Казанову, открыл фотомастерскую, зажил тихо-мирно, как он любит.
— Все хорошо, что хорошо кончается, — заметил Вертипорох.
— Этим вовсе не кончилось, — возразил Кромвель. — Штука в том, что у Бэклерхорста есть удивительное свойство. Скажем, бывают люди очень высокого роста, а встречаются, например, с абсолютным слухом. А у Шелла талант выходить в начальники. Так уж устроено, что люди вокруг него неудобно себя чувствуют, пока Бэклерхорст не сядет в большое кресло и не начнет руководить — что в десятом веке, что теперь.
Вертипорох пожал плечами:
— Что же… Если в нем такой организаторский заряд.
— Нет в нем такого заряда, — грустно ответил Дж. Дж. — А если в чем и есть, так единственно в походке. Он, Дима, и сам такому везению не рад, но поделать ничего не может — смирился, махнул рукой и терпит. Когда же он поселился в Казанове, то со своим простодушием поверил в еще одну доктрину, из-за нее-то мы тут с вами и сидим. Ему внушили, что Кромвель лучше всех в мире летает и победить его нельзя. Не потому, что он какой-то особенный летчик, а уж так устроен мир — камень падает вниз, вода мокрая, Кромвель всегда выигрывает. Ну как ребенок, ей-богу. Сейчас он поставил на нас все свое положение, деньги, престиж фирмы и ни капли не волнуется — столь незыблема его вера. А вера горами движет, поэтому мы должны занять первое место в этапе, а не то, — Кромвель сразу перестал печалиться, — подорвем мировоззрение такого интересного человека.
После обеда коловерть продолжалась, двигатели жгли горючее, маршал смотрел на приборы и приставал к карлойду. Иногда, правда, он снисходил до объяснений:
— Маневренность у нас прекрасная, можем заложить вираж с отрицательным вектором, но это лобовое сопротивление… Ты хоть знаешь, почему на эволюциях биплан лучше, чем моноплан?
— Э-э-э… М-м-м-м… — мычал Эрлен. — Биплан… Ну, в старину, деревянный такой самолет…
— Голова у тебя деревянная, да что я тут распинаюсь. На горизонтали «боинг» нас обскачет, придется виражить и виражить, машина тяжелая, дозировка подачи должна быть ювелирной, а некоторые юноши машут ручкой, как во сне. Мон шер, это тебе не Як-18, там выкрутил не выкрутил — на форсаже доберем, а здесь о горючем надо думать…
Бог знает, что уж он имел в виду, но регулировка проводилась с тщательностью, до сих пор Эрликоном не виданной. Работы заканчивались в двадцать два ноль-ноль, и Кромвель требовал, чтобы в двадцать три Эрлен засыпал. Подземный жилой блок был отделан под люкс, с двумя спальнями и двумя ванными, полным телевизионным оборудованием и видеофоном. Перед сном ругали Пиредру.
— Я удивляюсь Скифу, — философствовал Дж. Дж. — Что за мистицизм среди роботов? Фетишем кибернетического мозга стал безмозглый жулик, мысль уверовала во всемогущество безмыслия. Впрочем, все вполне объяснимо — Скиф, как и все ему подобные кофемолки, мыслит перебором вариантов: да — да, нет — нет, и вдруг — Винер всемогущий! — живет и преуспевает личность без единой мысли в башке. Скиф перебрал свои триггеры — или что там у него — нет такого варианта! Значит, все, конец света, Пиредра — трансцендентное чудо. А может, и Господь Бог. Вот вам и религия. Всего-то навсего ворюга с нюхом. Правда, везет ему как утопленнику — не этого ли Скиф испугался?
Прошло четыре дня из восьми назначенных. На утро пятого засвистел факс, и насвистел такое, от чего Кромвель глухо и страшно зарычал.
— Или Пиредра купил судейскую коллегию, — сказал он, глядя на Эрликона безумными глазами, — или мы с Бэклерхорстом отдавили кому-то любимую мозоль. Нам впиндюривают топливный лимит. Ах, дьявол!
Эрлен не сразу постиг суть происходящего:
— Да? На том этапе я тоже летал с лимитом.
— Балда! — обругал его маршал свирепым шепотом. — У тебя был судейский лимит по начислению штрафных очков, а теперь нам урежут взлетный вес, пять тонн металлического водорода… Ах, недоноски, почуяли что-то; Эрли, есть, есть там такая статья о крейсерском классе, знал бы — отменил эту глупость еще в сорок седьмом! Звони Реншоу! Реншоу! — заревел Кромвель, не разжимая зубов. — Нас подставляют под статью о топливном лимите. Что? Да! Не хватит горючего на посадку. Чьи это фокусы? Кто додумался? Что? Как это «не знаю»? Какого черта тогда вы там сидите? Узнайте, сообщите Бэклерхорсту, дайте кому-нибудь взятку!
Слышно было, как Реншоу что-то невнятно лепетал. Дж. Дж. плюнул призрачной слюной, бросил трубку и с ненавистью вперился в ни в чем не повинного Эрликона:
— Послал аллах тюленя… Дело дрянь, Эрли, дело хуже, чем я думал… Набери еще раз. Реншоу, да, снова Терра-Эттин. Не звоните никому, Бэклерхорсту скажите — справимся сами. Да, все.
Вертипорох тоже сложности положения не оценил:
— Джон, а что нам этот лимит? У нас же по топливу двойной запас.
— В заднице у тебя двойной запас, — ответил Кромвель жестоко. — Я знаю, что говорю. Дай сюда калькулятор.
В зеленом окошке заскакали загадочные цифры.
— Садимся на вакуумную подушку, — бормотал маршал, нажимая на клавиши Эрленовым пальцем. — Стало быть, 0,6–0,7, это в четверть… За глаза… — Длинные резцы отпустили маршальскую нижнюю губу, и Кромвель, уже с привычной усмешкой, потянулся, как сонная пантера. — Механик, слушай мою команду. Вешаем наружные баки.
— Зачем? — опешил Вертипорох. — Лимит, расход еще больше увеличится, вес возрастет… Опять же лобовое…
— Да уж, будет сопротивление, — подтвердил Дж. Дж. — Зато еще подожмемся на фигурах, а на посадке баки отстрелим.
— Ого, ничего себе, — изумился Вертипорох.
— Ничего не «ого». Вот только «боинг», «боинг»… Не идет он у меня из головы… Ну что вы так оба на меня смотрите? Я однажды на посадке с Шенкенбергом отстрелил одновременно баки, поворотную кассету и все три шасси.
— И чем кончилось?
— Дали майора и десять суток ареста.
— Нет, ну а как все было? — спросил Эрлен с неподдельным интересом человека, которому предстоит наблюдать все эти искрометные пертурбации отнюдь не со стороны.
— Как было… Сидели полторы недели у Шенкенберга, а Фонда бегала за вином, вот как было. Все, по местам, механик, готовь баки, а ты не трусь, курсант, кишка у них тонка с нами совладать.
Беда не приходит одна. В тот же день, между восемью и восемью двумястами общей тяги, ожил видеофон по номеру внутренней ванденбергской связи. Кромвель пошел вместе с Вертипорохом и вернулся озабоченный. Механик показал скрещенные руки, надсадный вой двигателей смолк, и Эрликон вылез из кабины.
— Нас беспокоит мадемуазель Делорм, — сказал Дж. Дж., — пассажирский инспектор космопорта, в восемьдесят девятом году — мисс Стимфал, на редкость милая особа. Только что пожаловал Пиредра — в лице двух головорезов из охраны «Олимпии» — Бена Томпсона и Галлена Бейкера. Поехали в город.
— Ну и что? — спросил Эрлен. — Мало ли.
— Нет, — ответил Кромвель. — Не будем тешить себя иллюзиями. Это приехали убийцы, а еще лучше сказать — убивалы. Я видел их послужной список у Скифа. Сколь неожиданен поворот событий.
Лихорадка предстартовой подготовки совершенно вытеснила из головы Эрликона козни мафии, и теперь ему, во-первых, просто сделалось не по себе, а во-вторых, он испытал и вовсе ужас при мысли, что маршал сейчас же, не откладывая дела в долгий ящик, объявит начало военных действий. Все же, собравшись с духом, Эрлен решил не терять лица и достаточно спокойно произнес:
— Разве не этого мы ожидали каждую минуту?
— Совсем не этого, — возразил Дж. Дж. — Пиредра, искусник наш, выдерживает стиль, ничего не скажешь. Мы-то ждем бог знает какой хитрости, каких-то сверхъестественных ходов, а вместо этого приезжают два стенолома. Что сей сон означает?
Сквозь миниатюрную фигурку пилота, сквозь опутанный силовыми подводами самолет и стены бокса маршальский взгляд и мысль погрузились в ему одному ведомые глубины, и лишь его язык, празднословный и лукавый, продолжал беседу с Эрликоном:
— Да-с, перед нами излюбленная манера Пиредры — сбить всех с толку, сделать вид, будто спятил, с тем чтобы, когда противник сообразит, что к чему, было уже поздно. В другое время и мы поиграли бы в эту испанскую игру, но сейчас требуется разобраться в ситуации немедленно…
— Джон, — прервал эти излияния Эрлен. — У меня сложилось впечатление, что ты уже решил, что надо делать, поэтому нельзя ли просто изложить нам свои соображения.
Кромвель картинно удивился:
— А где же ваши мнения, герои дня? Решили все взвалить на старика? Мне приходилось утихомиривать этого бандита до войны, после войны, и теперь, я вижу, начинается та же история.
— Нет, я просто чувствую, что уже созрел некий план, и хочу напомнить, что, согласно твоей же, Джон, теории, у Пиредры есть интуиция плюс еще неизвестно что и, возможно, только осуществления твоего плана он и ждет и вся его демонстрация на это и рассчитана…
— А потому изобретай не изобретай — с Пиредрой все едино не справиться, — закончил Дж. Дж. — Слышу, слышу голос Скифа. Прелестный фатализм, но поспешу напомнить, что Пиредра пока что не Господь всемогущий, а за два часа организовать в чужом городе убийство, закамуфлированное под несчастный случай, не может даже Господь Бог.
— Во-первых, почему только два часа, а во-вторых, тогда объясни, чего хотят эти люди.
— Два часа потому, что мы им больше не дадим, а вот понять, чего добивается Рамирес, я не могу и боюсь, что он и сам не очень это понимает… Надо согласиться, что ему пока удалось сбить нас с толку, и нам ничего не остается, как ответить ему тем же, поскольку у нас нет времени разгадывать его замыслы.
Тут мысли и слова Кромвеля опять соединились в естественное русло.
— Слушай мою команду, — объявил он. — С какой радости так обнаглел Рамирес Пиредра, установить на данном этапе не представляется возможным по причине жесточайшего цейтнота. Поэтому приказываю: внести замешательство в его ряды, помня, что больше всего на свете преступная интуиция боится непонятных положений. В связи с этим я немедленно отбываю в город и через два часа жду Вертипороха в кафе «Бай Ольгуинн». Пилоту Терра-Эттину продолжать прогон режимов до пяти тысяч, после чего отдыхать.
— Вот это да, — поразился Эрликон. — Вы что, идете без меня?
— Вот именно, — ответил Дж. Дж. — Вылезай из «сандалеты».
Глаза его снова опустели. Похоже, мыслями он был уже в Стимфале, ум занялся решением каких-то иных задач; на Эрлена пахнуло духом машинного рационализма, на лице маршала проступила печать того страшноватого мира, в котором человеческая жизнь приравнена к стоимости цифры из биржевой сводки.
— Ребята, — осторожно сказал Эрлен, отдавая Вертипороху пистолет, — вы там все-таки не очень.
Кромвель, по обыкновению, сморщился в улыбке типа «носорожья губа»:
— Не волнуйся, не заблудимся. Всю жизнь я хлебал из одного корыта с разведчиками, а профессионалом так и не стал — такая странность… но кое-что припомню, если потребуется. Дима, быстро тут все заканчивай и приходи.
Серо-голубой «ниссан», погасив скорость, пристроился в конец вереницы машин, припаркованных вдоль тротуара по правой стороне улицы Овчинников-бридж. Впереди блестела на солнце витрина кафе «Мермоз», мимо текла не слишком густая для вечернего часа толпа.
— Ближе не стоит, — сказал Кромвель, глядя через ветровое стекло. — Вдруг их понесет обратно в гостиницу. У нас еще минут пять. Марко, что это за парень, что продал им билеты?
Красавчик Марко сидел за рулем — тщедушный белобрысый малый лет двадцати, все лицо в красноватых следах от ожога кислотой. Откуда маршал выкопал и его, и машину — неизвестно.
— Не наш, — ответил Марко, перекатывая во рту жевательную резинку. — Кто-то из аэродромных жучков.
На заднем сиденье устроился Вертипорох и тоже смотрел на двери кафе. Под его рукой шесть тупоносых дьяволов спали чутким сном в идеально отфрезерованном и отцентрированном барабане, и первый избранник уже смотрел в зеркальный канал, готовый подставить бока под нарезы и дать пищу уму экспертов.
— Алло, Дима. — Дж. Дж. говорил, не оборачиваясь. — Давай, Москва, покажем искусство. Я бы разобрался с ними без шума, но тогда Пиредра насторожится, а этого пока не надо. Не торопись и не волнуйся. Марко, значит, как скажу, двигай на малой скорости, не задерживайся, а дальше — на всю железку.
Марко молча кивнул. В кафе зашла женщина с пакетом, за ней двое мальчишек. Вышла девушка — в джинсах и еще в чем-то сверхлегкомысленном, следом — пожилой мужчина с длинным белым рулоном.
— Ага, — молвил маршал тихо. — Ну и куда?
Показались: молодой парень в спортивной куртке, на лице его отсутствовала такая незначительная деталь, как переносица, — никакого угла между лбом и носом, да и сам нос был явно переломан в двух местах, и второй, постарше, ниже ростом, клочковато-лысоватый, в дымчатых очках. Они о чем-то кратко переговорили, поднеся по очереди зажигалку к сигаретам, и зашагали вниз по улице — от кафе и от затаивших дыхание приятелей.
— Поехали, — скомандовал Кромвель.
«Ниссан» отвалился от тротуара и медленно покатил вдоль машин у бровки.
Дж. Дж. перебрался к Вертипороху:
— Дима, ты готов? Положи локоть на спинку. Прижмись ко мне вплотную; смелей, им целым не уйти; не отступай; я хорошо фехтую!
Последнее Дж. Дж. произнес на языке оригинала, немилосердно злоупотребив хохдойчем, и если бы нашлась еще минута, то Вертипорох и Марко непременно спросили бы, что все это значит, а Кромвель ответил бы — то, что в академии им преподавали языки и он очень хорошо учился. Прекрасно учился. Но этой минуты не нашлось, потому что через мгновение они поравнялись с теми двумя.
К шести вечера маршал и механик уже вернулись в бокс. Увидев их на экране внешнего слежения, Эрликон слегка перевел дух.
— Ну как? — произнес он заранее заготовленную фразу. — Вселили страх божий?
— Обязательно, — успокоил его Кромвель, входя. — Дима сегодня был в ударе.
— Может, расскажете, что вы там устроили?
— Дима, что мы там устроили?
— Мы им выразили сугубое недоброжелательство, — пробурчал Вертипорох.
— На этом вечер вопросов и ответов заканчивается, — распорядился Дж. Дж.
— Господ артистов приглашаем в гостиную, то есть к стенду. Лаборемус, что означает — за работу.
Но поздно вечером, во время перерыва, Эрлен включил телевизор. Сначала ему поведали о прибытии в Стимфал какого-то невыговариваемого посольства, потом на экране появилось кафе «Мермоз», толпа зевак, отгороженная полосатой лентой с надписями «полиция», и приятной внешности молодой человек с микрофоном в руке. Возле него стоял сонный бородатый дядька в белом костюме. Молодой человек на бешеной скорости сообщил, что, как и было сказано ранее, служащие французской компании «Олимпик интернешнл» Бейкер и Томпсон были убиты на этом самом месте выстрелами из проезжавшей машины и что инспектор Себастьян, ведущий расследование, любезно согласился дать информацию.
— Следствие только что начато, — устало и простуженно прогудел инспектор Себастьян. — Мы вступили в контакт с представителями фирмы. О дальнейшем расскажем на специальной пресс-конференции.
Молодой человек стал расспрашивать, удалось ли найти владельца машины и не мафия ли это сводит счеты. Тут же Эрликон мертвеющей рукой выключил телевизор.
Он испытывал ужас перед любым насилием. Почему — сказать трудно, за всю жизнь ему ни разу не пришлось испытать сколько-нибудь серьезных побоев, не говоря уже об участии в каких-то горячих делах. Институтские программы по дзюдо и ментальному каратэ были для него дисциплинами весьма теоретическими, тем паче что его специализация как аналитика определилась с первого курса и жестких оперативных нормативов к нему никто не предъявлял.
Тем не менее страх перед той частью мира, где царит культ силы, а интеллект и эрудиция — ничто против хитрости и жестокости, жил в нем всегда. Думаю, что корни этого уходили в прошлое, когда над Эрленом ежедневно и еженощно измывалась орава сверстников, слабейший из которых был в два раза сильнее его. Такая жизнь, как ни странно, не озлобила Эрликона, хотя я ничуть бы не удивился, если бы с годами он превратился в демона, но воздвигла в душе те самые цитадели и казематы, которые некогда столь поразили Ингу. В нем же остались страх и желание отгородиться от всех этих «чисто мужских потребностей самоутверждения» при помощи кулаков, лидерства и выхода здоровой агрессивности.
Освоив — с великими муками и великим упорством — самую мужественную и полную смертельного риска профессию, Эрлен надеялся, что обошел свои комплексы с черного хода. Однако тот путь, на который увлек его маршал, воскресил былые кошмары, и притом настолько живо, что, не высидев и минуты у погашенного телевизора, Эрликон сполз на пол со стула и прижался ухом и щекой к холодному полу. Страх и чувство отвращения терзали его. Отвращение к той пакости, в которую окунулся, взяв карту за омерзительным для него столом, и страх перед тем, что неведомый банкомет получил право предъявить счет, ибо известна участь взявшего меч.
В таком положении, лежащим на полу, и застал его Кромвель.
— Что такое? — нахмурился маршал. — Солнечный удар? Переутомление? Ты не ранен?
— Джон. Зачем вы их убили?
— А как же? Их непременно надо было застрелить. А, кажется, понимаю. — Дж. Дж. посмотрел на дистанционный пульт, который Эрлен все еще сжимал в руке. — Приступ раскаяния. Странно, странно… совсем не похоже на Институт Контакта. Ты же разведчик!
— Могли бы обойтись как-нибудь, — сквозь судорогу проговорил Эрликон.
— Обойтись… Я знаю, чего тебе не хватает. Торжественности. Золоченых риз. Все слишком вульгарно. Что ж, дело поправимое. Когда приедут следующие, купим пару дуэльных пистолетов с инкрустацией, облачимся в мантии… Балда! Это ублюдки, скоты! Знаешь, каких дел они натворили на своем веку? Если тебе этого мало, утешай свою совесть тем, что нас разыскивает полиция и скоро, возможно, посадят в тюрьму. Пиредра, увы, передачи нам не пришлет. — Однако теоретическая часть волновала маршала куда больше. — И это ученик Скифа, — удрученно качал он головой.
— Скиф убивал на войне.
— На войне, на войне, — радостно согласился Кромвель. Глаза его вновь сделались пустыми и темными. — Как сейчас на Валентине. Вот только скажи мне — кто эту войну организовал? Ты газеты читаешь? Нет, ты меня разочаровал… горько разочаровал. Приказ такой: съешь вот таблетку на сон грядущий — и без разговоров.
Накачанный транквилизаторами, Эрлен заснул, и сон его был беспокоен.
Вторник, девятнадцатое сентября, последний день перед соревнованиями. Кромвель взвинтил темп подготовки до предела. Наконец-то привезли подогнанную под Эрликона «кишку Маркелова», сиречь автономную систему жизнеобеспечения, упрятанный в которую пилот и должен был управлять самолетом без помощи осмеянного карлойда. Дж. Дж. долго втолковывал Вертипороху, что от того требуется на монтаже, и выразил при этом мрачную готовность собственноручно пристрелить и самого механика, и всю его родню в случае какой-либо путаницы. Потом отправился с Эрликоном на медицинскую комиссию — и там морочил головы врачам, затем в судейскую коллегию, где морочил головы судьям, дальше — в музыкальный магазин и снова на монтаж, где шестеро киборгов под присмотром Вертипороха колдовали над сотнями контактов уже погруженной во чрево «Милана» многослойной, в бесчисленных отростках капсулы.
В этот же, последний день у них побывал и последний посетитель. Этому визиту пилоты были обязаны бесконечным телевизионным программам, в которых Стимфал переживал наступление любимых игрищ — экран заполняли самолеты, летчики, менеджеры и — нескончаемая реклама самых невероятных фирм, спешащих заявить о себе в этом вавилонском столпотворении. Глядя на это, Кромвель все больше наполнялся злостью и в конце концов не выдержал.
— Больше не могу, — свирепо объявил он. — Иду на нарушение закона. И не спорьте со мной. Эрли, телефон.
— Два, четыре, два, — диктовал маршал, — десять, шесть, девять, восемнадцать. Алло, Шейла? Да, я. Да, люблю. Скажи этому ковбою, пусть едет.
Приехавший с Шейлой ковбой оказался маленьким невзрачным человечком в длинном, до пят, плаще и надвинутой на глаза шляпе. Разговор занял не более двух минут. Эрлен вывел привычные Эй-Ти-Эй на четырех бланках договора, человечек вручил ему чек на десять тысяч, ролик скотча, весьма похожий на тот, которым Эрликон заклеивал замок на чердаке Дворца музыки, и с тем исчез. Парень, сминая чек, с треском разлепил клейкую ленту — по всей длине очень красивые сине-белые буквы складывались в надпись «МАЛЬБОРО».
— Наклеишь на стекло шлема, — объяснил Дж. Дж.
Эрлен снова посмотрел на чек. Десять тысяч. Примерно столько же ему заплатили за весь прошлогодний чемпионат.
— Вот об этом забудь, — порекомендовал Кромвель. — Или сразу вышли по почте Бэклерхорсту, все равно он еще пять тысяч выдерет у нас из гонорара.
— Как это?
— Вот так. У нас нет договора о рекламе, и сразу после этапа ассоциация оштрафует фирму, а фирма — нас. На пятнадцать тысяч.
Эрликон перевел взгляд с маршала на сочувственно улыбавшуюся Шейлу и обратно:
— Джон… На шлем наклеить… Шлема же в кабине никто не увидит!
— Что ты говоришь! — изумился Кромвель. — Какой сюрприз! Не валяй дурака, телевидению разрешили снимать в проходах, тебя покажут, когда ты будешь садиться в самолет.
— Да это же меньше минуты!
Глаза у Кромвеля стали прямо-таки белыми от ярости, и заговорил он жутким ледяным тоном:
— Догадывался я, что Институт Контакта — сплошные говнососы и говнососики; прекрасно, Эрлен Терра-Эттин, просто замечательно, так и вижу: идем по полосе, а пилоты показывают на нас пальцами — кто это? Это Эрликон, и с ним еще другой, Джон Кромвель, я хорошо его знал, смотрите на дурака, пока не убежал… Они настолько летать не умеют, что даже самая поганая фирма не доверила им своего лейбла… Да, друг мой, пятнадцать тысяч, да, тридцать секунд, но эти секунды спасут нашу честь, если ты понимаешь, о чем я говорю!
— Ну, ну, Джон, — попыталась смягчить обстановку Шейла. — Что ты разоряешься, Эрлен еще молодой, всех тонкостей не знает.
Эрликон тяжело вздохнул и сунул рулончик в карман:
— Знаете, маршал, я никогда не понимаю, когда вы говорите серьезно, а когда нет. Пожалуйста. Хотите, сделаю на заду наколку «Плейбой» и сниму штаны перед камерой?
— Надо подумать, — сказал Кромвель.
Придя к согласию, они перешли к обсуждению не менее важного момента. То и дело подключаясь к рукам Эрлена, Кромвель принялся перебирать кассеты с записями для проигрывателя, который только сегодня утром им разрешили взять в полет.
— Прямо даже не знаю, — качал головой маршал. — С чего начать, чем закончить? Мы будем в воздухе минут сорок… Идеально укладывается Равель, но, во-первых, летать по Равелю тебе еще рано, это классика, и сложная классика, а во-вторых, у нас будет очень бурное начало, ритмика вступления не совпадает… Видно, придется начать с Элтона Джона, вот здесь очень подходящая завязка. Минут через шесть мы приблизимся к «лестнице», для нее прекрасно подойдет Армстронг, чудесная вещь, хотя я предпочел бы джаз, более ясно выраженный… Дальше горизонталь, будем крутить перевороты, очень к месту ранний Пиредра, пусть-ка нам попоет, голос у мерзавца небольшой, но приятный, хор Сая Оливера… с паршивой овцы шерсти клок. От Мэрчисона с сожалением отказываемся, он у нас впереди, всякий уважающий себя десантник обязан летать под Мэрчисона, если он не ретроград вагнерианец-валькирианец; не будем строить из себя больших арийцев, чем мы есть на самом деле… но Мэрчинсона тебе пока не потянуть. Кстати, писала твоя красавица, трактовка забавная. Ставим сюда пару рок-н-роллов, семидесятые. Или Гершвина? Изумительная ария, блюз. Нет, для финала Гершвин сложен, пусть будут семидесятые. А вот кантри — «На берегах Огайо» — очень недурно. Куда же ее? Видно, придется самому свистеть…
Кромвель смотрел на Эрликона с любовным лукавством, точно добрый хитроватый дедушка с гривой мягких белых волос, сидящий в уютном кресле у камина; вот только слишком уж много волчьих зубов угадывалось за тонкими дедушкиными губами.
— Мы угробимся с этой музыкой, — пробормотал Эрлен.
— Возможно, — согласился Дж. Дж. — Но с музыкой помирать намного веселее. Иди поспи, в шесть судейская экспертиза.
В тот же день, присев у колесного стопора, Вертипорох открыл специальный выпуск еженедельника «Интеллидженсер».
На второй странице полыхал заголовок: «Второй этап. Везение или расчет?» Автор, некто Саша Деминович, выражался следующим образом:
«По драматизму событий первый этап можно сравнить лишь с мельбурнским мемориалом шестьдесят второго года. Первое, что приходится признать, — дебют провалили все, от новичков до патриархов. Терра-Эттин вообще разбил машину, обоих Ли — Лабраду и Хейни — не выпустили на трассу, и, наконец, никому не удалось выскочить из начальной тысячи очков. Оба лидера, Баженов (842) и Такэда (336), единодушно сорвали стартовую проходку и пропустили вперед ветерана Кабреру (793), который, в свою очередь, нахватал штрафных очков на нижней горизонтали.
На этом фоне ситуация с Терра-Эттином выглядит весьма трагикомично. После действительно мужественной борьбы с загоревшимся двигателем он совершил посадку в стимфальской консерватории, а судейская коллегия, видимо потрясенная его музыкальным вкусом, дала ему кромвелевский балл, и теперь по сумме очков Терра-Эттин вышел на седьмое место! Вот уж, в самом деле, нет худа без добра!
С Терра-Эттином связан еще один сюрприз мемориала. Концерн „Дассо“, чьи позиции на внешнем рынке изрядно пошатнулись, предпринял нечто вроде революционного штурма старых традиций. Это связывают с именем нового вице-президента Шелла Бэклерхорста…»
На этом месте из-за самолета гаркнул Кромвель: «Москва! Где вторая платформа?» — и Вертипорох подивился, почему в статье ничего не сказано о маршале.
Среда! Утро, на небе ни облачка. Старт в 10.30. Все вокруг ново и странно — как в первый или последний раз, небесная синь, за ней — прохлада мраморной колоннады, вестибюль и подземный переход к ангару. В переходе Эрликона встретил Кромвель. Маршал на сей раз выглядел необычно — пропали облезлая куртка и несерьезная нитяная майка, появилась черная шинель с громадными белыми отворотами, с маршальскими погонами, форма, ремни с львиными головами, полный набор крестов, звезд и серебряных перчаток с гербами, а также блестящие сапоги и высоченная фуражка с серебряным черепом в обрамлении ракетных дюз.
«День великих удивлений», — подумал Эрлен, пораженный, однако, не слишком: само собой разумелось, что сегодня все не так, как всегда. Все же он спросил:
— Маршал, что означает ваш наряд?
— Предлагаю проследовать в ангар, — ответил Дж. Дж. — Я охотно все объясню по дороге. — Дело в том, — заговорил он с некоторой долей торжественности, — что стартовать нам приходиться в довольно печальной обстановке. За нас никто не переживает, никто не волнуется, ставки мизерные. Единственный болельщик — буфетчица из стимфальского кабака, да еще, пожалуй, наш же собственный механик, который только и может, что поставить за нас червонец с моим портретом против другого такого же механика.
Действительно, на десятке Кромвель был изображен как раз в такой же фуражке, как сейчас, а на сотенной — без фуражки и с намеком на что-то вроде римской тоги.
— Ну, а Бэклерхорст?
— Я же говорил: Бэклерхорсту в голову не приходит усомниться в нашей победе, поэтому он в счет не идет. Даже твоя возлюбленная не соблаговолила пожаловать на наш бенефис.
— У нее концерты.
— Концерты… Итак, мы втроем против несметной толпы, только и ждущей того, чтобы пилот сломал голову. Поэтому сегодня я при всех регалиях, дабы в решительный момент вы помнили, что с вами настоящий боевой маршал, грозный и непобедимый, во всей красе. А вот и наша каракатица.
«Милан» стоял посреди ангара — огромный, остроносый, хищно подобравшийся, со свежим керамическим напылением. Сопла под высокими вертикальными килями глядели сумрачно и бездонно, на бортах синели цифры 34; клешня коленчатой тяговой штанги уже обхватила переднее шасси, и полосатый тягач, похожий на страшно сплющенную черепаху, был готов доставить самолет на стартовую позицию. Сбоку салютовала задранными штуцерами элфовская заправочная установка, а впереди, в слепящем квадрате распахнутых ворот, маячила телевизионная платформа с меланхолически жующим оператором.
На Вертипорохе был новый комбинезон, и даже на бороде его заметны явные следы расчески.
— Экипаж! — сказал Кромвель начальственным голосом. — Слушай мою команду. Все предыдущие распоряжения отменяются. Пилоту разрешается сжечь машину, запороть, не думать о страховке, вытворять в воздухе все, что вздумается, если только это будет доставлять ему удовольствие. Никаких ограничений, единственное пожелание — выиграть этап. Только пожелание. Механик, время.
— Девять двадцать три.
— Пора. Облачаемся.
В десять утра в Ванденберге уже было жарко. Море людской толпы окружало летное поле, и над разогретым бетоном, в воздухе, сотрясаемом радиокомментариями, тоже царила невероятная толчея. Проносились парадным строем модели предыдущих лет, этажом ниже рисовали разноцветные дымные хвосты моторные дельтапланы, еще ближе к земле демонстрировали свое искусство расписанные рекламой параглайдеры.
А на девяти взлетных кругах, оранжевых и белых концентрических окружностях, влитых в покрытие, стояли девять самолетов последнего, суперкрейсерского класса — тяжеловесы, рассчитанные на планеты со сверхвысокой атмосферной активностью, — два «локхида-фантома», вишневый «Кранфилд А-177», серебристый с черным «Боинг», коричневый с полосами испано-английский «Матадор», пятнистый, как ягуар, «Викинг», снежно-белый «Окинава», зеленый тупорылый «Москито» и серо-голубой, самоуверенно-горбатый «Милан». Под брюхом его, с полным презрением к предстоящим парламентским дебатам, нагло выставляли себя торпеды топливных кассет; на трапециевидных консолях были вызывающе оставлены пилоны с инструктивной разметкой и непристойно обнаженными разъемами пусковой электроники, которая должна была удивительным образом совпасть с независимо от Бэклерхорста где-то сделанными ракетами.
Согласно «Интеллидженсеру», основная борьба обещала развернуться между чемпионом мира Эдгаром Баженовым на «Викинге» и Такэдой Сингэном на «Окинаве». На предыдущем этапе мастеровитый японец неожиданно близко подобрался к чемпиону, и теперь многие ожидали, что Баженов примется энергично наверстывать упущенное во славу датского авиастроения и в честь памяти легендарного короля пилотов.
Как заяц в сундуке, а селезень в зайце, так в двух шагах от Эдгара в кресле-скафандре «Милана», погруженном в вязкую амортизационную толщу, лежал Эрликон, а в нем пристроился и сам легендарный маршал. В эту минуту Кромвель не ломал комедию, в душе его — Эрлен ясно слышал — звучала неопределенная, но торжественная мелодия; маршал готов был не уступать до последнего и шел на турнир, как на бой; открывалось: нет, не был Дж. Дж. лишь живым воплощением зубоскальства да насмешки над всем белым светом, была в его натуре и иная, азартная сторона, жадная к борьбе и успеху.
— Тридцать четвертый, как слышите меня? Двухминутная готовность.
— Я тридцать четвертый, слышу вас хорошо, двухминутная готовность.
Рука Эрлена в сенсорной перчатке пробежала по тумблерам. Системы контроля: зажигание, гироскопы, локация, зажигание, тяги.
— Тридцать четвертый, разрешаю запуск двигателей.
— Вас понял, запуск двигателей.
— Тридцать четвертый, разрешаю занять стартовую позицию.
— Вас понял, стратовую позицию.
Дыша невидимым пока еще жаром, «Милан» медленно всплыл над стартовым кругом и завис, едва заметно покачиваясь. На экранах заднего обзора фигура Вертипороха ушла вниз, механик отступил, поднимая два больших пальца, потом повернулся и побежал к аэродромной бронированной галерее.
— Всем на старте! — завыл металлический голос. — Даю отсчет! Внимание, отсчет!
Вот оно. В груди у Эрликона привычно дрогнуло, но тотчас же все исчезло — мозг и нервы заполнил Кромвель. Пришло великолепное спокойствие, и пропала всякая отчужденность между его живым существом и машиной, энергия самолета стала его энергией, и его воля сделала многотонную махину послушной, как пластмассовую учебную модель; некое сожаление мелькнуло и отлетело; десять, сказал неживой голос. Дж. Дж. включил запись. Девять. Черный ручеек пленки потек через головки. Восемь. Шорох, первые аккорды. Семь, шесть, пять. Элтон Джон в полумраке сцены, за роялем, повернулся к микрофону. Четыре. Свечи льют на клавиши свой неверный свет, фитили еще не обгорели. Три. Сейчас вступит бас-гитара. Два. Один. Ноль. Старт!
Что тут произошло, Эрлен понял много позднее, его задвинутое в угол сознание убийственно не поспевало за той коловертью, которую закрутил Кромвель. Элтон Джон хватил вроде бы что-то несусветное, земля ухнула вниз и, словно коршун раскинув крылья, трижды обернулась вокруг; пронеслись какие-то желтые дымы; как взбесившиеся часовые стрелки, провернулись тени на приборных шкалах, и вновь распахнулась неоглядная синева.
Случилось вот что. Без всякого разгона, прямо со старта, врубив суперфорсаж и сжигая совершенно неоправданное количество горючего, Кромвель дал одновременно основную, боковую тяги и крутанул известную «кромвелевскую спираль сокращения», изредка выполняемую некоторыми отчаянными головами, не боящимися развалить свою машину в воздухе и задеть кого-нибудь, не к месту оказавшегося. Но ни одному нормальному человеку не могло бы прийти в голову проделать этот трюк в тесноте комплексного старта.
Будто рехнувшаяся ведьма в ступе, пронесся перед не разомкнутым еще строем самолетов безжалостный «Милан». Отвернуть не успел никто. Двадцатиметровый форсажный факел, рвущийся из сопел, огненной метлой прошелся по антеннам, кабинам, тестерным пазам; чуткая аппаратура ослепла, оглохла, сгорела, скрутилась, как лист. Три машины — оба «фантома» и «Матадор» — немедленно сели на аварийном автопилоте; многообещающий Такэда, потеряв ориентацию, свернул с трассы синтоистским богам ведомо куда и был посажен наземной контрольной службой. А в это время электронный мозг, судья соревнований, зажег на табло против номера тридцать четвертого число 99 — максимальные очки за данную фигуру — техническая безупречность плюс особый артистизм исполнения. Увы, ни в каких правилах не оговаривалось, на каком участке полигона пилот имеет право совершать программные эволюции. Дж. Дж. не зря выучил наизусть весь кодекс летных законов и все прецеденты за последние пятьдесят лет.
Тем временем уцелевшие пять машин, выстроившись одна за другой, с ревом буравили стимфальские небеса. Первым, как и предполагалось, шел Баженов на сильно закопченном, но невредимом «Викинге», за ним — питомец «боинга», следом — Кромвель, потерявший таки время на своих хулиганских выходках, дальше — обугленный, как картофелина, «Москито» и последним — ушедший с трассы в нижний эшелон и все не решающийся сесть «Кранфилд».
Но дело было неладно. Едва Кромвель выпустил Эрликона из наркотических объятий, как у парня потемнело в глазах и прервалось дыхание. Мерзкими струями по коже тек пот, адски ломило левый висок, легкие, кажется, отрывались от плевры, и каждый вздох дергал сердце, словно клещами. Дж. Дж., придержав руку Эрлена, только успел выровнять машину.
— Джон, я тебя не вытяну, — прохрипел Эрлен. Кромвель молчал: такого поворота событий он не предвидел. Проклятая разница в реакциях дала себя знать слишком рано.
— Держи горизонталь сам, — вымолвил он наконец, — береги силы. Прибавь оборотов. Еще, еще. Крен до пятнадцати. Прижмись к «боингу», не бойся выхлопа. Фильтры опусти.
Земли не было, она осталась где-то в другом мире. Слева, сияя, встали неведомо откуда горы облаков, позади широким шлейфом расходился инверсионный след, много ниже висел злосчастный «Москито», солнце сверкало на полусфере кабины.
— Отдай левую ногу, — приказал Кромвель, — прибирай ручку. Бери ближе. Я сказал — ближе! Держись, сейчас включаюсь.
Оба понимали без слов: резерв скорости у «боинга» выше, и на прямой он без труда уйдет. Тот, другой пилот, тоже прекрасно знал это. Он не был ни новичком, ни теленком, и, когда у него за плечом вырос зловещий горбатый силуэт, летчик вполне закономерно предположил, что его хотят обойти на стандартной «змейке»; помня о превосходстве своего планера и имея в запасе не менее восьмидесяти секунд до начала фигуры, он позволил себе не спешить и лишь наклонил машину вправо, готовясь перехватить соперника на обгоне.
Дж. Дж. страшно оскалился, наблюдая эти маневры, взгляд его светился безумной радостью. «Не стрелять», — скомандовал он шепотом неизвестно кому, но Эрликону в его горячке померещилось, что вокруг — справа, слева, снизу, сверху — летят на изувеченных машинах все мертвые пилоты второй мировой войны и лишь ждут команды своего маршала, досадуя на то, что он не отдает вожделенного приказа.
Все свершилось мгновенно. Самолет вновь с чарующей легкостью отдался в руки Эрлена, боль и муть в голове растворились без остатка, запели боковые тяги, облачные громады заплясали джигу под хор Сая Оливера, «боинг» появился почему-то в экранах заднего вида, солнце пролетело через кабину, и Эрлен был потрясен удивительным фактом: «Милан» шел на обгон, встав вертикально, как лошадь на дыбы, и совершает эволюции, и удерживает ход. Без единой мысли проскользнуло дикарское, безграничное восхищение тем, кто может сделать такое, а дальше «боинг» окутался голубым дымком, и обшивка на нем как будто закипела. Загудел контрольный зуммер, Кромвель вошел в «бочку», начав ее с двойного переворота, а «боинг», благодаря роковому превосходству в скорости прошедший под выхлопами всех «миланских» тяг, словно кабан под паяльной лампой, полностью лишился приборного контроля, тщетно задействовал регенерацию — упустил режим и, отброшенный реактивным потоком, покинул дистанцию.
Эрликон начисто утратил ощущение реальности. Он то плыл в сказочном сне, где ход вещей повиновался одному его желанию, то собственная плоть обрушивалась на него во всем кошмаре своего страдания. Он впал в странного рода забытье, жгучая боль снизу жевала легкие, в позвоночнике сидел раскаленный гвоздь, но Эрлен то чувствовал, то терял это ощущение, точно наблюдая со стороны происходящее с кем-то еще. Он не разобрал, как при его приближении, не дожидаясь никаких приглашений, отвалил прочь откуда-то появившийся «Москито», как на проходке очень сложной «лестницы» они обошли Эдгара, он только ощущал, как вокруг сгущается мрак, и в краткую минуту просветления понял, что умирает. Круг мыслей сужался, звуки с трудом доходили из-за плотной пелены. Где-то рядом бесновался Кромвель, но это происходило как в чужом сне.
А Кромвель действительно орал не своим голосом:
— Мальчик, держи машину, я не могу тебе помочь, угроблю, ты живой, не умирай раньше срока, еще найдем время!
Он слегка прикоснулся к Эрлену, и тот чуть более осмысленным взглядом посмотрел на приборы. Сразу три желтых нуля горели на указателе топливомера, и риска шкалы уперлась в ограничитель. Форсажи и финты маршала съели все до железа, горючего на посадку не было.
— Не роняй машину! — надсаживался Дж. Дж. — Все в норме, сейчас сядем на баки, осталось пятьсот метров!
Эрликон не чувствовал ни боли, ни рук, ни ног. Закостеневшие пальцы не выпускали ручку, но он этого не замечал, в глазах сходились и расходились лиловые пятна, но вот уже и глаза пропали, и не стало ничего. Возможно, надо было сделать последние усилия, собраться, побороться, но связь этих понятий распалась; что-то толкнуло, приподняло, и сверху-сбоку выплыла чудная хрустальная решетка. Эрлену показалось странным, что она не цветная, и решетка тотчас же воссияла разноцветными огнями. Потом она погасла, и с нею закончилось все. Жизнь прекратилась.
На миг он вынырнул из темных пучин: вокруг стояли туманы, чей-то голос издалека произносил невнятные слова, он различил только одно — «адреналин», затем, спустя некоторое время, другое — «внутривенно», и действительность опять исчезла.
Потом Эрликон приподнял веки и с трудом разомкнул лес ресниц. Белая спинка кровати, белая дверь, белые стены. Он жив. Вот так сюрприз. Вот так штука. И может дышать. Но вот шевелиться нет возможности никакой, да и, правду сказать, желания тоже.
— Ага, проснулся, — в ногах постели сел Кромвель. — Ночь была, ночь плыла, все объекты разбомбили мы дотла. Ну, счастлив, что могу тебя поздравить первым — мы выиграли этап. Да. Не трудись задавать вопросы, разговаривать тебе нельзя, я сам все расскажу. Тысяча шестьсот двадцать два очка, ни одного штрафного, тридцать девять сорок пять — время не очень рекордное, но вполне приличное. По общей сумме мы вышли на третье место — впереди Баженов и Такэда, разница смешная, не больше ста. Японец починился и перелетал, но все равно не дотянул. «Боинг» с «Локхидом» подали на нас в суд — вздор, шансов никаких.
Эрлен разлепил губы и чуть слышно спросил:
— Где мы?
— Как ни странно, на этом свете, в первой клинике Медицинского университета, и пребываешь ты здесь уже четвертые сутки. За время полета ты умудрился похудеть на шесть килограммов, получил инфаркт надпочечников, десяток кровоизлияний и еще что-то. Но держался ты прекрасно, а как сумел посадить машину — загадка, полная мистика. Если ты скосишь глаза направо, то увидишь стеклянную стенку, а за ней — пару волосатых ног. Там лежит наш собрат по духу Вертипорох. Двое суток мы с ним сидели возле такой же вот стены и смотрели на твои приключения — зрелище было увлекательное: в тебя засунули штук двадцать трубок, а вокруг носилось полторы дюжины врачей. Ну, потом к нам вышли и сказали, чтобы мы шли спать, дело пошло на лад… Мы отправились к Шейле отметить победу и слегка перебрали, бедняга Вертипорох тоже получил трубку в живот. Я попросил главного врача положить его здесь, и, таким образом, весь экипаж в сборе. — Кромвель поднялся и пошел в угол палаты. — Самое же главное вот что. Бэклерхорст — вот поздравительная телеграмма от него — прислал нам много-много разных бумажек. На этом столике лежит контракт, страховка, чековая книжка и так далее. Феодал задавил своих супостатов, и мы теперь официально представляем «Дассо». Рекламщики у нас попляшут… Цветы принес Реншоу, наговорил комплиментов. Тут газеты — потом почитаешь — называют тебя то ли безумцем, то ли гением. По телевизору гоняют наши выкрутасы, целая стая репортеров внизу только и ждет, чтобы ты пришел в себя. Посмотрим, что напишет «Интеллидженсер». Испанская барышня пока что не звонила… Так, идут, сейчас тебя будут кормить. Между прочим, вот это Шейла испекла — не очень, но есть можно.
«Интеллидженсер» написал так:
«Вместе с классом машины Эрлен Терра-Эттин сменил свою мягкую артистичную манеру на жесткую и агрессивную. В этом новом качестве он явно нашел себя: подобного летного совершенства ему еще никогда не удавалось показать. Особенно впечатляет стартовый каскад — это фейерверк, взрыв, самолет демонстрирует все шесть степеней свободы на максимальной скорости, а фигуры укладываются одна в другую, как русские матрешки. Характерно восклицание одного из зрителей: „Смотрите, да ему все равно, каким концом вперед летать!“
Однако позволим себе заметить, что дело далеко не в том, что Терра-Эттин стал героем этапа, и даже не в феноменальном блеске его успеха — равно как и успеха „Дассо“. На наш взгляд, феномен заключается в том, что впервые со времени двадцать вторых Олимпийских игр, а в них принимал участие сам основатель мемориала, появился пилот, стремящийся выиграть кубок Серебряного Джона именно в манере кромвелевской школы. Мы согласны с теми, кто возразит, что элементы кромвелевского пилотажа — „кромвелевское сокращение“, „кромвелевский переворот“ — прочно вошли в спортивную практику. Однако очевидно и то, что эта практика не является обыденной.
Да, кое-что перестало быть сенсацией. Кое-что. Но впервые весь полигон сначала до конца пройден в чисто кромвелевском стиле, включая скандал, поднятый компаниями „Боинг“ и „Локхид Эркрафт“. Можно подумать, что вместе с техникой Терра-Эттин перенял и некоторые черты характера знаменитого летчика. Нечего и говорить об исполнении фигур, которые много лет считались достоянием тренерского бреда — „плоский штопор“ с заходом с обратной точки, прохождение „лестницы“ на „одной руке“ и уж вовсе цирковая посадка на взрывную волну от отстреленных баков. Сам Кромвель только дважды, и то будучи зрелым мастером, решался на подобный фокус.
Как известно, победа куплена дорогой ценой, и до сих пор никто не может точно сказать ни когда Терра-Эттин покинет клинику, ни сможет ли он принять участие в завершающем этапе. Но как бы ни сложилась его дальнейшая судьба, именно ему мы будем благодарны за возвращение на мемориал кромвелевской школы…»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
К добру ли, к худу ли, но мир не ограничивается соревнованиями по высшему пилотажу. В то время когда Эрликон с Кромвелем летали, интриговали и вообще боролись за место под солнцем, Ингебьерг Пиредра тоже не теряла времени даром. Она выступила в Стимфале, затем — в Монреале и Торонто, а дальше подошел срок на ее же деньги широко разрекламированного кругосветного турне с «Козерогами» Эрика Найджела. И в те дни, когда авиационный Стимфал млел у экранов телевизоров, а Эрлен приходил в себя на больничной койке среди чудес электронной стимуляции, Инга прибыла в Ливерпуль, в Вустер-Холл, что в двух шагах от овеянной легендами Эбби-роуд.
Прямо у такси ее встретил сам Эрик, именитый лидер «Козерогов», страшно задерганный и злой. Дела не шли ни в какую, и появление Инги, ее вольные импровизации на тему классических козероговских композиций (не составившие ей никакого труда), ее переложения Мэрчисона стали самым отрадным эпизодом на общем малоутешительном фоне.
Менеджер «Козерогов», их многолетний босс — тот, что фактически создал группу и привел ее на вершины хит-парадов, где растут золотые и урановые диски, — ушел, объяснив, что дальнейшая разработка этой жилы ему неинтересна, и изменил «Козерогам» с безызвестными, но перспективными новичками. Пристойного развода, однако, не получилось: взбешенный Эрик незамедлительно влепил судебный иск — к великой радости газетчиков и с крайне малым толком для себя. С целой бригадой юристов прибыл новый менеджер, и тут отношения не заладились с первого дня.
Это, впрочем, было не самое страшное. Произошли вещи гораздо хуже. Флетчер Этвуд, флейтист, слава «Козерогов», единственный, кроме Эрика, участник старого, первого состава за два десятилетия многократно обновлявшейся группы, тоже объявил об уходе. Их отношения с Найджелом никогда не были безоблачными, поскольку во все времена единственным автором Эрик считал лишь самого себя, а Флетчер, в свою очередь, также обожал именоваться композитором, и вот наконец накопилась та капля, которая переполнила чашу. Удар был чрезвычайно болезненным, без Флетчера весь замысел гастролей если и не летел к черту целиком, то, по крайней мере, терял наполовину, и уж точно выпадал гвоздь программы — шотландский цикл. Контрактно-рекламная машина была уже запущена на все обороты, календарь утвержден, и Эрик то клял все на свете, не разбирая выражений, то впадал в горестное оцепенение. Вдобавок и последний альбом «Козерогов» критика встретила довольно холодно — большой беды тут, правда, не было, но число разных неурядиц в музыкальном семействе заметно подскочило.
В этой нервозной атмосфере, полной неразберихи и перебранок — «Чтоб тебя пристрелили, как Леннона, проклятый ты предатель», — Инга за синтезатором произвела фурор своими авангардистскими вариациями, которые она безупречно компоновала с найджеловскими темами, так что художественная часть проблем решилась сразу, но дальше дело упорно не шло, и в середине третьего дня скверно проходящих репетиций Эрик в пятисотый раз откинул назад пегие патлы, положил ей на плечо горячую руку и сказал:
— Вот что, поезжай-ка ты домой на недельку и расслабься, пока я тут управлюсь с этими сукиными детьми. Я тебе позвоню.
Инга кивнула и, доверившись старушке «Эйр-Франс», через два часа была дома. Она рассчитывала преподнести сюрприз Звонарю. Произошло, однако, нечто совершенно противоположное.
Эхо выстрелов у кафе «Мермоз» докатилось до «Олимпии» и офиса Пиредры одновременно. Забавно, что кромвелевская саркастическая надежда сбить Рамиреса с толку полностью оправдалась: Пиредра на какое-то время и впрямь перестал улыбаться и неимоверно длинным ногтем правого мизинца принялся чесать бровь рядом со шрамом. Рамирес был виртуозом калабрийской школы игры на гитаре, а в ней мизинцу отводится довольно серьезная роль.
Впрочем, мысли его потекли в совершенно негаданном направлении. То, что обоих эмиссаров устранили столь молниеносно, в старинной классической манере, было, безусловно, серьезнейшим симптомом каких-то неведомых пока неполадок, но это почему-то обеспокоило Пиредру меньше всего. Скверно было не это. Плохо было то, что провалились люди именно Звонаря: Гуго своими специалистами дорожил, а в их с Рамиресом беседе никакая стрельба оговорена не была; давнее же недоверие Звонаря к Пиредре давно секретом не было. Теперь же предстояла неизбежная и неприятная процедура объяснения этой горячей голове истинной подоплеки событий, и врать-то, вот горе какое, было нельзя, ибо Звонарь, как известно, обладал настоящим собачьим чутьем на правду. Если бы Пиредра мог сформулировать принцип общения со своим лучшим другом, то, вероятнее всего, процитировал бы аббатису Кревскую: чем больше правды и чем больше путаницы, тем лучше.
Без церемоний и даже без предварительного звонка Рамирес приехал в «Олимпию». Звонарь сидел в кабинете за столом, который стоял на львиных лапах и по краю имел резную балюстраду, а вместо соответствующего зеленого сукна столешницу покрывал календарь, испещренный бисерной каллиграфией Гуго. На этот календарь Звонарь сейчас же выставил новомодные кубические стаканы и из бутылки с «Белой лошадью» разлил в них шотландскую смесь, которой путешественники некогда развлекали себя по дороге из Эдинбурга в Лондон.
— Ну, — проворчал разбойник, — объясни, друг дорогой, в какую такую хреновину мы впутались.
Пиредра тут же понял, что следует делать. Он немедленно перевоплотился и действительно стал растерянным и сбитым с толку верным другом, поскольку чувство товарищества было в Звонаре одним из самых живых и неистребимых начал.
— Черт ее знает, — сказал авантюрист откровенно. — Сам не понимаю.
— Нет, ты уж постарайся, — предложил Звонарь. — С чего это вдруг твой милый мальчик так невежливо обошелся с моими парнями? Томпсон отработал у меня десять лет, это он сделал нам Пал-Роджерс. А Бейкер? Кой черт — ни за что угробить таких людей!
— Не знаю, — повторил Рамирес. — Вот зарежь, не представляю, как такое могло получиться.
Гуго смотрел на него мрачно и с сомнением.
— Правда, вот какая штука, — продолжал Рамирес, подбираясь к самому зыбкому месту. — Этот Эрлен — сын Мэри Дарнер. Ну, а она со Скифом — сам знаешь.
Пиредра снова весьма осторожно коснулся истины — подставляя под гнев Звонаря мать Эрлена, он второй раз предусмотрительно забыл упомянуть, кто отец. Но и этого было достаточно, чтобы гангстеру показалось, будто Гуго запустил ему в физиономию стаканом. Но нет, тот просто с силой толкнул его по гладкой поверхности стола. В разбойничьих глазах полыхнуло бешенство.
— Да, мудрено догадаться, что к чему, — зарычал он, и во взгляде обозначилось неопределенное пока прицеливание. — Вот, в самом деле, что бы это Скифу могло прийти в голову! Да ты не с ума ли спятил, друг любезный?
Рамирес печально, но хладнокровно покачал головой:
— Я тоже не первый день на свет родился. Это не Скиф, то-то и паршиво.
— Конечно, это Урсула Ле Гуин воскресла — дай, думает, открою-ка я пальбу.
— Да, представь. Не станет же Скиф устраивать стрельбу посреди улицы. Зачем ему? И потом, он в курсе: дал понять, что не против.
— Интересно, — сказал Звонарь и вновь взял стакан.
Действительно, довод был основательным, да и Пиредра в вопросах стилистики был авторитетом непререкаемым. И впрямь — не подобает шефу разведки улаживать дела в базарной манере при помощи апробированного калибра, да еще со своими же присными, когда достаточно сказать два слова в трубку — чепуха какая-то! Гуго рассеянно посмотрел в окно.
— А верно, чудно, — проговорил он наконец. — Говоришь, он знал? Что там было? «Бульдог-сорок четыре»?
— Тоже, кстати, непонятно. Что за циркач? Любой бы взял какой-нибудь магазинник, и дело с концом. Кто же теперь пойдет с пистолетом?
— Погоди. — Звонарю пришла в голову другая мысль. — Парень ведь работает на Бэклерхорста?
— Не проходит, — ответил Пиредра. — Бэклерхорст давно бы позвонил. Извинился. Через два дома живем.
Гуго кивнул. Ситуация представала в ином свете.
— Нет, — продолжал Рамирес, устраиваясь поудобнее и вытягивая ноги — грозу явно проносило стороной. — Я тебе скажу. Это кто-то. Понимаешь? Мы налетели на кого-то. Он не из команды, и он в курсе наших дел. Разговор тут очень серьезный и здорово мне не нравится. Вряд ли мы его так просто ухватим…
— В Стимфале у нас фра Винченцо.
— Да, правит железной рукой. Кого пошлешь?
— Хватит, допосылались. Сам поеду.
— Да не валяй дурака. Ну что? Ладно, тебя не переупрямишь. Поспрашивай, у него с полицией нормально, пусть заглянут в картотеку, машина тоже местная, все бывает, может, мы тут еще горбатого лепим… И не очень-то, смотри поглядывай, чувствую, дела там крутые.
— Не учи ученого, — отозвался Гуго, допил свой стакан и той же ночью вылетел в Стимфал.
Так Сталбридж тоже совершил паломничество на землю обетованную, и поездка эта привела к несколько неожиданным последствиям. Фактический результат оказался нулевым — стимфальский дон фра Винченцо встретил коллегу уважительно и с достоинством, но никаких внятных объяснений дать не сумел — точка зрения Пиредры полностью подтвердилась: какой-то очень информированный и очень скрытный незнакомец весьма грамотно среагировал и вновь затаился. Самому же доставать Эрлена из весьма и весьма охраняемых ванденбергских бункеров и тем устраивать скандал, Звонарь, помня наставления Пиредры, счел неразумным и лишь крепко призадумался. Этим дело, собственно, пока и завершилось, но побочный, эмоциональный эффект вышел куда как более значительным.
Как раз в это время у Звонаря с Колхией нарастал один из периодов охлаждения. Поэтому Гуго покидал кров без особенных объяснений, простился скорее с детьми, уезжавшими на учебу, нежели с подругой, и по возвращении ожидал лишь усугубления кризиса. И точно, во время их совместного обеда (Звонарь лишь позвонил в «Олимпию» и поехал прямо домой) загудел телефон. Колхия, с которой они не успели перемолвиться и двумя словами, оставила салат оливье, и из тех ответов, которые она давала на вопросы, долетавшие из трубки в ее ухо, прижавшее заправленную огненную прядь, можно было без труда сообразить, что кто-то где-то снова заболел, застрял без денег, сел в тюрьму и надо срочно лететь спасать и хлопотать. Звонарь забыл вынуть вилку изо рта и уставился в стол, как в лицо злейшего врага. Дальнейший ход событий был ему известен заранее. Но тут произошло чудо.
— Клиф, я не смогу, — сказала Колхия. — У меня только что вернулся Гуго. Пусть Чича едет. Она теперь дама состоятельная, у нее связи, а я сейчас просто никак.
Звонарь бережно положил вилку рядом с тарелкой и вспомнил о ней не скоро.
Инга прилетела тридцатого, в субботу утром. Ровно в десять она прошла через галерею. На ней было муаровое прямое платье, чуть ниже колен, что выглядело некоторым вызовом моде, каблук высокий, шляпа с громадными, плавно колыхавшимися полями — словом, Инга в значительной степени вернулась в блаженной памяти пятидесятые. Волосы она уже твердо решила отпустить и с одной стороны сложно их заколола, с другой, слева, оставила свободно ниспадающими, сделав над глазом единственную косичку. Взгляд ее ничего не выражал; по случаю неопределенности душевного состояния серебра было немного: ожерелье, кулон, на руках двойные браслеты с резьбой, соединенные цепочками с широкими перстнями на всех пальцах; серьги двухъярусные, в форме опрокинутых семисвечий. Продемонстрировав репортерам свой уффициевский профиль, Инга скрылась в недрах «линкольна» и произнесла лишь одно слово: «Домой».
Дух ее в это время более всего напоминал замерзший водопад. Никакая бурная деятельность, никакие козероговские перипетии пока не вернули ей душевного спокойствия. Ее метания и ожидания — чего? — ничем не разрешились, и в какой-то момент, среди незатухающих борений, Инга впала в некую оцепенелость. Страсти по «Козерогам», неясность их дальнейших планов ее практически не задевала («Все вздор, там будет видно»), решений не предвиделось («Надоело все ужасно»), и пока что надо просто вернуться к очагу («Как-то там страдает Гуго?»), временно оставив мир за порогом «Пяти комнат». Однако, едва покинув орех и бархат лифта, Инга попала в атмосферу необычайную.
Это была атмосфера любви. В Звонаря и Колхию то ли бес вселился, то ли они оба впали в детство, но зрелище было невероятное. Они дурачились, хохотали без причины, кормили друг друга из ложечки, снова хохотали, готовили какой-то немыслимый обед, похожий на ирландское рагу. Звонарь играл на гитаре, не выпуская Колхию из объятий, а вся квартира была заставлена цветами и шампанским. Дети разъехались учиться: Борис — в Рочестер, Ричард — в Нормандию, и этому фестивалю чувств никто не мешал; в «Олимпии» же полновластно заправлял Бэт Мастерсон.
Ингу, естественно, пригласили к столу, но не очень обращали на нее внимание. Ничего подобного она не ожидала и была ошеломлена — да что за глупости, вот нежности телячьи… Инга что-то не доела, что-то не допила, умчалась на свою половину — меня тошнит от вашего веселья! Что делать, редкой колдунье по силам зрелище чужого счастья; ах, был бы Крис, вот кто умел направить ее накал и смятение в нужное русло! Но есть же еще и другой человек.
Другим человеком был давний приятель Инги шотландец лорд Патрик — записной чародей, чернокнижник, черный маг седьмой ступени посвящения, магистр, циник, нахал и острослов. К Инге он относился как к капризному ребенку, таланты ее признавал, но осыпал насмешками, и ему одному она это прощала — хотя бы потому, что его темное мастерство было выше ее собственного, как небо — земли, а женские прелести не имели над ним решительно никакой власти.
Пусть похамит, пусть поиздевается, черт с ним, думала Инга, заказывая по телефону Глазго, пусть попляшет на костях, это-то мне сейчас и нужно; она не отдавала и не желала отдавать себе отчет, чем именно так задел ее звонаревский пир — разгадка была близка, но время ее пока не подошло.
Увы! Лорда Патрика не было ни дома, ни в клубе, он пропал, как исчезал всегда — неизвестно куда и неизвестно насколько, никого не поставив в известность. Инга оттолкнула телефон и бросилась на диван, смешав несколько выражений из итальянского и испанского диалектов, причем итальянское «си» врезалось в каталонское наречие, и вместо слова «мать» вышло «матери», и «шлюхи» вместо «шлюха». Кипа газет на низком журнальном столике — обезумевшая парочка газет, само собой, нечитанная, — разъехалась, часть с шелестом слетела на пол, и с одного из раскрывшихся разворотов на Ингу грустно взглянул Эрликон.
Она замерла. Господи ты боже мой! Ну конечно! Вот кто ничего не просил, ничем не уязвлял, а просто сказал: «Я твой». Что там такое? Победа… Выигрыш… какие-то дурацкие очки… Стимфал, госпиталь… Какое число? Еще четверг. Невероятно. Через сорок минут ее уже не было в доме.
Шла к концу вторая неделя пребывания Эрликона на госпитальной койке Университетского центра. Усилиями реанимации, хирургии, экспресс-регенерации и интенсивной терапии он почти поправился телесно, однако душевное потрясение пока никак не отходило. Эрлен лежал на гидротерапевтических подушках, то спал, то смотрел в белый потолок, то в телевизор, где бессчетно кувыркался его знаменитый теперь «Милан», не снимал наушники, в которых звучала музыка, поставляемая неунывающим маршалом; журналисты осаждали клинику, но он отказывался с ними встретиться, да и вообще разговаривать ни с кем не желал.
Можно смело сказать, что его увлечение авиацией полностью закончилось. Что-то сгорело и рассыпалось в прах. Это что-то убил и шок после этапа, и то, что Эрликон понял: летать, как Кромвель, он не сможет никогда, а летать так, как прежде, потеряло всякий смысл. Романтика превращалась в работу, и более того — в работу, вызывающую внутреннее неприятие.
Ведь впереди его ждал третий этап — блуждание в кошмарных облачностях Валентины, своеобразный воздушный «Кэмел-Трофи» — гравитационные столбы и ловушки, эшелонные проходы и вообще условия, максимально приближенные. Хорошим тоном считалось вообще хоть как-то долететь до финиша, а не вернуться в полубессознательном состоянии на покореженной машине в трюме десантного крейсера. Эрлен уже участвовал в этих пытках, дважды добирался до конечной базы, занимая почетное место в первых строчках второй десятки, и оба раза почел это за чудо; уже тогда он терпеть не мог третьего этапа, что же говорить теперь…
Ему хотелось сейчас оказаться как можно дальше от Стимфала, от самолетов, где-нибудь в деревенской глуши улечься в пробитом солнечными лучами сарае на сене — он никогда в жизни еще не валялся на сене — и читать до бесконечности какое-нибудь затейливое занудство типа Толкиена или Диккенса; днем смотреть на облака, а ночью — на звезды, и больше ничего. Ничего. Да, но третий этап. Да еще и Кромвель. В разных вариациях несколько раз Эрликону снился один и тот же сон: будто он вновь стоит перед летной комиссией, но комиссия на этот раз какая-то громадная и расположилась она в смутном, туманном и невероятно высоком амфитеатре, лиц не разобрать, но вердикт звучит явственно и проникает в самый мозг: «Исходя из совокупности инструкций, разрешить маршалу Джону Кромвелю взять с собой на борт самолета пушку». Да, пушку, и пушка эта тотчас же появилась, но не современная авиационная, а допотопная бронзовая коронада, заряжавшаяся с дульной части шипящим и дымящим ядром, и рядом с ней стоял сам Кромвель — он ничего не говорил, а лишь улыбался своей радостно-хищной улыбкой, которая ясно выражала: теперь-де мы им всем покажем… Эрлен каким-то уголком сознания понимал, что все это происходит во сне, он замычал, рванулся, силясь проснуться, и проснулся. Вокруг царила ночь, тишина, горел ночник, похожий на подфарник, а напротив, за стеклянной стеной, у компьютерного дисплея и впрямь сидел Кромвель, время от времени беззвучно шевеля губами. Сквозь дурман полусна Эрликон вдруг сообразил, что маршал командует компьютеру: «Дальше… дальше…» В длинной фигуре его, казалось, не было ничего зловещего, но капля холодного пота неспешно пересекла скулу Эрлена.
«Боже мой, боже мой… Нет никакой пушки, да и не надо, он же их и так… Он же их там просто всех посбивает, не знаю как, но он это сделает и придет первым…»
И без всяких ночных видений, едва придя в себя, Эрлен сказал Кромвелю:
— Джон, я больше не хочу выступать.
Дж. Дж. посмотрел на складки одеяла, которое укрывало Эрлена, так, словно разглядел в них какое-то чудо, и не стал ничего отвечать. Он принялся отвлекать Эрликона музыкой, подробно комментируя содержание каждого диска, рассказывал всевозможные новости и сплетни, а если разговор и заходил об авиации, то только в плане здоровья, медицинских норм и так далее. Ни об этапе, ни о долге перед Бэклерхорстом речи не заходило. Еще маршал увлеченно взялся устраивать Эрлену знакомства и любовь.
— Вот письмо, — говорил он (писем было великое множество). — Некая Диана. Судя по выражениям, вполне интеллигентная особа. Ты посмотри на фотографию — неординарное лицо.
— Джон, — нехотя отвечал Эрликон, — это не для меня.
— А для кого? Ты не больной, не извращенец. Что за жизнь ты ведешь? Зачем тогда летать, заявлять о себе на весь мир? Зачем вообще все?
— Боюсь, что незачем все и не нужно.
Но Кромвель и не думал униматься:
— Вон сестричка из реанимации, Дженифер. Девка глаз с тебя не сводит. Ты где-нибудь видел такую фигуру?
— Джон, ну что мне с ней делать?
— Покажешь ей самолет.
— Зачем ей самолет?
— Не знаю. Я им всем показывал самолет. Знаешь ли, около самолета все как-то происходит само собой. Утром летаешь, днем показываешь машину, вечером ведешь ужинать. И дело происходило, заметь, на военной базе, туда не очень-то и проведешь.
— Джон, ты знаешь, что я об этом думаю. Потом, она слишком высокая.
— Это не аргумент. Кстати, пиредровская дочка ничуть не ниже, вот уж башня так башня. Я понимаю, что длинные ноги у девушки — это красиво, но все хорошо в меру. Не знаю, как она влезает в машину, но на мотоцикле ты ее точно не увезешь.
Тут уж Эрликон не мог сдержаться:
— Джон, ты знаешь, ты не любил… это не то, что ты думаешь, это больше; она для меня… Она для меня — другой уровень, другая жизнь. Инга там живет постоянно, а я только пытаюсь… Короче, это как чудо.
Однако маршал считал себя авторитетом и в подобной психологии.
— Может быть, я и не любил по-твоему, но кое-что повидал. Любовь в отношениях мужчины и женщины — дело десятое. Да, с нее все начинается, но сколько она длится? Год? Полтора? Любовь — это стартовый двигатель ракеты: гром, треск, и мы на орбите. Но вот все отгорело, и, если не включатся маршевые двигатели, твоя ракета грохнется обратно; мало того — сгорит.
— Что же это за маршевые двигатели?
— Уважение, взаимопонимание, общие интересы. Ну какие у тебя могут быть общие интересы с этой бандитской дочерью, которая, как говорят, еще и ведьма, каких мало? Слышал о яблоке и яблоне?
— Джон, ты не любил.
— Опять я не любил. Хорошо, поговорим о любви. Знаешь правило одиннадцатого шага?
— Нет никаких правил.
— Есть. Вот слушай. Представим, что мужчину и женщину разделяют двадцать шагов. В широком понимании. Так вот, ты должен сделать свои десять шагов и остановиться. Если она там тебя не встретила, не делай одиннадцатого — потом придется делать двенадцатый, тринадцатый — и так всю жизнь, и будет это не жизнь, а муки.
— Джон, это арифметика какая-то.
— Это высшая математика. Ты положишь на свою страсть жизнь, а для нее это — мимолетный эпизод. Ради двух минут ты рискуешь угробить свою судьбу и лезешь голым задом к волку в пасть. Есть такое понятие — рентабельность.
— Я не бухгалтер.
Но когда на маршала находила стихия проповедничества, его трудно было унять.
— В старину бывали такие брошенные угольные шахты — хотя уголь там еще был, и неплохой. Загвоздка в том, что один вывоз пустой породы обходился дороже, чем все предприятие. Понимаешь, о чем я говорю?
— Когда добывают золото или уран, с расходами не считаются.
— Нет, ты точно сошел с ума. Уран и золото добывают роботы или каторжники. Каторжники! Вот и с тобой будет то же, а может, и похуже, если не выкинешь эту дурь из головы!
— Знаешь, Джон, — тут Эрлен сел на своих подушках, — я читал в детстве сказку про бумажную рыбу. Она однажды добралась до стакана с водой и, конечно, погибла в нем, но зато хоть сколько-то времени она по-настоящему плавала. Ты меня понимаешь?
— Рыба у него в стакане плавала, — чуть позже мрачно сказал Кромвель Вертипороху — этот обмен притчами маршалу очень не понравился.
— Что? — изумился механик. — Какая рыба?
— Рыба такая, что околдовали нам парня и боком ему выйдет эта Инга.
— Любовь… — благожелательно протянул Вертипорох.
Маршал приставил ему к носу призрачный палец:
— Мне эта любовь подозрительна… Слушай, команда будет такая: я в ангар, ты сиди в предбаннике и гляди в оба. Если будет выбор стрелять или нет, стреляй. Я буду через полтора часа.
По причине такой вдохновляющей беседы Одихмантий страшно растерялся, и его прошиб холодный пот, когда снизу, с пульта, позвонили и сообщили, что Эрликона хочет видеть некая Ингебьерг Пиредра, и пилот немедленно распорядился ее впустить. Механик приоткрыл рот, растопырил руки и оглянулся, словно прикидывая возможность бежать во все стороны одновременно — ему захотелось и срочно позвонить в Ванденберг, и остановить Ингу, перекрыв коридор, и засесть с пистолетом под кроватью. Остановился он на самом нейтральном варианте: сел у окна между палатами и стал смотреть во все глаза, приминая бороду холодным стеклом.
Эрлен полулежал, полусидел, раскинув по белизне лечебного кресла черные кудри; на нем была все та же майка «Штат Мичиган», все те же спортивные брюки, а на голове — большущие наушники, через которые «Порги и Бесс» сотрясали барабанные перепонки. Переживания Вертипороха Эрликона никак не коснулись, а весть от Инги вызвала примерно те же ощущения, что и «плоский штопор» с удалым маршалом, и привычный огненный кулак ударил под грудину. Он содрал наушники — герои Гершвина смолкли на полуслове, и засомневался: вставать или оставаться в лежачем положении — как-никак он был больным, а это давало определенные преимущества. И тут в вытянутом восьмиграннике коридорного окна показалась Инга. Она улыбнулась, постучала пальцами по стеклу и через три секунды появилась в дверях.
Что чувствовал Эрлен, описать невозможно. Его обуял одновременно и ужас, и восторг. Вид Инги потряс его, как разрыв гранаты. Что там говорить о глазах, бровях и губах! С каждого волоска пепельной гривы («смотри-ка, у нас с тобой волосы одинаковой длины!»), с каждой складки салатного сафари летели стрелы Амура, будто дерзкий греческий мальчишка завербовал себе в подмогу полчища Чингисхана.
Несколько минут разговор шел довольно странно и сумбурно: Эрликон что-то отвечал, не особенно осознавая что, и сам не слышал или не понимал, что же такое говорит; затем общими усилиями семь красных роз водрузили в не слишком эстетичную, зато объемистую медицинскую посудину с мерными делениями, потом Инга засмеялась, положила свою загорелую, звенящую серебром руку на руку Эрлена и сказала:
— Собирайся. Я тебя похищаю.
В этот момент подслушивавшему у окна Вертипороху сделалось дурно. Сначала он бросился к дверям, желая как-то распорядиться, чтобы Эрликона не выпускали; не добежав, он кинулся обратно, решив, что лучше вывернуться и задержать Ингу, но эта мысль его почему-то испугала, и он вновь ринулся к выходу, теперь уже надеясь перехватить самого Эрлена. Призраки убийц из кромвелевских предостережений маячили у него перед глазами, от душевного напряжения механик снова забыл закрыть рот, и длинная струйка слюны устремилась к полу; руки Одихмантий держал так, словно вот-вот собирался ухватить мифического быка за рога. Он сам, как распаленный бык, помчался по коридору, по какой-то своей логике вознамерившись поймать Эрлена на лестнице, и буквально проскочил сквозь возвращавшегося быстрым шагом маршала.
— В чем дело? — спросил Кромвель. — Пожар? Мафия?
— Да! То есть нет! — шепотом произнес Вертипорох. — Джон, она его увозит!
Секунду Дж. Дж. смотрел на механика остановившимся взглядом, затем скомандовал:
— Без паники. К телефону.
Телефон стоял за соседней дверью. Стуча тупо срезанным ногтем по пластмассе, Вертипорох набрал номер уже известной мадемуазель Делорм — той, что предупредила приятелей о приезде звонаревских профессионалов; это был первый из двух телефонов, оставленных Скифом, и оба Кромвель заставил свой экипаж выучить наизусть.
После минутной заминки включился автоответчик и промурлыкал, что мадемуазель отбыла в отпуск и просит оставить информацию до ее возвращения. Маршал и механик бессмысленно уставились друг на друга.
— Крути дальше, — приказал Кромвель.
Второй телефон был секретным и имел выход прямо в какой-то закрытый секретный канал Института Контакта. Пользоваться им Скиф разрешил только в самом крайнем случае.
Здесь тоже поначалу воцарилось молчание, показавшееся вечностью, и после него механический голос объявил, что линия заблокирована, и посоветовал связаться по коду.
Никакого кода ни Кромвель, ни Вертипорох, естественно, не знали.
— Вот, значит, как, — проговорил Дж. Дж., дико улыбаясь в пространство. — Ай да Скиф. Вот как… Что стоишь? — неожиданно зашипел он на Вертипороха. — Быстро флягу, НЗ, бинокль — и вниз, в гараж. Мотоцикл на ходу?
— А? Да, на ходу. Может, лучше возьмем больничный «бьюик»?
— Какой «бьюик», спятил, у нее спортивный «бугатти»! «Бьюик»… Живо!
Небывало жаркое бабье лето стояло над Стимфалом. Строго говоря, зимы в ее северном понимании тут не существует, но горы да ветвь арктического течения, к ноябрю задувал ветерок, из-за которого на море начинает штормить, а еще раньше стимфальская публика достает из шкафов плащи; в декабре же и мокрый снег не такая уж диковина. Но в этом году в начале октября природа решила задержать лето на плоскогорьях. Табун северных антициклонов заплутал где-то на океанских просторах, и вечер первого понедельника нового месяца выдался не просто теплым, а по-июльски душным. Прорезая все более густеющий поток машин, дедушка-«харлей» нагонял кроваво-красный приземистый «бугатти». Струи морского воздуха трепали рыже-гнедую шевелюру Димы и делили на разные пряди его бороду. Механик хотел надеть шлем, но Кромвеля уже охватил боевой дух, и маршал с чувством укорил соратника:
— Стыдись… Наше дело правое!
И Вертипорох, так и не научившийся разбирать кромвелевский сарказм, торопливо бросил шлем обратно на полку, словно тот внезапно раскалился.
Они легко отыскали Ингину машину, но дальше дело пошло сложнее: держаться рядом было опасно, поскольку Дж. Дж. не желал раньше времени выдавать свое присутствие, а отпускать далеко тоже было рискованно: в эдакой толчее легко потеряться. Из-за автострадной планировки Стимфала разных параллельных улочек и проулков, столь удобных для охоты с мотоцикла, в городе просто не было. Приходилось лавировать и прятаться за машинами, то и дело зажигая поворотники.
Покинув госпиталь, Инга направилась строго на юг; однако, минуя центр, она круто свернула на Пятьдесят второе государственное шоссе и погнала свой роскошный лимузин на восток. Кромвель поджал губы: этот путь вел в горы, к вилле Рамиреса, а штурмовать ее вдвоем с Вертипорохом — дело, безусловно, любопытное, но вряд ли веселое. Маршал вдвинулся механику в самое ухо:
— Сбавь до шестидесяти миль и приготовься… Если за указателем повернут налево — подходим вплотную и стреляем.
— Куда стрелять? — спросил Вертипорох, чувствуя разливающийся по телу холод.
— Куда… Куда попадешь, Клинт Иствуд… Нас через полчаса ждут такие «хеклеры», какие тебе во сне не снились…
Слеза, выкатившись из внешнего уголка глаза механика, под давлением ветра пробежала и затерялась в истоках бороды. Мама, подумал Вертипорох, никогда больше не пойду в кино на боевики, к черту их, глупость все это… Но оказалось, что волновался он рано: «бугатти», похожий на окровавленный обух томагавка, несущийся над дорогой, проскочил роковой перекресток, никуда не свернув, и по-прежнему летел на восток.
— Перестраивайся вправо, на боковушку, — распорядился Кромвель. — И отрываемся.
Под прикрытием громадного белого рефрижератора «харлей» ушел на крайнюю боковую полосу и через минуту оставил автомобиль гангстерской дочки далеко позади.
Дорожная развязка, на покрытие которой Вертипорох уронил холодный пот и слезы, была на этом участке Пятьдесят второго шоссе последней. Здесь проходила городская черта, а магистраль уходила дальше, сквозь горы. Стимфал, как известно, тем и отличается от других столиц мира, естественно выросших на пересечении торговых и иных путей, что через этот край приморского нагорья никакие дороги никуда не ведут. Все здешние шоссейные коммуникации — по сути, слепой аппендикс, а континентальные автострады начинаются восточнее, по ту сторону поднимающихся к океану гор. Именно Пятьдесят второе шоссе и связывает город с окружающим миром, точнее, сорокамильный отрезок, прорубленный в красно-черных базальтах, — и за ним, на просторе, бетонное полотно разбегается во все стороны — поезжай куда глаза глядят.
Но в первые часы наступающей ночи дорожное пространство пробитой в хребте скважины пустело. Гости — кто уже приехал, кто уехал, у горожан наступили часы вечернего досуга; лишь одинокие тягачи и трейлеры будили эхо на восьми рядах меж каменных стен. Такому раритету, как «Харлей-Дэвидсон», спрятаться было негде, и потому Кромвель решил дождаться подопечных на выходе. Приятели взгромоздили мотоцикл на самый край козырька разворота пандуса и тревожно вглядывались в сумерки, время от времени заставляя мотор глухо завывать.
Проехали два грузовика с дугообразными упорами бамперов, за ним — тягач с неимоверно длинной серебристой цистерной; потом фургон для лошадей. Кромвель смотрел на часы. Секундная стрелка резво прыгала с деления на деление, красного «бугатти» не было.
— Что за черт? — спросил Вертипорох. — Где они?
Кромвель едва слышно выругался. Стрелка на часах описывала круг за кругом, ожидание приближалось к фазе безнадежности.
— Тут же не свернешь никуда, — пробормотал Вертипорох, косясь на Кромвеля.
Маршал уже не обращал внимания на дорогу, взгляд его был безумен и устремлен в неведомое, в глазах металась, меняя масштаб, карта окрестностей Стимфала. Одихмантий ждал, вцепившись в ручку газа. Спустя краткое время Дж. Дж. приказал:
— Давай наверх!
— Куда?
— Бери эту бандуру и тащи наверх!
Да, несказанно осложнило жизнь простодушного инженера-механика знакомство с покойным главнокомандующим. Темной ночью, ибо смеркается в этих местах мгновенно: не бывает в Стимфале долгих вечеров, волок Вертипорох тяжеленный мотоцикл через бетонную бровку вверх по крутому каменистому откосу, укрепленному сеткой и поросшему полынью, неверной под ногой и мерзкой по запаху, лез по каким-то плитам, а рядом кружился и шипел «давай, давай» бешеный призрак.
— Куда теперь? — захрипел Одихмантий, преодолев наконец склон. Волосы его прилипли ко лбу, и сам он напоминал лик на плащанице.
— Она могла увезти его или на рудник, или в аббатство, больше тут ничего нет. Рудник ближе, едем сначала туда.
— Едем? А какая там дорога? — В голосе Вертипороха звучало и смятение, и тоскливое предчувствие ответа.
И ответ его не обманул:
— Нет там никакой дороги и не было никогда. Заводи!
Смилуйся, Боже. «Харлей» взревел ликующим ревом и понесся вверх по плоскогорью, вновь на запад.
Светила луна. В небе Стимфала их вообще-то три, и картина ночи должна была бы быть феерической, однако ничего подобного, как правило, не происходило. Во-первых, два спутника более чем скромны по размерам и заметной роли играть не могут, а во-вторых, соединение всех трех лун в какое-то поэтическое время — явление исключительное. Тем не менее постоянства одного ночного светила вполне хватало, чтобы различать дорогу на любой скорости — а Кромвель требовал гнать вовсю, да и почва соответствовала самым строгим запросам. Это были те самые недавно так удивившие Эрликона «лошадиные зубы» — каменные столбцы, плотно, как брусчатка, притиснутые друг к другу. Суровые дантисты — дожди и ветра, перевивающие редкий песок, подточили их во многих местах, и казалось, под колесами проносится исполинская лошадиная челюсть, охваченная пародонтозом, однако такое покрытие было «харлею» нипочем.
Дорожный ветеран показывал себя наилучшим образом и радовался возврату к шальной рокерской молодости. Неутомимо отплясывали передние амортизаторы, беззвучно дышали атмосферы, закачанные в шипованную резину, принимая удары каменных коронок; с жаром танцевали шестеро поршней в своих масляных рубашках, выписывая в цилиндрах извечную «У», и длинные, косо срезанные литники новых покрышек неистово колотили по зернистому граниту.
На фоне ярких лунных бликов рисовались темные контуры мелких колючих кустов; далеко слева размытой черно-белой мозаикой смутно проступали отроги гор Котловины; вой двигателя уносился к звездам, но Кромвелю и этого показалось мало.
— Музыку, — приказал он. — Включи на внешние динамики.
Что же, настал черед и старине «харли» пасть жертвой маршальской меломании. Стимфальские музыкальные автоухари — а там даже у иного таксиста полмашины занимала какая-нибудь квадросистема и еще саксофон торчал между колен — произвели на Серебряного Джона неизгладимое впечатление. Такого в дни его молодости не бывало. Ничего. В «харлее» были незамедлительно произведены необходимые доделки, и за время болезни Эрлена старичок украсился двумя обтекаемой формы колонками по тысяче ватт каждая. Теперь предстояло испытать их в деле.
— Втыкай, втыкай, — сказал Дж. Дж. — Нас и так за сто верст слышно.
Кассета ушла в гнездо, и — о ужас! — Вертипорох перепутал записи! Вместо подобающего случаю «Полета валькирий» волшебство ночи разорвал кантри-стайл «На берегах Огайо» — деревенские страдания грянули между небом и землей бесхитростно, зато с душой:
I plunge my knife into her breast While gently in my arms she rest She cried: «Oʼ Willie, donʼt you murder me Iʼm not prepared for eternity». I took her by the lilly white hand And let her down by the riverʼs strand First I picked her up, then I cast her down Stood and watched her slowly drown —и залихватский наигрыш губной гармошки лился над скалами!..
Тем временем местность вокруг менялась. Кустарник исчез, пропали песок и щебень; удивительные надолбы под колесами приобрели уклон к югу, а впереди показалась гряда холмов со столообразными вершинами, похожая на позвоночник гигантского зверя, — приближался каньон Альмадены.
И вот с какого-то места каменная поверхность, похожая на брусчатку, действительно стала брусчаткой. «Харлей» проскочил один мощенный шлифованными блоками желоб, за ним второй.
— Стоп, машина, — велел Кромвель. — Глуши мотор, приехали.
Странное это было место. Бесчисленные ряды идеально подогнанных друг к другу камней тупо скалились в лунном свете; там и сям темнели провалы колодцев, отличающихся по размеру, но с безупречно выдержанной геометрией и так же идеально облицованные все тем же тесаным гранитом; полная тишина, до шума пульса в ушах, стояла кругом: не было слышно даже сверчков и цикад. Неизвестно почему Вертипороху сделалось жутко, разбросанные повсюду черные дыры заставляли ждать, что из них вот-вот… но дальше механик и думать не стал.
— Где… где… где это мы? — едва слышным шепотом спросил он.
— Это рудник, мы на верхней кровле… Ты прислушивайся, здесь акустика — дай бог. — Маршал стоял на заднем сиденье и озирался, вытянув жилистую шею; было ясно, что романтические страхи не имеют над ним никакой власти, и Вертипорох ощутил прилив горячей благодарности.
— Не едет никто, — произнес он уже гораздо уверенней.
— Да вижу, вижу… Мы, правда, обогнали их минут на пять. Ладно, трогай к монастырю.
— У меня кассета кончилась, а другой нет.
— Ставь сначала. — Маршал сокрушенно покачал головой. — Страх, подо что приходится выступать.
Утес, или выступ Фраскенн, — самый внушительный в той цепи, которая обрамляет Альмаденский каньон, и глубже других заходящий в Малый каньон, поэтому нет ничего удивительного в том, что Эрликону с его верхушки показалось, что площадка бывшего монастыря со всех сторон окружена пропастями. Однако наш пилот ошибался. От восточной стены — той самой, у которой Эрлен просил Ингу выйти за него замуж, — начиналась довольно пологая седловина, поросшая чем-то вроде можжевельника и соединяющая Фраскеннскую гряду со следующей, лежащей ниже по каньону. На этот-то соседний гребень и выскочили Кромвель с Вертипорохом в конце своего путешествия.
— Откати мотоцикл в лощину и приходи сюда с биноклем, — распорядился маршал. — Если я не ошибся, у нас пара минут… Да, флягу захвати.
— Что там, дом какой-то, — сказал механик, приникая к резиновым окулярам. Бинокль был с переводом на ночное видение и давал картинку, как при слишком ярком солнечном освещении.
— Это и есть аббатство, там в войну батарея стояла… Тихо! Слышишь?
Уже и без бинокля был виден свет поднимающегося на гряду автомобиля, и доносилось недовольное ворчание аристократического двигателя.
— Те же, часть вторая, — объявил Кромвель. — Ну, Дима, начинаем. Вставь шестой патрон и слушай меня внимательно. Инструкция простая. Сейчас мы доходим вон до тех кустиков, и ты ложишься в них головой. Как в поговорке. Ложишься не на живот, а на спину. В случае чего стреляешь в любого, кого увидишь. Лежишь и ждешь от меня команды; если услышишь стрельбу, то без всякой команды бежишь наверх, там метров сто, не больше, и стреляешь во всех, кто не Эрликон. Попадешь — хорошо, не попадешь — еще лучше, мальчика только смотри не зацепи. Выстрелы считаешь вслух — прямо так и кричи: раз, два… Как досчитаешь до шести, бросаешь пистолет в ближайшую рожу и падаешь куда-нибудь подальше. Прочее тебя не касается. Все понятно?
— Все понятно, — ответил Вертипорох, чувствуя, как его спина вновь превращается в кусок льда.
— Ну и отлично. Укладывайся и жди. — С этими словами маршал канул во тьму.
Здесь я хочу отдать должное Вертипороху. Полностью поддавшись кромвелевскому гипнозу, он свято верил, что за проклятым кустом собралась вся международная мафия; он был готов к тому, что настал его последний час, и, лежа на холодном песке, прощался с жизнью; каждая поджилка его несуразно длинного тела тряслась от страха, но ему и в голову не приходило все бросить, убежать, забиться в какую-нибудь расщелину или тем более вскочить на «харлея» и умчаться прочь. Более того, он знал, что в нужную минуту поднимется, пробежит эту, вероятно, последнюю в жизни, стометровку и будет стрелять, и подставит шкуру под пули. Я безоговорочно признаю механика Вертипороха смелым человеком.
Однако первым из мировых злодеев, которого узрел Одихмантий, был все тот же Кромвель. Он распростерся рядом, и вид у маршала был задумчивый.
— Тут хитрость какая-то, — пожаловался он. — Куда-то мы заехали, нет никого. Земля, что ли, треснет и оттуда громилы полезут?
— А эти двое? — поинтересовался Вертипорох.
— Целуются в машине. Похоже на пикник. Оружия нет.
— Джон, так это просто свидание! — Вертипорох возликовал. Давно он не был так счастлив.
Кромвель молча пожевал сжатыми губами:
— Лежи пока. Подождем. Это все не вдруг придумано.
Он вновь исчез и вернулся через полчаса:
— Закусывают. Да, надо признаться, на убийство мало похоже… Все равно, кончится это плохо, та стерва ему не по зубам.
— Иногда это нужно.
— Ему это совсем не нужно. Словом, так. Какие нас еще ждут сюрпризы — неизвестно, поэтому трезвись и бодрствуй, и смотри не засни, как апостол Петр в Гефсиманском саду. Ешь и пей, но по сторонам поглядывай… Я там присмотрю. Вот до чего доходишь иной раз — приходится подглядывать за пиредровской дочкой! Как это, в сущности, роняет наше достоинство.
— Мы товарища выручаем, — рассудительно возразил наивный механик.
— Надеюсь, товарищ справится без нас. Со своим делом. Все, я пошел. Громко не чавкай. Враги услышат.
Состояние счастья — это вовсе не обязательно какие-то краткие минуты, оно может затягиваться, и довольно надолго. Оказавшись в машине в четырех дюймах от Инги, Эрлен впал в обыкновенное восторженно-одурелое состояние. Вид и близость идеала переполняли и распирали его душу, и никакого иммунитета в этом отношении даже и не намечалось.
Запах ее духов вытеснял всякое представление о разумных нормах их употребления; манера вести машину — на дорогу она обращала внимания куда меньше, чем на Эрликона, — тоже изумляла новизной, граничащей с риском; притом все это — дорога, машина, движение — было делом десятым, потому что главным, разумеется, был их разговор.
Инга оживленно говорила сама, звеня браслетами, то и дело отрывала руку от руля и с необычайным вниманием слушала Эрлена, поворачиваясь и глядя на него, мало обращая внимания на светофоры. Темная масса ее волос переливалась, подвески серег крутились и сталкивались. Тупость менеджеров, коварство подруг, ворох насмешливых жалоб и сплетен, густо замешанных на презрении, — весь светский коктейль представал перед Эрликоном; все это было ему неведомо, абсолютно чуждо, и он завороженно и радостно слушал.
Мир, который открывала ему Инга, потрясал Эрлена в общем-то одним-единственным качеством. Он потрясал взрослостью. Как и отец, ставший контактером, так и сам Эрликон, ставший пилотом, пронес через все свои душевные мытарства непоколебимую инфантильность, неистребимую память детства, превращавшуюся то в очарование, то в проклятие. Мир взрослых так и оставался для него загадкой, в общении с людьми он не нарастил никакого панциря дипломатических уловок и маневров и в грозящих стрессом ситуациях предпочитал отдаляться, а чаще и проще — прятаться и убегать, что в старину назвали бы робостью и зажатостью.
Инга же в этом отношении была подлинным профессионалом общения; любую беседу она вела и поддерживала без усилия и совершенно автоматически — так классный баскетболист, ведя мяч, не следит за ним, обращая внимание лишь на передвижения товарищей по команде и соперников. В общении же с мужчинами она чувствовала себя и совсем свободно, навыки тут были настолько многочисленны и отточенны, что присутствие, например, в данный момент единственного влюбленного никак не могло создать ни малейшего напряжения.
Для Эрликона в этом вопросе дела обстояли из рук вон плохо. Его романтический облик, его нервические настроения и замкнутость невольно создавали ему имидж дамского любимца, но увы. Нельзя сказать, что Эрлен был уж совершенно обойден женским вниманием, но благодаря несообразностям его характера самый обычный процесс общения мужчины и женщины был для него отягощен, запутан и, что еще хуже, болезненно заострен, так что те девушки, которые иной раз, в результате многих мук, дарили его своей благосклонностью, появлялись не благодаря умению и обаянию, а из-за стечения обстоятельств или же безысходности ситуации. Опирались подобные отношения на великое терпение женской снисходительности, сестры любви, но, не имея соответствующего опыта и воспитания, Эрликон и любви-то не очень умел отличить.
Поэтому неподдельное внимание и интерес Инги, женщины взрослого мира, женщины его мечты, разили пилота наповал. Задавив сотрясающее волнение под ребрами, Эрлен слушал ее вопросы о соревнованиях, о машинах, о судьях, отвечал, и у него вдруг мелькнула мысль, что Кромвель прав, возможно, и впрямь следовало показать самолет — и он неожиданно пожалел, что маршала нет рядом: «Этот черт уж точно ничего бы не испугался…», и затем возникла другая мысль, оценивая предыдущую, — злобное самокопание не отпускало его ни на минуту: «Боже, я выродок…»
Инга тем временем испытывала непонятный душевный подъем. Страдания Эрликона она видела, сочувствовала ему, восхищалась, сколь стойко и раскованно он при всем том держится (она помнила о руинах великих цитаделей в его душе), но чувство ее уносилось куда-то дальше. Что-то должно было сегодня произойти. Что? Неизвестно, но навстречу она шла с охотой и даже весельем.
Машина затормозила и остановилась.
— Повернись ко мне, — приказала Инга. — И расслабься. — После чего привлекла Эрлена к себе и поцеловала.
Не могу сказать, что парень упал в обморок или был прожжен насквозь; ощущения его и до этого уже оказались за таким пределом, что удивлению оставалось очень мало места. Как бы то ни было, взаимопонимание выросло, и по въезде в аббатство дело быстро пошло на лад. Сразу же после остановки двигателя Эрликон протянул руку, втайне готовый к тому, что будет поднят на смех, но этого не произошло, а, напротив, Инга охотно придвинулась вплотную (благо не мешала ручка переключения скоростей), и начались такие поцелуи и объятия, что можно было только позавидовать. Правда, в один из критических моментов кресло под Эрленом вдруг сдвинулось куда-то назад, но он молодецки держался, зацепившись локтем левой руки и страшно напрягая мышцы спины — пока их губы и языки не разъединились и Инга не воскликнула: «Я невероятно голодная! Я же сегодня ничего не ела!»
Началось бойкое приготовление пикника. Лунный свет сочетался с жарой, нагревшиеся за день камни не желали остывать, и дыхание ветра тоже не приносило прохлады. Высокие травы и крапива заглядывали в бойницы уцелевших южной и восточной стен, с северной и западной сторон от окон остались лишь парные плиты оснований, а простенки, сохранившиеся на треть или даже половину впечатлявшей когда-то высоты, смотрели вверх, как сточенные, но по-прежнему грозные зубы. За ними начинался провал Малого каньона, и дальше открывался вид на темные горы.
В центре длинного прямоугольника двора, на каменном, похожем на саркофаг возвышении, Инга расстелила покрывало, и на нем они расставили всевозможную снедь, бутылки, зелень и прочее, привезенное в пакетах и термосах.
— Что это? — спросил Эрликон, принюхиваясь и отщипывая листки.
— Не спрашивай, — загадочно ответила Инга. — Ешь и пей, ты у меня в гостях, в моих владениях…
К своему удивлению, Эрлен в самом деле смог есть и пить, правда, что именно, он не замечал, и, если было какое-то спиртное, оно не оказало на него решительно никакого действия, разве что смесь из Ингиных трав… но нет, он ничего не почувствовал.
Дар анализа, способность отличать причины от следствий, покинул Эрликона; он вдруг увидел, что Инга стоит в проломе стены лицом к горам; платье исчезло, и тело смотрится как молочный поток на черном фоне; Эрлен не оценивал ее фигуру, он впал в некое подобие медитации, воспринимая реальность как отвлеченную данность, чьи законы неведомы, непознанны и непознаваемы. Инга оказалась рядом, глаза в глаза, произнесла: «Вылезай из всего этого», и высокие кроссовки полетели куда-то в колко зашуршавшую траву, ее горячие руки уверенно помогли ему, посуда и еда пропали, и внизу очутился тот самый вырубленный из камня, покрытый темной тканью стол, на котором они пировали; упершись руками в грудь юноше, Инга села на Эрликона, и тут начались вещи необычайные.
Жар ее тела проник в него, и все вокруг изменилось, весь мир предстал ярким и живым, сквозь нервы и мышцы потекли токи от земли, травы, еще чего-то непонятного из недр и воздуха, их было великое множество, всего и не разобрать, его плоть и кровь соединились с ними, неколебим остался только мозг, и дальше пошли уж и вовсе чудеса. Поднялись древние могучие инстинкты и вышибли те каменные пробки, которые отделяют сознание от подсознания. В мозгу Эрлена пролетел весь тот скудный набор представлений о мужественности, что некогда сложился у него: серебряные рыцари, игрушечные ковбои и еще невесть какая дребедень, а за ними хлынули совсем уж неизвестные валькирии, вороны и просто откровенные демоны, не имеющие ни имени, ни обличья. В существо Инги он погрузился как в пламя, и в этом пламени ему привиделось: исполинских размеров звериный рогатый и бородатый лик, пред ним Инга и еще ворох тварей, множество из которых только что пролетело сквозь его сознание. Но что было самое странное — на Ингу Эрлен смотрел глазами как раз той чудовищной бизоньей морды, он видел свою колдунью спереди, сзади, снизу, сверху, и она глядела на него и одновременно — на того. Тело ее колебалось и дрожало, неясные отсветы прыгали по лицу, груди, животу, выхватывая то огненный глаз с провалом скулы, то шею и уступ ключицы; волосы, шевелясь, стояли черным нимбом; Эрликон чувствовал приближение последней судороги наслаждения и в то же время величайшую тоску отделения души от тела, как недавно во время посадки, когда Кромвель отстрелил баки, и с той секунды связь с жизнью начала стремительно ослабевать… Но тут произошло нечто странное: зверь, через зрачки которого Эрлен смотрел на Ингу, отрицательно покачал головой.
«Нет, — вроде бы сказал он, или так пригрезилось Эрликону, — это не наш, и это не твой. Я не буду с тобой в этот раз. Сделай для него все и отпусти».
Черти, вороны и прочая нечисть — статисты этой сцены — вновь кинулись в простор Эрленова сознания, пролетели над ущельями меж извилин и ухнули в колодец спинного мозга. Роковой зазор отделения души от тела подобно полосе воды, разделяющей причал и корабль, стал сужаться, сужаться, и вот былые узы окрепли, томление подступающей смерти миновало. Эрлен еще успел увидеть, как ругалась и протестовала бедная Инга — она плевалась, била кулаками, волосы падали на лицо, и груди метались в такт конвульсиям, но вот постепенно пятна света из красных снова превратились в лунно-бледные, реальность вернулась на свое законное место, и ведьма смирилась и утихомирилась.
— Тс-с-с, — сказала она. — Не думай ни о чем, я все сделаю сама.
Однако Эрликон, невольная жертва всех этих потусторонних разборок, не пожелал никаких продолжений, отпрянул в сторону и буквально скатился с каменного ложа.
— Куда ты? — изумилась Инга.
Эрлен будто и не слышал ее. Тупо он осмотрел себя, собственные руки, потом без спешки влез в брюки и сапоги, натянул майку и, миновав северную стену, ринулся вниз, в обрыв, взрывая песок, сгребая по пути щебень и цепляясь на лету за жесткие кусты. Окруженный этой лавиной, Эрликон бежал, скользил, падал (счастье Вертипороха, что тот устроился гораздо правее, на восточном склоне), пока со всей геологической свитой на самом дне каньона не влетел с шумом и брызгами в холодную воду ручья.
Он был совершенно уничтожен. И дело даже не в том, что, как он понял, какие-то таинственные силы отказались принять его в свое лоно — пусть бы все и прошло по Ингиному плану и при этом Эрликону удалось сохранить жизнь и рассудок, он все равно был бы раздавлен и убит. Ведь ситуация, как он полагал, потребовала от него проявления какого-то высшего, почти божественного мужского начала, того, чтобы он стал Тором, Одином, Юпитером, — вот какие ставки в той большой, по-настоящему взрослой игре, а он… Мальчишка, сопляк, бездарь… Его преклонение перед личностью Инги доросло до невероятных, ударных величин, и эти величины его сокрушили. Я не потянул, думалось ему, я ничто, тот мир для меня закрыт — туда таких не берут.
Не было никого, кто мог бы объяснить Эрликону суть произошедшего, сказать, что уже одно то, что он устоял и вышел невредимым из колдовских объятий, поднимает его на самый высокий уровень в глазах всех на свете магов и владык. Там, где девяносто девять из ста навеки утратили бы волю и разум, его закаленная самоистязаниями психика страстотерпца выдержала, не дрогнув, и это был подвиг, но Эрлен не знал об этом. Мистические силы великих глубин не сумели одолеть его, но некому было растолковать парню суть его победы.
Зашнурованные до упора высокие кроссовки заливались холодом ручья, косые тени скрывали изгибы каменистого русла; какая-то птица монотонно кричала в далеком мраке, и на миг почудился удаляющийся треск мотоцикла. Эрликон наклонился, зачерпнул воды, плеснул в лицо, провел мокрой ладонью по шее к груди.
— Я лучший пилот в мире! — закричал он во всю силу легких. Потом добавил шепотом: — Я дерьмо, а не пилот.
Под равномерный плеск он побрел вниз по ручью, словно стараясь перехитрить неизвестных преследователей.
«Кто я такой? — думал он. — Что там гадать… Какой я, к черту, контактер, какой пилот… Это все не в счет, это все так… Я — генетическая ошибка, вот я кто, жертва научного прогресса… Мог бы я выжить естественным путем? Смешной вопрос… Но что же делать? Уйти? Но как же… Не знаю».
Ручей, лениво блуждая и изгибаясь, становился то шире, то уже и вдруг покинул пределы каньона и вывел Эрлена к белым в лунном свете отмелям и черной говорливой воде Альмадены. Ноги начали уставать. Какое бы ни пришлось выбирать решение, нельзя вечно скитаться по этим горам. Прикинув подобие схемы маршрута, Эрликон сообразил, что, поднявшись вверх по течению, он часа через два дойдет до шоссе и окажется как раз на северной, то есть на стимфальской, стороне. Сунув руки в карманы и нахохлясь (прохлада все же потихоньку давала о себе знать), он зашагал по земле, песку и камням и вскоре за поворотом увидел огонек.
Не ожидая ни хорошего, ни дурного, все более погружаясь в цепенящую хандру, Эрликон пошел к этому костру и, подойдя, ничуть не удивился, разглядев отражение огня на металле с детства знакомого «харлея» и рядом — неразлучную пару, Вертипороха и Кромвеля, разогревающих на углях какую-то банку.
— Привет, привет, — радушно встретил пилота маршал. — Присаживайся, сейчас поедим.
— На вот, хлебни, — предложил Вертипорох. — Маловато, правда, осталось…
Эрлен сел, отпил из плоской изогнутой фляги и долго смотрел в костер. Потом сказал:
— Ладно. Хорошо. Я буду летать. Если уж ничего другого не суждено.
В то время как раздираемый комплексами Эрликон влачился в направлении всепрощающих маршальских объятий, для Инги наступил момент размышлений и прозрений. После скандала, который она устроила князю тьмы, ее настроение поутихло, и она в задумчивости продолжала сидеть все на том же сундуке-надгробии, обхватив колени, прикрытая только своими волосами, спадавшими колоколом на плечи; серьги и браслеты она, естественно, и не снимала.
Все, связанное с Эрленом, отлетело от нее, мыслями Инга уже унеслась далеко прочь. От всего произошедшего осталось лишь чувство слабого разочарования и досады, но встряска не прошла бесследно — та, другая мысль, которая подспудно все последнее время брезжила в сознании, не давая покоя, которая будоражила ее по дороге сюда, подступила совсем близко, и до решения оставался один шаг.
И вот этот шаг совершился. В старинном романе можно было бы написать, что с глаз упала пелена (что за пелена? куда упала?). Начало падения этой загадочной пелены все-таки не обошлось без Эрликона. «Он и в самом деле иной, — подумала Инга мимолетно. — Не подходит для вот этого — этих стен, этой травы…»
А кто подходит?
И из лунного света, из светлых и черных пятен, из путаного узора листьев и стеблей перед Ингой соткалось лицо Гуго Звонаря — так перед мореплавателем открывается долгожданная родная гавань, Инга даже тихо застонала.
«Я же люблю его… Вот дура, я же всегда его любила. Дура, дура безмозглая… (Инга употребила и более сильные выражения.) Ведь это же… Это…» — Тут слова у нее закончились, и остались одни чувства; возможности, скрытые в этих чувствах, представали пред ней поочередно во всем великолепии.
Но возможно ли такое вообще — вдруг влюбиться в человека, которого знаешь с детства и который годится тебе в отцы? Если да, то перспективы возникают ошеломляющие, и Инга по достоинству оценила их.
В любви, в этом великом охотничьем поле, отказаться от обмана, уловок и финтов, и утрата тайны не означает утраты очарования. Впервые она увидела возможность находить удовольствие, отдавая и раскрывая себя полностью, не пряча ничего в тени, оставаясь сама собой без заботы о ликвидации последствий такой откровенности («Хоть на горшке сидя, сказал бы Гуго», — подумала Инга), и даже наоборот — наслаждаясь тем, что показываешь себя всю как есть, со всем стыдом и мерзостями, и не опасаешься ни враждебности, ни презрения. Боги святые, да ведь только один Звонарь и умеет так любить: не закрывая ни на что глаза — ни на одно клеймо, ни на печать зла. Инга уставилась в темноту перед собой, ничего не видя и не слыша, — вот она, та вожделенная обитель, по которой тосковала ее душа с незапамятных времен.
Но как быть? Ведь Гуго… «У него нет другого выхода. — Инга упрямо затрясла головой, словно споря с какими-то оппонентами. — Он поймет. Я помогу ему это понять. У нас у обоих не было выбора… изначально. Нельзя спорить с судьбой. А это судьба».
Тот, кто хорошо знал Ингу, мог бы заметить, что в ней даже проступило некое величие и гордость — она ощутила себя Стоящей На Пути. Да, предстоит игра. Но теперь — теперь! — она знает цель; наконец-то, после долгих сомнений, пришла ясность. «Гуго мой, — думала Инга. — А я — его. Так было задумано. Я сделаю… я выполню предназначение».
Подобно многим деятельным личностям, Инга не обременяла себя излишним анализом ситуации. Ей было достаточно того, что картина казалась очевидной, а на всевозможные подводные камни энергии у нее хватит. Кроме того, она свято полагала, что знает Гуго — одна из самых распространенных людских ошибок: думать, что прекрасно знаешь человека потому, что давно с ним знаком…
Итак, вслед за Эрленом скоро и Инга покинула аббатство. Для пилота наступила пора смирения, для колдуньи — час торжества. Что же касается желаний самого Звонаря и судьбы Ленки Колхии, то это, как видно, никого не интересовало.
Фарборо!
Где Стимфал с его раскаленными горами, нависающими над океаном, и криками чаек, уносящимися в глубь плоскогорий? Нет ничего этого, здесь север, здесь дожди размывают песок, а из песка растут сосны, а над соснами тянутся низкие тучи, по утрам из леса ползут туманы, а где-то вдалеке шумит и волнуется Северное море. Здесь самая настоящая осень без всяких тропических циклонов и прочих штучек.
Собственно, Фарборо — это название деревни, которая цела и по сию пору — маленькая, с очень красивой церковью из розового камня. Как-то однажды над картой этой местности встретились несколько циркулей, и в результате возле сонного Фарборо построили аэродром, потом — очень большой аэродром, вскоре там провели авиасалон, за ним второй, потом — каждый год, а летчики выступали с показательными полетами, и в один прекрасный день им за эти полеты начали ставить оценки и давать неуклюжие серебряные кубки с двумя ручками. Так начался Мемориал Джона Кромвеля. Отпочковавшись от салона, он стал трехступенчатым, проводился по всему миру, до Плеяд поднял ставки и гонорары, но и теперь считалось хорошим тоном приехать перед этапом в Фарборо, полетать, повращаться в кругах — других посмотреть и себя показать.
Кинематографисты ездят в Канн. Авиаторы — в Фарборо.
В отличие от Ванденберга, здесь нет многоэтажных, напичканных компьютерами подземелий, все в ангарах, но тренировочная база не менее изысканна и не менее дорога. Это весьма серьезный аспект — тренироваться в Фарборо удовольствие очень и очень дорогое, и далеко не у всех фирм бывает возможность поддержать эту старую добрую традицию. Гораздо дешевле почти все то же самое можно найти совсем неподалеку — например, в Гладстонбери, там тоже прекрасный авиационный комплекс, но тогда уже не сможешь сказать: «Я был в Фарборо».
Есть и еще разница. Если в Ванденберге главенствует мысль фирменная, то в Фарборо правит бал командный принцип. Тут, кроме блоков и групп МББ или «Боинг», запросто можно встретить команду Франции, Японии или Англии-III, поскольку в легких классах «500» или «Бриз» национальные корпорации могут закупать импортные машины или же летать на самолетах отечественных фирм. В супертяжелом классе эти различия отсутствуют: крейсера строят транснациональные компании, и тут уж команды или смешанные, или, чаще всего, выступают под флагом концерна. Таить друг от друга перед третьим этапом уже нечего — вольной программы на мемориале нет, технические данные перестали быть секретом с первого дня, а пресловутый «конверт с сюрпризами» будет распечатан судейской коллегией уже после старта.
В этот раз «тяжеловесы» разместились в большом и нескладном здании на юго-западной окраине комплекса. Дом был двухэтажным, в плане имел форму креста и был построен в стиле средневековья, с белеными стенами, диагональными балками и красной черепичной крышей. Южное крыло и центр занимали кухня, связь и два обеденных зала; верхний этаж северного крыла — «Мицубиси», нижний — РФК, южное поделили «Мессершмитт-Бельков-Блоом» и какой-то персонал «Локхида» и «Дугласа», восточную часть — как ее называли, «старый замок», на две трети был отдан «Дассо» с его странноватой командой.
«Боинг» в Фарборо не поехал, «СААБ-Скания», за которую летал чемпион мира Эдгар Баженов, поступил и вовсе непонятно: прибыл сам Эдгар с техниками и самолетом, администрация же осталась в Стимфале. Что-то не заладилось у скандинавов на этот раз, ремонтные бригады, сменяя друг друга, копались в машине круглые сутки, и Баженов находился в состоянии постоянного то скрытого, то явного раздражения.
Из апартаментов «Дассо» открывался вид и на все аэродромные службы, и на вторую — после фарбороской церкви — местную достопримечательность: линию энергопередачи Полюс — Экватор, точнее то, что осталось от нее после войны. Она была построена в эпоху увлечения полярными силовыми станциями; теперь сохранившиеся девятнадцать исполинских опор использовались как превосходный наземный ориентир всех проходивших над Фарборо воздушных маршрутов. Эрликон, проводивший над ними в воздухе ежедневно по нескольку часов, корректируя по ним положение на маневре и посадку, мог бы поклясться, что перечислит по памяти детали каждой из колонн. Все циклопическое сооружение пилотами иронически именовалось «Стоунхендж», и о нем существовало что-то вроде легенды. Еще в стародавние времена какой-то шутник из летающего племени сулил неисчислимые блага тому пилоту, который сумеет пройти на своей машине эти столбы, используя «кромвелевский переворот» — гибрид знаменитой «петли» Нестерова и «кобры» Пугачева. Некоторое время это считалось теоретически допустимым, хотя уже пятая-шестая опоры открывали такому смельчаку ворота для самоубийства, позднее математически выстроенная модель доказала, что при всем желании прославленная фигура на какую-то малость не укладывается в расстояние между колоннами и, значит, любая попытка пролететь «Стоунхендж» обрекала на верную смерть.
Мы вправе были бы ожидать, что Эрлен после свидания в аббатстве впадет в черную меланхолию, тоску, угрызения и вообще в депрессию, но, как ни странно, он перешел в стадию несколько отупелой, но благодатной отрешенности — состояние, нередко настигающее человека среди самого отчаянного разгула страстей. Как и обещал, Эрликон взялся за полеты и летал исступленно, работая на износ и находя в этом удовольствие — Кромвель по-прежнему действовал на него как адреналиновый выброс, и Эрлен испытывал неизъяснимое чувство, не просто растрачивая, а сжигая собственные силы.
Сценарий нового витка летно-подготовительных испытаний, который начал раскручивать маршал, был предельно прост: перегнав «Милан» в Фарборо, поставить его там на доводку, переосвидетельствование и «косметику», что возлагалось на Вертипороха и орду присланных Бэклерхорстом экспертов, и тут же немедленно начать тренировки, чтобы как-то стабилизировать духовный контакт обоих пилотов или, по крайней мере, сделать его менее болезненным. На все это отводилось чуть больше двух недель. Двадцатого октября все машины и пилоты грузились на авианосец и отбывали на Валентину — планету, чья буйная атмосфера, обогащенная коварными судейскими подвохами, должна была предоставить летчикам возможность блеснуть всеми гранями таланта и конструктивными достоинствами самолета. Там, на станции Вайгач-3, был назначен старт третьего, заключительного этапа. Шесть часов спустя начинался подсчет прибылей и убытков, выплачивались ставки и, самое главное, заключались договоры, а еще — после станции Вайгач открывались перспективы на грядущий через пять месяцев чемпионат мира.
Эрликон переменился внешне. Он похудел и стал выглядеть значительно старше; седые волосы появились у него довольно рано, лет в двадцать, но лишь теперь они превратились в настоящую седину. Если раньше он курил от случая к случаю, по прихоти Дж. Дж., то сейчас, уже в Фарборо, как-то вечером, после одуряющей воздушной кутерьмы, спрыгнув на бетон возле мокрого самолета, он с невеселым удивлением отметил, что вытащил сигарету из полупустой пачки и уже держит в руке зажигалку. Накрапывал мелкий дождь, по ту сторону машины Кромвель клял Вертипороха, а механик клял каскадные фильтры. Эрлен покачал головой, размял сигарету, втянул горьковатый дым. Курим, значит.
В Фарборо Кромвель заставил его летать на трех машинах («Хорошо, не одновременно», — мрачно шутил Эрликон): «Кранфилд А-1» — учебный самолет для отработки азов летного дела, как будто Эрлен был зеленым первогодком, «Тайгер-2000» — тренировочный аналог «Милана,» и, наконец, сам «Милан», когда его покидали муравьиные полчища техников и экспертов. «Наше дело, — твердил Дж. Дж., — ликвидация безграмотности». На практике это превращалось в сущую каторгу.
Каждое утро, ни свет ни заря, маршал гнал Эрлена на тренажер, где втолковывал, чего он хочет на этот раз, потом — на летное поле, и там по два, по три часа с перерывами старина «Кранфилд» выделывал такие штуки, что Баженов, Лабрада — тот, что пилотировал обиженный Кромвелем «Матадор», да и другие летчики, тренировавшиеся рядом, чесали в затылках и спрашивали себя, не зашел ли у их коллеги ум за разум. Впрочем, Эдгар, а за ним и многомудрый Такэда вдруг на некоторое время поддались этому гипнотизму и тоже пересели на «кранфилды». В результате пошел слух, что лидеры, глядя на Эрликона, с досады повредились рассудком и уж не знают, что бы такое выкинуть почуднее.
После полетов Эрликон снова шел на тренажер, и Кромвель наглядно разбирал совершенные ошибки, заставляя десятки раз проделывать одни и те же эволюции. Дальше — теоретические занятия, обед, общефизическая подготовка, ужин, сон. Сам же Кромвель успевал еще вместе с Вертипорохом заглядывать в самолет, вести переговоры с экспертами, судейской коллегией и Бэклерхорстом.
В это время «Шпигель-СП», младший родич «Интеллидженсера», писал так:
«Описывая ситуацию накануне третьего этапа, невозможно перебрать с красками. Ушедшие в отрыв трое лидеров ныне практически недосягаемы для соперников, но вопрос стал еще острее: кто из трех? Эдгар Баженов — признанный мастер турнирной импровизации. Говорят, что там, где все пилоты знают десять уловок, Эдгар всегда придумает одиннадцатую. Он знаменит и своим бойцовским характером, однако его преследуют технические неполадки — „СААБ“ пока что показывает себя довольно ненадежной машиной и не может обеспечить превосходства над конкурентами.
„Мицубиси“, без сомнения, стал „гвоздем“ сезона. Столько технологических находок не привезла на мемориал ни одна компания. Однако Такэда Сингэн, во-первых, еще очень молод, во-вторых, по своему профилю он спортсмен скорее камерного, „кубкового“ стиля; специалисты отмечают отсутствие у него трассового опыта. Как-то он проявит себя среди вихревых столбов Валентины?
Эрлен Терра-Эттин, герой первого и второго этапов, несомненно, творит чудеса — как и парадоксальный военный самолет, на который его буквально в последнюю минуту посадил „Дассо“. По резерву тяги французская машина обходит датскую и японскую, но Терра-Эттин уже два раза испытывал судьбу. Если перед нами случай фантастического везения, то не изменит ли оно на третий раз?
Итак, на что же делать ставку? На характер Баженова, на техническое совершенство „Мицубиси“ или на счастье Эрлена Терра-Эттина?»
Нагрузки дали свои результаты. Уже в середине второй недели Эрликон хотя и с трудом, но выдерживал Кромвеля в среднем режиме на протяжении предполагаемого летного времени, однако же ясно ощущал, что в целом такой контакт ему не по силам. Покалывало сердце, частенько охватывала слабость, непонятно немела левая рука. Врач, просматривая его кардиограмму, сказал: «По-хорошему вас надо бы отстранить от полетов уже сейчас. Во всяком случае, соизмеряйте, молодой человек, соизмеряйте…» Но Эрлен не желал соизмерять. Он истово вычерпывал себя до дна, не оглядываясь на ресурсы, отпущенные природой.
Тем пасмурным вечером, когда Эрликон, посмеиваясь над собой, принялся за полупустую пачку «Данхилла», они закончили пораньше, полет был последним в программе, и Вертипорох остался загонять «Тайгер» в ангар, а Эрлен с Кромвелем на аэродромном джипе поехали ужинать.
Трапезы, по крайней мере, ужины, по стародавнему обычаю, были совместными. Еду дневную — все эти витамины, анаболики, протеины и углеводные загрузки — каждый принимал индивидуально и строго секретно. Дж. Дж. в этом плане усердствовал особо и сверх всего пичкал Эрликона какой-то невероятной заказной смесью из сорока трав. Но вечером было принято собираться в так называемом Верхнем зале дома, и компания возникала самая пестрая — менеджеры, техники, врачи и даже юристы. Администрация гордилась тем, что за весь сезон сюда не удалось пробраться ни одному репортеру.
Пилоты держались особняком, они то прибывали, то убывали, и костяк составляли четверо — Эрлен, Эдгар Баженов, Ли Лабрада — пилот «Матадора» и Такэда Сингэн, вечно молчащий, но исправно поддерживающий компанию. Пятым был, естественно, Кромвель, но об этом знали только он сам да Эрликон. Ли и Такэда пострадали от маршальских бесчинств во время второго этапа, но если Сингэн благородно негодовал и здоровался с Эрленом весьма холодно, то Лабрада, будучи вдвое старше, благожелательно усмехался и смотрел на обидчика словно на неразумное дитя.
Сам Эрликон этих сборищ не любил, поскольку любое общение было для него трудом, а Дж. Дж., напротив, развлекался беседами и сожалел лишь о том, что не имеет возможности усесться на председательское место в готическое кресло и открыто поучать все общество. Однако и без всякого кресла, устами Эрлена, маршал постоянно вставлял свои издевательства и парадоксы — Эрликона это изводило, но он был вынужден признать, что его компанейский рейтинг заметно поднялся.
Такая диспозиция стала, ко всему прочему, дополнительным маслом в огонь давнего конфликта Эрлена с Эдгаром, начавшегося лет пять назад буквально с первого дня знакомства.
Баженов был на семь-восемь лет старше Эрликона. Характер у Эдгара был въедливым и довольно ядовитым. На какой почве эта ядовитость выросла, это уж бог весть, но неистребимая злая ирония сопровождала все проявления его натуры. Уже будучи то ли физиком, то ли кибернетиком, он теперь учился какой-то авиационной математике, и, как говорили, учился блестяще, хотя большую часть времени летал и готовился к полетам. Баженов был насмешлив, рассудителен, самонадеян, но все знали, что эти черты в любой момент может оттеснить свойственный ему особый род увлеченности — глухой и слепой азарт, «разгорающийся, как сера под землею», питающий неугасимым огнем его дьявольское упорство. К Эрлену, которого считали его другом, Эдгар относился с покровительственной насмешкой, не отказывая себе подчас в удовольствии подразнить мятежную душу товарища. Эрликон защититься должным образом не умел и не стремился и то злился, то грустил, но, по своему обыкновению, ничего не предпринимал и, кажется, был готов терпеть такое положение вечно.
В последнее же время начались чудеса. Приноровившись как-то по привычке «пощипать» Эрлена, Эдгар налетел на весьма ехидный ответ; повторный наскок был отбит не менее уверенно. Дальше — больше, начали открываться ошеломляющие странности. Эрликон, оказывается, помнил все детали баженовских выступлений вплоть до бог знает какого-то года, все ошибки и весь технический плагиат его личных внедрений, что давало повод для всевозможных оскорбительных изощрений. Пару раз Баженов не поверил и полез в справочник — все точно, все сходилось, и это Эрлен, который отродясь ничего в технике не смыслил! Эдгар даже растерялся, но никогда не дремавшая в нем гремучая змея уже затрещала своей погремушкой — это нестерпимое нарушение, это вызов… это черт знает что такое!
Теперь, сидя за общим столом с белоснежной вышитой скатертью, заставленной фарфором, Баженов с усиленным веселым и ожесточенным вниманием приглядывал за Эрликоном. Обстановка зала, в котором они располагались, была невероятной смесью стилей со сдвигом в сторону неопределенного средневековья; главным компонентом интерьера служил камин — чудовищный контрфорс от пола до потолка, с резными львами на нависающем уступе и каминной полкой размером с кровать. Все это создавало ощущение скверной, но забавной театральной декорации и диктовало соответствующее настроение. Ужин, после дневных ферментов и концентратов, рассчитанных компьютером, разрешался любой (о спиртном, само собой, и речи не было), но достаточно легкий. Впрочем, техники и персонал могли есть что угодно — летный стол держался строгих правил.
В этот раз подавали какую-то необыкновенную рыбу под диковинным соусом; ваза, а скорее хрустальный таз, с фруктами занимала главенствующую высоту. Обыкновенно в застольной беседе избегали профессиональных тем, но сегодня Лабрада на правах патриарха — ему было за пятьдесят — решился нарушить традицию:
— Эрлен, зачем при такой облачности вы опускаетесь за полторы тысячи? На «Кранфилде» это чрезмерный риск.
Лабрада был не просто старше всех присутствующих пилотов — у него был еще и самый длинный послужной список. Если большинство летчиков выступали на трех-четырех соревнованиях в год, то Лабрада летал на шести и восьми, представлял самые экзотические фирмы, а порой и самого себя; кроме того, иногда Ли демонстрировал широту своих профессиональных навыков и подвизался на ниве аэробатики в легких авиационных классах — словом, постоянно напоминал о себе и зрителям, и судьям. В мировом рейтинге он кочевал вверх-вниз в первой пятерке и собрал, вероятно, самую обширную коллекцию наград всех званий и достоинств. Одевался Лабрада необычайно тщательно, имел безукоризненно подстриженную седую бородку, в любую погоду не снимал дымчатых очков, предохраняя драгоценное для его профессии зрение, а ножом, вилкой и прочими мудреными приборами владел не хуже Эрликона.
Баженов поддержал ветерана:
— Да, покрытие не держит, старик, какая-то дурацкая храбрость.
Эрлен пожал плечами. Не оправдываться же за Кромвеля, который придерживается замшелых нормативов полувековой давности и при этом говорит, что-де ни хрена, по старинке вернее и для пространственного мышления одна польза. Впрочем, Лабрада и не ожидал немедленного ответа. Он повернулся к Эдгару и погрозил ему пальцем:
— Вы бестактны, Эдгар. Следует высказывать мнение, но не осуждать.
Эдгар, не обращая внимания на изумленный взгляд Такэды, щедро поливал из длинноносого соусника:
— Ли, все дело в подходе, а точнее сказать — в мотивации. Вот вы, например, профессионал и летаете ради денег.
Лабрада ничуть не обиделся:
— Вы странно рассуждаете, Эдгар. Каждый из нас — профессиональный пилот. Что же здесь необычного?
— Именно, именно. Вы — профессионал, хорошо. Я — конструктор авиационных экзосистем и летаю потому, что могу, скажем, своим именем сделать рекламу машине… — Эта мысль страшно развеселила Эдгара, он захохотал, чуть не подавился, однако продолжал: — Но почему летает Эрликон? Он не конструктор, а деньги зарабатывать ему не надо. Следовательно, для него авиация — род самоутверждения, он что-то доказывает себе и нам, а значит, мы вправе сказать ему: «Дурацкая твоя храбрость, разобьешься!»
Лабрада постучал костяшками о стол, отгоняя несчастье, и снова возразил в своей неизменно доброжелательной манере:
— Вы снова не правы, Эдгар. Даже если это и так, то ведь по каким-то причинам наш коллега избрал именно пилотаж, а не что-либо иное. Профессионализм — это прежде всего школа.
— Конечно, избрал. Пилоты нравятся девушкам.
Тут Эрлен потемнел лицом, и, надо заметить, эмоциональное влияние его было велико, потому что все, включая и самого Эдгара, поняли, что разговор перешел грань. Однако чемпион останавливаться не захотел или уж решил выяснить, сколь далеко ныне простирается Эрленово долготерпение, и, отставив свой соус, пошел в лоб:
— Послушай, ты все еще дуешься на меня из-за Кристины?
Эрликон не ответил, и молчание его длилось едва ли не сорок секунд — срок для застольной беседы недопустимый. Собеседники могли истолковать это как угодно, не подозревая, что за это время Эрлен успел переговорить с Кромвелем. Они с маршалом довели технику общения до практически полной беззвучности и неразличимого шевеления губ.
— В чем дело? — спросил Дж. Дж. — Что, эта верста отбила у тебя девушку?
— Отбила, — мрачно ответил Эрликон.
— Что же ты молчал? — В голосе маршала прозвучала такая солидарность, что Эрлен чуть не улыбнулся. — И что же, она к нему ушла?
— Ушла.
— Почему?
— Потому что он блондин, потому что высокого роста, потому что чемпион.
— Чемпион? — Кромвелевский сарказм не менялся, но Эрликон почувствовал, что эта история задела его. — Ты в десять раз интереснее, а летаете вы все по-медвежьи, гореть вам, как факелы, в первом же бою… Да почему же ты раньше не сказал?
— Джон, остановись ради бога.
— Нет, такие вещи спускать нельзя.
Разговор этот разом переменил всю ситуацию за столом. Эрлен ахнуть не успел, как Дж. Дж. вписался в него, уперся ногами в нижнюю перекладину стола и оскалил Эрленовы зубы, насколько позволяла анатомия; Эдгару стало немного не по себе от вспыхнувшего в глазах приятеля безумного любовного внимания.
— Да, Кристина, — начал маршал вкрадчиво, — Кристина и профессионализм, вот какая тема… Что ж, Эдгар, я скажу тебе…
— Я вижу, вы спорите из-за девушки, — вмешался Лабрада.
— Что вы хотите, молодежь, — ответил ему Кромвель и продолжил: — Итак, я стал пилотом, и девушка меня полюбила. Ты это хочешь сказать?
— Ну, допустим.
— Так-так-так. Ты летал лучше меня и забрал ее себе… какое-то переходящее знамя… такова твоя логика. Нет, уж подожди, я закончу.
Баженов слушал, ожидая, какой оборот примет разговор, и надеясь перехватить инициативу.
— А теперь, — упорно гнул свое маршал, — я сделаю тебе предложение. Я лечу лучше тебя, а ты отдаешь мне Кристину. Как тебе такой вариант, чемпион?
— Зачем тебе сейчас Кристина? — спросил Эдгар, увидев в этом для себя выход. — Не много ли для тебя будет?
Такой намек на Ингу мгновенно выбил бы Эрликона из равновесия и увел бы разговор далеко в сторону, но для Кромвеля подобные уколы были что слону дробина.
— Не заговаривай мне зубы, Эдгар Баженов, — отозвался он, радостно оскалившись. — Давай заключим пари: ты ставишь Кристину…
— Да, а что ты?
— А я пролечу «Стоунхендж» на переворотах.
— Интересно, когда и на чем?
— Сегодня, на «Милане».
Эдгар откинулся назад и в поисках поддержки посмотрел на Лабраду.
— Старик, ты съехал.
— Вовсе нет, — успокоил его Дж. Дж. — Скажу больше, ты уже согласился на мое предложение, просто тебе нужно собраться с силами, чтобы об этом сказать.
— Не будем ссориться, — вмешался Лабрада. — Все равно это невозможно, Эрлен, вы же знаете, разрыв шестнадцать и пять на семнадцать и три — ваш переворот не укладывается на ноль восемь корпуса.
— Когда считали эти корпуса, — возразил Кромвель, — на самолетах не было тормозных венцов.
— Богоматерь дель Кобре! Вы что же, собираетесь тормозить перед каждой опорой?
Становилось понемногу страшно. Каждый понимал, что происходит дикость, но наваждение имеет способность завораживать. Неожиданно подал голос молчавший до сих пор Такэда:
— Прошу прощения, но у вас ничего не получится. Административный контроль.
Кромвеля не смутило и это.
— Сейчас на аэродроме никого нет, только роботы; запись можно стереть и вклеить на это место что-нибудь другое, это не проблема. Главное, Эдгар, ты согласен на мои условия?
Тому ничего не стоило ответить что-то нейтральное, типа «Сначала слетай, потом поговорим», и таким или иным путем уйти от пиковой ситуации, но что-то во взгляде Эрликона остановило его. Постоянная злоба Баженова на сей раз умолкла, но роль пассивного наблюдателя его не устраивала, и в нем заговорил азарт, извращенная увлеченность ученого — ему стало интересно, с какого момента Эрлен опомнится, повернет назад и тем самым восстановит статус-кво в их отношениях.
— Хорошо, я согласен, — с усмешкой вымолвил он.
— У кого заказан вылет на двадцать? — спросил Кромвель.
— У меня, — ответил Лабрада. — Но я в этом не участник.
— Как хотите, Ли. — Кромвель любезно не возражал. — Я сам запишусь. Надеюсь, однако, ваши принципы не помешают вам посмотреть на наши экзерсисы?
— Я посмотрю, — пообещал Лабрада.
На пути в стартовый зал Эрликон буквально взвыл:
— Джон, мы угробимся, это идиотизм! На «Милане» же нет сейчас мозга для этих твоих торможений!
Но Кромвеля тоже разобрало:
— Обойдемся теми мозгами, которыми снабдил нас Господь Бог. Ноль восемь корпуса! Я маршал авиации, у меня диплом Высшей военно-воздушной академии. Кто такие эти индюки, чтобы меня учить?
Эрлену сделалось жутко. Пятиминутный разговор за ужином превращался в прямую дорогу на тот свет.
— Джон! А Бэклерхорст? Мы не имеем права рисковать, мы же обещали, мы в долгу перед ним!
— Бывают моменты, когда человек имеет право забыть о Бэклерхорсте… Спокойно, курсант, через двадцать минут мы впишем твое имя в анналы…
— Какие, к черту, анналы!
— Ну, в скрижали… В общем, ты сможешь плюнуть в рожу всем чемпионатам и рейтингам на свете. А за Бэклерхорста не волнуйся, он поймет. — Тут Кромвель сделал паузу. — И вообще, запомни. За то, чтобы просто быть кем-то, уже надо платить. А за то, чтобы быть первым, надо переплачивать — вдвое, втрое, вдесятеро… Таков закон. Пошли.
Эрликон широко открытыми глазами уставился куда-то вбок, постоял, провел рукой по волосам и потом поплелся за маршалом.
Почему?
Достоверно известно, что существуют люди, которые в своей жизни не могут обойтись без риска. Свойство это, однако, объединяет народ весьма и весьма разный. Часть из них — просто азартные натуры, игроки, те, что в запале не ведают, что творят, а поостыв, порой и сами ужасаются содеянному, но тем не менее вновь и вновь впадают в подобное состояние. Иные же вообще не знали чувства азарта, но охладели ко всему на свете и приобрели болезненную склонность испытывать судьбу — это любители русской рулетки и езды без тормозов, такие давно перешагнули черту психоза. Третьи же — люди вполне нормальные и рационально мыслящие и вовсе не охочие скакать на необъезженном жеребце по неокрепшему льду, но хотят жить не иначе как на полную катушку, жечь свечу с трех концов — только так они чувствуют собственную полноценность. Они лезут в горы, идут на полюс, на войну, к черту в зубы и так наслаждаются прелестями жизни.
Эрлен принадлежал к четвертой, самой редкой и малопонятной категории. Его нервически-подвижная, но неактивная натура невольно тяготела к размеренному, рутинному образу жизни, замкнутому службой, домом и спокойными развлечениями; однако при соблюдении этих условий в душе медленно начинало закипать беспокойство, раздражение, какой-то зуд, похожий на накопление статического заряда, — в итоге возникала потребность в потрясении, шоке, некой отчаянной ситуации, которая, схлынув, на долгое время оставила бы после себя умиротворение и успокоение. Эрликон ненавидел и риск, и любые нервные встряски, как больной — горькое лекарство, но обходиться без этого не мог.
Вероятно, эта особенность характера была как-то связана с его беспрерывным самосозерцанием и самобичеванием. Разбирая характер этой связи, Сартр наверняка извел бы не менее десятка страниц с четырьмя от силы абзацами, я же ограничусь тем, что скажу: Эрлен и впрямь, пытаясь убежать и опередить свой самоанализ, часто принимал решения диковинные, а порой и просто опасные, и пытался воплотить их до того, как сам же зло высмеет их тщетность. Это удавалось ему крайне редко, но в те времена не было Кромвеля.
Еще не было семи — совсем светло даже по осеннему времени, да и тучи слегка разошлись, но прожектора над комплексом уже горели, придавая Контрольной башне и службам таинственный ночной облик. Колонны «Стоунхенджа» тоже были озарены и до половины сияли молочной белизной, а выше, там, где полотнища света расходились, проступали клинья цвета кофе с молоком — они все более темнели к вершинам, и на широких конечных площадках, в окружении сумрачного неба, горели парами красные огни, словно семейство вервольфов озиралось оттуда воспаленными глазами.
Серая остроносая махина «Милана» с задранным колпаком фонаря появилась из ангара. Вертипорох был немало озадачен, увидев вокруг самолета весь цвет фарбороского общества, и сразу насторожился, почуяв неладное. Однако, хотя никакого уговора на этот счет не было, правды ему никто не сказал.
Мобильный лифт поднял облаченного в костюм и шлем Эрликона к кабине.
— Стойте, — вдруг сказал Лабрада. — Давайте остановимся. Мы совершаем преступление. Терра-Эттин, вы доказали, что вы храбрый человек, в вашем мастерстве никто не сомневается. Прекратите ваше пари! Эдгар, в конце концов, вы порочите доброе имя девушки!
Баженов пожал плечами. Эрлен, уже сидя в машине, подключался к системам, отрицательно покачал головой.
— Что такое? — заорал Вертипорох, оглядывая всех.
Но фонарь, зашипев, уже опустился на место, и самолет всплыл на рулежную высоту. Баженов, Лабрада, Такэда и Одихмантий попятились, загораживая лица, в черных стволах дюз загорелся синий свет, и «Милан», выстрелив свистом по ушам, взмыл вверх-вбок и, обрастая режущим душу воем, провалился в небо.
— Добери ручку, — приказал Кромвель. — Десять градусов влево. Тангаж за маяком.
— Что? Ты хочешь заходить с обратной точки?
— Именно.
— Джон, Джон!
— Да, мой дорогой, если уж пролетать «Стоунхендж», то со всеми прибамбасами, феньками и наворотами, не каждый день такое выпадает… Не спи, вираж! Ножки красивые у этой Кристины?
— Обыкновенные.
— Ладно. Посвящается Кристине…
После посадки у Эрлена еще хватило сил приподнять руку и выключить блокировку фонаря. Спасибо кромвелевской настырности, спасибо тренировкам — он лежал в раскрывшемся бутоне «кишки Маркелова» залитый потом, будто в сауне, едва живой, блаженно расслабленный, с ломотой в левом виске, но уцелевший, не поврежденный буйством маршальского дарования.
Вертипорох, разгоняя перед собой лифтовую площадку, бросился к машине и в мгновение ока взлетел наверх. В продолжение всего действа он обрушил свой гнев почему-то на Лабраду, и можно было бы ожидать, что механик вывалит на ветерана все красочное разнообразие подвалов русского языка, но от волнения Дима вспомнил только два слова и, чередуя их, свирепо тряс ни в чем не повинного Ли за плечи, изрядно забрызгав его знаменитые очки. Потом, когда Эрликон вышел на последнее кабрирование и разворот на посадку, Вертипорох сел прямо на мокрый бетон и закрыл лицо руками. Лабрада, надо заметить, особенно и не сопротивлялся; вяло колеблясь под хваткой механика, он отрешенно выслушивал монотонные ругательства и не сводил глаз с «Милана». Эдгар стоял, как стоунхенджевский столб, и по его застывшему лицу ничего нельзя было понять. Такэда присел на корточки и время от времени качал головой, выражая восхищение. В эти минуты японец простил Эрлену выходку на старте второго этапа. Такэда изменил свое мнение: Эрликон, по его понятию, был не разбойник, бессовестно попирающий все законы и правила, но воин-маньяк, одержимый — человек, в котором отвага и честолюбие странным образом соединялись, порождая грозное безумие, полное презрение к смерти, а в этом, как ни крути, есть нечто, внушающее уважение.
Поддерживаемый Вертипорохом, Эрлен слез на землю, несколько раз глубоко вздохнул и под напором неуемного маршала просипел:
— Ну, где моя Кристина?
Баженов молчал и, подобно самому Эрликону полчаса назад, смотрел в сторону ничего не выражающим взглядом.
— Ничего тут обидного нет, — дружески пояснил Кромвель. — Не в карты же ты ее проиграл.
Эдгар не говорил ни слова.
— Да не нужна нам твоя свиристелка, — закончил Дж. Дж. уж и вовсе от себя. — Мы лучше заведем… Ли, что с вами?
Лабрада стоял печальный и торжественный, и глядел он куда-то глубоко внутрь себя и, похоже, видел там что-то такое, что стоявшие вокруг люди казались отдаленными и нереальными, будто во сне. Услышав вопрос Кромвеля, Ли отвернулся, потом взглянул на Эрлена и ответил, как всегда, доброжелательно и спокойно, но заметно изменившимся голосом:
— Эрлен… И вы, друзья мои. Я хотел бы с вами попрощаться. Я сегодня уезжаю. Желаю вам всем удачи.
— Как уезжаете? — спросил Эрликон, а Баженов, кажется, даже и не удивился.
— Я не буду выступать. Вообще больше не буду. Я вам чрезвычайно благодарен, Эрлен; вы мне напомнили о вещах, о которых я давно забыл.
И Лабрада повернулся и ушел, а вслед за ним разошлись и остальные. Той же ночью Лабрада действительно собрался и улетел в Стимфал, а оттуда — на Землю. Свой контракт у РФК он выкупил, заплатив, по слухам, более чем солидную неустойку, но впоследствии остался работать там же, в компании, в необременительной должности эксперта летной группы. Верный данному слову, он больше не выступил ни на одном соревновании.
Тем временем жизнь доказывала, что шила в мешке и в самом деле не утаишь. Во-первых, не считая великого числа местных свидетелей, чудеса «Стоунхенджа» прекрасно были видны из соседнего Гладстонбери. Во-вторых, полет Эрлена оказался во всех подробностях заснят сразу двумя проходившими в тот момент над районом спутниками, ну, а в центре обработки у «Интеллидженсера», естественно, нашелся свой человек, и обложка следующего номера украсилась роскошным снимком, на котором объятый кольцом белого пламени «Милан» стоял торчком между столбов «Стоунхенджа», точно фига между загорелыми пальцами.
Летная комиссия и судейская коллегия собрались на следующий же день. Произошла невероятная, невозможная вещь. Даже если бы «кромвелевский переворот» с обратной точки был сделан однократно и просто в небе, в границах, обозначенных безвредными лазерами, и то это был бы заслуживающий уважения трюк. Но он был проделан девятнадцать раз подряд, и там, где ошибка в метр превращает самолет в облако плазмы и отправляет пилота на высшие заоблачные курсы.
Эрликона за воздушное хулиганство и пренебрежение летной дисциплиной следовало отстранить от участия и дисквалифицировать минимум на год. Но у комиссии не хватило духа. Они сами были пилотами, сами когда-то летали, поглядывая на «Стоунхендж», они выросли на этой легенде, на ней выросли и те, кто их учил, и вот теперь пришел человек, который играючи, небрежно, спиной вперед пролетел, развеял легенду и создал новую. Черт возьми, такого летчика еще не бывало. И его дисквалифицировать?
Если же это решение отпадало, тогда надо было отменять этап, распустить мемориал и со спокойной душой отдать Эрлену все мыслимые призы прошлого и настоящего.
В итоге договорились закрыть глаза и не решать вообще ничего, сделав вид, будто ничего и не произошло, ограничившись общим указом о повышении мер контроля за дисциплиной в воздухе, дабы еще какой-нибудь сумасшедший не полез на проклятые столбы. Председатель Незванов хмуро изрек:
— Парень на глазах становится мифом.
Другой член комиссии высказался еще более определенно:
— Если он к апрелю наберет хотя бы половину теперешней формы, чемпионат мира у него в кармане.
Единственным, кто оказался в этой ситуации на высоте, был Шелл Бэклерхорст. Он потребовал у компании для Эрликона долгосрочного контракта с двойной суммой премиальных, а также выслал ему приглашение на ежегодный бал «Дассо», на сей раз устраиваемый фирмой в преддверии наступающего юбилея. Это тоже было нарушением традиции, поскольку Эрлен все-таки пока еще ничего не выиграл.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Как будто ничего не изменилось. По-прежнему взлетали и садились самолеты. По-прежнему каждое утро Эрликон погружался в «кишку Маркелова», прятал голову под шлемом с гофрированным хоботом, окончательно придававшим ему слоноподобный вид, и земля и небо начинали крутить свою обыденную карусель; свисали белые полотенца облаков, туманил стекла пересеченный инверсионный след, наскакивал и проваливался «Стоунхендж». На этом фоне неутомимо мигали и перебегали крестики, нолики и прочая символика боевого наведения; «Джон, выключи ты эту иллюминацию», — просил Эрлен. «Ничего, ничего, — отвечал Кромвель, — просто, как прицел захватить вражеский, то есть самолет соперника, или ангар, или еще что-то не наше, жми пускач, и тебе сразу полегчает». Все оставалось на своих местах, но и в самой обыденности ощущались перемены.
Сбылось предчувствие, посетившее Эрликона на стимфальской госпитальной койке. Романтика превратилась в рутину; волнующее наслаждение, которое дарили полеты, и чисто эстетическое удовольствие от авиационного дизайна сгинули; сам запах смазки, кожи, горячего металла, прежде так радовавший, стал привычным спутником утомительной и смертельно надоевшей работы… Железо, горючее, пот, калории, тонны, секунды, десятые секунд… Когда же это, о Господи, кончится? Тут, однако, речь шла лишь об испытании терпения, главные неполадки залегали гораздо глубже.
На Эрлена обрушилась слава. Свое имя ему случалось встречать в газетах и раньше, но теперь это просто в счет не шло, теперь он занимал первую строчку и почти с ужасом всматривался в собственную чудовищную фигуру в кривом зеркале прессы. Господи, это же не я, думал Эрликон, слушая телевизионный гвалт, это не моя жизнь. А где моя? И кто я? Эти вопросы расшевеливали в нем тоску, ту самую, первые признаки которой он ощутил, впервые увидев злополучный «Милан» в ванденбергском подземелье. Тогда, глядя на этого мрачного великана, он подумал то, что лучше всего определяется поговоркой «не в свои сани не садись» — и, однако же, сел, и кони бойко взяли с места, и шальной ямщик люто нахлестывал… Далеко завела чужая колея, но не это было самым страшным. «Пусть я бездарный урод, но жил же я как-то до, было же что-то мое… Что же? Что именно? Ничего не помню». До Эрлена стала доходить запоздалая догадка, что в Кромвеле он встретился не с гримасой судьбы, а с самой судьбой — в натуральную величину.
Наиболее значительной частью прошлого был, конечно, Скиф, но после стимфальских откровений подумать о Скифе было не то что жутко, но просто совершенно невозможно.
Если бы кромвелевские чудеса и таланты хоть сколько-нибудь увлекали, если бы власть над людьми и машиной обещала хоть какие-то приятные перспективы! Но нет, и тут для Эрликона все складывалось грустно и непонятно. Чем дальше, тем сильнее он испытывал неприязнь к их совместным достижениям; в маршальском мастерстве и своем участии в нем Эрлен находил что-то постыдное и возбуждающе брезгливое чувство нечистоты, какое вызывают свалки, бойни и романы Габриеля Маркеса.
Этой каше из омерзения, сомнений и одурения был нужен какой-то противовес, и нет ничего удивительного в том, что Эрликон снова задумался об Инге.
Чувство Эрлена было больше, чем просто влюбленность. Еще будучи затюканным сверстниками малышом, он грезил о некой иной, волшебной и прекрасной жизни, которая, возможно, существует где-то рядом — стоит только отыскать дверь. Каким чудом Инга воплотила для него этот мир, объяснить трудно, но переменить это воплощение никаким кромвелевским беседам было не под силу, тем паче что Инга явилась в жизнь Эрлена раньше маршала, и два этих пласта — любовь и кромвелевский кошмар — никак в голове Эрликона не смешивались.
Итак, едва миновал шок после свидания в аббатстве, Эрлена вновь повлекло привычным течением. Пускай бред — ведь даже в пространстве дурного сна мозг умудряется найти логику и точки опоры. Подобно великому множеству других влюбленных, Эрликон пытался отыскать разумные обоснования и оправдания своим неразумным чувствам.
Ну, во-первых, он, как последний дурак, убежал, не дождавшись какого-нибудь финала. Инга ведь ничего не сказала. Не успела сказать. Наоборот, она была настроена более чем дружелюбно. Значит, еще ничего не кончено. Во-вторых, даже если дело гораздо хуже, это мало что меняет. Все равно. Перед ним то единственное, чего он желает в жизни, это его любимое чудо, и он готов стать какой угодно частью этого чуда. Чего бы это ни стоило, какого времени и каких усилий, и какое бы место ему в итоге ни отвели. Тут Эрлен приближался к сладострастному мазохистскому восторгу самопожертвования, и это было, пожалуй, самым отчетливым ощущением в его душе.
Все прочее соединялось в тревожную путаницу и мешанину. В самом деле, ну, Кромвель, ну, шум-гам, но через две недели конец соревнований, конец всей чепухе, и все! А Скиф, нашептывал внутренний голос, а Рамирес? Ничего не знаю и думать не хочу; вернусь в Институт и буду ждать, чем все закончится. А Инга? А Кромвель? Не будь дураком, Эрлен Терра-Эттин, ничего не кончится, все только начинается…
Покинув электронику, гидравлику, бетон, дождь и Вертипороха, Эрликон подъехал к дому, кивнул охранникам, поднялся на второй этаж «старого замка», повернул ручку с латунной саламандрой и вошел в апартаменты «Дассо». Комнаты были отделаны довольно любопытно. Бежевые стены разделялись чем-то наподобие черных деревянных рам, с которых на высоте более двух метров начинались книжные полки, заставленные то ли действительно книгами, то ли весьма натуральными макетами — выяснить истину без лестницы не представлялось возможным, да и лестница вряд ли бы тут помогла, поскольку именно в проемах рам стояли величественные лайковые диваны; на одном, кстати, спал Вертипорох, а самое массивное чудище, похожее на бегемота-альбиноса (Эрлен звал его «слонопотам»), занимало центр. Окна со стрельчатыми верхушками (в этом месте архитектор, похоже, вспомнил, что играет в готику, и на оставшейся площади учинил мудреный переплет иссеченных окружностей и зубцов) полностью заменяли наружную стену, и вот около этих окон, у столика с дисплеем, расположился в таком же широченном кресле маршал Кромвель. Судя по тональности мелодии, он терзал центральную информатеку и на появление Эрликона отреагировал крайне сонно:
— Видели, видели мы ваши ухищрения… Быстро под душ и обедать, — и даже от экрана не оторвался.
Однако Эрлен сейчас думал совсем не об обеде.
— Джон, мне срочно нужно на Землю.
— Стоп, — сказал Дж. Дж. компьютеру, нехотя пробудился и повернулся к Эрликону с нарочитым удивлением. — Я что-то не очень понял. Вам, сударь, надоело жить?
— Да, надоело. Так надоело. Джон, я должен ее увидеть. Ну не убьют же сразу.
— Именно сразу. Дассовскую охрану с собой не потащишь.
Эрлен привалился спиной к двери:
— Что же мне теперь, всю жизнь жить под охраной? Однажды они до меня все равно доберутся. Нет, подожди, Джон, я все знаю. Без тебя Рамирес уже давно бы со мной разделался, я бы взорвался, сгорел, все, что угодно; Джон, я уже сто раз покойник, я живу по ошибке, в долг, а моя жизнь и половины такой цены не стоит. Для меня теперь нет законов, они остались там, по ту сторону, и мне все едино, я должен ее видеть, хоть Пиредра, хоть этап, хоть не знаю что.
Эрликон и сам ужаснулся такому несвязному словоизлиянию, но Кромвель, напротив, усмотрел в его речах некую логику, поняв все, как обычно, на свой лад.
— Эге, да у тебя, как я вижу, тюремный синдром… Следовало ожидать. Никогда не слышал? Под влиянием стресса, при долгом пребывании в неадекватных условиях, в замкнутом пространстве у людей случается психологический сдвиг ориентиров, переоценка ценностей… Я это видел на каторге. Начинаются склоки из-за ничейного квадратного дюйма на нарах, убивают за возможность подглядеть, как переодевается жена командира отряда, и все в этом же духе, и это в недавнем прошлом боевые офицеры с неплохими нервами. Ну, а разным впечатлительным студентам под давлением обстоятельств мерещится, что вся их жизнь — это пиредровская дочка.
— И что же?
— А то, что спустя короткое время для тебя вся эта история с гангстерской любовью превратится в досадный эпизод. Наша жизнь сейчас слегка… м-м-м… ненормальна, ты немного не в себе, это естественно, но все вернется на круги своя. Эрли, возьми себя в руки. Жизнь не делает нам скидок за былые заслуги… Вспомни короля Ричарда. Как только мы закончим с нашими летными делами, мы незамедлительно уладим все недоразумения с Пиредрой и его бандитским отродьем.
— Отродьем? А мы кто такие? Чем мы лучше? Мы тоже убили… Я тоже теперь отродье, я замешан во всем, потому что все видел и соглашался. А ты, Джон?.. Извини, но ты… Тебе говорить…
— Ну да, я военный преступник, как выражался твой дядюшка.
— Ты начал ту войну.
— Ах, это я начал войну? А известно ли почтенному обвинителю, что к началу войны я сидел в заштатном Крайстчерче, был опальным генералом и имел под командованием ощипанный корпус да еще один полк этого тихого шизофреника принца Руперта. Еще не явился миру чудодей, который при таких раскладах начал бы хоть какую-нибудь войну.
Эрлен не настолько хорошо знал детали военной истории, чтобы поймать Кромвеля на слове, но все же почувствовал, что маршал лукавит. Впрочем, Дж. Дж. и сам понимал, что мимолетная опала в Крайстчерче — слабое оправдание для бессменного начальника генерального штаба, и потому поспешил перейти в наступление:
— Да-да-да, какие мы ужасно плохие… Война и все такое прочее, хотя и не мы начали эту войну и не мы придумали этот мир с его законами. Ты говоришь, что мы не имеем права судить Рамиреса (Эрликон этого совсем не говорил, но маршала уже неудержимо несло по волнам ораторской стихии), а какое право ты имеешь судить нас? Какое право вы имеете судить нас? Тебя клюнул жареный петух в виде испанской шаманки, и ты усомнился в системе мироздания — прелестный повод! Да, любезный юноша, мы воевали и перекраивали мир по собственному разумению и не прятали голову в песок. А вот ради чего живете вы? Ради чего живешь ты, судящий меня? Ради идеи контакта? Твоим контактом правит железка, сделанная неизвестно кем неизвестно где, которая из своих интересов убивает твоих собратьев руками гангстера, которого я пристрелил полвека назад, и малахольного завоевателя, умершего тогда же за миллион парсеков от Земли.
Этой гневной тирадой маршал, видимо, хотел отрезвить Эрлена, но результата добился абсолютно противоположного. Эрликон молчал, чувствуя себя подавленным, он даже не обратил внимания на то, как Кромвель перевел разговор в другое русло, и догадывался, что сейчас ему предложат почетный компромисс, как всегда, уводящий в нужную Дж. Дж. сторону. Однако самым тошнотворным было очередное, еще более резкое напоминание о том, как смешна его воля в тех жерновах, в которые он угодил. В Эрлене поднялось рвущееся, тупое возмущение.
— Я не буду играть по этим правилам! — выпалил он. Где-то в животе ли, в груди ли возникло знакомое болезненно-сладкое чувство подступающей истерики.
— Ах ты Господи! Чем же тебе плохи наши правила? — вновь что-то, чего Эрликон не сумел разобрать, захватило Кромвеля за живое. — Я, мой дорогой, слышал подобные упреки бессчетное число раз и заранее знаю, к чему они ведут. Все эти разговоры приходят рано или поздно к одному и тому же: вы-де задержали, вы-де отклонили человечество от достижения какой-то там заветной цели. Как же, как же. Вздор! Открой Шардена: цель человечества — это мы! Никто не знает направления, и цели никакой не существует. Нельзя сожалеть о том, чего никогда не было; система отсчета кончается на нас с тобой, и поэтому мы смело можем называть Скифа и Пиредру мерзавцами и убийцами. А заодно и их дочку.
Эрлен затрясся и попятился, и неизвестно, что сказал бы и что бы тут могло произойти, но дверь внезапно распахнулась, ударив его по спине, и на пороге появился Вертипорох, держа в руках пакет апельсинов и телеграфный бланк. Вскоре после «Стоунхенджа» под напором Кромвеля механик расстался с бородой и в сохраненных усах стал похож на молодого, но на редкость задумчивого моржа.
— Вот новость, — объявил он, швыряя апельсины в ближайшего слонопотама. — Главный прислал письмо. Зовет на пляс к деду-основателю. Эй, что это с тобой? Слушай, Джон, надо белые шарфы, знаешь, такие длинные, до земли; пальто черные, шарфы белые, там такой народ соберется…
Дж. Дж. заглянул в телеграмму:
— Бал. Выезжаем в свет. Это за неделю-то до этапа. Охохонюшки. Дитя мое, — сменил он тон, — вам необходимо развеяться. Добрейший маршал Кромвель идет навстречу всем пожеланиям команды, но — позвонить девушке разрешаю только из аэропорта, не то дон Рамирес разволнуется, а мы должны беречь его для Скифа.
— На предмет эксперимента, — радостно докончил Вертипорох. — Джон, позвони в «Нину Риччи», есть потрясающие шарфы, можно, например, с вышивкой…
Эрликон смотрел на них и подумал сначала: «Господи, зачем я не умер? — а потом: — Господи, какая же пошлость лезет мне в голову!»
Эдгар Баженов прилетел на званый ужин тем же рейсом, что и Эрлен. В аэропорту Шарля де Голля чемпиона встречали особо доверенные представители армии поклонников и поклонниц — любимицы «Пентхауза» три Кассандры — Касси, Сандра и Андреа вместе со своей дамой-патронессой Люсиндой Джессоп. Фигуры всех четверых были настолько усовершенствованы современной хирургией, что пробуждали у Баженова какие-то сельскохозяйственные ассоциации — «мои холмогорочки», называл он их ласково, вызывая веселое оживление: «What does it mean — cholmogorochki?» Отвечать Эдгар не спешил, а в этот раз обошелся с подругами уж и вовсе невежливо: упав в тройные объятия и едва втянув свои длиннющие ноги так, чтобы дверца «линкольна» могла закрыться, он велел отвезти себя в Центральную летную информатеку, пить отказался и крайне жестким, даже равнодушным тоном отложил все развлечения на вечер.
Эдгар пребывал в величайшем смущении духа, и дело тут было отнюдь не в том, что Эрликон нещадно осрамил его и поразил воображение. Это бы ладно, но… Страшная догадка брезжила в чемпионском мозгу — чудовищная, как будто ничем не подкрепленная, но все же… Эрлен и представить себе не мог, что из всей эпопеи со «Стоунхенджем» Эдгара больше всего поразили взлет и посадка «Милана». Никто в те минуты не обратил внимания ни на то, ни на другое — все были потрясены, и Эдгар был потрясен, но у него была дьявольски цепкая память, он просмотрел — и не один раз — все записи и кинограммы всех чемпионатов и Олимпиад, и не только. Эрликон посадил самолет по так называемой азимутальной схеме, тридцать градусов в сторону от курса, в зоне скверно управляемой «нечеткой тяги», как бы чуть боком; в старину такой финт называли (непонятно почему) «иноходью», и проделывали его в высшей степени изощренные мастера как доказательство полного равнодушия к трудностям нештатной позиции.
Был же пилот, садившийся так всегда, сделавший «иноходь» своим фирменным клеймом, исполнявшимся уже машинально… Десятки раз, во многих хрониках, видел Эдгар этот нарочито небрежный разворот, и толпа ледяных мурашек пробежала от чемпионского копчика к чемпионскому затылку.
Но допустим, допустим, Эрлен как-то выучил, освоил, в конце концов, парень способный, этого никто не отнимет, но ведь же еще и взлет… Семьдесят градусов, ручку вправо на себя, левая нога до отказа, переворот. Такого не знали даже очень и очень грамотные пилоты, а уж тем более Эрликон — это было не просто заковыристое и эффектное вступление, это был ныне никем не применяющийся коронный прием асов второй мировой войны — уход с аэродрома под обстрелом или во время атаки бомбардировщиков. Где, в каком сне этот недоученный мальчишка мог подсмотреть тот давний фокус и сделать его первый раз в жизни так, будто никак иначе отродясь и не взлетал?
Воздушный почерк каждого пилота неповторим и после определенного срока неизменен. Баженов тренировался и выступал вместе с Эрликоном почти пять лет и его стиль знал досконально и в подробностях. Восходящие виражи удаются Эрлену лучше, чем нисходящие; он силен в штопорных фигурах, но это не от опыта, а от Бога, а потому успех нечеток и нестабилен; и еще полторы дюжины деталей Эдгар мог бы назвать без труда, он любого пилота легко опознавал в воздухе по первой же эволюции. Теперь же произошло чудо. Вдохновенную, но рваную и комканую поступь Эрликона в одночасье сменил размашистый и уверенный шаг — словно робкая и неверная стамеска начинающего столяра уступила место грубому, но точному топору плотника-виртуоза. Да, жестковато, но выверено фантастически; да, перо местами хромает, но рука — гения-каллиграфа. И это страшно вымолвить, но, о Создатель, Эдгар знал эту руку…
Но ведь это еще не все. В Фарборо Баженов не пропустил ни одного вылета Эрликона. В девяти из десяти случаев Эрлен оставался прежним — чуть лучше, чуть хуже, все бывает, но иногда, вдруг — ах ты черт!
Да что с ним вообще произошло? Откуда эта техническая грамотность? Откуда сумасшедшая эрудиция? Откуда этот тон и жуткий оскал? И этот взлет, и эта посадка…
Баженов ведал цену статистике. Он был математик, он знал, что, если правильно отобрать и пронумеровать факты, можно увидеть тот лес, которого не видно за деревьями. И Эдгар сделал это, припомнив и аварию, и таинственный Институт Контакта, и более чем загадочную реакцию руководства «Дассо» (кому-кому, а Баженову было прекрасно известно, что случайно, по везению, Бэклерхорст никому никакого самолета не даст), и чудеса второго этапа, и чудеса «Стоунхенджа» — и Эдгару стало не по себе. Самые невероятные догадки зароились у него в голове. Клонирование и двойники? Какой-то новый, неслыханный допинг? Взрыв наследственной памяти? Зомбирование?
В Центральной летной информатеке — она же архив «Аэроспейса» — у Эдгара, вследствие чемпионства и вытекающего из него всевозможного почетного членства, имелся собственный внеочередной или «судейский» ключ, которым он и не замедлил воспользоваться. Здесь, кроме всего прочего, хранились данные о всех соревнованиях, когда-либо проходивших под эгидой Союза пилотов, и в период подготовки летчик или тренер мог просмотреть запись любого выступления, снабженную судейской индикацией и расписанную по международным летным стандартам. Едва очутившись меж пористых квадратов кабинки, Баженов потребовал последние данные по Эрликону. Компьютер без проволочки подтвердил код и дальше начал обстоятельный рассказ про мифы и легенды «Стоунхенджа».
Итак, судейская комиссия была в курсе. Эдгар даже не хмыкнул и не переменился в лице, он ждал такого поворота событий и мысленно себя с этим поздравил. Значит, Незванов и компания решили посмотреть сквозь пальцы. Что ж, их дело. Они в своем праве. Баженов переключил код. Теперь он запросил сравнение показателей Эрлена с классическими эталонами. Первыми в таблице шли кромвелевские индексы.
Это была чистейшая случайность. Ни о каком втором пришествии великого маршала Эдгар и не помышлял: он надеялся высчитать среднюю погрешность, которая должна была оказаться на порядок ниже нормы, и при случае сунуть ее в нос Эрликону. Для этой цели у Баженова была припасена личная контрабандная программа. Но она не понадобилась.
Компьютер с чуть заметным замедлением выдал ответ, и целых десять, а может, и двенадцать секунд Эдгар смотрел на экран, не понимая, что происходит. Весь дисплей — справа от столбца значений — занимали нули. Они шли колонками сверху вниз по три в ряд, и никакая другая цифра не оживляла их монотонности. Электронный мозг не находил различий в ста с лишним летных индексах Дж. Дж. Кромвеля и Эрлена Терра-Эттина.
Такого просто не могло быть. Воздушные индексы подобны отпечаткам пальцев — они различаются даже у близнецов. Значит… Что же это значит? Эдгар сначала побледнел, потом вдруг сделался красным. Неожиданно он почувствовал себя глубоко оскорбленным. Дьявольщина необъяснимая, ясно лишь одно: налицо самое грандиозное жульничество за всю историю летного спорта. Удивительное дело — при всей своей внутренней озлобленности Баженов умудрялся быть еще и строгим моралистом. В каком-то углу его сознания жили необычайно стойкие представления о профессиональной чести, цеховой гордости, по глубине близкие к религиозной нетерпимости. Откуда они взялись? Возможно, инфантилизм, лишь другого рода, ни в чем не уступающий Эрленову… Не знаю. Главное, что профессиональное достоинство Эдгара было задето. Кроме того, несмотря на покровительство и насмешки, он считал Эрликона своим другом, так что загадка приобретала еще и некий привкус предательства. Ай да Эрлен! Ай да Контакт! Да, в «Дассо» не растерялись. Баженов погасил экран, но по-прежнему не сводил с него глаз.
Первая его реакция была сугубо национальной: Эдгару захотелось срочно побежать на банкет, вдохновиться одним и другим стаканом неразведенного и дальше, отыскав Эрликона, высказать все, что сразу так горячо накипело, а то и заехать по физиономии. Но то ли ум, то ли дьявол, заключенный в Эдгаровой натуре, удержали чемпиона. Опять-таки, в отличие от Эрлена, у которого все душевные силы уходили на подготовку и совершение поступка и ни о каком замысле последующих ходов речи не было, Баженов умел просчитать и задать вопрос: а что потом?
А что потом? Скандал, и дальше? Где доказательства? И доказательства чего? Что толку попусту ударить в колокола? Нет, с горьким злорадством побежденного думал Эдгар, знание — сила, и монополия на знание — монополия на силу, и еще — что за парад поговорок? — молчание — золото. Кроме того, совершенно неизвестно, какие еще сюрпризы таит ситуация, какой момент для вмешательства она может представить, какие открыть возможности… Нет, время для публичной разборки пока не подошло, хотя один на один и можно, можно поинтересоваться…
Все эти размышления Эдгара несли один, довольно неожиданный оттенок: не было никакого внезапного поражения, ведь проиграл-то он совсем не Эрликону! Что бы там ни было, а самолюбие спасено, и более того — спортивное тщеславие было удовлетворено в максимальной степени: ему выпало тягаться с самым именитым пилотом всех времен и народов. Подобное Баженов мог оценить, как никто другой. А Эрлен…
Да, Эрлен. Что же — он хладнокровный злодей, дурачащий весь мир ради собственной выгоды? Эдгар даже усмехнулся — уж на кого-кого, а на беспардонного авантюриста Эрликон никак не похож, счастливее он не стал, скорее наоборот, вид у парня потерянный… Что же там за чертовщина творится? Тут мысли Эдгара стали настолько противоречивыми, что он слегка запутался — экий ералаш! Чемпион поднялся и зашагал прочь. Несмотря ни на что, он чувствовал, что жизнь оставалась ужасно интересной штукой. Распахнув дверцу машины, Баженов вновь свалился в объятия трех Кассандр и, глядя в кремовые изгибы стеганого потолка, произнес:
— Ну, девки, я вам доложу…
— What, what? — радостно заголосили «деуки» — неизвестно почему, им страшно нравилось, когда Эдгар говорил с ними на своем непонятном экзотическом языке.
Юбилейный вечер был назначен в новом «Хилтоне» на замученных новостройками Елисейских полях — фантасмагорическая громадина, увенчанная множеством башен, скосов и шпилей. Лимузины всевозможных марок, бытующих по обе стороны Атлантики, машины поскромнее, а также просто такси разной журналистской мелюзги сменяли друг друга у стеклянного тоннеля-входа, перехваченного через каждые полтора метра то ли золотыми, то ли бронзовыми арками; здесь располагался сорокаструйный фонтан, стеклянная же пирамида — одна из многих в Париже, хранящих, видимо, память о наполеоновском походе, и чугунный носорог, весь ноздреватый, будто кусок сыру, но чрезвычайно добродушный на вид. За нашими друзьями был прислан солидный добропорядочный «бентли», и после краткого знакомства с обоими эшелонами более чем любезной охраны команда Серебряного Джона проследовала на второй этаж насладиться коктейлями в избранном обществе.
После всех споров наряд был выбран соответственно случаю — смокинги, бабочки плюс знаменитые белые шарфы-палантины. Кромвель, однако, в последнюю минуту решение изменил и надел белый фрак с белой бабочкой, что вполне гармонировало с его белоснежной шевелюрой. Вид получился почтенный, но — увы! — вовсе не аристократический, на что Дж. Дж., вероятно, рассчитывал. Бог весть почему, но ни одной черты аристократизма не было у Кромвеля. Его клыкастая веселость, перемешанная с кабацким цинизмом, бодрая шизофрения никак не позволяли представить маршала в роли патриарха некоего княжеского дома. Но, как бы то ни было, в тот вечер темными у Кромвеля остались только глаза — круглые и непроницаемые. Как у акулы, подумал Эрлен, стоя в лифте напротив, как у акулы в кино, когда она отрывает кусок и зажмуривается без всякого выражения. А у Пиредры глаза как у леопарда — старого умного леопарда. Ну и компания. А на кого, интересно, я похож?
Тем не менее настроение у всех было приподнятое, хотя Вертипорох с непривычки здорово нервничал. Забавно, как одежда меняет человека: именно механик в своем вечернем смокинге, при усах и в белой рубашке по затейливой французской моде сделался вдруг похож на нескладного отпрыска какой-то старинной фамилии, а его нижняя губа, освобожденная от бороды, и вовсе наводила на мысль о Габсбургах.
Наверху, в зале, среди сверкания паркета, мелькания лакеев и множества голых женских спин к приятелям немедленно подошел Бэклерхорст, стиснул руку Эрлена могучей феодальной дланью, заговорил о чем-то с Кромвелем, они взяли бокалы с подноса блуждающего официанта и, прихватив для приличия видимости Вертипороха, тут же отправились по каким-то делам, а Эрликона оставили на попечение то ли внучки, то ли жены какого-то магната, с которой второпях успели познакомить. Внучка-жена была настолько засушена диетами, что определить ее возраст было решительно невозможно: Эрлен ей чем-то понравился, и общительность ее била через край, но вот беда: говорила она на языке, которого Эрликон не просто не понимал, но даже бы и не взялся угадать принадлежность. Кончилось тем, что он просто сбежал, почему-то пробормотав:
— Челюсть себе вставь, карга. — И принялся бродить среди общества самостоятельно.
В числе прочих набрел он и на Эдгара, утешавшегося в организованном на американский лад буфете в компании других пилотов и мисс Силикон Люсинды Джессоп. При виде Эрлена Баженов подозрительно оживился и как-то плотоядно предложил выпить.
Однако Эрликон мало одарил его вниманием и вообще никак не отметил странное состояние товарища. Он думал о другом. Следуя издевательскому совету Кромвеля, Эрлен прямо из аэропорта позвонил Инге — он знал теперь оба ее телефона — и вот неожиданное чудо: она нашлась, она ответила — как ни странно, из родительского дома, потом второе чудо: в ответ на его неловкую речь она охотно согласилась на свидание, в шесть, «У Марешаля», и даже сказала, что сама закажет столик. Эрликона тотчас же настиг любовный нокаут, и потому единственное, чему он мог посвятить себя на этом, как ему казалось, дурацком и затянувшемся вечере, это безостановочно гипнотизировать взглядом цифры на часах и неустанно редактировать вступительную фразу.
Однако все же пришлось выступить в отведенной для него роли. Подоспели маршал с директором и повлекли Эрлена в задние отдаленные покои, где гостей было немного и расположилась элита во главе с пергаментного цвета стариком в кресле на колесах. Кресло это передвигали по залу двое: зрелая дама в бриллиантах и мужчина с проседью, похожий на стареющего киногероя; на группе, их окружавшей, лежала незримая печать почтения. Подразумевалось, что всех присутствующих полагается знать в лицо, поэтому, представ пред влиятельными очами, Эрликон услышал только собственное имя. Он молча поклонился, втайне опасаясь того, что Дж. Дж. придет охота пошутить, и как бы дедушка, поднявшись по такому случаю со своей каталки, не сплясал бы перед обществом джигу. Но, против ожидания, Кромвель отнесся к церемонии вполне серьезно и даже произнес любезную фразу — он-де счастлив и чего-то там желает. Старичок, в отличие от своего колесного собрата Карла Брандова, заговорил живо и весело, поворачиваясь и жестикулируя восковыми ручками. Разговор велся на французском, и Эрлен понял, что его называют неосторожным молодым человеком; прочее оставило лишь впечатление от великолепного беарнского акцента. Впрочем, и так было ясно, что слава «Стоунхенджа» докатилась и до этих мест. Наконец их с миром отпустили, и дальше задачи распределились следующим образом: механик, в качестве представителя команды, остался на балу накачиваться различными сортами шампанского, пилот стремглав помчался на свидание (коварные минуты из невыносимо тягучих вдруг превратились в безжалостно быстрые, и Эрликон боялся опоздать на свой важный разговор, и вдесятеро больше боялся самого разговора), а главнокомандующий, который вообще ничего не боялся, отбыл выяснить, какие новые козни затевает его старый знакомый Рамирес Пиредра.
Инга и в самом деле находилась в родительском доме. Она приехала рано утром, едва рассвело, бросила в гараже задрызганный «хаммер» и, раскидывая по дороге одежду, погрузилась в ванну. Ни отца, ни матери в городе не было — Рамирес укатил в Бельгию на какие-то переговоры, мамаша Хельга прочно засела в Канне со своими модами и модельерами, поэтому никаких вопросов никто не задавал, и Инга спокойно могла блаженствовать среди пузырьков, булькающих сквозь воду и шампунь. Впрочем, ни блаженства, ни спокойствия не получалось, а случилось нечто совершенно противоположное.
Инга совершила нечто. Сделала один из самых серьезных шагов по дороге к той новой жизни, которую для себя наметила, а попросту говоря — убила Колхию. Поехала и убила.
Да. Нормандия, осень. Была какая-то река, протекающая среди желтеющих скошенных полей, а за ней — еще одна, и языки длинных озер — их, кажется, называют старицы, и между ними — снова скошенные полосы, мостов не было, все это приходилось объезжать, взлетали то ли гуси, то ли утки, потом поднялась стена леса, через лес тоже текла река, впадала в море, и море было недалеко, за краем леса, за дюнами и кустами, и вот в эту лесную реку стремился ручей, прокладывая себе путь по мшистым камням, в нем в полиэтиленовых пакетах были уложены продукты, а на берегу стояли палатки, и это было то самое место.
Инга лежала в траве, на старых и свежих палых листьях, и смотрела в развилку двух огромных деревьев, двух ветел, раньше их было три, но от одной остался лишь почерневший трухлявый клык с губастым желобом от былого дупла; она опустила на глаза очки-бинокль с дальномерной шкалой, и на том берегу ручья из палатки вышла Колхия, а над ручьем кручеными прядями собирался туман. Был вечер, очень теплый для октября в этих местах.
Я не могу назвать Ингу совсем уж стихийной и самобытной колдуньей. Разумеется, она кое-что читала и знала самые основополагающие правила, без которых невозможно никакое магическое действие — хороший колдун тем и отличается от плохого, что в итоге всех своих манипуляций остается жив. Тем не менее Инга в большинстве случаев полагалась на интуицию, чутье, обходилась без пентаграмм и древнехалдейских речитативов и на контакты с союзниками из иных сфер тратила несообразное количество энергии; бывало, что и не по делу рисковала. Энергии, однако, у нее был бездонный кладезь, союз с духами прочный, хотя, случалось, те временами ее покидали.
Но в этот раз все прошло без сучка без задоринки. Оборониться Колхия не смогла, да и не умела, она была натура открытая, восприимчивая. И где только в ту минуту дремал ее ангел-хранитель? Призванная Ингой темная сила проломила и прорвала все оболочки, страшно сотрясая все трепетное поэтическое существо Колхиевой души и тела, и возлюбленной Звонаря не стало. Все.
Скоро зима, скоро снег укроет эти чуткие сухие листья, а сменившийся ветер, продувающий оголенный лес, будет их разрывать и гнать с поземкой через дюны к морю, и многие долетят, а многие — нет, и ни там, ни тут нельзя будет отыскать следов.
Едва сознание Инги вернулось на место, как возвращается после укуса в отведенное ему природой ложе ядовитый зуб кобры, так сразу начались еще неясные, но повергающие в ужас сомнения. Дело было сделано роковое, цена удачи заплачена неимоверная, и наследственные предчувствия шепнули нечто смутное, но веющее холодом. Поздно Инга поняла мощь и опасность, исходящие от мученического венца.
Заставив себя ни о чем не думать, она бросилась прочь и после выматывающей ночной гонки оказалась под родительским кровом, в горячем водно-массажном прибежище. После долгой дороги и бессонной ночи Ингу посетило то редкостное состояние, когда тело истерзано усталостью, а голова и мысли на удивление ясные. Однако разобраться в этих мыслях было бы непросто уже по той причине, что Инга за последнее время все более перенимала отцовское интуитивное мышление, когда пусть даже весьма решительные и последовательные действия укладывались в некую логическую схему лишь задним числом; избытком же анализа вообще, как уже было сказано, Инга не страдала никогда.
Что же, никакого конкретного плана у нее не было. Самым осознанным чувством была ненависть к Колхии, а единственной четкой фразой: «Когда Чушки не будет». Здесь все ясно. Баба омерзительная, а Звонарь — лишь эпизод в мусорной ее биографии: «А знаете, девочки, я однажды была замужем за директором „Олимпии“, да, да, той самой „Олимпии“». Пакость какая. Из Гуго — сделать эпизод?
Лучше других или, возможно, вообще единственная, Инга знала душевную неприкаянность Звонаря, безнадежную глубину его одиночества, и оттого — зловещую зыбкость его теперешнего положения. Тут в ней явственно говорили материнские гены. Только она, Инга, может сделать мираж звонаревской жизни реальностью, закрепить его место в обществе, создать для него стабильность и привести к респектабельности — да, да, именно к респектабельности, и нет тут ничего зазорного. Ведь и в самом деле…
В самом деле, у них нет другого выхода. Нет на свете другой женщины, которая поняла бы его. От начала пути жизнь вела их друг к другу, и вот судьба совершит наконец полный оборот, и она, Инга, войдет в «Пять комнат» уже как полноправная хозяйка, этот дом действительно станет ее домом, ее и его существование обретет цельность, как знать, может быть, и дети… Но тут интуиция срывалась на визг ужаса и восторга, и всякая осмысленность кончалась.
Да, когда не станет Чушки. В горячей воде по ногам Инги пробежала ледяная струйка. Что ж, Чушки больше нет. Страшное условие выполнено. Может быть, слишком страшное? В фундамент ее будущего счастья заложена бомба, и с этой бомбой ей придется жить.
Как видно, Инга унаследовала отцовский характер далеко не полностью. У нее не было того бездумного чувства готовности убивать и быть убитой ради завоевания жизненного пространства; пока что она была далека от представления о жизни как об игре, в которой твоя собственная голова такая же фишка, как и остальные. Но пусть бы даже и так, смерть Колхии представлялась теперь все более и более рискованным ходом.
Завернувшись в халат, Инга босиком прошла по ковру и остановилась у окна. Отсюда был виден угол дома-форштевня, выходящего двумя фасадами на три улицы, за ним, в промежутке — деревья парка, и еще дальше — кусочек виадука метро. Характер у Звонаря мятежный, крутой, а главное — в решениях его всегда какая-то жуткая бесповоротность. С отцом можно договориться, с Гуго — нет. Он вообще уж слишком серьезный… Да, придется поизобретать всяких ходов, стать осторожной… или лучше объявить о своих намерениях в лоб? Посмотрим… Главное, можно быть нежной и ласковой, теперь нечего опасаться, теперь есть для чего, и ей ли не быть нежной с Гуго!
Таким или примерно таким был сумбур в голове Инги; не знаю, насколько мне удалось перевести его на человеческий язык, но, как бы там ни было, в разгар своих размышлений она почувствовала, что засыпает, и заснула. В четвертом часу пополудни ее разбудил звонок Эрлена, и она сразу же, еще не очень придя в себя, согласилась на его предложение — во-первых, к этому юноше Инга испытывала самое дружеское расположение, а во-вторых, сегодня она согласилась бы на что угодно: втайне от самой себя Инга начала страшиться одиночества. Так же инстинктивно она выбрала ресторан Марешаля — заведение, мимо которого Гуго ездил домой и из дома и даже иногда заворачивал прихватить бутылку, если на вечер не намечалось никакой компании.
Название «У Марешаля» изначально должно было означать «Мост Марешаля», хотя никакого моста на этом месте нет и никогда не было. В какие-то послевоенные времена на этом участке Сены Пьер де Марешаль вознамерился соорудить двухъярусную эстакаду, нечто наподобие Тауэр-Бридж, с ресторанами, увеселениями и, главное, видом на Нотр-Дам. Но то ли денег не нашлось, то ли мэрия, подогретая общественным мнением, восстала против замысла, но дальше грандиозного эркера в гостинице на набережной дело не пошло. Впрочем, и это сооружение сгодилось под более чем приличный ресторан, да и перспектива с высоты на раскинувший мосты Ситэ ничуть не пострадала, что весьма существенно отозвалось на ценах.
Узкий и длинный так называемый Нижний зал, в котором Инга ждала Эрликона, располагался над таким же длинным вестибюлем и упирался как раз в трехсторонний стеклянный колпак, выходящий на овеянную преданиями набережную. День клонился к закату, на столиках зажглись низкие зеленые лампы, было пока немноголюдно, и Эрлен, сначала поднявшись, а затем спустившись в чрево заведения, сразу же увидел Ингу в глубине зеленоватого сумрака. Внутри его прокатился привычный громовой удар, и в то же время мелькнула необычная мысль — сходство. Сходство с ним самим, с его лицом — ах, нет, с половиной его изломанного природой лица — удлиненный сфорцевский треугольник в массивной раме волос, такие же, кажущиеся отсюда непомерно огромными, темные очи на бледном лице, но, едва он подошел и сел, наваждение рассеялось. Проявились грани бровей, проступила белизна век, серебряный блеск серег, блики света в зрачках.
Что касается серебра, то сегодня Инга была в полном боевом убранстве — многоступенчатые серьги, кольца-браслеты с цепочками, кольца простые, какой-то резной цилиндр вокруг шеи и вообще все, что можно придумать, не переходя рубежа лошадиной сбруи.
— Ну вот и я наконец. — Речь Эрлена, как всегда в таких случаях, потекла легко, но одновременно и болезненно, словно обтекая по некоему ложно образованному руслу судорогу волнения, сдавившую естество: — Пришлось убежать с приема — знаешь, железная хватка официоза.
Ему очень хотелось говорить о своей любви и еще — как-то для начала извиниться за нелепости той ночи в Альмадене: «Ты уж извини, что в тот раз так все вышло…» Нет, это пошло звучит. «Ты уж извини, в тот раз вышла такая неувязка…» Черт, еще хуже. Он никак не мог решиться ни на один из вариантов, пока не выяснилось, что ни извиняться, ни даже вспоминать ни о чем не требуется. Инга с охотой признавала за ним право на любые чудачества, да и вообще не терпела счетов между друзьями, ее внимание окутало пилота подобно облаку наркотического дыма, и скоро он почувствовал себя пускай и не на очень высоком, но своем месте в этом, как он считал, мире если и не небожителей, то уж точно людей других категорий и законов.
Почему, ну почему первую в жизни элементарную теплоту и внимание он встретил у женщины, для которой значил столько же, сколько любимый плюшевый медвежонок?
Заказанные холодные и горячие закуски, как и всегда, проскользнули мимо его внимания; он снова только слушал, как Инга рассказывала о предстоящих гастролях, о неурядицах в компании «Козерогов», о салоне какого-то Макинтайра с его занудством, о возвращении рок-н-ролла, о том, что нужно взять себя в руки, и прочее, и прочее в этом роде — музыкальный мир оставался для Эрликона терра инкогнита, но он ясно ощутил, что его милую что-то гнетет и что, пожалуй, до любви сегодня разговор не дойдет.
— Ну хорошо, хватит обо мне, — сказала Инга, тоже, видимо, что-то почувствовав. — Я хочу, чтобы ты рассказал о себе. Все-все о твоих делах. Ты еще выступал? И что это был за прием?
И Эрлен принялся рассказывать все подряд, а Инга слушала действительно с интересом. Поначалу он посчитал неудобным говорить о «Стоунхендже», но потом, заметив, что течение беседы, несмотря на гладкость, что-то подозрительно мелеет, все же поведал и об этом, в юмористических, разумеется, тонах, и Инга смеялась вместе с ним. Потом речь зашла о судействе, о соперниках, и тема вновь начала иссякать — такое непринужденное в первый момент общение приобретало некоторую напряженность.
Но тут Инга, слава богу, перехватила инициативу — правда, не успел Эрликон обрадоваться, как оказался в еще более затруднительном положении.
— Послушай, — Инга отпивала какие-то незримые доли из пузатого кубического бокала. — Тебе обязательно так срочно уезжать? Задержись на два дня. Я покажу тебе город. У меня как раз осталось время.
У Эрлена земля поплыла под ногами. Сказочный сон, но ведь этап, но Кромвель… Нет, невозможно. И тут же внутренний голос подсказал ему, что все возможно и тот же Кромвель говорил, что Бэклерхорст тоже человек и все поймет… А пережить в Париже вторую Альмадену? Или все это игра, обман, дьявольский соблазн — а хотя бы и так… Но как объяснить это маршалу?
И в эту же минуту Эрликон увидел его. Дж. Дж. сидел в полутора шагах, в соседнем кресле, упершись вытянутыми руками в край стола и скептически осматривая внутреннее устройство ресторана. Убедившись, что его присутствие обнаружено, маршал тотчас оказался рядом.
Да, если чем и овладел в совершенстве Эрлен за это время, так это искусством молниеносных беззвучных бесед с бывшим командующим. Черт знает, как им это удавалось, но вполне литературные диалоги они все свободнее и свободнее ухитрялись вмещать в совершенно неприметные для окружающих секунды.
— Отвлекись от ведьмы и послушай меня, — предложил Дж. Дж. — У нас проблема. Чемпион наклюкался, уже приставал к Вертипороху, а сейчас везде ищет тебя. Предлагаю завершать вечер и без шумихи отбывать.
Да, надо сказать, что Кромвель для своих распоряжений минуту выбрал крайне неподходящую. Меньше всего Эрликон сейчас собирался следовать маршальским указаниям. Затаившееся истерическое бешенство глубин его натуры пробудилось вновь.
— Я никуда не пойду.
— Этот длинный черт что-то учуял. Будет скандал перед самым этапом.
— Я не боюсь скандала. Я устал прятаться.
— Вот дотянешь до того, что придется парня вырубить. Ты этого хочешь?
— Я сам с ним разберусь, оставь меня в покое.
Кромвель призадумался на мгновение, а потом без всякого перехода сменил тему:
— Эрли, мне же обидно за тебя, это издевательство, она тебя в грош не ставит.
На это Эрлен ничего не успел ответить, поскольку Дж. Дж. сделал шаг вперед, наполовину проступил сквозь своего подопечного и заговорил мерзким елейным голосом:
— Ну что это мы все обо мне да обо мне. Давайте хоть немного о музыке, о классике, которая не стареет.
Эрликон онемел от страха, подумав, что сейчас все, конец, они раскрыты, но вот ведь чудо — Инга не увидела Кромвеля! По каким-то причинам ее колдовской дар не сработал, и она серьезно ответила:
— Я очень ценю твои усилия, но, честное слово, не стоит затрачивать столько мужества на борьбу с классикой. Если есть желание, то со временем все придет-само собой.
— Это значит, мы такое дерьмо, что и классики не понимаем, — прокомментировал Дж. Дж. для Эрлена и тут же продолжил вслух: — Нет, я и вправду горячий поклонник Мэрчисона!
— Горячий оттого, что слушаешь его, сидя на лампе, — засмеялась Инга.
— Вот с чем нас смешали, — заявил Кромвель едва ли не во весь голос. — Эрли, и тебе мало? Ладно, гармонь бандитская, мы тебе утрем нос.
Маршал поднялся вместе с Эрликоном и быстрыми шагами направился к сцене, слева от входа, где четверо музыкантов лениво перебирали невнятный блюз. Весь Эрленов накал как ветром сдуло.
— Джон, да я не умею!
— Сумеешь. Эта выставка художественного литья нам чуть в рожу не плюет: да кроме нее Мэрчисона никто не знает. А тебе не стыдно. Дождешься, она тебе еще про всех своих любовников расскажет!
Поднявшись на сцену, Кромвель немедленно раздал всем по стодолларовой бумажке, после чего начался переговорный процесс. Плохой французский снова помешал Эрлену, но суть дела была ясна вполне. Дж. Дж. назвал какую-то вещь, двое оркестрантов знали, двое нет, басисту было ведено где-то ждать два такта, в конце что-то вроде стаккато, маршал приказал следить за его командой, финал четыре раза, не сбиваться; клавишнику вручили сигарету и отправили в зал, сам же Кромвель усадил Эрликона за синтезатор, на секунду хищно растопырил пальцы, радостно оскалился заинтересовавшейся публике, и понеслись.
Это были знаменитые вариации на тему «Тангейзера», опус второй — вещь, весьма и весьма характерная для Мэрчисона. Создав сначала очень серьезную и изящную композицию для оперно-симфонического цикла, композицию, которую Кромвелю вовек не осилить даже при поддержке самого именитого оркестра, мэтр, по обыкновению, впал в сарказм и депрессию и написал на ту же тему джаз-роковую пародию, где, кажется, поставил задачей максимально поизгаляться над своим же детищем, причем в наиболее вульгарной форме. Именно этот второй вариант и наяривал сейчас маршал, корча невидимые рожи изумленной Инге, а Эрлен чувствовал, как молочная кислота сжигает ему предплечья, и сухожилия в кистях вот-вот откажут. Нелегок музыкальный хлеб!
Наконец последний аккорд — и кончено. Немногочисленная аудитория, в том числе и Инга, разразилась аплодисментами. Кромвель лихо поклонился, уронив на лицо свою белую и Эрлена черную гривы, пожал руку вбежавшему на сцену пианисту — «молодой человек, что-то там такое, три раза в неделю, что-то такое четыре тысячи франков», — и Эрликон отправился на свое место.
— Джон, у кого это ты так выучился?
— У самого Мэрчисона.
— Ты что, был с ним знаком?
— Естественно. Он был моим придворным музыкантом.
— Вот это да. Как это ты сумел?
— А я держал его на голодном пайке, пока он меня не научил.
— Каком таком пайке?
— Героиновом.
— Ничего не понимаю. А еще что-нибудь знаешь?
— Нет, это все. Но это зато знаю хорошо. Я всегда ее играл на вечерах.
Тут они вернулись за столик, и Инга еще раз похлопала Эрлену. Восторг ее был самый искренний.
— Да, это нечто. Ты умеешь удивлять. Послушай, как тебе это удалось?
— Сюрприз…
Фокус, проделанный Кромвелем, рожденное им восхищение и удивление в глазах Инги произвели эффект, на который, возможно, и рассчитывал хитромудрый маршал. Эрликон почувствовал себя некой самостоятельной величиной не только оттого, что любимая женщина задержала на нем свое внимание. Теперь-то у него сразу нашлись слова, и слова эти показались ему самому очень достойными и мужественными.
— Инга, — сказал он, — я больше всего на свете хотел бы остаться тут с тобой, и не на два дня, а на всю жизнь, и ты это знаешь. Но сейчас я не могу. Сорвать этап… сколько народу мне потом даже руки не подаст. Через неделю все кончится, и я приеду к тебе на гастроли куда угодно и когда угодно.
Сказав, он невольно оглянулся: пусть-ка послушает старый крокодил, но Кромвель, как ни странно, куда-то исчез. Инга кивнула, похоже вовсе не обидевшись, и некоторое время они молчали, потом она легонько постучала пальцем по его ладони:
— Знаешь, пойдем пройдемся. Ты больше не будешь есть? Ты ведь не на машине?
Они вышли и, перейдя улицу, направились вдоль набережной на северо-восток. Эрлен оставался в некогда подаренном Бэклерхорстом длинном пальто все с тем же парадным белым шарфом, а Инга завернулась в темный расписной платок и надела большие затемненные очки, сразу став ужасно взрослой и значительной. Эрликон смотрел на нее с гордостью, так, вероятно, Роберт Кон смотрел на Брет Эшли.
— Ты знаешь, я никогда не думала о Париже как о родном городе, — говорила Инга. — По сравнению с другими городами все мне здесь кажется каким-то игрушечным.
— Но тут, наверное, все тебе знакомо, все закоулки.
— Совсем нет. Знаю ровно столько же, сколько остальные, а может, и меньше. По здешним меркам мы очень мало переезжали. Помню, когда мы еще жили на рю де Шар, там был удивительный старый дом, его можно было пройти насквозь по верхнему этажу и потом спуститься на соседнюю улицу… А еще там была огромная двойная лестница.
— Как это — двойная?
— Она была разделена надвое такой матовой стеклянной стенкой, и та, вторая, половина предназначалась для слуг. На ней были видны такие туманные силуэты… А наверху были большие внутренние окна в шестигранных рамах, словно иллюминаторы, я любила становиться на цыпочки и заглядывать, что там творится… А ты где жил и где живешь теперь?
Хороший вопрос. Где его дом?
Стоял тот закатный час, когда осеннее солнце, прежде чем скрыться за крыши и трубы правого берега, оповещает деревья и холмы парка на левом берегу о приближении октябрьской ночи. Справа от пилота за газоном и деревьями проезжали машины, еще дальше стояли дома, а слева, между ним и гранитным парапетом, постукивала каблучками своих сапожек дочь Рамиреса Пиредры, а за ней река неторопливо поворачивала к каналу и нависавшему впереди мосту с чугунным узором фонарей.
— Я живу… — начал Эрлен. — Ну… До десяти лет я жил в интернате, в Мишкольце, там очень красиво. Потом жил у Скифа в Деревне, это когда учился в школе и колледже, у него там большой дом и все в одной комнате… Бывает, живу у отца, но это редко. Ну, еще по нескольку месяцев в году — клиника, вот там мой дом.
— Постой. — Инга чуть коснулась пальцами его лба. — Ты так специально зачесываешь волосы, да?
— У меня тут шишка, — пробормотал Эрликон, к своему удивлению ничуть не смущаясь. — От электрода. Сюда вживляют электрод во время операции.
— Бедный, — сказала Инга. — А летать все это не мешает?
— Ужасно мешает, но что поделаешь.
— А отчего это так с тобой?
— Медицина еще не сказала последнего слова. У отца с матерью была генетическая несовместимость, еще плюс родовая травма — странно, что меня вообще спасли.
— Почему ты никогда не рассказываешь о матери?
Разговоры о Мэриэт всегда выбивали Эрлена из колеи. Это была запретная и в чем-то даже потусторонняя тема. Здесь он предпочитал придерживаться официальных формулировок.
— Мы давно не поддерживаем отношений. Откровенно говоря, ей просто не до меня.
Инга покачала головой:
— С твоей стороны это жестоко. Ты, конечно, недоласканный ребенок, но вдруг она тоже сейчас нуждается в поддержке?
Несокрушимая Мэриэт нуждается в поддержке? Вот удивительная мысль!
— Ты говоришь прямо как Скиф. Еще добавь, что она желает мне добра.
— Как знать, может, и желает.
Они как раз дошли до моста и вступили во мрак первой арки, сложенной старыми изъеденными камнями с белыми потеками по стыкам, и вот на фоне этих камней Эрликон увидел подходившего маршала в распахнутой длиннополой шинели.
— Чему быть, того не миновать, или все пути ведут к свиданию, — мрачно возвестил Дж. Дж, покосившись на Ингу. — И это отнюдь не название пьесы. Вам навстречу движется компания во главе с чемпионом в состоянии наилегчайшего подпития. Еще можем попытаться свернуть.
— Нет, — ответил Эрлен, и Инга с недоумением посмотрела на него.
— Жаль, — отозвался маршал без всякой, однако, грусти. — Эта история не сделает нам чести. Но будь по-твоему: поможем нашему другу в переоценке ценностей. Главное, не спеши и за пушку не хватайся — их всего четверо.
Смешно. Эрликон даже не сразу понял, о чем речь, — он давно уже не воспринимал пистолет как оружие, считая его частью одежды. Они как раз успели выйти из-под моста и дойти до того места, где снова начинался газон, стриженые кусты и липы, когда впереди показалась компания пилотов, идущих с вечера, и над прочими возвышалась изрядно раскрасневшаяся физиономия Баженова. Тут только Эрлен начал понимать, что имел в виду Кромвель.
Эдгар, строго говоря, не желал ничего дурного. Чувство веселой злости, охватившее его на выходе из архива, за последовавшие затем два часа разрослось до фантастических размеров, чему в немалой степени способствовала поглощенная чемпионом грандиозная комбинация из «Манхэттена», «Бурбона», «Международного», «Континенталя», «Шампань-Коблера», странного «Колибри» и еще чего-то в великом множестве. По причине, что Баженов был человеком практически непьющим, действие оказалось сногсшибательным едва ли не в буквальном смысле, а учитывая то, что до этапа оставалось два дня, все эти излишества сулили ему скорую встречу с обильной и малоприятной химией, о чем напрямую заявил старая черепаха Дэвис.
— Дэвис, — радостно ответил Эдгар, глядя широко открытыми карими, в каких-то веснушках глазами, — вот ответьте мне: разве я что-нибудь хоть раз украл? Я кого-то обманул? Нет, я старался делать честно. Дэвис, я честный человек!
Но это была уже пиковая стадия. Первый взрыв веселья Баженов испытал, когда вспомнил, что после эрленовских нулей на экране он не стал смотреть свои собственные показатели. Увы, там могли проскочить и сотые, и десятые, а кое-где, возможно, и единицы.
— Забыл! — сказал Эдгар бармену, встряхивая кубики льда в стакане. — Забыл посмотреть! Фрейд!
Среди подлинных, натуральных Эрленовых индексов тоже, бывало, попадались нули, например на кабрировании…
— Да ведь это и дурак сможет, — сообщил Эдгар все тому же бармену.
…Но в основном пестрели единицы, тройки, а случались и четверки. Тут Баженов даже захохотал, потрясенный открывшейся ему истиной: невозможно обыграть пилота, имеющего все нулевые индексы! А это значит, что кубок Серебряного Джона он уже проиграл, и роковой третий этап ровным счетом ничего не значит. Проиграли вообще все. Выиграл один Эрликон. Уже сейчас.
— Я ничего такого не сделаю, — объявил Эдгар собравшейся вокруг него публике, большинство из которой впервые наблюдали интеллектуала высшего пилотажа в таком виде. — Мне просто интересно, как он будет смотреть мне в глаза… неужели так же, как раньше? Ведь должно же что-то измениться, верно?
Этот дикий душевный зуд убедиться в реальности, как он полагал, предательства, прикоснуться к неведомому доселе извороту человеческой психики даже отвлек Баженова от сути самой загадки — не важно, как Эрлену удалось это сделать, бог с ним, в технический век живем, но ответь, дорогой друг, неужели ты хочешь остаться таким же, каким был до этого, когда у тебя в показателях сквозили твои родные двойки и тройки?
И вот, обуреваемый двумя неразлучными бесами — хмеля и правдоискательства, сопровождаемый тремя дружками-поклонниками, которых в старину назвали бы подпевалами, Эдгар умудрился-таки столкнуться с Эрликоном нос к носу.
— Серьезный прокол в нашей стратегии, — заметил Кромвель, оглядывая приближающиеся фигуры. — Признаю первым: теряем очки. Следовало избежать. У всех бывают просчеты; Эрли, мальчик мой, ты уж не бей его сразу — авось он как-нибудь уймется.
Несмотря на серьезность момента, Эрлен не мог не улыбнуться. Маршал по своей древней наивности считал, что любой слушатель ИК в первую очередь шпион-костолом международного уровня, и всерьез опасался ущерба летной солидарности. Правда, как и всегда, в кромвелевском лобовом подходе было много справедливого — хотя Эрликон и не был чемпионом Институга по программам «Ниндзя» и «Бэтмен», но учеником слыл способным, даже одаренным, так что габариты Баженова и какой-то там разряд его мало пугали. Но поднять руку на друга, да что там, просто безобразная сцена, свара на глазах у всех, на глазах у Инги — это ужасно… это невозможно. Может быть, и в самом деле следовало плюнуть на гордость и свернуть куда-нибудь раньше, как и предлагал Кромвель?
Они сошлись на полпути между мостом и пришвартованной неподалеку от него баржей-харчевней. Разгоняя мутные волны, навстречу друг другу прошли буксир и туристический катер; плавучий ресторан неторопливо качнул деревянными расписными надстройками. Пахло стряпней, сыростью и бензином.
— Ну, здравствуй, — сказал Эдгар. Против воли это прозвучало зловеще.
То, что друг появился не один, а в компании красавицы в модных очках, мало смутило Баженова, уж слишком горяч был его порыв, хотя где-то на краю сознания и мелькнуло опасение скандала.
— Мы уже виделись сегодня, — нарочито спокойно ответил Эрлен. — Инга, это мой друг, чемпион мира Эдгар Баженов.
Эдгар поклонился, страшно выпучив глаза. С него, казалось, вот-вот посыплются искры.
— Старик, я был сегодня в Центральном архиве, посмотрел твои коэффициенты… Откуда такая классика в наше время? А? Ну, да это ладно…
Эрликон понял с полуслова и похолодел. Вот что значило «этот длинный что-то почуял»… Итак, конец?.. Или… Что же… что же…
— Вот ты мне скажи, — продолжал Эдгар. — Ты все тот же человек, что был раньше? Ты вот так же можешь разговаривать с людьми, с репортерами? Со мной? Ты мне только ответь…
Все же кромвелевская выучка потихоньку сказывалась в Эрлене. Он почувствовал, что сдвигает брови совершенно в той же манере, что и маршал.
— Я не собираюсь ни о чем с тобой говорить здесь и в подобном тоне.
— Нет, отчего же? — возразил Эдгар, прямо-таки светясь. — Момент самый подходящий, тут все свои, не правда ли, сударыня? Ты мне только ответь, как старому другу, мне больше ничего не нужно: ты считаешь, что все может оставаться по-прежнему?
В подкрепление своих слов Баженов взял Эрликона за плечо. Тот решительно освободился:
— Старый друг не станет в доску пьяный приставать посреди улицы. Дай пройти, я тут не стану ничего обсуждать.
— Нет, станешь, — уперся Эдгар. Трое подпевал стояли вокруг, пока что не вмешиваясь, но и не собираясь уходить.
— Ладно, жердина, сейчас тебе будет фунт изюму, — посулил Кромвель, но что именно он собирался предпринять, так и осталось неизвестным, поскольку в эту минуту в разговор вмешалась Инга.
Коктейль кровей викингов и каталонских контрабандистов забурлил. Перво-наперво она небрежно махнула рукой в сторону, и этого движения не понял никто, кроме пары дюжих молодцев в «БМВ» на противоположной стороне улицы. Молодцы переглянулись, пожали плечами и вернули курки своих девяносто вторых: — А ну, убери руку!
Досадное смущение Эрлена подскочило до предельной отметки, маршал вновь оскалился, как идиот, а Эдгар почел за должное ответить.
— Потише, сударыня, — посоветовал он. — Не лезьте не в свое дело.
Его рука опять очутилась на плече Эрликона.
— Убери руку, — повторила Инга, подходя вплотную.
— Отстань! — рявкнул Баженов. — Скажи своей красотке, пусть утихнет!
— Сейчас ты утихнешь, — негромко пообещала Инга и чуть заметно дотронулась до Эдгарова запястья, словно собираясь проверить у него пульс.
Тотчас же чемпиона страшно замутило, и твердь поехала под ногами, он заревел, рванулся; тут и Кромвель, в свою очередь решив, что предисловия теперь уже окончательно исчерпаны, вступил в Эрлена, и они сделали мгновенное круговое движение в сторону, чтобы крутануть Эдгара с прихватом его все еще бездействующих сторонников в лучших традициях Морихея Уэшибы.
Уже очумелый Баженов должен был, сшибая своих верных, лететь вдоль парапета, но за секунду до этого рядом, по ту сторону газона, распахнулась дверца подлетевшего задним ходом лимузина.
Звонарь вернулся в столицу на день раньше Инги. Октябрь — надвигалось открытие сезона — время подготовительной суеты, бесконечных совещаний, время «тронной речи» и гастрольных итогов. Началось все, как обычно, с вороха неприятностей. Заокеанские и стимфальские переговоры затягивались, загадка Эрликона оставалась неразрешенной (кстати, приезд его в Париж мафиозные службы в отсутствие шефа как-то обыграть позорно опоздали), дома тоже радостного было мало. С корабля на бал Звонарь попал на секретную конференцию по национальному музыкальному планированию. Секретной она была, во-первых, оттого, что на ней считали реальные доходы и расходы, а во-вторых, потому, что обсуждали информацию, добытую путем подкупа и шпионажа. Присутствовали: Арон Хэнкок, финансово-юридический менеджер, Бэт Мастерсон, «олимпиец» номер два, сам Звонарь и Лукка-старший, франко-итальянский американец, один из заправил музыкального экспорта с восточного побережья. Председательствовать должен был лично Пиредра, но он напрямую обозвал национальные программы французской хреновиной с морковиной и попросил просто сообщить ему сумму убытков. Он-де сейчас же ее спишет и ни в какую отчетность даже не заглянет.
Похоже, Рамирес был недалек от истины. Пегобородый Арон, который, несмотря на миниатюрность, с годами все больше и больше становился похож на одного из микеланджеловских пророков, смотрел в бумагу, отпечатанную без помощи секретарши в одном экземпляре, и говорил вещи более чем грустные.
— Несмотря на то что до конца года осталось три месяца, — бубнил он наработанным беспристрастным тоном, — уже можно утверждать, что национальная программа провалена. «Ритм энд блюз» дали два и три десятых процента, группа Аджани — пять с половиной, Сен-Мишель — один и восемь, и так далее, можете тут посмотреть. Десятипроцентного барьера не преодолел никто. В то же время затраты на эти музыкальные программы без учета налогов составляют на сегодняшний день семьдесят миллионов долларов.
— У тебя «Мальборо»? — спросил Звонарь. — Ага… Ты пугай, пугай дальше, еще про пятипроцентные дотации расскажи.
Арон сердито посмотрел на него поверх очков-половинок:
— Дотационный коридор на авангард, андеграунд, фольклор и прочее продержался в общей сложности около двух месяцев, после чего мы были вынуждены отдать его на откуп периферийным менеджерам. Правда, потери в данном секторе составили не более четырех миллионов франков.
— Ну-ну, заканчивай.
Арон сделал свое фирменное движение плечами:
— Вывод прост. На сегодняшний день французской музыкальной культуры не существует.
Тут пришла в движение слоноподобная туша Бэта Мастерсона, заключенная в черную тройку. Его ницшевские усищи были тщательно расчесаны, маленькие голубые глазки светились добротой и сочувствием. У этого великана были в жизни две слабости: он дико стеснялся своих необъятных размеров и обожал Гуго Сталбриджа, которого считал благородным музыкальным идеалистом.
— Гуго, нам все это так же неприятно, как тебе. Ну что делать — не родились еще новые Дебюсси и Равель.
— И ты, Бэт, — усмехнулся Гуго. — Хорошо, и что же?
— В новом году правительство прекратит финансирование, а нам одним дефицита не закрыть. Давай попробуем через год.
Звонарь покачал головой:
— Значит, так, друга веселые. Линия наша будет такая. Конъюнктура упала не только у нас — упала во всем мире — верно, Винченцо? Я был на «Грэмми» — там едва натянули на половину номинаций. Бывают подъемы, бывают спады. Финансовый год, дорогой Арон, кончается в феврале, и значит, у нас не три, а пять месяцев. Кроме нас, этим мальчикам и девочкам заплатить некому, вот до февраля и будем платить. Равель не появился? Появится завтра. А прикроют нас в феврале — вот тогда и будем разговаривать. Все.
Все-то все, но осадок от разговора остался неприятный. Промолчавший весь вечер Лукка-старший, превращение которого в главного американо-европейского музыкального эксперта обошлось Звонарю и Пиредре в немалые деньги, приехал тоже с невеселой историей. Его сын, Лукка-младший, великовозрастный беспутный балбес, ввязался в Нью-Йорке в склоку между Дженовезе и Венуччи и собственноручно пристрелил основного венуччиевского головореза Жука Малдауни, после чего был взят прямо на месте Кремнем Хэпберном из отдела по расследованию убийств. Кремень Хэпберн по своему обычаю немедленно предложил младшему сделку: тот сознается в убийстве из личных мотивов, вендетте, чем угодно, а Кремень в ответ закрывает глаза на мафиозные межклановые разборки. Весь штат и пол-Америки знают, что договариваться с Кремнем Хэпберном нужно и должно — во-первых, он честный коп и слово держит, во-вторых, на ножах с отделом по борьбе с наркотиками, потому что наркоманию преступлением не считает и сажает строго за убийства. Но младший по дури набычился, отказался говорить вообще и в итоге загремел в Центральную. Там на Кремня Хэпберна, как утка на майского жука, налетел отдел по борьбе с организованной преступностью и младшего у него отобрал. Кремень закатил скандал. Тем временем (а дело происходило глубокой ночью) подоспел дженовезовский адвокат, вправил младшему мозги, и тот заявил: да, была вендетта, прадедушка убил прабабушку еще в Сицилии в прошлом веке, а виниться он будет только Кремню Хэпберну, и больше никого знать не хочет. Тут уж отдел по борьбе с организованной преступностью заревел, как гризли, завязалась перепалка, и чем все это кончится, никто пока не знает.
— Интересно сезон у нас открывается, — проворчал Звонарь, надел шляпу и отправился домой.
Там его ожидал следующий неприятный сюрприз. За раму зеркала в прихожей была всунута записка, одна строчка, загибающаяся к краю листка. Гуго снял пальто, бросил шляпу на журнальный стол, выдрал из гнезда кассету радостно заверещавшего автоответчика, достал из холодильника пиво и ломоть плесенно-острого сыра дарблю, прихоти Инги, и присел у стены на корточки в самой что ни на есть деревенской позе.
Все-таки уехала. В нормандский лагерь, к чертову этому проповеднику. Ведь просил же! Нет, ну не действуют на Колхию его разговоры. Далась ей эта экологическая религия, ведь бред же и спекуляция! В прошлом году — буддизм, язык сломаешь, теперь вот это. Его слова что-нибудь значат или нет?
С хлопком открылась банка. Все-таки что-то не так в их отношениях. Господи, наставь и вразуми. Он представил себе ее лицо: рыжий завиток, фарфорово-белая кожа, темные глаза в глубоких кельтских впадинах глазниц. Единственная женщина его жизни. Да уж, неизлечимо, как наследственная болезнь. Все же любовь невозможна без какой-то степени сумасшествия и одурения, просто психологического сдвига.
Да, правда, он старше на двадцать лет. Может быть, многовато? Нет, пожалуй, дело не в этом. Просто она такая, и любить ее надо такой… Вот только иногда непонятно, есть у него семья или нет. Сиди тут в одиночестве — все по милости этого жидкобородого экологического пророка в экологически чистой простыне, окруженного курятником поклонниц. В иные времена ты бы и глазом моргнуть не успел, как уже качался на колокольном языке, святой отче. И что она только в его словоблудии находит?
Ну ладно, дети растут, учатся, скоро, наверное, разъедутся совсем. Может, зря, может, это ошибка, что они не завели общего ребенка? Что же, еще не поздно. Но ведь с Ленкой поди договорись.
Звонарь привстал, потянул наугад бутылку с нижнего яруса сервировочного столика, опрокинул кувшин, поток кроваво-красного крюшона хлынул на ковер. Бог с ним, потом приберем. Что там? «Джонни Уокер и сыновья». И сыновья, прекрасно. Огненный ручеек быстро добежал до желудка. Конечно, сам во всем виноват. «Олимпия». Рамирес, дела, а у нее — гастроли, толкотня вся эта, что за семья.
С «Олимпией» неладно. Бэт, простая душа, грустит так, будто у них провалилась первая такая программа. У них провалились все такие программы. «Олимпия» давно уже стала контрактно-прокатной площадкой для американцев, спасибо, что есть еще англичане, и спасибо, есть возможность привозить Европу. Вот так и выясняется, что деньги решают не все. Тон задает Лукка и его шатия, им, собственно, уже ничто не мешает перекупить эту самую «Олимпию». Или Лукка, или японцы. И Пиредра запросто продал бы, если бы не Скиф. Скифу тоже наплевать, но ему нужна крыша. В любом случае он. Звонарь, все больше превращается в режиссера-скороварку для импортных программ и машину для подписывания бумаг.
Как же они все надоели. Давно уже ясно, что пора уходить. На шестом десятке уже можно уйти на покой. Хватит мафии, хватит Скифовой чертовщины, в конце концов, есть молодые. И то сказать, слишком долго он терпел всю эту гнусь. Ого, как они взбеленятся, все свои мерзости пустят в ход — ну так что ж. За свободу надо платить, и ваши цены мы знаем.
Я нашел для себя музыку, думал Звонарь, и я буду ею заниматься, а все остальное пошлю к черту, и этого своего шанса не упущу, и не советую мне мешать.
Привалясь к стене, он понемногу отхлебывал из бутылки и отламывал сыр узловатыми пальцами.
Будет музыка, и будет Ленка Колхия. Формальности она ненавидит так же, как и он сам, но черт с ним со всем — пусть попы оторвутся как хотят, но надо привезти ее из Нормандии и надеть ей на руку это злополучное золотое кольцо. И поставить условие: он отныне и присно соблюдает семейные приоритеты, но и она записывает только одну пластинку в год.
Ох, она взъерепенится, ох, будет шуму. И эколог этот висломордый — страшно, кажется, парень закомплексован, видимо, солоно ему приходилось в юности, то-то так упивается, он тоже сразу не отпустит, начнет плести с пятого на десятое… Пожертвовать на его церковь, что ли, и столько, чтобы заткнулся раз и навсегда? А вот бы пристрелить дурака…
Гуго покосился на черные шишечки готического буфета, уже не раз страдавшего во время приступов разбойничьей меланхолии. Привычной рукой Звонарь сделал мало уловимое глазом движение, и одна из шишечек с грохотом исчезла, оставив после себя сколотый шпенек, а чугунно-деревянный град Китеж, очередной подарок Инги, висевший на стене напротив, дрогнул, покосился и, унося на себе черную дырку от пули, скользнул вдоль стены и грохнулся на пол. Но Гуго, все так же небрежно-молниеносно вернув пистолет в кобуру, уже думал о другом.
Завтра вечером, после «Олимпии», надо, кстати, серьезно поговорить с Бэтом, потом завернуть домой — интересно, где это Ингу черти носят, могла бы позвонить, — прихватить еды, и к утру он будет на месте. Что говорить — неясно, но там слова найдутся. Господи, услышь и помоги грешнику.
Так Звонарь размышлял о своей жизни, и рано поутру, не откладывая ничего в долгий ящик, он принялся действовать в соответствии со своими размышлениями. Приехав в «Олимпию», а Инга в это время терзалась сомнениями, лежа в ванне, Гуго, как всегда, занялся делами с Бэтом Мастерсоном, разговаривал с прибывшими на открытие сезона менеджерами, со своими звуковиками, осветителями, инженерами сцены, отвечал на телефонные звонки всевозможных импресарио со всего мира; позвонил даже Пиредра и известил, что вечером прилетает. Колхия, увы, не позвонила, как Гуго втайне надеялся, и после этого олимпийского котла он поехал в «Пять комнат» собраться и перевести дух перед ночной дорогой.
Представительский олимпийский «додж» с недавних пор водил неуклюжий квадратный парень по имени Голубка. Для неровного, нервнопаралитического парижского движения с его пробками и объездами, шофер он был практически идеальный, но пару раз Звонарь засекал его на чересчур подробных докладах Пиредре — удостоверился, но предпринимать до поры до времени ничего не стал: побудь пока на виду, придет твой час, друг любезный. Что же касается Рамиреса, то на его счет Звонарь последние вкупе семьдесят лет не питал никаких иллюзий — старый товарищ всегда готов на любую двойную игру и при удачном повороте дел будет очень не против сделаться «боссом боссов»…
«Додж» катил по набережной, Гуго перебирал последние телеграммы и факсы и рассеянно поглядывал в окно — дождь был сейчас совсем некстати; в предчувствии столпотворения у светофора за мостом Голубка начал притормаживать, и тут Звонарь увидел справа на тротуаре знакомую фигуру — Инга! Рядом — какой-то гном в старинном парике ниже плеч, или это у него настоящие такие волосы? — а на них напирает двухметровый верзила с компанией дружков, и дело, похоже, к драке. Охрану шальная девка, само собой, отогнала…
— Стой! — приказал Звонарь. — Назад!
Голубка — человек ученый, ему два раза повторять не требуется. Машина, взревев, прыгнула назад, Гуго распахнул дверцу и в два шага оказался в центре событий. Без всяких затруднений вычислив расстановку сил и определив Эдгара как коновода, он свирепо рыкнул на него:
— А ну, отойди от них подальше!
Эдгар, несмотря на то что ни о каком одиннадцатом веке и тридцатом годе слыхом не слыхал и вырос в куда более тепличную эпоху, встретив Звонарев волчий взгляд, все-таки должен был его по достоинству оценить и, следуя доводам разума, унести ноги подобру-поздорову. Но он был пьян и заведен как раз тем своим неугасимым и слепым азартом до исступления, поэтому Звонарь ему показался лишь очередной досадной помехой в форме пожилого чудака ростом ниже себя на голову.
— Свали отсюда, дед, — порекомендовал чемпион, не уделяя Гуго особого внимания.
Звонарь сейчас же помог ему исправить эту ошибку, выбросив вперед ногу и влепив носок своего американского ботинка в чемпионскую голень. Баженов взвыл, как взвыл бы на его месте всякий и, переступив в соответствующую стойку, проделал безукоризненный, как на кинограмме учебника, хук слева. Великолепный, сокрушительный удар! Он легко мог бы выворотить любую из лип, росших вокруг, но, боже мой, сколько подобных ударов повидал Звонарь на своем веку! Подступающий седьмой десяток очень мало изменил разбойника, и его кулак по-прежнему без усилий проходил сквозь ухищрения любых кунфу и каратэ. Гуго едва заметно отвернул голову — ровно настолько, чтобы лишь кожей ощутить дуновение зловещего ветерка, и дальше к Эдгару пришло ощущение, будто на скорости девяносто миль он врезался физиономией в бетонный столб. Мир в его глазах треснул, рассыпался огненными брызгами и угас.
Свершилось. Избежав кромвелевской атаки, уклонившись от Ингиных колдовских когтей, на третий раз Баженов встретился-таки с судьбой. Он лежал на асфальте, напоминая Эрликону то большое пальто, что было некогда расстелено на полу Скифова кабинета. Подпевалы растерялись. Воцарилась пауза.
— Что ты, собственно, себе позволяешь? — гневно спросила Инга. — Ничего себе дела!
— Здравствуй, Инга, — ласково ответил Гуго. — Как я вижу, ты уже приехала, уже среди друзей.
— Это ты приехал. — Инга передернула плечами. — Ну давай, берись, надо же отвезти его куда-то.
Подошел Голубка, чем завершил численный перевес — Эдгарова братия в задумчивости отступила, не проявляя желания ближе познакомиться с талантами друзей Эрлена. Эдгара подхватили. Звонарь сказал: «Ну что же, пообедаем дома», — и вежливо пропустил Эрликона вперед. Набережная опустела, из-под моста вышел рыболов и забросил удочку.
Во вместительном «додже» Звонарь сел рядом с Голубкой, Инга с Эрленом сзади, а еще дальше, ногами под капотом багажника, а головой на полированной крышке бара, лежал Эдгар. Рот его чуть приоткрылся, посиневшие веки опустились, на скуле замерла прозрачная капля.
— И что они от тебя хотели? — спросил Гуго, когда машина тронулась.
— Спросить не успела, — фыркнула Инга. — Был разговор как разговор — что, спрашивается, ты накинулся на человека?
— Ну, извини, — пожал плечами Звонарь. Он покосился назад, потом взглянул на Эрликона в зеркало. Эрлен подумал: «Вот так лицо. То ли кроманьонец, то ли древний римлянин. Ишь, подбородок какой…» Тут его в прямом смысле слова прошиб холодный пот: он вспомнил Скифову папку. Убивалы, звонаревские костоломы… боги святые, да это же Звонарь. В который раз за сегодняшний день по телу разлилась пакостная слабость. Вот уж действительно, кажется, приехали. Крышка. И Кромвель опять куда-то пропал…
А Звонарь тоже, в свою очередь, отметил: «А парень-то красивый», и поинтересовался:
— Инга, ты бы представила меня своему другу.
— Пожалуйста. Вот этого забияку зовут Гуго Сталбридж, и он отнюдь не вышибала-любитель, а директор «Олимпии». А это Эрлен Терра-Эттин, знаменитый пилот и будущий герой Контакта.
В эту минуту уже Звонарь ощутил что-то вроде паралича. Картина ясная — ни обернуться, ни дать знать Голубке уже не успеть, и сейчас этот печальный демон выстрелит ему в спину через сиденье. В краткий миг Звонарь собрал недостающие фрагменты мозаики — то, о чем предпочел забыть в своих инструкциях Пиредра. «Ведь знал, ах, подонок!» Неожиданно представилось лицо Колхии. Оно было грустным.
Эрликон не стрелял. Звонарь сказал:
— Послушайте, Терра-Эттин. Пистолет, я полагаю, у вас с собой.
— Да.
— «Бульдог-44».
— Да.
Гуго кивнул. Инга сняла очки и посмотрела на Эрлена широко открытыми глазами.
— Я вам предлагаю на сегодняшний день заключить перемирие. Ни вы, ни я за оружие не беремся. Я приглашаю вас к себе на обед. Договорились?
— Договорились, — согласился Эрликон.
В том месте, где набережная пересекает бульвар Трианон, проходит рубеж неприкосновенного исторического центра и начинается район хайвеев и гостиниц. Здесь на повороте, возле гнутых пилонов отеля «Хайре» с греческой кухней, дорога переходит в мост, а мост — в многоуровневую эстакаду, которая тут же делится надвое. Пока Голубка преодолевал все эти сложности, Звонаря посвятили в суть той волнующей интриги, что загадочное тело, сопровождающее их в пути, не что иное, как чемпион мира. Кстати, и Эдгар замычал, завозился и перевалился на бок. Он открыл глаза, с некоторым усилием огляделся и, при поддержке Эрлена, съехал с бара на сиденье.
— Надеюсь, все в порядке? — спросил Звонарь.
Баженов осторожно пошевелил нижней челюстью, придерживая ее рукой, и ответил туманно:
— Камыш шумел, деревья гнулись… домой без челюстей вернулись. Можно задать вопрос?
На Эрликона он пока не смотрел.
— Да, конечно.
— Это уже все? Программа, так сказать, исчерпана? Я в том смысле, что нельзя ли остановить такси?
— В общем-то все, — успокоил его Гуго, — но мы хотели просить вас присоединиться к нашему скромному обеду.
— Благодарю вас, что-то не хочется, нет, знаете ли, аппетита, — вежливо отказался Эдгар. — Будьте так добры, высадите меня вон там на углу.
Голубка притормозил, и Баженов полез через Эрлена к выходу. Звонарь косо глянул на него вбок с оценкой во взгляде, и чемпион, начавший разбираться в выражении глаз гангстера, пробормотал: «Спасибо, я сам…»
— Эрликон, друг мой, — сказал он, уже стоя на тротуаре. — Я больше не имею к тебе никаких претензий и признаю твои аргументы доказательными… и весьма убедительными. Летай как хочешь, желаю тебе удачи.
Он, кажется, намеревался сказать еще что-то, но прервал свое саркастическое раскаяние, захлопнул дверцу и нетвердой походкой зашагал прочь.
— Я хотел пригласить его, — сказал Гуго. — Что это вы с ним не поделили, если не секрет?
— Он считает, что я летаю… Словом, применяю в воздухе запрещенные приемы.
— И что же, в самом деле применяете?
— Ну… — Эрлен сбился на неопределенное баритоновое мычание. — Случается всяко…
— Понятно.
— По-моему, — заметила Инга, — он решил, что вы одна компания.
Звонарь хмыкнул и с досадой помотал головой:
— Да что ж такое — все сегодня нескладно.
Известные «Пять комнат», куда направлялась столь поразившая Эдгара компания, еще накануне имели вид совершенной берлоги, что, к сожалению, происходило довольно часто. Постоянной прислуги Звонарь не держал, и уборка квартиры производилась от случая к случаю — раньше этим занималась в основном Инга, когда, вернувшись из очередной поездки, закатывала рукава спортивного костюма и выгребала мусор, бутылки, всевозможный хлам, после чего неизменно пыталась внести в стиль и убранство какие-нибудь новинки сообразно последним воззрениям. Колхия без затруднений мыла окна и пол и довольно ревностно следила за чистотой белья, но зато достижения из области пылесосной техники, кухонной индустрии и интерьера вообще оставляли ее равнодушной. Частые приезды и отъезды Ленки также мало способствовали созданию уюта. Домовитость фольклорной звезды странным образом просыпалась на природе, в чьем-нибудь заброшенном бунгало или просто хибаре, куда их порой заносило со Звонарем, — тут ее изобретательность в оформлении стола, икебане и вообще всего того, что именуется «гнездом», достигала художественных высот. В целом же разбойничье жилье представляло собой не поддающееся перу смешение стилей, дичайший разнобой со значительным — увы! — уклоном к свалке.
Изредка в «Комнатах» кое-какой порядок наводили телохранители — из простого человеческого чувства чистоты; бывало, что и кто-то из дежурных наркологов реанимационной бригады, доставлявшей бесчувственного директора в его апартаменты, звонил в контору, и пиредровские секретари присылали на дом специальную команду.
Разительным контрастом по отношению ко всему остальному, то пустынному, то одолеваемому вещевым хаосом пространству служили два объекта фантастического, идеального порядка: оружейный шкаф и стол с личными бумагами, где лежали нотные записи, из коих еще ни разу не пропала ни одна, и всевозможные деловые заметки, тщательно рассортированные и помеченные номерами в круглых рамках.
Берлога берлогой, однако сегодня рано поутру, готовясь к возвращению Колхии, Гуго осмотрелся вокруг новыми глазами и распорядился весь хлев ликвидировать, убрать, вымыть, вычистить, а также завезти продуктов согласно списку. Таким образом, «Пять комнат» неожиданно предстали в удивительном для них благопристойном виде.
Впустив гостей в дом — хотя, собственно, гостем-то был один Эрликон, Звонарь отправил Ингу на кухню заняться закусками и салатом, но перед этим на ее долю выпала весьма ответственная миссия.
— Одну минутку, — сказал Гуго, войдя из коридора в комнату. — Во избежание возможных недоразумений, Инга, забери у нас оружие и положи на шкаф. По праву гостеприимства — у меня первого.
Он слегка согнул руки: из-под левого локтя на свет божий глядела здоровенная коричневая рукоять с хитрыми выступами и точеными желобками под каждый из звонаревских пальцев. С гримасой снисходительной великомученицы Инга вытянула наружу могучий восьмизарядный и повернулась к Эрлену. Да, приходилось признать, что новенький Эрленов «рюгер», извлеченный из такой же не очень еще обмявшейся «босоножки», был мелок, стандартен и безлик в сравнении с гуговским монстром. С горестным вздохом водрузив пистолеты на книжные полки, Инга произнесла учительским тоном:
— Я надеюсь, что, когда мы сядем за стол, мне объяснят, что за комедия здесь происходит.
И с тем отбыла к плите и холодильнику.
Комната, в которой Звонарь принимал Эрликона, называлась гостиная. Была еще спальня, кабинет, комната Инги и еще одна, с которой хозяин положительно не знал, что делать, и не меньше двух раз в год решал устроить там библиотеку. Пока что в ней разместился стихийно возникший склад забытых, невесть кем подаренных и просто пришедшихся не ко двору вещей.
Гостиная была, пожалуй, единственным местом в доме, где вкусы Звонаря и Инги пришли в какую-то гармонию. На толстом пушистом ковре (дар Пиредры) стоял длинный стол очень неплохой работы, кресла в романском стиле, у стены — косматый диван и пианино, напротив — стенка с книгами и телевизором, под потолком — дубовые панели с резьбой. Цвет стен, картины и цветы Инга в каждый приезд меняла, в этот раз практически голые белые стены украшала одинокая гравюра, изображавшая забавный шабаш ведьм, обрамленный с четырех сторон темным по смыслу латинским текстом.
Гуго, покончив с формальностями, вдруг пришел в хорошее настроение, переоделся в домашний черный свитер без воротника, на несколько мгновений продемонстрировав Эрлену свой бугристый треугольный торс и столбообразную шею, двукратно обвитую серебряной цепочкой с безвестным образком. Эрликон в эту минуту подумал, что Баженов легко отделался; потом Звонарь подошел к пианино и, весело глядя на гостя, взял несколько аккордов и даже что-то промурлыкал, дальше полез в шкафы за вином и посудой. Сразу выяснилось, что Эрлену накануне этапа пить нельзя, Гуго сказал: «Спорт, понимаю», и тотчас же достал две бутылки тоника: «Это как раз можно» и расставил на столе стаканы всевозможной высоты и геометрии, а также прочие приборы. На вопрос, какую музыку предпочитает, Эрликон ответил: «Что-нибудь поспокойнее», и Звонарь поставил легендарный альбом «Джетро Толл» — старинный шотландский напев неторопливо поплыл по комнате. Bсeподчиняющее разбойничье обаяние постепенно начало оказывать на Эрлена свое действие.
Катя перед собой столик с огромными многоэтажными бутербродами с ветчиной, проколотыми насквозь синими и красными копьями, и двумя салатами в фарфоровых вазах, появилась Инга. Она тоже облачилась в домашний наряд в виде джемпера и брюк и рассталась с большей частью своих тяжеловесных украшений.
Бутылок — высоких, низких, плоских, шаровидных, кубических — наставлено было великое множество и непонятно для кого — Инга практически не пила, Эрликон довольствовался тоником, что же касается Гуго, то для него эдинбургская кобыла и удалой джентльмен с черного ярлыка всегда заслоняли богатство французского виноделия. После первой рюмки беседа некоторое время вращалась вокруг того, что куда поставить и как поступить с мясом, но затем, гонимая стремлением увести разговор подальше от собственной персоны, Инга взяла бразды правления:
— Так что же все это значит и откуда вы друг друга знаете?
Гуго разлил всем еще по одной, капнув для соблюдения приличий и Эрлену, и достал сигарету:
— Ну-с, история такая. Наш друг умудрился как-то не поладить с твоим батюшкой, и отец Рамирес попросил меня возможно полюбезнее переправить нашего друга на тот свет. Но уважаемый гость оказался весьма проворен, и двух моих старых приятелей, прибывших к нему с миссией, как не бывало. Короче, дивертисмент вышел настолько неожиданный, что мы до сих пор еще не оправились. Я все правильно рассказал, ничего не перепутал?
В словах Звонаря ничего смешного как будто не было, но Эрликон, сжав свой граненый стакан, вначале ощутил нечто похожее на икоту, а потом чаша потрясений этого дня в его душе переполнилась, и он захохотал. Хохотал тридцать секунд, минуту, полторы, боясь расплескать, поставил тоник на стол, сдернул надоевшую бабочку и даже расстегнул воротник. Инга и Гуго тоже в конце концов засмеялись вместе с ним, и воцарилось общее веселье. Бредовая, невероятная ситуация — что тут говорить, как говорить? Но, с другой стороны, разве он не студент Института Контакта и разве не готовили его три года как раз к тому, что он попадет в ситуацию бредовую и парадоксальную? Да, прямо комплексный экзамен по технике выживания.
— Простите меня, — сказал Эрлен, отдышавшись. — Я просто… Не каждый день вот так сидишь за столом с собственной смертью.
— Ну-ну, — укоризненно заметил Звонарь. — Скажем, стрельбу открыл ты первый.
— Да, а они приехали вручить мне букет гвоздик. — Кромвелевский тон звучал в речи Эрликона все чаще и чаще. — Нет, Гуго, ты рассказал все не так.
Необычайно доверительная звонаревская манера вести разговор быстро и абсолютно естественно позволяла переходить на «ты».
— Я не убивал твоих друзей. Даже не думал, мне это в голову не приходило. Просто Скиф дал мне для защиты… Ну, в общем, одного человека. Я все узнал последним… случайно. Это во-первых. Во-вторых, я понятия не имею, чем так не угодил твоему отцу. Мне как-то забыли сказать. — Эрликон потер лицо руками. — Наверное, я чепуху какую-то несу. Прожужжали мне все уши: Рамирес враг, он нас хочет убить, несчастный случай… Я уж и задумываться перестал, привык. А почему? За что? Инга, я не хочу и не хотел ссориться с твоим отцом.
— И Скиф тоже, — проворчал Звонарь. Он явственно уловил суть сделки двух умников по поводу трупа, уложенного его руками. Ах, гиены, мать вашу; старая дружба…
— Кто такой Скиф? — спросила Инга, пододвинув Звонарю пепельницу. — Это же твой дядя?
Пилот и гангстер переглянулись. В этот момент они поняли друг друга без слов.
— Скиф — большой авторитет, — дипломатично высказался Гуго.
Тут мы должны коснуться чрезвычайно деликатного вопроса: насколько Инга была в курсе отцовских дел?
В известной степени была в курсе. Естественно, ни о Программе, ни о Скифовой протекции она не слыхала, а если даже что-то и доходило, то ни Рамирес, ни Гуго никаких объяснений ей при всем желании дать бы не смогли. Также, кроме всего прочего, Инга начала осмысливать существование во времена уже достаточно вегетарианские, когда основные бойни и костоломки остались в прошлом, а Пиредра и компания вошли не просто в элиту, а в сверхпривилегированную касту преступного мира, то есть превратились в солидных, уважаемых в обществе добропорядочных людей, имеющих друзей в высших эшелонах власти. А какой-то близости в семейном кругу, располагающей к откровенности, Инга не видела ни в детстве, ни позже.
Словом, она знала, что ее родители принадлежат к весьма и весьма обеспеченному классу, поэтому, естественно, у них есть множество недоброжелателей, тем более что интересы бизнеса и закона не всегда и не везде совпадают. Знакомство же с Гуго помогло ей понять, что не все возникающие подобные противоречия разрешаются в суде при помощи адвокатов. Есть изнанка жизни, негласно признавала Инга, так это не нами придумано и не нам это менять. В подробности же она предпочитала не вникать. Поэтому сегодняшний случай ее, конечно, удивил, но нельзя сказать, что так уж ошеломил до глубины души.
— Так я что-то не понимаю, — спросила она. — Твой дядя-авторитет тоже хотел твоей смерти?
— Да вы ешьте, — предложил Звонарь. — Для чего все стоит?
— Я сегодня весь день только и делаю, что ем и пью, — ответил Эрлен. — Мой дядя Эрих… Хорошо, вот ты мне и ответь: в чем моя вина? И почему Скиф так со мной поступил?
— Давай-ка еще по одной… Прямо концерт-загадка. Тебе ничего не объяснил дядя, мне — мой друг Рамирес. Что же, поломаем наши умные головы. Но одно могу тебе сказать уже сейчас: Скиф тебя подставлял изо всех сил.
Эрликон наклонился вперед, впитывая взглядом грубую лепку разбойничьего лица и даже надеясь его смутить:
— Не лги мне, Звонарь.
Но смутить Гуго Сталбриджа было нелегко. Он чуть приметно повел бровью, голос на басах наполнился всегдашним зазубренным рыком:
— А я и не лгу. Ведь вам там отзвонила свиристелка из аэропорта, мисс ноги семьдесят восемь или что там у нее? Вот ее-то Скиф в Стимфале и оставил, а все прочие службы он отозвал. Он, друг незнаемый, тебя выставил на съедение, ты в сорочке родился — вот помяни мое слово. Кстати, не та ли барышня так хорошо стреляет?
— Не та, — криво усмехнулся Эрлен. — Ее он тоже убрал. Услал в отпуск.
— Гуго, — снова вмешалась Инга, — это надо немедленно прекратить. Что за безобразие — убивать Эрлена! Он студент, ни на какой службе не состоит, не верю, что нет возможности как-то договориться.
Звонарь успокаивающе поднял руку:
— Ладно, ладно. Тут не военный совет. Я все знаю — он герой-пилот, герой Контакта… Я все правильно называю?.. Погоди, Контакта… Ты — Эрлен Терра-Эттин?.. Да ты не родня ли Диноэлу Терра-Эттину? Ну, тому самому?
— Это мой отец.
На миг Звонарь онемел.
— Ты сын Диноэла? Быть того не может, он же умер давно.
— Жив-здоров, ничего с ним не случилось.
Ax, напрасно рассчитывал Рамирес, что Гуго забыл ту давнюю историю. Никого и ничего он не забыл. Было, было — далекая Тратера, жестокосердный алхимик герцог, веселый зеленый лес и тот черноволосый худенький юноша, который и привел всю их разношерстную компанию на сегодняшний путь. А ведь похож, ничего не скажешь.
— Вот это да, — медленно произнес Звонарь. — Вот это встреча. Послушай, а он тебе рассказывал — тридцать девятый год, побег?
— Почти что нет. Он мало что рассказывает. Помню, был дом какой-то с драконами.
Звонарь засмеялся:
— Верно, верно, было дело… Так где он, что с ним?
— На Англии-VIII, живет в пустыне. Западный Вахад.
— Гуго, как ты можешь помнить тридцать девятый год? — спросила Инга. — Сколько же тебе было лет?
— Да уж помоложе был, чем теперь. — Звонарь даже руки потер от удовольствия. — Так он что, у Стилхара, что ли?
— А ты знаешь Стила?
— Кто же его не знает? И Стилхар, и вся их оппозиционная шайка — не сегодня-завтра они тут у нас будут править бал… Вот оно как. Значит, Динуха жив и засел у англичан… Ты давно его видел?
— Ну… Перед тем, как все началось. Перед соревнованиями.
— А, ведь это ты — да? — влетел в окно на прослушивании?
— Да, влетел… Вот, познакомился с Рамиресом. Все нормально… потом Скиф… Скиф рассказал мне, ну, и…
И тут взгляды Эрликона и Звонаря пересеклись и сгустились, как сгущаются, совпав, ночью тени от разных фонарей.
— Рассказал про наши пироги? — то ли с сомнением, то ли с иронией спросил Гуго.
Они снова поняли друг друга, не называя истинных имен.
— Рассказал. И пошла вся эта чепуха…
На это Звонарь ничего не ответил, а неспешно закурил вторую сигарету.
Разбойник не был профессиональным аналитиком, как Эрлен, не обладал провидческой интуицией, как Рамирес, да и многие детали, например история с Кромвелем, были ему неизвестны, но мрачный опыт, касающийся сути подобных операций, и не вытравленная пока алкоголем природная сообразительность очень быстро представили Звонарю картину со всеми недостающими звеньями.
То, что этот юнец налетел на Пиредру и Ингу, да еще, судя по всему, отчаянно влюбился, рассудил Гуго, было, очевидно, чистой случайностью, вроде той, когда раз в год и палка стреляет, но одновременно — и серьезнейшей неприятностью для Скифа. Наш мудрец-разведчик принялся ликвидировать свой промах, причем до изумления тонко и ювелирно — одной рукой открыл парню карты и, стало быть, пресек возможность расспросов и разговоров как со стороны будущего сотрудника Контакта, так и со стороны весьма и весьма опасного папаши Диноэла; при этом обнадежил, наверное, племянника и неведомым путем плотно запер его на этих самых соревнованиях; а другой рукой в это время открыл все семафоры Рамиресу, хотя, видимо, и впрямь не сказал ни слова — Пиредра не сумасшедший, без всяких слов должен понимать, чем может обернуться для них со Скифом английский запрос на Совете Безопасности… Итог же курьеза ясен: приличия соблюдены, живой ли, мертвый ли — Эрлен молчит, а Скиф всем по-прежнему родной отец и в своем далеке ведать ничего не ведает… Да-с. Все это было бы прелестно, когда бы не было так гнусно.
Однако же мудрец выпустил из виду одно: и на него довольно простоты, да и друг Рамирес в этот раз явно хватил через край — что же, тем лучше… Звонарь кивнул своим мыслям, стряхнул с сигареты пепел и еще раз — кому символически, кому нет — всем разлил:
— За такое не грех и выпить. Спортсмен, может… нет? За весельчака Дина, который нагнал такого страху на нашу гоп-компанию.
Эрликон подавил вздох и покачал головой:
— Спасибо, но ведь это неправда. Никто не может бояться отца. Может, не надо об этом говорить, но он конченый человек.
— Вот тут я с тобой не соглашусь. Теперешних его обстоятельств я, правда, не знаю, но такое я о нем и раньше слышал, и где те, кто это сочинял? А уж кого я действительно знаю, как ты сказал, так это Стилхара, и никаких там конченых вокруг него нет, иначе и разговора этого не было бы. Ни Скиф, ни Рамирес шуток не шутят. Уж ты мне поверь, ваша фирма «Динуха и сын» может основательно попортить нашу музыку.
И Гуго подмигнул Эрлену, допил рюмку, отложил сигарету и бодро взялся за ветчину и салат. Эрликон тоже наконец почувствовал голод и, орудуя серебряной лопаточкой, вслед за Звонарем принялся нагружать тарелку салатом.
— Мне вовсе не до шуток, любезный хозяин. У меня была пусть не очень-то удачная, но вполне пристойная жизнь, и распоряжался я ею как хотел. Хотел — летал, хотел — читал. — В какой-то момент Эрлен и сам поверил в то, что говорил, да почему бы и нет, в чем-то так оно и было. — Я встретил женщину, которая для меня значит больше, чем все вообще, что было до сих пор… Ладно, все понятно. И вдруг мне дают пистолет, на меня объявляют охоту и черт знает что.
— Вот те раз, нельзя же так, — полунасмешливо, полусочувственно ему в тон произнес Гуго. — Брось жаловаться, вся жизнь такая… Но позволь задать тебе бестактный вопрос — уж коли сегодня такой день и мы не глотки друг другу режем, а мирно беседуем. Ты в самом деле ее любишь?
— Гуго, ты, кажется, собираешься нас обвенчать, — возмутилась Инга. — Прекрати, это смешно.
— Да, люблю, — заявил Эрликон. — И не хочу вмешиваться ни в чьи игры — ни в ваши, ни дядюшки моего поганого, — и немедленно выпил.
Инга слушала их с чувствами на редкость противоречивыми — боже, да ведь это какой-то клуб киллеров, и я тоже в этом хороводе! Кошмарный сон.
У Звонаря же за последние двадцать минут отвращение к пиредровским ухваткам выросло как никогда. Этот хорек, похоже, спятил и готов грести всех под одну гребенку, вернее, под один ствол, в том числе и этого несчастного мальчишку с покореженной физиономией и васильковыми глазами — скажи, какое страшилище выискал, ясное дело, завтра всем хана — тьфу! — двадцать раз уже мог договориться, да и Динуха не людоед, а уж друзьям головы не морочат тем более. А Скиф со своими научными интересами… Форменным ублюдством отдает ваша наука.
— Значит, давай решим вот как, — сказал Гуго. — Я предлагаю такой план: продолжим-ка мы наше перемирие. Это хорошо, что мы друг друга не перестреляли, так вот пусть оно так и остается. Станем держаться, как ты и говорил, нейтралитета — ты пока бучи никакой против нас не поднимай, а мы тоже ведем себя тихо. И заключим еще вот какой уговор — будет где какая-то неувязка, все под богом ходим — ты даешь знать мне, я — тебе, встречаемся и все обговариваем. С Рамиресом я попытаюсь уладить и обещаю, что в спину стрелять никто не станет.
Эрлен издал неопределенно-соглашающийся звук, прикрыл глаза, потом взглянул в сторону — ну конечно: у каминной полки, разглядывая коллекцию африканских статуэток на круглых толстых основаниях, прогуливался маршал. Окинув взором застолье, он сокрушенно покачал головой и театрально-обреченно вздохнул, после чего выразительно постучал согнутым пальцем по запястью — время. Эрликон посмотрел в окно — там было уже совсем темно, и в свете фонарей и пробегающих фар по стеклу катились беззвучные капли. Как и всегда в подобные моменты, потребовалось изрядное усилие.
— Дорогие хозяева… Мне, как и вам, чрезвычайно приятно, что мы не поубивали друг друга, а просто посидели за столом. Спасибо за угощение. Я должен собираться.
Звонарь, снова развеселясь, поклонился, не вставая:
— На дорожку… А ты что, тоже уходишь?
Инга первая поднялась с места:
— Гуго, для меня все это немного чересчур. Я хочу побыть одна и собраться с мыслями. Эрлен, подожди, я сейчас оденусь.
— Собирайся здесь, я сейчас уезжаю.
— О Господи, а ты-то куда еще?
— В Нормандию, привезти Ленку.
— Нет-нет, я провожу и пойду. Загляну домой.
— Ну хоть не пропадай, позвони по крайней мере, где тебя искать.
— Я позвоню.
Эрлен пожал Звонарю костистую ручищу:
— Будь здоров, Гуго. Рад был познакомиться.
— И я тоже был рад. Обязательно поклонись от меня отцу. Инга, верни гостю пистолет.
Эрликон засунул «бульдог» на место, натянул пальто, и вот он уже вместе с Ингой стоит на улице, в полукруге теплого света от козырька над порталом; рядом, в темноте под дождем, все тот же дассовский «бентли», в нем Вертипорох и Кромвель, изображая нетерпение, держится за ручку дверцы.
— Ты извини, что впутал тебя во все это, — сказал Эрлен. — Представляю, как тебе неприятно.
В ответ Инга вонзила пальцы в его жесткие волосы, пропустила сверху вниз, цепляя кольцами, потом сжала лицо ладонями, поцеловала и шепнула:
— Уезжай. И возвращайся.
Затем подняла капюшон белого плаща и быстро ушла, пересекая бульвар наискось. Эрликон посмотрел ей вслед и нехотя забрался в машину.
— Ну, ты даешь, — восхитился Вертипорох. — У Звонаря в гостях был?
Кромвель пребывал в самом благостном расположении духа.
— Докатились! — удрученно посетовал он. — Посмотрели бы отец с матерью, с кем их сын пьет да гуляет! С колдунами да бандитами. Вот до чего дело дошло! А что это мы стоим? Поехали, поехали. В аэропорт. Вернемся к нашим баранам.
Инга так спешно покинула «Пять комнат» по очень простой причине: она была уверена, что автоответчик уже полон соболезнований и всего прочего. Поэтому она сейчас хотела бы оказаться подальше и в полном уединении; последние полчаса она и так провела как на иголках. Но, едва войдя в нижний холл родительского дома, Инга услышала голоса охранников, встретила бегущего киборга-дворецкого и возле внутренних дверей увидела нераспакованные чемоданы. Отец приехал. Вот без чего она бы сейчас с удовольствием обошлась. Инга поднялась наверх, в кабинет, который про себя именовала «ковровым» — из-за покрывавшего весь пол ковра с таким высоким ворсом, что не сразу можно было разглядеть, на ком какие ботинки.
Рамирес, даже не сняв плаща, сидел в кресле, вытянув ноги, и мрачно смотрел в только что разожженный камин. Борода его на сей раз соприкасалась с шеей без помехи галстука, брошенного здесь же рядом. На вошедшую Ингу авантюрист как будто даже и не обратил внимания и лишь спустя минуту сказал без всякого выражения:
— Дура.
И затем, повернув наконец к дочери голову, заорал уже от души:
— Дура! Ну что ты наделала? Ты хоть знаешь, каких дел натворила? Ни черта ты не знаешь…
Инга ахнула и попыталась сконцентрироваться. Без толку. Перед ней сидел единственный человек, для которого тяжкий молот ее ведьминской мощи был что полет мотылька над цветущим полем.
— Зачем, дурища? Он же ребенок, а ты отняла у него любимую игрушку! Теперь все к черту полетит. — Рамирес с чувством вставил каталонское словцо. — Тридцать лет я… — Следующее слово было итальянским.
— Я люблю его, — ответила Инга. — А он не знает и не узнает.
На любовь Пиредре было наплевать со всех башен Гауди.
— Ах, он не узнает? Скажи, пожалуйста! Какими идиотами бывают умные люди… Кому подчиняется вся охрана? Ты знаешь, что они тебя потеряли в двух шагах от той гостиницы? Доложили мне, доложат и ему. Думаешь, он не сложит два и два?
— Ты ругаешь меня не за преступление, а за глупость, — заметила Инга.
— Да! Это хуже, чем преступление, это преступная глупость, — невольно цитируя классика, гневно признал Рамирес. — Что, непременно надо было вплотную подходить? Ты бы еще разводным ключом ее треснула, мадам Кастаньеда… Ну что мне теперь прикажешь делать?
Странное, доселе не случавшееся взаимопонимание установилось вдруг в эту минуту между отцом и дочерью.
— Я нарушила какие-то твои планы?
— Ты нарушила все мои планы. Ты замуж за него собралась? Ты думаешь, ты его знаешь? Ты считаешь, он твой добрый друг? Сказал бы я тебе… — Рамирес с досадой отвернулся. — Мои планы ее волнуют… Я тебе сейчас скажу о твоих планах. Извини, дорогая дочурка, но твоя песенка спета.
— Ты думаешь…
— Я думаю. Ты у него маузеры видела? Он тебе показывал?
— Нет. Кольты его я знаю.
— Он твои кольты завтра выкинет в канаву!
— Он же их любит.
— Много ты считаешься с тем, что он любит… Ящики такие полированные, в оружейном шкафу, из каждого ручка торчит?
— Да, как-то видела.
— Так, он тебе их не показывал… «Маузерверке», настоящая «девятка», там патроны почти винтовочные, вот! — Желтым ногтем Рамирес отмерил две с лишним фаланги своего музыкального пальца. — Продырявит тебе башку, будет там… два на два дюйма. Узнаешь тогда доброго друга…
— Что же мне делать?
— Не знаю. У тебя гастроли в Стимфале? Ну, два дня он будет хоронить… Собирайся и сейчас же, немедленно улетай. Все. Вещи брось, там купишь. Может быть… хотя и не верится.
Инга присела на край стола, погладила резной торец столешницы:
— Ты приказал убить Эрлена?
— А, он и про это тебе рассказывал? Да, приказал, приказал. Твой Эрлен одним словом и меня, и Звонаря, и всю компанию может отправить в такие места, откуда ты нас не скоро получишь. В нашем деле такое бывает сплошь и рядом… Знаю, знаю, что ты думаешь: что мы с тобой одного поля ягодицы — что ж, ты мне дочь.
— У тебя тоже неприятности?
— Да-с, не скрою, дела дрянь. — Рамирес устал злиться, и природная жизнерадостность постепенно брала свое. — Скорее всего, моя прелесть, твой папочка тоже вскорости употребит политический маневр под названием «ноги». Твоя бурная деятельность также в немалой степени этому посодействовала. Наш чертушка теперь взбесится, сграбастает вот те самые зональные пугачи, и ищи ветра в поле… А мне куда? Что я железке объясню? Извините великодушно, проморгал собственную дочь? Лихо у тебя вышло, калды-балды… Нет, слуга покорный, увольте.
— А как же концерн?
— Моя дорогая, я не Луи Четырнадцатый, но скажу: концерн — это я. Наша музыка сыграет в ящик… — Пиредра вдруг состроил самую утешающую гримасу и предложил: — Давай выпьем, а то мне чего-то не хватает.
В отличие от Звонаря, для которого все связанное со спиртным начиналось и кончалось словом «виски», Рамирес был гурманом и знатоком всего мирового, а в том числе и французского, винодельческого искусства. Он поднялся, освободился от плаща, повращал круглый, встроенный в стенку бар, достал бутылку и разлил коньяк в специальные хрустальные рюмки:
— За твое здоровье, благоразумная дочь, — и сделал Инге еще одну рожу, из тех, что так веселили ее в детстве. — За твои необычайные успехи. Допивай и беги отсюда со всех ног.
— Ох, мое серебро, — спохватилась Инга. — Я же все оставила!
— Серебряные будут ручки у гроба! — снова рявкнул Пиредра. — Живо!
Под влиянием ситуации и коньяка у Инги открылось второе зрение. Другими глазами она увидела всю картину: боже, да мы и вправду гангстерская семья, отец и дочь… вот как это выглядит! Что-то незнакомое пробудилось в ней.
— Па, — сказала она, — почему мы не говорили так раньше? Наверное, это я виновата, я даже не пробовала тебя понять. Ты был слишком добр ко мне… Знаешь, у нас есть еще шанс. Я чувствую, сейчас мы расстаемся, и надолго, но я тебе обещаю, может быть, через несколько лет, я буду ждать, мы обязательно встретимся и расскажем друг другу все до конца. Я очень этого хочу.
— За чем же дело стало, — проворчал Рамирес. — Ты только постарайся дальше без глупостей. Будь хорошей мышкой. А маме мы ничего не скажем.
Оставшись в одиночестве, Звонарь прошелся по комнате, вытащил еще одну сигарету, постоял у окна. Да, надо же, сын Диноэла. Тратера, покинутая, почти позабытая родина. Блудный сын… Наверное, стоят еще те леса, и паутина летит в сентябре, по долинам текут реки, у мостов города, у мельниц запруды, ветер волнует море еловых ветвей… Какой овраг был в том буковом лесу! На что он променял все это? На две кольтовские штамповки? Зачем? Затем, чтобы убивать горемычного сына горемычного отца Терра-Эттина? Но ведь нет уже страшного неумолимого герцога, нет и рыжего палача Монмаута, никто не ищет и не ловит давно умершего разбойника Сталбриджа! Показать Колхии свой родной край, она-то ведь ничего подобного не видела!
Вот мысль. Гуго утопил окурок в унитазе, затем, верный привычке бережно относиться к еде, проделал следующую простейшую манипуляцию: все недоеденное прикрыл тарелками и затолкал в холодильник, потом допил стакан и занялся грязной посудой, включив для начала телевизор — опыт подсказывал, что быть в курсе последних новостей иной раз весьма невредно для здоровья. Задвинув стену, он покатил столик на кухню. В эфире шел разговор о каком-то конгрессе, о чьем-то выступлении, и вдруг померещилось имя Колхии. Столкнув разом все, что было под рукой, в посудомоечную машину, Звонарь вернулся в гостиную.
— …исполнительница как народных, так и джазовых композиций, обладательница звания «гитара-акустик» семьдесят пятого, семьдесят седьмого и семьдесят восьмого годов, а также признанная лучшей певицей кантри-блюз прошлого года. Согласно сообщениям, смерть наступила в результате приступа острой сердечной недостаточности во время отдыха актрисы в заповеднике на севере Нормандии. О времени и месте церемонии похорон информации пока не поступало.
Сердце. Внезапная остановка сердца. В жизни Колхия не жаловалась на сердце. Гуго окаменело смотрел на экран. Все внутри, отталкиваясь и отворачиваясь от факта, выло и ревело: «Нет! Не верю! Не может быть!», всеми силами пытаясь убежать в прошлое, где этого кошмара еще нет. Бесполезно. Не убежишь. Вот оно. Умерла. Господи, что же теперь еще?
Звонарь нащупал за спиной пульт и выключил телевизор; бросил полотенце, которое, оказывается, все еще держал в руке, потом зачем-то взял со шкафа пистолет, убрал в кобуру и сел на диван. Душа разом помертвела, и неизвестно, что было бы дальше, если бы не утвержденная годами потребность в действии. Гуго снова поднялся и подошел к телефону. Ах да, он же выключен. Ого, ему, кажется, звонил весь город. К черту.
— Голубка. Давай машину. Через пять минут.
— Диспетчерская? Анри, это ты? Приготовьте вертолет — это первое. Второе — все данные. Больница, морг, главврач, префект, где поп этот проклятый. А… уже знаешь. Кто из наших выехал? Так. Нет. Мне нужны все, поднимай ребят. Я сейчас буду. Спасибо, малыш. Да, не поможешь. Вот еще что, пока не забыл, сообщи по каналу: операция по летчику отменяется, возвращай всех.
Звонарь дал отбой, оделся, затянул пояс кожаного пальто и неожиданно остановился, привалясь к косяку, и не меньше минуты простоял так, глядя невидящими глазами в раздвинутое пространство кухни. Потом погасил свет и вышел.
На нормандском берегу, между лесом и дюнами, возвышался громадный черный сруб. Наверху сруба стоял помост, на который вела свежеструганная лестница, а на помосте лежала Ленка Колхия в своем любимом походном наряде: джинсах, свитере и новеньких кроссовках. Сооружение было воздвигнуто за одну ночь, несмотря на то что смолу, например, — шесть бочек — пришлось везти специальным рейсом аж из Финляндии.
От всего остального мира этот уголок побережья отделяла вытянувшаяся вдоль края леса цепочка олимпийских охранников со вкрапленными в разных местах полицейскими в глянцевых плащах. Полицейские всем объясняли: допуска нет, права аренды законные, дождитесь завтрашнего дня, а пока вот объезд. Для прессы Звонарь объявил:
— Будут присутствовать только сыновья. Если какому-нибудь умнику захочется поснимать с вертолета, пусть он знает, у меня с собой «стингер».
И орда журналистов деликатно передвигалась вдоль опушки, вооружась телеобъективами и дальномерами. Подоспевшему священнику Гуго сообщил:
— Нет, святой отец, она отправится к Богу так, как сама этого желала. И я вас уверяю, что они там прекрасно договорятся. Так что ступайте и помолитесь за нее.
И священник пошел молиться.
Вместе с пестрым и довольно оживленным караваном, густо оснащенным гитарами, пожаловал некто, назвавшийся мужем, — старый облезлый мальчик лет пятидесяти в длинных седых патлах с претензиями на свободомыслие. Компанию вернули в автомобили, а пришельца доставили пред очи Звонаря. Тот первым делом посмотрел на старшего сына Колхии, Бориса.
Борис подошел и что-то зашептал Гуго на ухо. Звонарь выслушал, не поведя бровью, а старый мальчик-муж чувствовал себя все более неуютно: вокруг пустынные дюны, не склонные к общению вооруженные люди и не обещающий ничего доброго взгляд Звонаря. Прибывший облизнул губы и переступил с ноги на ногу.
— Я, — начал он, запинаясь, — видите ли… Мы…
— Ты, — подтвердил ему Гуго. — Вижу, что ты. Теперь слушай меня внимательно, потому что повторять два раза я не стану. Сегодня тебе предоставляется удивительный шанс, какого у тебя, может быть, никогда не было. Проси, что хочешь, и ты это получишь. Хочешь денег? Назови сумму. Хочешь дом? Говори. Хочешь земли? Скажи где. Хочешь машину? Пожалуйста, любую. Ну?
— Э-кхм-м, — сказал гость.
— Ну что, хочешь машину? — помог ему Звонарь.
— Хочу… машину.
— Какую?
— Э-э-э-э… «паджеро».
— Буча, — приказал Гуго одному из стоявших вокруг людей, — поезжай с ним в Довиль, купи ему «паджеро» и оформи все права. Заправь. Так вот, садись, уезжай, и чтобы я тебя никогда больше не видел.
И старый мальчик сгинул.
Теперь со всем этим было кончено. Теперь они втроем — Гуго, Борис и младший сын Ричард — стояли перед пахнущим смолой срубом; на песчаном склоне лежала глубокая тень, другой озаряло солнце, неподалеку вздыхало невидимое море.
— Гуго, — сказал Борис. — Не надо, не мсти.
— Гуго, — сказал Ричард. — Ведь ты не умрешь? Ну, не умрешь так скоро?
— Дайте гитару, — сказал Звонарь.
Гитара Колхии — та, которую она называла «кочевой», — видавший виды, но еще очень приличный инструмент немецкой работы с глубоким коробом и рябым от времени грифом; Звонарь взял ее и поднялся наверх, на помост.
Колхия лежала расчесанная, подкрашенная, очень красивая, с букетом осенних цветов под головой, спокойно глядя в небо закрытыми глазами, и даже утихший ветерок не тревожил ее рыжих кудрей. Присев рядом, Звонарь тронул струны гитары.
— Расстроена, — обратился он к Колхии. — Ничего, я сейчас.
Захрустели колки, зазвучали, меняясь, тона — рядом с мертвой возлюбленной Звонарь тщательно настраивал гитару. Настроил, положил под холодную руку, бахромчатый ремень бережно подсунул под плечо.
— Я забрал кападастр, — сказал Гуго, стараясь смягчить голос. — Я просто настроил повыше… — Тут он не выдержал и первый раз за все время незаметно для себя заплакал.
Спустившись к мальчикам, Звонарь поднял сосновую чурку, обмотанную смоляной куделью, и кивнул Борису. Щелкнула зажигалка, пламя весело затрещало. Гуго и следом ребята обошли вокруг сруба, втыкая факел между бревнами.
Вначале ничего было не разобрать из-за дыма. Потом огненный дракон расправил крылья, и находиться рядом стало невозможно; гудящая и крутящаяся башня огня поднялась над побережьем, и видно ее было за несколько миль.
— Ступайте, — сказал Звонарь мальчикам. — Поезжайте с Люком. Дальше я сам.
Двумя днями позже, опять-таки в несусветную рань, Гуго вернулся в «Пять комнат». Помывшись и побрившись, он приступил к делам: из первозданного хаоса стенного шкафа достал багажную стенторовскую сумку с давно вышедшими из моды гобеленными вставками (вот бы влетело разбойнику от Инги!) и уложил в нее разную походную мелочь, футляр с охотничьим луком, теплую куртку, носки, запасные сапоги, воспетые Рамиресом два маузера и патроны к ним, сборник собственных сочинений, длинный нож в универсальных ножнах, белье, два свитера и аккуратнейшим образом запакованную черноярлычную бутылку «Джонни Уокера». Задернув на этом всем «молнию», Звонарь занялся не менее важной процедурой: разложив на столе разнообразные ершики и масленки, он разобрал, вычистил и смазал все пистолеты. Современного оружия Гуго не любил. Что же это такое действительно: отдельный предохранитель на спусковой крючок, отдельный — на курок, и еще один — на затвор, да плюс фиксатор обоймы, да затворная задержка, и прибавьте разборную кнопку. Это уже не пистолет, а то ли пульт управления НАСА, то ли вообще вотум недоверия человечеству. Нет уж, он предпочитал в первую очередь полагаться на собственное соображение и верность руки, а автоматика — это, знаете ли, дело второе.
Любовно поклацав затворами восьмизарядных, Гуго вставил обоймы и дослал патроны, после чего, переодевшись во все чистое, натянул сложную двухкобурную сбрую и пару «двойных орлов» серии семьдесят рассадил на их законные места под мышками, а третий просто положил в карман пальто; надел пояс с очень элегантными метательными ножами, а за высокое голенище левого сапога засунул подарочный «деренжер» с перламутровой ручкой.
Снарядившись таким образом, Звонарь оделся, подхватил сумку и направился в гараж, где сам сел за руль какого-то подозрительного «рено» и на нем минут сорок колесил по городу, пока наконец, не приткнув машину в безвестном дворике на окраине, исчез из этого дворика неизвестно куда.
Появился он спустя полтора часа в совершенно противоположной стороне предместий в закрытой на каникулы авторемонтной мастерской, где его уже дожидались три человека.
Народ подобрался чрезвычайно любопытный. Первое, и весьма удивительное, заключалось в том, что их никогда не видели в «Олимпии». Их, к слову сказать, вообще мало кто и где видел, ибо вели они необычайно замкнутый образ жизни, и хотя в полиции на каждого из них существовало досье, но большей частью там были пустые строчки и вопросительные знаки. При всем при том люди эти были не просто знаменитыми профессионалами экстра-класса, но профессионалами-легендами с мировой славой и вполне солидными состояниями, поскольку стоили их услуги сказочно дорого. Объединяло их одно: каждый в разное время и по разным причинам был обязан Гуго Сталбриджу то ли жизнью, то ли больше чем жизнью, то ли вообще всем на свете, и по такому случаю все они были готовы идти за ним к черту в пекло. Туда, кстати, Звонарь и собирался их пригласить.
Имен в этой компании не существовало. Имена были у посредников, но сегодня посредников не требовалось. Номер один был алжирский еврей из прекрасной, между прочим, семьи, тишайший шизофреник во всем, кроме работы, обладатель абсолютно фантастического носа и не менее фантастического набора, скрытого в бесчисленных карманах кожаного жилета, клапаны и карабины которого содержали невероятное количество инструментов: загадочных крюков, тросиков, кривых ножей, фонариков, сюрикенов, запалов, обойм, непонятных ампул и иных таинственных приспособлений, в число которых входила и пара «сандалет» под патриотические «узи». Весь арсенал вполне компактно размещался под плащом.
Вторым был истинный француз, грузный потомок Кола Брюньона, навеки подаривший свое сердце взрывчатке, детонаторам и часовым механизмам, неустанный изобретатель портативных ракет ближнего и дальнего действия. Третий — рыже-белесый ариец — может, немец, может, голландец, стопроцентно нордическая внешность которого даже у самого непредвзято мыслящего человека вызывала невольный вопрос: а в самом деле, на каком основании славянская раса владеет такими территориями на востоке Европы? Этот отдавал предпочтение старушке винтовке «AUG» и щедро украшал ее разнообразной оптикой, лазерными и инфракрасными прицелами, вдобавок еще какая-то электронная коррекция и неведомо что; не менее мудреной механикой норовил он оснащать и собственные глаза.
Появление Звонаря прервало меланхоличную игру в кости под единодушное истребление соленых орешков; без каких бы то ни было предисловий Гуго разложил на столе план — судя по всему, какого-то архитектурного сооружения, где присутствовали лестницы и штрихованные врезки сечений.
— Ну, еще раз, — начал Звонарь. — Итак, мы собираемся навестить Рамиреса. Все обо всем знают, но некоторые уточнения стоит внести. Герой дня у нас — ты, Хайфа. Войдешь через крышу — и вдоль балки. У них там компьютерный центр и диспетчерская всей телеметрии, охраны три человека, и они никого не ждут. Программисты тебя, скорее всего, и не заметят, мимо них проходишь к люку — вот тут — и в нем зависаешь. Как только угнездишься, пискни. Мы все тебя ждем.
Окрещенный Хайфой рассеянно кивал, не сводя с чертежа выкаченных, под дивными ресницами, палестинских очей, и продолжал украдкой заглатывать по одному орешку.
— Люк над главным залом. Как только я дам команду и если я дам команду, убираешь его и перекрываешь зал сверху, вот с этого дальнего угла.
После смерти Колхии у Звонаря опустился правый уголок рта, поэтому в движениях губ появилось подчеркнутое усилие, почти болезненность, что вовсе, однако, не сказалось ни на глубине голоса, ни на четкости дикции.
— Возможно, что мы с Рамиресом сумеем договориться. Возможно, что и нет — значит, возникают два варианта: плохой и хороший. В случае плохого — вот отсюда, через главный вход, тебя поддержит Марсель, а со стороны кабинета, напротив — мы с Мюнхеном. Как только всех их приберем — а времени у нас мало, уходим через вот эту внутреннюю площадку. Если все сойдет тихо, ты так же возвращаешься вдоль балки и назад через крышу в соседний дом; нас, естественно, никого не ждешь.
Вопросов не возникало, все слушали внимательно, хотя и без эмоций, как-то полусонно, у всех присутствующих рутинность работы заметно перекрывала темперамент, долгий опыт приучил их автоматически, скаредно-скрупулезно экономить энергию для дела.
— Теперь ты, Марсель. У тебя немного проще. Ставишь пикап на стоянку и заходишь со стороны улицы Годдар. Тут смежная стена, устанавливаешь свои игрушки и ждешь сигнала. По сигналу ликвидируешь стену, и перед тобой две двери — эта и вот эта. Входишь через вторую, потому что первую они в пять секунд превратят в решето. Твой сектор — центр зала, и поосторожнее с гранатами, помни, над тобой висит Хайфа.
Брюньон-младший скупо отмахнулся — знаем, не маленькие.
— Мюнхен, малыш, тебе придется побегать. Произошли изменения, видишь? Пиредра сделал прямой выход в гараж. Это для нас и удобно, и не очень. Первая часть прежняя — через пожарное окно заходишь на его секретную лестницу, смотри, не впиндюхайся в сигнализацию. Охраны там нет, и, как только я зайду в кабинет, будешь слышать каждое слово. Ориентируйся по обстановке. Наш сектор — вся восточная стена от стойки до стойки. Уходим, как я сказал, через дыру Марселя, через площадку и на улицу Годдар, в микроавтобус. Если же они решат взять меня на лестнице или вообще обойдется без стрельбы, то ты сидишь в тамбуре, пока я не пройду зал, и независимо от того, началась заваруха или нет, бежишь вниз, в гараж, выезжаешь и со своей пушкой встречаешь нас у выхода. Мы втроем отъезжаем на «додже», а ты устраиваешь прощальный дивертисмент. В случае мирного исхода встречи министров точно так же спускаешься — не забудь запереть дверь — и спокойно уезжаешь. Про тебя, Марсель, и речи нет — размонтируешь свои шутихи, и в пикап — только тебя и видели. Рамиреса мы вряд ли обманем, но не пойман — не вор.
— В случае плохого варианта Рамиреса убивать? — спросил педант Мюнхен.
— Обязательно. Ох, он нам просто не дастся… Да, маловато нас, надо бы еще по человеку на машины… Их там дюжины две, не меньше. Короче, Хайфа, ты начинаешь. Мостись и сообщай. Потом вы двое, потом я. В случае какой-нибудь заминки минуты три я точно продержусь… Сейчас почти десять. Что же, я думаю, джентльмены могут взять шляпы и отбыть. С богом.
Джентльмены последовали его совету и отбыли.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Светясь позиционными огнями, как рождественская елка в темной комнате, «Милан-270» вышел из причальных створов станции «Вайгач», отрастил сзади огненные струи с голубым ореолом и, белея корпусом, быстро пошел вниз — к смутным черно-синим размывам, течениям и завихрениям атмосферы плывшей под ним чужой планеты. На экранах слежения «Милан» уменьшился, на мгновение затемнился, снова проявился, превратился в светлую стрелку с двумя фитильками, в точку — и растаял. Мрак, ничего нет. Передачу продолжает судейский крейсер.
Третий, заключительный этап кромвелевского мемориала Серебряный Джон по высшему пилотажу в классе Е, 00.26, Валентина-II, ночная сторона. На все про все отводится шесть часов, от первого старта до последнего финиша — на противоположной стороне Валентины, на космическом комплексе «Терминал-6», и затем — награждение, поздравления, шампанское, контракты, неустойки, слезы, подтверждения выплат, неподтверждения, страховки, скандалы, банкет. Все пакуют чемоданы — и по домам, большинство — до апреля, до чемпионата мира.
Жеребьевка в подгруппе лидеров сыграла удивительный номер: открыть трассу выпало Эрликону, вторым следовал Такэда, третьим, как ни смешно, Баженов. Кромвель основательно призадумался: «Перестраивай теперь всю тактику — нас же догонять будут». «А ты извернись», — советовала красавица Шейла, привезенная в качестве группы поддержки. Хитрость предстояла немалая — чтобы увезти, на радость Бэклерхорсту, в специальном кофре большеухий серебряный кубок, похожий на перевернутый древнерусский шлем, Эрлен должен был не менее минуты с четвертью выиграть у Эдгара и не менее двух с половиной — у Такэды; нужно было, чтобы первый результат дня остался лучшим. Вот загвоздка.
На маршруте им предстояло провести час. Эрликон полулежал, утопленный в «кишке Маркелова», голова — в компьютерном шлеме, ноги на педалях, между ними — ручка, перед глазами приборы, за бортом — мрак. Все оборудование заново подогнано, протестировано, застраховано — десять часов максимальных нагрузок, и — под пресс. Нежно зеленеют экраны, горят шкалы индикаторов, тихо звучит Равель — скоро его сменит Мэрчисон, Второй концерт для фортепьяно с оркестром; Дж. Дж. поглядывает на дисплей — до атмосферы пять шестьсот, надо поторапливаться. Через одиннадцать сорок три проходим терминатор. Курс 96.
Кромвель отменил все предыдущие маневровые установки типа «отстали — обошли»; не имея впереди соперника, он приказал безжалостно опустошать баки, благо в условиях, максимально приближенных, топливного лимита не существовало, и Эрлен гнал машину во всю газотурбинную мощь.
Полторы тысячи. Разреженные слои. В аккомпанемент «Болеро» едва слышно запела плазма. Где-то за их спинами сейчас стартовал Такэда и тоже, наверное, нахлестывает рысаков, а через три минуты — очередь Эдгара.
Пока все хорошо. Можно не думать ни о Пиредре, ни о Звонаре, ни о Скифе. О Скифе думать не хочется особенно. Тогда в автомобиле и потом, в аэропорту, Эрлена охватила тихая истерика: разговор со Звонарем убил последние надежды, развеял всякую неясность, и логика Скифа открылась во всей своей жуткой наготе. Страшно было то, что прежняя жизнь уже окончательно осталась в прошлом, и теперь надо было начинать все сначала — снова одному, снова в мире, который вдруг стал враждебным. Дж. Дж. старался, как мог, его успокоить на свой лад: «Смешно сердиться на естественный порядок вещей. Подонки подонствуют, ублюдки — ублюдствуют. Железный выродок сотворил другого, из плоти и крови. Одному наплевать на родную дочь, другому — на племянника. Кстати, ну какой он тебе, к черту, дядя? Один названый братец загнал другого, словно Христа, в пустыню… Скиф отнюдь не такой уж зверь. Он поступил с тобой, если так можно выразиться, максимально благородно: показал архив и пригласил меня. Он дал тебе шанс. Извини, но большего и желать нельзя».
Нет, уж лучше лежать и смотреть на приборную доску. Атмосфера. Сорок тысяч. Ну, ребята, начинайте. Пошло снижение.
— Отдай ручку помалу, — распорядился Дж. Дж. — И убери обороты до два-семь. Левая нога. Еще. Стоп. Локатор.
На экране локатора, на дисплеях — мешанина сеток, зато кругом — красота. Синева. Звезды. На равнинах — печальный отблеск полночных светил, и вот они уже не равнины, а холмы и долины — все облака. Вот они выше, выше, уже не холмы, а сказочные горы, а на экранах заднего обзора совсем низко над ними вдруг вспыхнула новая звездочка.
— Японец, — сказал Кромвель, и все исчезло, утонуло в чернилах с молоком — вошли в облачность. — На форсаже идет.
— А мы что же?
— Была бы такая керамика, как у него, и мы бы сейчас. Отдай еще. Включи инфракрасные, что-то я ни черта не разберу.
Теперь только знай посматривай. Скорость, высота, коррекция, тангаж, время. Но понемногу светлеет — шли бы повыше, видели бы сейчас фантастический выпуклый край горизонта, наполняющийся солнцем — голубой, золотой, белый восход, каких с земли не увидишь. Но с восемнадцати тысяч в облачности мало что разглядишь. Все равно, через четыре минуты влетаем в день. Шестнадцать тысяч.
Что-то произошло. Пробежала рябь по экранам, дрогнули стрелки над шкалами, качнулись цифры на авиагоризонте — показалось, лопнула какая-то тонкая струна, но ведь нет тут никакой струны, и стало как будто тише, словно утих шум, на который давно перестал обращать внимание.
— Это что еще? — спросил Кромвель. — Дай-ка все дублирующие. Нет, нормально, гаси. Вот что… включи-ка радио.
Дело запрещенное — без судейского-то вызова, но Эрликон без колебаний передвинул тумблер. Ничего. Гробовое молчание.
— Джон, что это? Антенна полетела?
— Наверное, и антенна. Пережгло нам радио, оно же без демпфера. Импульс.
— Что за импульс?
— Не знаю. Валентина, здесь бывает. Экранировку не пробило, и слава богу.
Но маршал явно насторожился. Поджав губы, он приказал держать высоту, хотя по времени давно следовало форсировать снижение, задействовал все ближние и дальние сканеры, все, какие есть, индикаторы и даже электронику слепой посадки, сам же не сводил глаз с центрального дисплея, меняя так и эдак дальность и настройку.
Собственно, всевозможные неполадки и навигационные неурядицы входили в программу соревнований, но даже самый неумелый и неопытный пилот легко определил бы, что ситуация до странного мало напоминает стандартные трассовые сюрпризы. Наконец Кромвель со своими поисками и перестройками, похоже, выкрутил то, что искал: по экрану бежала широкая горизонтальная синяя полоса с ответвлениями в белой бахроме, сверху и снизу охваченная красным фоном. Эрлен покосился на наставника — не каждый день приходится видеть маршала сбитым с толку.
— Эрлен Терра-Эттин, — произнес Дж. Дж. несколько сухо и отрешенно, — ты когда-нибудь слышал, чтобы в меню третьего этапа включали циклон класса «Валентина»?
Циклон класса «Валентина»… Эрликон судорожно попытался вспомнить. Многовекторный вихревой поток с твердой составляющей, циркуляционно-зонально… что-то там диаметром… диаметром… Кромвель что-то рассказывал…
Склонив хищный нос, «Милан» летел в сплошной рассветной облачности, и долгий безумный вой тянулся за ним, безнадежно отставая.
— Я тоже такого не припомню. Это даже и не циклон… Не знаю, на Земле аналогов не существует. Мы в нем будем через пять двадцать. Ополоумели они там, что ли? На нашей жестянке это, во-первых, наглость, во-вторых, самоубийство.
Эрлен не находил что сказать.
— Джон, может, вправду так задумано? Ведь очень гладко все идет.
Кромвель угрюмо смотрел на синюю полосу:
— Он небольшой… Убирай высоту до двенадцати тысяч.
Облака закончились, встав стеной позади, открылась видимость, и Эрликон замер, широко открыв глаза. Далеко впереди, поперек белого света, подножием в преисподней, а стоглавыми зубчатыми вершинами доходя до космоса, поднимался замок. Он перегораживал небо и вертикально, и вправо, и влево, границ ему не было, он уходил за края горизонта, да и горизонта не было — все исчезало в размахе громадины; чуть выше, узкой кромкой небо начинало алеть, а сам замок был сине-лиловым с просветлениями в вышине, где во все стороны от его вершин-башен вытягивались, расплываясь на концах, грозовые пальцы. Землю внизу было не разглядеть, вместо нее глубоко-глубоко под ними неприютно клубились седые космы.
— Вот это да, — пробормотал Эрлен. Ледяной озноб нарисовал крест между лопатками и позвоночником.
— Скорость — три запятая ноль эм, — приказал Кромвель. — Еще, еще, не слышишь, что ли? Стоп, достаточно. С матерью и отцом мне все ясно, со Скифом тоже, но вот ответь, влюбленный, эта Инга сильно огорчится, если ты разобьешься?
Замок надвигался. Теперь его глав уже не было видно, вокруг снова начало смеркаться.
— Не знаю, — медленно проговорил Эрликон. — Вряд ли. Не думаю.
— Плохо дело. Хоть и обзывали дьяволом, но за меня, бывало, болели. Да-с, победы наши по-прежнему никого не радуют, а смерть — не печалит.
— А Бэклерхорст, а Шейла?
— Да. Бэклерхорст и Шейла, конечно. На экранах заднего обзора из облачности выпали одна за другой похожие отсюда на мух машины. Кремово-белого «мицубиси» можно было различить лишь с трудом, зато пятнистый «викинг» Эдгара читался ясно, как черно-желтая оса на фоне беленой стены. Оба и не думали снижать скорость, их тени одна за другой скользнули вниз по облакам.
— Два запятая два. — Кромвель на несколько секунд остановил взгляд на соперниках, потом снова стал смотреть вперед, — Итак, Эрли, ты решился? Мы не отворачиваем? Ну, что же, мы мастера. Докажем… Убьем…
Дж. Дж. не уточнил, что имеет в виду, а Эрлен не спросил: ему стало не до того. Циклон подступил вплотную, его внешняя цельность распалась, растворилась в разрывах и тенях, изменился цвет — проступили и обозначились теплые, коричневатые тона, и Эрликон увидел, что те стены, на которые он смотрел издалека, — это несущийся на бешеной скорости немыслимой ширины и глубины поток. В нем были свои течения, разделенные слоистыми черными полосами, завихрения, протягивающие навстречу то ли пыль, то ли облака, наползающая сверху и снизу дымка; ему вдруг вспомнился пластик «под дерево» бесконечных больничных коридоров, по которым его, бывало, везли в сидячей каталке — будто ожили и неудержимо побежали бесчисленные древесные волокна, сходясь, расходясь, обтекая сучки и наплывы… Чем ближе, тем тона становились какими-то все более глинистыми, точно перед ним вертелся справа налево гончарный крут самого Господа Бога и, нависая, загораживал небо. Никогда еще Эрлен не чувствовал себя таким ничтожеством и песчинкой, величие мироздания обрушилось, казалось, впрямую на его незащищенный мозг, и охватили такая беспросветная безнадежность и ужас, что смерть померещилась привычным и уютным укрытием. Он, может быть, через несколько минут сошел бы с ума, но тут в него вступил Кромвель.
Их уже сильно сносило. Маршал переложил ручку, перегруппировал тяги, «Милан» проделал переворот через крыло и на верхней точке виража вписался в поток. Несмотря на то что Дж. Дж. довольно точно рассчитал скорость течения и быстро выровнял машину, тряхнуло основательно, вибрацию, сотрясавшую корпус, Эрликон ощущал сквозь все амортизационные толщи, но самое главное было то, что ясно обозначилась хрупкость их убежища и полная зависимость от увлекавшего воздушного слоя.
У Эрлена все еще дрожало внутри, но Кромвель внес в него обычное успокоение наркотическим приливом сил, и под воздействием захватившего обоих напряжения Эрликон не только освободился от кошмара, но даже уловил суть кромвелевских мыслей.
Картина поглотившей их фантасмагории маршала взволновала не слишком, Дж. Дж. не был поэтической натурой; в не поддающейся описанию красе циклона он видел только смерть и борьбу со смертью, и чем неизбежнее она становилась, тем более он ее презирал и ругал самой площадной бранью на всех языках, которые знал. Он оторвал на мгновение руку от сектора газа и включил перемотку: Второй концерт Мэрчисона вновь начал ткать свое непостижимое колдовское полотно; лицо маршала было спокойно, лишь иногда он морщился, будто силясь что-то рассмотреть вдалеке, держался он почти расслабленно, и только глаза перебегали от циферблата к циферблату с диковато-болезненным вниманием. Приборы врали невесть что, локация угасла, но Кромвель, сличая это вранье свихнувшихся стрелок и шкал, что-то угадывал и вел куда-то машину.
Так думал, а вернее чувствовал, Эрлен — никаких мыслей у него в голове не оставалось, и он лишь повторял про себя: «Кромвель ведет машину. Кромвель ведет машину», да стояли в глазах цифры — 0.54. Что это значит?
Тем временем «Милан» подобрался к высмотренной Кромвелем внутренней границе слоя и без всякого, надо сказать, изящества перевалился в следующую струю. В воздухозаборнике альтиметра ведьмы справляли шабаш, но и так было понятно, что это течение выносит наверх. Дж. Дж., рискуя развалить самолет, резко забрал вправо-вниз, так, что затрясло, как в лихорадке, положил машину на правый бок и бросил ее в следующее ответвление.
Они проскочили удачно, здесь скорость была пониже и маневр свободнее, но «Милан» неожиданно клюнул носом и стал проваливаться с ничем не оправданной быстротой — даже Кромвель этого не ожидал. Однако он тотчас убрал тяги и удержал машину на тормозных венцах, так что самолет полетел, стоя, как перевернутая свеча, головой вниз, маршал только ругнулся, влепив свое любимое короткое словечко:
«А, б…, ВВС — страна чудес!» На экранах прочно установилась серая муть и как-то поутихло. «Разве что задом наперед не летал, — вспомнил Эрликон. — Ну вот и летаем». Дж. Дж. вывел сопла на стартовый разворот, ставший в этом новом положении из вертикального горизонтальным, и так корректировал курс, осторожно пошевеливая секторами.
— Смерч, — пояснил он для Эрлена. — Идем внутри смерча. Уходим с периферии. Посмотри.
Эрликон не понял, куда смотреть, Кромвель указал — лазерная подсветка еле дышала, но можно было разобрать снаружи внизу слабое мерцание.
— Такэда. Идет в ветровой тени, молодец, но слишком низко. А чемпион пошел на посадку, я видел. Квадрат 16–14.
Что там можно было разглядеть в той круговерти, Эрлен даже не успел задуматься. Маршал, почувствовав какие-то колебания, выпрямил «Милан» и на коронном плоском «штопоре» вывел из смерча. Эрликон снова потерял ориентацию, не успевая за Кромвелем, цветные полосы, свет и тень, пузыри, крошево заплясали, вращаясь перед глазами и в голове, и вот опять вокруг серый сумрак смерча, но уже другого, и стоят они в нем нормально, соплами вниз, как ракета, и Дж. Дж. подправляет курс боковыми тягами. Он, похоже, начал разбираться, что здесь к чему, потому что из этого смерча они тоже ушли, маршал что-то искал, а чего-то избегал и даже время от времени пояснял Эрлену ситуацию, но тот сумел понять лишь слово «запоминай» — ему потихоньку делалось неважно.
Несколько раз вновь ударяла свистопляска бросков и рывков, полетела индикация, полетели инфракрасные; опять они угодили в область несмешивающихся разно-скоростных потоков.
«Восточная периферия», — сказал Кромвель, и это означало надежду. Снова изматывающие переходы из слоя в слой, скорость скачками нарастала, ее надо было уловить, и для стабилизации на каждом переходе Дж. Дж. крутил вытянутую «бочку», названную его именем. Маршал провел «Милан» наискось через очень широкое течение, загоняя двигатели на форсаже — слишком велика скорость сноса, давление съедало тяговые усилия, сделал еще один переворот и, уложив машину килями параллельно горизонту, повел ручку на себя.
Все! Коричнево-глинистая чудовищная стена отпрыгнула назад, под брюхо, вираж, мимо пронесло сивые пряди облачности, перегрузка сдавила и отпустила, «Милан» выровнялся, вновь покорный рулям и тягам, Кромвель покинул Эрликона и развалился вдоль кабины, свесив руку с приборной доски, как усталый леопард — лапу с дерева.
— Курс!
— Сам смотри, — с натугой выдохнул Эрлен. Руки дрожали, сердца не было вовсе, во рту запеклась твердая корка, и под черепом, за левым глазом, ритмично пульсировала боль. Но спасибо тренировкам: он был замучен, но жив и даже чувствовал какие-то оставшиеся резервы и готовность еще раз в случае нужды окунуться в ад кромешный. Дж. Дж. тоже выглядел усталым.
— Самое смешное, что мы на курсе, — заметил он. — Правда, у черта на рогах. Хм, час десять.
— Что — час десять? — спросил Эрликон, с трудом еще ворочая языком, — он вспомнил таинственные 0.54.
— Нас там трепало час десять минут.
Эрлен молчал. Час десять? Быть не может. Ну, сорок минут. О Господи.
— Вот так программа. — Маршал был по-прежнему бодр. — Ну, а не знал бы я этих смерчей? Где бы мы сейчас были? Ты спасателей хоть где-нибудь видел? Что-то перемудрили на этот раз… Дело ясное, Пиредра всех подкупил… Прибавь, прибавь еще. Кстати, где наш самурай?
Эрликон подтянул сектора. Внутренний линейный контроль не работал, две трети дублирующих схем вылетели, из позиционных огней уцелел один. Высота десять тысяч, редкая облачность, солнце. Сине-белый «Милан» стал грязно-рыжим с подпалинами, как осенний кленовый лист.
— Я видел Такэду в последнюю минуту, — сказал Кромвель. — Он шел за нами. Подними-ка руку и набери данные… Скорость три и шесть Маха, сорок градусов к курсу. Шел сзади и вывернул раньше минуты на три. Разворот пятнадцатисекундный. Ах, черт нас нес — он миль на триста впереди, то-то не видно. — Дж. Дж. снова улегся. — Итак, можем смело предположить, что кубок мемориала выиграл Такэда Сингэн. Наши соболезнования Бэклерхорсту. Впрочем, его убытки невелики, не такая уж свинья Незванов, чтобы не дать нам второго места за наши сальто-мортале…
— Сколько нам еще до станции?
— Шестнадцать с секундами.
Землю внизу опять начало закрывать облаками, справа-сверху светило солнце. Курс прежний — 36. Пилоты молчали, потом Кромвель приподнялся и прищурился:
— Летит кто-то.
Ничего особенного не было в этих словах, но, как и тогда, за обедом у Звонаря, Эрлен буквально затрясся от смеха, закашлялся, в легких закололо, он никак не мог остановиться, и слезы бежали по щекам из-под шлема на шею. Дж. Дж. тоже радостно ухмылялся, словно сказал невесть какую остроту:
— Десантники… Как всегда, пожаловали, когда уже не надо.
В самом деле, увеличившись из точки на краю неба, над ними скоро зависла, тактично сменив курс, необъятная серо-стальная махина десантно-спасательного крейсера.
— Стараются, наверное, — злорадно посочувствовал Кромвель. — Не мучайтесь, ребята, сгорело радио, сгорело.
Ребята, однако, быстро сообразили, что к чему, и замигали бортовыми огнями, интересуясь, все ли в порядке и не требуется ли какой помощи — вероятно, плачевный вид «Милана» наводил на грустные размышления. Не упуская случая поддержать престиж, Дж. Дж. перевернул машину так, что единственный действующий позиционный светильник смотрел на крейсер и, расположившись с Эрликоном головами вниз, защелкал переключателем внешней сигнализации. Спасибо, никакой помощи не требуется, летите своим путем-дорогой в квадрат 16–14, где сидит чемпион и вас ждет не дождется. Мгновение маршал сомневался — не спросить ли про японца, но решил, что это дурной тон, и вернул самолет в нормальное положение. И тут десантники выкинули штуку, прямо-таки сразившую Кромвеля.
Крейсер зажег все огни, включая прожектора и лазеры, выдвинул до упора все тестерные штанги и более того — вывел на круговую орбиту ракетные микроботы; всем этим трижды мигнул и, если верить полуоглохшей внешнеакустической системе, трижды врубил громовые аварийные сирены, приветствуя пилотов по высшему адмиральскому классу, — после чего развернулся и помчался разыскивать Баженова.
— Спасибо, командир, спасибо, — пробормотал Кромвель. — Есть же приличные люди… Молодец.
Комплекс «Терминал-6» висел над атмосферой, над океанами, над сине-зеленым, размытым дымкой рисунком суши, как исполинская алюминиевая кастрюля с ручками наружных причалов, призывно светясь разноцветными огоньками. Дж. Дж. давал последние наставления:
— Япония — страна вежливости. Как только сядем, нас откупорят — я там поначалу немного пережал, фонарь, скорее всего, приплавился, вылезаешь и первым делом подходишь к Такэде.
— Джон, ну что ты объясняешь, как маленькому.
— Не перебивай меня. Подходишь, пожимаешь руку, не вздумай состроить какой-нибудь физиономии, и говоришь: поздравляю.
— Джон, да я знаю.
— И только потом — к Незванову. Отпусти ручку, еще рано.
«Милан» с величавым достоинством заплыл в створ посадочного шлюза, миновал силовую блокировочную воронку — здесь комфорт был рангом выше, нежели на «Вайгаче», отверзлись врата второго шлюза, и машина на малой тяге замерла над рифленой с белыми кругами взлетной площадкой. Шасси. Эрлен убрал газ. Точка.
— Гляди, гляди, бегут, — сказал Кромвель. — Ишь, сколько. Улыбнись им. Телевидение лестницы тащит. Шейла, девочка моя… Вертипорох плачет, дурья голова. Что? Да, да, заклинило, автоген неси! И закуску… какую-нибудь.
«Интеллидженсер» писал так:
«Старт заключительного этапа мемориала Кромвеля следует, без сомнения, считать самым драматическим событием спортивного сезона этого года. Менее десяти минут отделило начало соревнований от получения метеосводки с сообщением о том, что трассу гонок пересек суперциклон „Валентина“, неожиданно сошедший с традиционного многолетнего маршрута. Трагизм ситуации заключался в том, что присущий циклонам этого типа электромагнитный импульс полностью нарушил радиосвязь, и из пяти стартовавших спортсменов удалось вернуть только двоих — Патрика Флинна и Роджера Стоу, а тройка лидеров — можно смело сказать, лидеров мирового высшего пилотажа — осталась в воздухе: Эрлен Терра-Эттин, Такэда Сингэн и Эдгар Баженов.
Что считать героизмом и что безумием? Ни один не свернул с курса, а циклон „Валентина“ малопроходим даже для крейсеров первых двух десантных классов. Доставлен в госпиталь чемпион мира Эдгар Баженов, получивший многочисленные травмы при вынужденной посадке, и самую тяжелую утрату понес спорт Страны восходящего солнца — во время выхода из циклона разбился Такэда Сингэн, прозванный „непогрешимым“. Не удастся даже, согласно обычаю, похоронить его на родине — все, что на сегодняшний день удалось найти в районе аварии, это два обломка фюзеляжа, не сохранился даже „черный ящик“. Д-р Г. П. Месседжер, БАС, заявил, что, исходя из анализа данных, повреждения самолета до момента катастрофы были минимальными. Редакция выражает соболезнования родным и близким спортсмена.
Осталось сказать, пожалуй, самое главное. Единственной машиной, достигшей финишной базы, стал „Милан-270“ Эрлена Терра-Эттина. То, что совершил этот двадцатипятилетний пилот, невозможно, да и бессмысленно описывать словами. Полтора часа провел он в воздухе, из которых час считался безусловно погибшим, и без прикрас можно сказать: да, он побывал в чистилище. Все эксперты, просмотревшие запись его „черного ящика“, говорят в один голос: такого авиация не знала со времен самого Серебряного Джона. И теперь мы вправе объявить: наши времена не хуже. В условиях невозможности вообще какого-либо пилотажа, проделывая — причем безупречно! — невероятные кромвелевские эволюции при отказе навигационных приборов и декомпенсации двигателей, Эрлен Терра-Эттин прошел одну за другой шестнадцать (!) зон отрицательного давления внутренних торнадо. Невольно приходит на ум история Паганини, сыгравшего концерт на одной струне. Что это — талант? Или нечто большее? Не продал ли кому-то душу новый лидер „Дассо“?
Ясно одно — кромвелевская школа пилотажа действительно обрела достойного исполнителя (Терра-Эттин вновь до мелочей воспроизвел манеру великого аса, используя во время полета музыку Мэрчисона) и, как и восемьдесят лет назад, оттеснила все прочие направления, а Эрлен Терра-Эттин на сегодня безоговорочно признан лучшим спортивным пилотом мира».
«Наш особняк на улице Бриссе», как любил говорить Пиредра, на самом деле никаким особняком не был. Это был огромный дом довоенной постройки в середине района, именуемого «новым старым центром», то есть немногоэтажного Парижа в той части его своеобразного выроста, который он протянул вдоль лионского шоссе к северо-востоку от вокзала-музея. Здание занимало весь квартал и по планировке напоминало решетчатую структуру Эскуриала с многочисленными внутренними двориками, сквозными и подземными выездами. Задуман и построен этот Вавилон был как доходный дом, от рождения пятиэтажный, и вмещал население небольшого города. В бурные восьмидесятые его капитально выпотрошили, перепланировали, отремонтировали, надстроили еще два этажа, и теперь тут разместились офисы, банки, кабинеты модных врачей и в больших количествах — весьма и весьма престижные магазины. Район улиц Бриссе и Годдар — очень дорогой район.
Контора «Олимпийской музыкальной корпорации» занимала два этажа — пятый и шестой, а в той ее части, где располагался президентский штаб, перекрытие отсутствовало, и этаж был один. Войти в этот отсек можно было лишь через операционный зал, где постоянно находилось не менее двух десятков секретарей, заранее готовых к любым неожиданностям. Существовал, правда, еще и секретный выход — не отмеченная ни на каких планах лестница, ведущая из кабинета, из-за почти настоящих книжных полок, прямо в подземный гараж. Впрочем, воспользоваться этим аварийным ходом пока не пришлось ни разу.
Солнечным осенним днем, около одиннадцати часов, звонаревский «додж» припарковался на стоянке, и Гуго, зачем-то прихватив с собой Голубку, вошел в контору. Сопровождаемый поклонами и приветствиями, он поднялся по одной лестнице, по другой, прошел весь длинный коридор со стеклянными дверями и оказался в главном зале — преддверии президентских апартаментов, причем Голубка к этому моменту куда-то пропал. Равнодушно миновав бумажно-телефонную суету людей в галстуках и белых рубашках, перечеркнутых подтяжками и ремешками «сандалет». Звонарь дружески кивнул секретарше, весьма напоминающей Кори Эверсон в ее лучшие годы, повернул ручку тяжелой, абсолютно деревянной с виду двери и вошел.
Звонарь был далеко не первым человеком в этом мире, у которого дикарская наивность и изначальное дружелюбие необъяснимо уживались с крайней житейской трезвостью и звериной хитростью. Его, как матерого волка, можно было обмануть, но только один раз. И если Рамирес, благодаря интуиции и опыту, очень точно угадал настроения Звонаря после смерти Колхии и не на шутку встревожился, то и Гуго достаточно ясно представил себе ход мыслей давнего приятеля, прекрасно понимая его подскочившее недоверие и возможные по такой причине радикальные реакции. Ко всему прочему, Звонарь и впрямь намеревался сообщить Пиредре нечто неожиданное, и к разным поворотам событий следовало подготовиться заранее — Рамирес человек решений быстрых и непредсказуемых, а работой своей дорожит подобно образцовому клерку. Примем некоторые меры предосторожности, думал Гуго и, как мы видели, принял их. Теперь же предстоял сам разговор.
Неотразимый красавец бородач в великолепнейшей темно-серой, в тончайшую светлую полоску тройке с широким черным галстуком уже поднялся навстречу директору из-за громадного двухтумбового стола. Вообще же, в отличие от Бэклерхорстова, кабинет президента музыкального концерна не блистал оригинальностью — кожа, тиснение, черное дерево, раздвижная стена, ореховый бар — все дорого, все по высшему классу, но совершенно стандартно, точно так же, как в десятках других таких же кабинетов в подобных офисах.
— О! — сказал Рамирес. — Хорошо, что пришел. Да, мои соболезнования, мои соболезнования. Садись. Слушай, у тебя сейчас пишет кто-нибудь из «Парамаунта»?
— Нет. У меня пишет только «Чейз магнетик». Случилось что-нибудь?
— Да, вот прислали конвенц-рекламацию. Только я собрался упасть в их объятия, как запахло скандалом. Наверняка кто-то из их же ребят. Кто там у нас сейчас?
— Надо посмотреть. — Звонарь взял со стола листок. — Опять контрабандные записи? Пираты?
— Само собой. А вы там с Мастерсоном в монахи постриглись.
Звонарь без слов отложил бумагу:
— Я по другому делу. У меня был Эрлен Терра-Эттин. Мы с ним поговорили. Какого черта ты мне ничего не сказал?
— Чего я тебе не сказал?
— Что они с Ингой в самых лучших отношениях и что он сын Диноэла. Опять ты темнишь с какими-то делами?
Пиредра был готов к такому упреку.
— Мои дела — это мои дела, — огрызнулся он. — Да, сын. Из-за твоей проклятой щепетильности и не стал говорить. Ей-богу, ты обезумел. Сегодня он расскажет отцу, завтра здесь вся новоанглийская оппозиция, и мы в наручниках, а послезавтра на гильотину. Англичанам контора давно уже поперек горла, а тут такой случай. Куда, по-твоему, пойдет Динуха? В Институт, к Генриху? Нет, мой дорогой, он пойдет в КОМКОН и контрразведку. Вот там-то и ухватятся. Не объяснит ли мсье Сталбридж некоторые странности своей бухгалтерии? Ты этого хочешь?
— А ведь Скиф показал ему картотеку.
— Ах, Скиф… Это если повезет, а не повезет? Скифа твоего инактивируют, на сенатскую комиссию, и в мартен (забавно, что Рамирес оказался почти пророком). И спета наша песенка, это тебе не тридцать девятый. А через два года этот Эрлен окончит Институт — среди каких легавых он засядет? Не знаешь?
— Не знаю! Что он скажет? Почему? Чего вы испугались? С какой это радости англичане к нам нагрянут? Что, Диноэл там лидер какой и уже топор на нас заготовил? Я тебе вот что скажу: сам ты обезумел и крыша у тебя поехала.
— У Скифа тоже, что ли, крыша поехала?
— Да пошел бы твой Скиф к апостолу в святую задницу! После этой истории я Скифом и не подотрусь. Ты по какой-то блажи соскочил с зарубки, а Скиф рад-радешенек за тобой — вот наш гениальный ученый, дошло до дела, оказался такое же говно с начинкой, как и мы. Ты договориться пробовал? Чем этот мальчишка опасен? Вырастет да нас всех посадит? Улита едет и когда-то будет. Ты хоть ради дочери мог характер придержать?
— Моя дочь, — пробурчал Рамирес и замолк. Замолчал и Звонарь.
— Знаешь, — предложил, помедлив, Пиредра, — ты женись на ней. Она тебя любит, на последнее готова… Ну утихомирь ты эту сумасшедшую девку, какая теперь тебе разница!
Гуго молчал, и жаль, что Инга не слышала этого молчания. Барабаны судьбы звучали в нем во весь голос, и Рамирес, выждав, сколько мог, смирился.
— Ладно, — сказал он и на секунду отвернулся. — Ваши дела. Ну так говори, какого черта тебе от меня надо?
— Оставь парня в покое. Он тебе не опасен.
— А тебе? Тебя, кстати, первого припрут!
— А я ухожу в отпуск.
— В какой такой отпуск? Накануне сезона? Ты что, спятил?
— Да, накануне сезона, — зарычал Звонарь звериным рыком. — Нет у меня выхода, кроме как уйти сейчас, и не перечь мне, Рамирес, не береди душу, а соглашайся на все мои условия, потому что снесу я всю твою хиву к едрене фене и все равно уйду, а что там будет дальше — воля Божья!
— Ах, как ты меня удивил… Я сейчас упаду. А я все ждал, что ты вот такой номер отколешь, а знаешь, почему ждал? Потому что ты такое разок уже проделал, тогда, до войны, — послал нас с Диком Барселоной куда подальше и убежал к себе на Тратеру, мозги проветрить, к гусям да уткам на родном навозе. Ты этого не помнишь и помнить не можешь, а давно надо было тебе, дураку, рассказать! Выпьешь?
Рамирес открыл дверцу бара, и тотчас ему в лоб взглянул хорошо знакомый пистолет.
— Поди-ка ты… Бутылку разобьешь.
Он выставил на стол рюмки, початый литр «Длинного Джона» и разлил. Звонарь убрал восьмизарядный. Они выпили.
— Я вернулся на Тратеру?
— Вернулся, вернулся. Все бунтуешь, разбойничья душа. Думаешь, я не догадываюсь? Наверняка у меня в канализации сидят твои говнюки с обрезами в задницах, может быть, даже тут, за стенкой… Да подавись ты своим недоноском, хрен с тобой, меня же вспомнишь, когда он тебя ухватит за хобот.
Но Звонарь в этот час не был расположен к дружеским сентенциям. Он поднялся, по-прежнему не спуская с Рамиреса глаз:
— Скажи, чтобы Голубку твоего забрали — в туалете лежит.
— Ой-ой-ой. До смерти пристукнул?
— Не знаю, посмотрите. Я пошел, а ты окажи любезность, постой спокойно. Бог даст, свидимся.
— Иди, иди.
Гуго вышел и беспрепятственно достиг улицы. Свой длинномерный «додж» он с полным равнодушием бросил на стоянке и, перейдя через улицу, сел в ничем не примечательный «плимут». Никто себе на погибель директора не тронул, он развернулся и уехал прочь.
На этом месте Гуго Сталбридж по прозвищу Звонарь навсегда покидает эти страницы. Его больше не видели, он не возвращался в «Пять комнат», и если чем-нибудь и распорядился, то сделал это из машины по телефону. В заключение скажу: да, разумеется, он преступник и его, разумеется, следует судить. Но я прошу у суда снисхождения.
Рамирес между тем и не замышлял никаких козней: его прощальное добродушие было неподдельным, хотя Звонарю и в голову не пришло бы, каким необычным путем ему удалось этого добиться.
Идея скрыться в каком-нибудь медвежьем углу, не контролируемом ИК, давно уже превратилась для Пиредры в неотвязное стремление, почти душевную болезнь, точившую его днем, ночью, за едой, за разговором, неосознанно, осознанно — насколько можно говорить о сознательности у такого человека, как Рамирес. Он мог делать что угодно и думать о чем угодно — подспудная работа программы «найти и убежать» не прекращалась ни на минуту.
Рамирес и в самом деле на какое-то время связал свои надежды с Эрликоном. Но история эта очень скоро села на мель, мистический механизм пиредровской интуиции переключился и вновь продолжал крутиться на холостом ходу. Решение не приходило.
Да пропади он пропадом, не в меру удачливый отпрыск знаменитого контактера! В рамиресовской записной книжке отыскался бы достаточно длинный список других, куда более авторитетных людей, имеющих самое прямое отношение к закрытым зонам, и эти люди за блага, предоставленные его королевской рукой, могли бы поведать немало любопытных подробностей или уж, по крайней мере, указать, где эти подробности искать. Но Рамирес ни по каким адресам не звонил и ни разговоров, ни знакомств не затевал.
В его распоряжении было достаточно выходов на информацию, специалистов и электроники, чтобы проанализировать какую угодно статистику, и на этом поле можно было прийти к весьма конкретным выводам, но Рамирес не делал и этого.
Наконец, можно было пойти по излюбленному пути — оставить музыкальные дела на Звонаря и компанию, а самому отправиться в глухомань, на окраины, и там послушать россказни и сплетни контрабандистов и разного бродячего по космосу люда — Пиредра обладал непревзойденным талантом извлекать истину из всевозможных слухов и басен. Нельзя же в самом деле упрятать неведомо куда десяток солнечных систем так, чтобы об этом никто и слова молвить не мог.
Но Рамирес затворился на улице Бриссе, и если куда и выбирался, так только в Стимфал, и никаких историй не слушал.
Ему недоставало главного — случая, струи, которая понесла бы в нужную сторону и предоставила бы для суждения хоть какие-то про и контра. Пиредра гениально умел использовать ситуации, но создавать их не умел совершенно, а постоянное ожидание неизвестных напастей возвело его осторожность в какую-то ураганную степень. Кто из подкупленных академиков окажется прав? Где гарантия, что полученные сведения не липа или, того хуже, фрагмент чьей-то игры, подставка вездесущего Скифа? Вдруг это окажется хитроумная наживка тех, кто давным-давно решил от него избавиться? Интуиция молчала, Рамирес бездействовал.
Теперь, наверное, было бы очень эффектно рассказать, как бунт Звонаря заставил Пиредру задуматься и найти парадоксальное, но верное решение. Нет. Плох был бы Рамирес, если бы нуждался в такой грубой подсказке. Он сообразил гораздо раньше, хотя произошло это именно благодаря Звонарю.
Уже во время разговора с дочерью у авантюриста что-то невнятно шевельнулось в сознании. Инга уехала, а он все сидел перед камином, протянув руки и завороженно глядя на огонь.
Звонарь, Колхия, скандал.
Скандал. Ах да, он же обозвал маузеры Гуго зональными, они же полуавтоматические, шестнадцатого года, с автоматическими в зону не пускают. Звонарь после скандала убежал в зону. Тридцать девятый год. Граница империи, пустыня, пыль, жара, полтора глотка воды на всех, их вывалили из тюремного карцера-грузовика, и пропадайте, как хотите. Тут-то Звонарь и закатил: не желаю быть больше убийцей, подонком, черт с вами, ухожу. Домой. Куда домой? На Тратеру.
Звонарь, Колхия, Тратера.
Тут Пиредра вспомнил сегодняшний день. Аэропорт, беседа с гневливым президентом «Парамаунта», окруженным взводом юристов, весь этот вздор… Что же еще? Да, зал аэропорта, колпак, пересеченный тоннелями эскалаторов, и над ним — электронное табло — рейсы, номера, города, время отправления… Горящие буквы и цифры. Лос-Анджелес, Дубровник, Палермо… Схема маршрутов, вот оно что. Ведь то же самое в космосе. Если какая-то система или планета становится закрытой зоной, она исчезает из всех маршрутов и расписаний, отовсюду вообще. Ее больше нет и, более того, — никогда не было.
Звонарь, Колхия, зона.
Рамирес торопливо достал сигарету, похлопал по карманам в поисках зажигалки, не нашел, полез в камин за головешкой, сыпля проклятиями, едва не опалил бороду. Да ведь еще при Кромвеле Тратеру объявили закрытой зоной, еще до войны, спасибо герцогу Ричарду, подох небось давно, сукин сын. Предчувствие удачи затопило Рамиреса. Роняя пепел на клавиатуру и щурясь от дыма, он сел за компьютер и потребовал все рейсы на Северо-Западный сектор. Грузовые, пассажирские, специальные, туристические — все, и несколько минут вчитывался в длинные колонки. Безумная надежда переросла в восторженную уверенность: Тратеры не было! Ах, боги святые, провалилась! Пропала!
Звонарь, Колхия.
Да, но при чем тут Колхия? А вот при чем — у нее же был сборник тратерского фольклора, а эта древнегреческая кобыла очень точно указывала время и место. Если так… Рамирес спешно переключился на фонотеку. Фольклорный репертуар. Что же, посмотрим. Староанглийский, американский, французский, русский… Ни слова о Тратере. Где же это? Вот — неизвестный собиратель, начало века.
Это удача. Он выиграл. Открой любой справочник, любую лоцию — ничего не найдешь. Идиот беспамятный, ведь сам же открыл там Базу, ведь дом же родной — но кто бы мог подумать.
Рамирес вдруг снял со стены гитару, упершись остроносым крокодиловым сапогом в кожу кресла, подстроил и опустил холеные ногти на черные нейлоновые струны:
Нет надежнее приюта, Скройся в лес, не пропадешь — Если продан ты кому-то С потрохами ни за грош.Поищи-ка, Скиф, сунься против Комиссии по Контакту — там-то тебе и оторвут кристаллическую башку. Рамирес даже засмеялся. Что и говорить, дело непростое, стерегут, да и карта-схема такая, что больше придется рассчитывать на собственную голову, но если кому и повезет обмануть контактерских горлохватов, так это ему, Пиредре. За свою жизнь он дважды угонял на Тратеру пассажирские лайнеры и один раз — военный транспорт. Бог не выдаст. Там, конечно, уже не десятый век, а может быть, и вообще неизвестно что — ничего, ерунда, разберемся, как говорит Звонарь.
Так что напрасно Гуго опасался смутить Рамиреса своим ультиматумом и гневной тирадой. Вышло как раз наоборот: Пиредра ожидал этого взрыва и был удовлетворен, убедившись в незыблемости мирового порядка — всю жизнь, сколько ни есть на памяти, этот лесовик, горячая голова, был чем-то недоволен, против чего-то восставал, скандалил и добивался какой-то туманной справедливости. Рамирес взирал на это как патриарх семейства на выходки неперебесившегося юнца. Что же касается Эрлена, проваленного сезона в «Олимпии», да и вообще, то на это ему было теперь и вовсе наплевать.
Длинным ногтем Эрликон выковырнул застрявший между зубами ветчинный хрящ и щелчком отправил его в проем наклоненной над подоконником рамы. Завтрак. Яичница с беконом, кофе, тосты, еще какая-то дрянь вроде мусса. «Томпсон-отель», Стимфал. Да, да, снова «Томпсон», снова чужой, постылый Стимфал. А какой город ему родной? Такого нет. Чушь какая.
Двойной люкс, время — 10.08. Оказывается, отсюда, с верхних этажей, видно море — ну, пусть не море, а кусочек синего горизонта, а море это или уже небо — не разобрать. Какое мне дело, думал Эрлен, какая разница? Холодно только, дует, скоро ноябрь, скоро зима. Он допил кофе, потом закурил. Джон тоже хорош — кури поменьше. Кто, спрашивается, научил?
После третьего этапа Эрликон переменился, пожалуй, еще сильнее. Два месяца назад ему исполнилось двадцать пять, и на двадцать пять он и выглядел. Теперь же он приблизился к тому типу уже не очень молодого человека, которому еще не решаются дать больше тридцати, но охотно дают двадцать девять. Седина окончательно стала сединой, под глазами и над глазами наметился рельеф, а во внешних уголках рта залегли две аккуратные морщины. На лбу вздулась вертикальная вена со свинячьим хвостиком влево, если смотреть в зеркало, а из-под носа к верхней губе прошла основательная складка, придающая сходство со злодеем из дешевого комикса.
Засыпал он с трудом и спал плохо, в основном при помощи снотворных, в руках часто проскальзывала дрожь, но самое противное — треклятое сердце продолжало чудить, перехватывалось вдоль и поперек, сковывая левую руку и постреливая через ключицу — вот уж пакостное ощущение. Ему сделали все анализы, и послезавтра Дж. Дж. ведет его к какому-то светилу. А сегодня… Сегодня предстоит встреча с Ингой.
Эрлен внушал и себе, и Кромвелю, что именно ожидание этой встречи и удерживает его в Стимфале, вообще же послетурнирный маршрут вышел, против ожиданий, самым незамысловатым.
Вон лежит у стены в полузадернутом на «молнию» коробе кубок Серебряного Джона — взять бы кувалду и расплющить его в блин. Выяснилось, что раздражение и усталость куда более живучи, нежели раскаяние. Я обокрал Эдгара, думал Эрликон, и в итоге ничего не получил, но черт с тобой, Эдгар Баженов, мне тебя не жалко, мне и самого себя не жалко.
Кто выиграл, так это Бэклерхорст. Его недоброжелатели в «Дассо» полетели, как пешки с доски; пожал руку, чек с астрономическим гонораром, специальная премия, что-то там от летной ассоциации и заполненный контракт на чемпионат мира — Эй-Ти-Эй. Феодал чувствовал себя в атмосфере журналистского психоза как нельзя лучше. Черт с тобой, Шелл, будущий президент «Дассо».
Выиграл Кромвель — маршал развлекся на всю катушку. Загипсованный Баженов сказал репортерам: «Для меня он, — со зловещей двусмысленностью Эдгар не назвал имени, — всегда был лучшим пилотом за всю историю, и я никогда не нуждался в доказательствах его мастерства — даже в таких».
Вот они и выиграли. А на его долю выпали отупение, раздражение да необходимость отругиваться от журналистов. Эрлен так и не сказал им ни единого слова. В его положении следовало запить, но от спиртного ему становилось откровенно плохо.
Зато Дж. Дж. и Вертипорох, и не без участия Шейлы, своего не упустили и, начиная прямо с «Терминала», ударились в дичайший загул. В корабль рейсом на Стимфал механика занесли на носилках, да и пребывавший с ним в контакте маршал тоже слегка расплылся и несколько утратил человеческий облик в схватке с зеленым змием. Эрликон грустно следовал за отяжелевшими товарищами — он еще не мог решить, куда ему лететь, а в Стимфале, как он знал, у Шейлы были какие-то дела. Всех троих, как и в том, первом полете с Земли, поместили в госпитальном отсеке — Эрлен попросил, ему ныне отказа ни в чем не было, а Одихмантий нуждался в медицинском контроле по причине близости к белой горячке. Эрликон заглянул навестить очумелый экипаж, и тут у них с маршалом состоялся один из самых странных и неприятных разговоров.
Вертипорох в полубессознательном состоянии, в окружении Шейлы и Кромвеля, почему-то лежал в зубоврачебном кресле, видимо окончательно сраженный той титанической битвой, которую вели у него в крови антиалкогольные препараты и виски всех сортов и концентраций, с откинутой головой и открытым ртом, и чередовал тоненький посвист с фыркающим храпом.
— Эй, механик, — обрадовался Дж. Дж. — Брось хрюкать, гляди, пилот пришел! Механик!.. Эх… — И пояснил: — Мы здесь только что очень весело играли в ракетную атаку на Пиредрову задницу… хрящеватую… кумулятивными снарядами тандемного типа, простыми-то не возьмешь, и вот не успели зайти на «восьмерку», как механик — фьюить! — стопроцентное снижение тепловизионной контрастности ландшафта. Комплексный отказ. Садись, поддержи компанию. По наперстку и зайдем на отстрел задницы Скифа… Дело нешуточное, она ведь у него бронированная, с динамической защитой…
Шейла рефлекторно прижала бутылку к животу:
— Эрлену… нельзя. Джон, прекрати.
Эрликон тоже сморщился:
— Джон, я не хочу о Скифе.
— Ну нет, почему же? — Кромвель пересел, устраиваясь поудобнее, но так, чтобы не потерять химической связи с Одихмантием. — Ты не суди Скифа строго. Знаешь, ведь он тебя любит. По-своему. Просто у него оригинальный взгляд на педагогику… Вот признайся, перед первым этапом ты хотел покончить с собой?
Эрликон лишь замычал от отвращения — он без труда сообразил, о чем пойдет речь. Еще одна тошнотворная разгадка его печальных тайн.
— Не надо, юноша, считать роботов слепыми. Он решил, что тебе не повредит маленькая встряска… для освежения взгляда на жизнь. И согласись, он спас тебе эту жизнь. Его люди подставили тебе в двигатель такую штучку, а в компьютер всадили соответствующий вирус. Вот бедняга не ожидал, что из этого выйдет! Шейла, виски для пилота.
За время своей педагогической деятельности Кромвель в значительной степени успел отучить экипаж от употребления стаканов, так что бдительная Шейла отняла «гордоновского вепря» от самых Эрленовых уст.
— Я знаю теперь, почему ушел из Контакта мой отец, — сказал Эрлен. — Весельчак Дин. Он просто не выдержал.
— Не болтай глупостей, — посоветовал Дж. Дж. — Никакого Контакта ты пока в глаза не видал. Тебе приоткрыли самый краешек игры, чуть-чуть показали правила. Тебе повезло, сейчас ты знаешь, как играть.
Но виски уже затронуло Эрликона.
— Скиф избавился от отца, — прошептал он, — избавится и от тебя, Джон. Знаешь, что он сделает? Воскресит Шарквиста, твоего покойного шефа, великого диктатора. Каково тебе придется, а?
Однако удивить маршала — хоть пьяного, хоть трезвого — было невозможно.
— Я не боялся Шарквиста живого — что ж, не побоюсь его и мертвого. — После чего Кромвель добавил вообще нечто удивительное: — Но я с тобой полностью согласен, что Скиф нашим делам будет серьезная помеха. С ним надо решать, не откладывая на всякое там потом.
Так впервые Эрлен узнал, что Кромвель намечает на будущее какие-то дела, напрямую не связанные с высшим пилотажем, причем о возвращении в Институт и продолжении учебы, само собой, и речи не шло. У пилота, естественно, мелькнула мысль о грядущем чемпионате мира, но и по этому поводу его ждал очередной сюрприз.
— Вынужден открыть тебе небольшую коммерческую тайну, — сказал Дж. Дж. — Надеюсь, ты не станешь превращать это в трагедию, советую вообще не обращать внимания. Видишь ли, Бэклерхорст дал нам не совсем тот, а точнее сказать, совсем не тот самолет.
— Как это — не тот?
— Да уж вот так. Легендарный истребитель-бомбардировщик века — это не наш «Милан», а «Мираж-4000», он-то и был заявлен. Правда, не спорю, мы с тобой многих заставили усомниться.
— А что же тогда «Милан»? — устало спросил Эрликон.
— «Милан» — экспериментальная модель, и совсем недурная, а теперь от него все вообще без ума… Хозяин — барин, бизнесмен имеет право подстраховаться. Мы немного заблудились в каталоге, ну, а Бэклерхорст не стал спорить. Зато мы сделали нашему горбатому любимцу сумасшедшую рекламу, да и Вертипороха вывели в люди.
— А на чемпионат он опять нам что-нибудь подсунет?
— На чемпионат он нам дает «четырехтысячный» и, кстати, приносит все возможные извинения. Ты видел контракт? Эрли, ты самый высокооплачиваемый пилот в мире.
— Это ты… оплачиваемый, а мне, Джон, извини, на все эти игры наплевать.
На этом разговор закончился, ни о каких иных видах на будущее не было сказано ни слова, но стало ясно, что у Кромвеля зреют какие-то замыслы. Однако и по прибытии в Стимфал речь о них зашла далеко не сразу.
В Стимфале их настигло короткое письмо Инги, в котором она извещала, что уже приезжала, уехала и скоро будет снова.
— Я буду ждать ее. — Эрлен посмотрел на маршала безумными глазами, и тот подозрительно легко согласился.
Остановились они, разумеется, в «Томпсон-отеле». Скоро, однако, выяснилось, почему Дж. Дж. был так уступчив. Пока Эрликон предавался злому и мертвящему безделью, Кромвель властно оборвал в команде запой и с головой погрузился в политическую жизнь. Он прочитал и прослушал все выступления лидеров всех партий, побывал во всех штаб-квартирах, повращался в парламентских кулуарах, благо никакого пропуска не требовалось, и несколько дней провел в коридорах власти на Рэдисон-сквер, внимая переговорам премьера и кабинета. Потом, взяв с собой Вертипороха, отправился в гости к Дитриху Гессу, нынешнему председателю национал-демократической партии, основанной когда-то в горькие послевоенные времена мятежным генералом Сашей Брусницыным.
День для посещения, надо заметить, они выбрали на редкость неудачный — восемьдесят девятую, предъюбилейную годовщину битвы при Крайстчерче — событие, которое НДП, а вместе с ней и значительная часть оппозиции весьма пышно отмечали как дату начала кромвелевских «освободительных походов». Друзей поначалу даже вовсе не хотели пускать, поскольку шел прием делегаций, время было строго расписано, а позже Дитрих должен был выступать с речью на торжественном собрании.
Пришлось Кромвелю пускать в ход свои чары, и скоро ответственный секретарь доложил председателю Гессу, что прибыл Одихмантий Вертипорох из московского отделения и срочно требует его принять.
— Какого отделения? — растерянным шепотом спросил механик. Пугаться кромвелевских выходок он уже отучился, а вот удивляться еще нет.
— Такого, — загадочно ответил маршал. — Ты вот что, друг, ученость-то свою пока оставь.
Но московское отделение сработало.
— У вас две минуты, — предупредил убеленный сединами цербер, пропуская их в кабинет. — Господин председатель очень занят.
Много удивительного ожидало в тот день бывалого функционера. Во-первых, беседа продолжалась не две минуты, а больше часа, и началась она, если не соврала закрывающаяся дверь, со слов: «Ну, насмотрелся я на вашу хреновину». Во-вторых, председатель Гесс, известный не то чтобы аскетическим, но вполне умеренным образом жизни, неожиданно потребовал в апартаменты выпивку и закуску, так что, когда подошло время выступления, выяснилось, что он безнадежно пьян.
— Дитрих, ты не сможешь говорить, — заявил Людвиг Дениц, заместитель по партии. — Дай мне текст и иди спать, мы скажем, что ты заболел.
— Я не смогу говорить? — изумленно откликнулся Гесс, энергично вставая с места. — Что за фантазии? Едем, и немедленно.
Неизвестный делегат с Земли тоже вызвал некоторое недоумение, но председатель объяснил и это:
— Наши связи с братской украинской унией должны расти и крепнуть. Верно, Дима?
На что незнакомец не вполне понятно ответил:
— Тебе виднее, Джон.
Все решили, что у землянина не совсем гладко с языком. Под фотографиями в газетах так и написали — механик потом с гордостью показывал Эрлену и Шейле: «…делегат от ультраправых украинских националистов Д. Вертипорох».
Как и всегда, для своих сборищ национал-демократы арендовали зал собраний Военного музея, где Одихмантий вдруг оказался сидящим в президиуме как раз под исполинской черно-гранитной головой своего приятеля Джона Кромвеля. Помещение, мало уступающее по размерам стадиону, было заполнено до последнего места, но председателю Гессу этого показалось недостаточно. Несмотря на возражения охраны, он распорядился открыть двери и впустить в проходы всех желающих, затем приказал убрать кафедру — чтобы не отдаляться от народа — и поставить микрофон, к которому незамедлительно подошел, бросив все заранее заготовленные тексты на колени потрясенному Людвигу Деницу.
По плану речь Дитриха Гесса должна была занять двадцать минут. На самом деле он говорил около часа, ни разу не заглянув ни в одну бумажку. В прессе это выступление вызвало самые разноречивые суждения. Журналисты, близкие к правительственным кругам, писали, что все выступление было набором популистских приемов, в скрытой форме призывающих к реваншу. Газеты правого, оппозиционного толка, напротив, утверждали, что Дитрих Гесс поставил перед партией и нацией задачу духовного обновления и наметил новые, доселе неизвестные пути. Все поражались его невиданной манере — председатель говорил необычайно образно, вступал в диалог с аудиторией, и хотя нельзя сказать, что употреблял непристойности, но выражался временами необычайно цинично, вставляя богохульства и не стесняясь слов «быдло» и «холуи-мазохисты». Было также отмечено («Обсервер», «Таймс»), что Гесс подверг резкой критике состояние партийных дел и поведал несколько совершенно неизвестных подробностей из военной истории и личной жизни самого диктатора Шарквиста. В целом, несмотря на парадоксальность и во многом откровенно издевательский характер, речь оценивалась как выдающаяся, а контакт оратора с залом — как фантастический. Было слышно, писал «Монитор», как пощелкивают перегревшиеся софиты, пока Гесс в течение трех минут (!) цитировал по памяти Экклезиаста. Зато по окончании и партийная элита и пришедшие с улицы участники митинга устроили не то что овацию — это слово не подходит, а настоящий шквал, рев и бурю. Вернувшись на место, председатель посмотрел туда, где он только что стоял, и произнес странную фразу: «Откуда он все это знает?», после чего уснул мертвым сном и проспал без всякого, впрочем, вреда тринадцать часов и по этой причине в устроенном потом банкете не участвовал.
Следствием этих событий для команды стала телеграмма Вертипороху от руководства «Дассо Бреге», в которой механику в мягкой форме рекомендовали воздержаться от политической деятельности, и тот разговор, который состоялся между Кромвелем и Эрликоном.
Усевшись на крыше-террасе отеля, Дж. Дж. начал так:
— Настало нам время поговорить о будущем. Выслушай-ка меня серьезно. Черт возьми, как ты куришь? На табачной фабрике так не воняет!
— Это уж мое дело, — возразил Эрлен.
— Не только твое. Не забывай, у тебя сердце. Вообще, ты мне в последнее время не нравишься.
— Какое совпадение, — хмыкнул Эрликон. — Представь, я тоже себе не нравлюсь.
— Ладно, хорошо. Как я понимаю, возвращаться в разведку ты не собираешься.
Для Кромвеля все контактные службы оставались разведкой.
— Ты правильно понимаешь. Не собираюсь.
— Я почему-то так и подумал. Хочу предложить тебе свой план действий на дальнейшее… Надеюсь, он тебе понравится. Первое, чтобы не подводить Бэклерхорста, отлетаем чемпионат мира, никаких затруднений я тут не вижу. Кроме того, Шелл продал «Милан» каким-то арабам, летными качествами они удовлетворены, но хотят посмотреть боевые. Знаешь, это довольно забавно — на земле строят город, в воздухе летают разные самолеты, ракеты, перехватчики… все это надо уничтожить. В принципе можно посадить любого пилота, но Шелл очень любезен и приглашает нас. Тебе будет интересно — я хорошо стреляю, это мой конек… ну, и недурно оплачивается.
Эрлен слушал, не соглашаясь и не споря. Маршал продолжал:
— Но нельзя летать всю жизнь. Эта профессия не для таких, как мы. Можно выступать время от времени, почему же нет, однако есть вещи посерьезнее, пилоты всегда найдутся. Для начала тебе надо упрочить финансовое положение, чтобы не думать о деньгах. На пенсию от Скифа пока рассчитывать не приходится. История тут простая — еще во время войны я кое-что припрятал на черный день. Все это до сих пор в целости и сохранности. Как только закончим с делами, зафрахтуем приличную машину — там, видишь ли, кроме нас, ни одна собака не сядет, и погрузим малую толику. Хватит и детям, и внукам. Ничего предосудительного здесь нет, работы, как я предполагаю, у нас будет много, времени — мало, а деньги нужны в первую очередь для того, чтобы купить время. Станешь постарше, поймешь.
— Все это похоже на грандиозную увертюру, — заметил Эрликон.
— А это и есть увертюра. Действие же такое… По твоим теперешним заслугам тебе полагается звание почетного гражданина Стимфала, а это и есть автоматическое гражданство. Этот Гесс, он дядька ума невеликого, но иметь с ним дело можно. В марте, как ты слышал, здесь выборы, и если мы ему поможем, то и он нам окажет поддержку, и уже в следующем году ты сможешь стать мэром в каком-нибудь городе на юго-западе, у них там сильные позиции.
— Я — мэром? — переспросил Эрлен. Да, в умении удивлять Кромвелю отказать было нельзя.
— Конечно. Дело нехитрое. Женим тебя на девушке из хорошей семьи…
— О боже.
— …и еще через некоторое время будешь баллотироваться в губернаторы, а годам к тридцати пяти — ты уже сенатор, молодых у нас любят.
— Джон… — Эрлен покачал головой, отвернулся и стал смотреть в сторону океана. — Вот оно что. Ты снова хочешь власти. Ты сделаешь меня — то есть себя — президентом, прикончишь Скифа, чтобы не мешался, и начнешь новую войну. Я не судья, ты верно когда-то сказал, но прости, это не для меня. Пусть кто угодно, но я не политик. Я уже хлебнул дерьма, и с меня хватит. Я уже знаю, что это такое. Скиф на Скифе.
— Вот типично юношеский идеализм, чтобы не сказать — идиотизм, — отозвался Дж. Дж. — Как зелен нынче виноград! Очень просто отказываться от того, чего у тебя нет и не было. Политика, юный друг мой, это единственное достойное занятие в жизни, это вершина вершин, ибо все решают кадры, а кадрами управляет политика. Только руководя людьми, ты можешь приблизиться к совершенству… Но для тебя это пока что звук пустой. Поясню по-другому. Расскажу тебе притчу. — Маршал на секунду устремил взгляд в неведомые выси. — Во время оно, давным-давно, я был таким же молодым, как ты. И вот этот старый геморрой Эл Шарквист дал мне две баржи уголовников, ветхий крейсер — эдакий «Мэйфлауэр» — и послал осваивать Северо-Западный сектор. Кроме шести расшлепанных пушек да интереса к жизни, у нас ничего не было. Мы там построили города, создали науку… и цивилизацию вообще и защищали ее, да так, что дядюшка Эл струхнул и вызвал меня обратно. К нам потек народ, были даже поэты… Однако речь не о том. Мы там творили свой мир, как боги, и сами держали в руках свою судьбу. И это были самые счастливые годы моей жизни.
— Я читал эту книгу, — ответил Эрликон. — Ну ту, толстую, твою биографию. Там сказано, что первым делом ты расстрелял половину своих каторжников.
Кромвель, как всегда, ничуть не смутился:
— Естественно. Я им предложил законный выбор, но некоторые почему-то решили, что у них появилась возможность диктовать мне свои условия. Я переубедил их как мог. Кто захотел, тот остался, каждый все решает за себя, такова одна из прелестей жизни. Не всем суждено вновь увидеть родной Бахчисарай, но кто вернется, станет большим человеком. Я предлагаю тебе присоединиться к когорте избранных, и ты убедишься, что это единственный вариант достойной жизни для мыслящего человека.
— Джон, я же сказал: я знаю, что это такое. Снова такие, как Пиредра и прочая мерзость, пусть даже и на более высоком уровне.
— А никто и не обещает тебе манну небесную. Я отнюдь не заставляю тебя радоваться законам природы, но спорить с ними — это уж и вовсе глупо. Да, теперь ты представляешь себе игру. Тем лучше, попробуй внести что-нибудь свое. Уверен, тебе понравится.
На это Эрлен уже ничего не ответил и продолжал смотреть на море.
Разговор тогда так ничем и не кончился, и Кромвель больше не возвращался к этой теме, но Эрликон чувствовал сквозь усталость и неприязнь, что маршал хитер, упорен и не собирается отказываться от своих замыслов. У Эрлена же сил не было не то что для борьбы, но даже и для того, чтобы как-то обдумать сложившееся положение. Плюю на вас всех, говорил он, и дальше этого ни одна мысль не шла.
Сегодня же предстояла встреча с Ингой. Эрликон в который раз повернул к себе часы. 10.10. Да, можно идти, наверняка они уже там — черт знает, как проходят репетиции у всех этих музыкантов, скорее всего, что и ждать придется, и неизвестно сколько. Он натянул куртку, взял сигареты, зажигалку и перед выходом заглянул в соседнюю комнату. Там обитал Вертипорох и время от времени — маршал, когда не оставался у Шейлы и не вкручивал мозги Дитриху.
При опущенных шторах возле голографического дисплея сидели Кромвель и Вертипорох. Вокруг были разложены технологические справочники, гроссбухи чертежей и бумаги с записями. Вот, значит, как. Бэклерхорст прислал документацию на новую машину — знаменитый «Мираж-4000». Феодал рассчитывает потрясти мир на апрельском чемпионате, и вот Дж. Дж., вновь облачившись в прежнюю ячеистую майку, вместе с верным Одихмантием копается в цифрах по новой дассовской надежде. Глядя на маршала, Эрлен со всей безнадежностью понял, что Бэклерхорст, слепо верящий в непобедимость Кромвеля, вовсе не чудак и не фанатик, а как раз наоборот, самый здравомыслящий из всех ныне живущих предпринимателей. Вот горечь-то предвидения Кассандры. Никто и никогда не выиграет у этого человека, если только он сам не захочет. Вот ужас.
— А, — сказал Дж. Дж., — вот и молодая смена. Те, кто высоко понесет знамя. Как спалось?
— Получили-таки, — недовольно и невпопад ответил Эрликон.
Кромвель предпочел воспринять его слова как законный летный интерес и кивнул Вертипороху:
— Дима, зажги.
Над столом зависло вполне осязаемое изображение самолета. Насколько «Милан» был горбат, угрюм и тяжеловесен, настолько «Мираж» строен, изящен и устремлен вперед — каплевидная кабина, острый, снизу срезанный в прямую линию нос, тонкие и высокие гребни килей. Очередное смертоубийственное чудо, но в душе Эрлена шевельнулось, казалось, окончательно похороненное чувство:
— Ну и как он?
Кромвель не выразил особых восторгов:
— Половина дискет еще не пришла, но, в общем, все то же самое. Тяга повыше, лобовое пониже, не для чемпионата, на виражах попотеем, разворот покороче… схема прежняя. Иди, гуляй с девушками. Ты завтракал?
Эрликон отмахнулся и вышел, прикрыв дверь.
Западный Стимфал, в котором брал отсчет первый этап мирового турне группы «Козерог», — название чисто символическое. У мегаполиса, обрезанного по меридиану береговой линией, может быть только один запад — океан, и, в общем-то, так оно и есть. Но существует некоторый географический нюанс: на севере в побережье, и без того высокое, вклинивается столообразное плоскогорье Ванденберг. Там совсем недавно наши друзья искали счастья за штурвалом самолета, и там же, на полпути между Большим Стимфалом и Космодромами, при участии многих заинтересованных фирм и корпораций на месте когда-то буйного пригорода был построен торговый центр, маленький город, на карте — крохотная клякса, соединенная с широченным полукруглым пятном Центра. Это и есть Западный Стимфал. Непосредственно стараниями могущественной компании «Трансгалактик» тут возвели гостинично-концертно-спортивный комплекс, громкое название которого — «Паллада» — было немедленно забыто, и грандиозное сооружение, выдержанное во вполне имперском стиле с примесью доброго старого модерна — после знакомства с Кромвелем Эрлен стал обращать внимание на подобные вещи, и стар и млад именовали просто «Галактик».
За вчерашний день первый ряд колонн Южного входа скрыл транспарант с красной надписью «Козерог», а на шлифованном камне ступеней, вдоль которых можно было бегать и на сто, и на двести метров — если бы нашлись спортсмены с соответствующей разницей в длине ног, и у величественных дверей с выпуклым греческим орнаментом, и у стеклянных простенков бродила и гудела толпа возбужденных безумцев, надеющихся хоть одним глазком взглянуть на кумиров вблизи.
К этим же ступеням и подвез Эрлена неподвластный времени «Харлей-Дэвидсон». Загнав мотоцикл на стоянку, пилот стал подниматься к рельефным дверям — все лестницы в последнее время казались ему крутыми. Популярность — великая сила. Эрликон шел по живому коридору, качая головой и отнекиваясь от сыпавшихся вопросов и предложений. На входе образовалась заминка — «черные ангелы» охраны обоих полов, не получившие, похоже, никаких инструкций, не проявили ни малейшей готовности впустить Эрлена по первому требованию. Несколько месяцев назад такая ситуация повергла бы его в смятение, стыд и ужас и породила бы целую вереницу кошмаров, теперешнее отупение и злость позволяли вовсе не замечать подобных проблем.
Хуже того.
Сразу же по приезде Дж. Дж. принял дальновидное решение избавиться от скифовского «рюгера», поскольку в Стимфале он оставил о себе слишком свежую память и стрелять здесь из него во второй раз было бы по меньшей мере неразумно. Так ошеломивший Эрликона в роковую ночь знакомства с маршалом «бульдог» был принесен в жертву богу морей Нептуну, а Кромвель, побывав с Вертипорохом в каких-то катакомбах, заменил злополучный револьвер на старомодное, но по-прежнему грозное детище Германа Люгера — воспетый в стихах и прозе парабеллум с капризно-изысканно отклоненной назад рукоятью и тем несравненным крутым подъемом, по которому въезжают цилиндры коленчатого затвора.
Эту-то рукоятку и поймал под курткой Эрлен, придвигаясь поближе к самоуверенным стражам и с недобрым весельем думая: уж я войду. И быть бы чему-то, но, к счастью, слава наконец возымела действие, и под восторженный шепот «чемпион, чемпион» и «девочки, смотрите, совсем седой» кожано-металлические вратари расступились, и Эрликон вошел.
Огромный зал с еще более огромным амфитеатром был местами освещен, местами погружен во мрак; бесконечные ряды кресел наполовину были укрыты чехлами, наполовину уже открыты, чехлы были свернуты, как паруса в бурю. Эрлен спустился к сцене. Здесь царили свет и суета, люди всех возрастов — бородатые, лысые, с косичками, а также со всем этим одновременно — что-то вносили, выносили, махали руками и оживленно переговаривались; во все стороны змеились толстые и тонкие кабели, а на заднем плане вообще велось настоящее строительство: там, на фоне бетонной стены со следами опалубки собирали конструкции высотой с трехэтажный дом. Среди всего этого Эрликон увидел Ингу, так же как и остальные, она была в джинсах и в том пушистом свитере, который был на ней в их первую встречу во Дворце музыки. Волосы она заплела в косу и подколола, украшений, кроме серег, не было никаких — словом, она как будто демонстрировала полное пренебрежение к красоте и вместе с тем была так чудно хороша, что у Эрлена захватило дух.
Он стоял, опершись на кресло первого ряда, возле самой сцены, внимания на него никто не обращал, и некоторое время наслаждался тем, что Инга его не замечает. Но вот заметила, улыбнулась и указала рукой в сторону прохода у кулис. Эрликон кивнул и направился туда.
— Ну, здравствуй, — сказала она. — Ты давно приехал? Пойдем, поднимемся наверх, а то тут не поговоришь. Мы здесь с девяти часов и все никак не начнем.
Они поднялись еще по какой-то лестнице, и там Инга провела его по одному коридору, потом по другому, и в итоге они очутились в зале с хрустальными светильниками, зеркальным паркетом и присели у закрытого бара. Вокруг ни живой души, тихо и пустынно.
— Я тебя поздравляю. — Голос Инги рассеивался в пустом пространстве. — Ты там совершил какие-то чудеса. Ну расскажи, очень было тяжело?
— Да как сказать… да. Временами было неприятно.
— Там кто-то погиб? Все-таки у тебя очень опасный вид спорта. Ты плохо выглядишь.
Это был комплимент, но Эрлену отчего-то сделалось тоскливо.
— Давай лучше о тебе. Как твои дела?
— Ах, да ладно. Гуго сообщил тебе? Он разговаривал с отцом, там все закончилось, можешь ни о чем не волноваться.
— Я и не волнуюсь. Это ты о чем-то волнуешься. Что случилось?
Инга сокрушенно махнула длинной музыкальной кистью:
— Гуго пропал куда-то. У него сезон… Сумасшедший. Где его искать? У тебя есть сигарета? — Взгляд у нее стал отрешенный, и смотрела она куда-то в стену. — Ты знаешь, я такую глупость совершила. Надо было бросить все и поехать на эти дурацкие похороны. Да, ты же не в курсе, Колхия умерла, женщина такая, ты ее не видел. Я, дура, побоялась. А теперь просто не знаю, что делать.
Она говорила прямо и откровенно, как с давним другом, не выбирая выражений, и, между прочим, вставила слово, которое Эрликон слышал только от Кромвеля, и то в злую минуту.
Сказала она немного, но и этого было достаточно — Эрлен без труда узнал эту страшно знакомую интонацию, в которой звучали нормальное женское беспокойство и забота. Это был голос любви, голос его несостоявшегося счастья — вот так же Кристина волновалась, что Эдгар уехал с больным горлом. За Эрликона так не волновался никто. Грубая, очевидная истина вломилась в его и без того помраченное сознание, а дальше и собственная роль предстала во всей неприглядности. На какой-то момент он потерял нить разговора, обрывки фраз, множась, отражаясь эхом друг от друга, зазвучали в голове сами по себе. Эрлен даже не сумел обрадоваться тому страху, который появился во взгляде Инги — кажется, она увидела, как во прах рассыпаются ею же открытые крепости и алтари в его душе. Она попыталась заговорить о другом, о том, что он должен обязательно прийти на их концерт, что непременно еще будет счастлив в любви — словно в его детских снах фея из недоступной волшебной страны обещает счастье несмышленому мальчишке. Он не запомнил, что отвечал и говорил ли что-нибудь вообще, кажется, Инга проводила его, но и это как-то смешалось. Эрликон пришел в себя на стоянке, один, возле мотоцикла.
Однако сесть за руль в его состоянии было совершенно невозможно, он бы и ключом не попал в зажигание, поэтому, бросив «харлей» на произвол судьбы, Эрлен отправился в гостиницу на такси и даже о чем-то перемолвился с шофером, в то время как вновь ожившая чугунная лапа сжимала и скручивала внутренности.
Ни Кромвеля, ни Вертипороха в номере не оказалось — скорее всего, друзья-приятели поехали обедать к новоявленной домохозяйке Шейле. Не в состоянии ни о чем думать, Эрликон, однако, вспомнил, что в таких случаях помогает музыка, и подошел к старинному магнитофону, купленному маршалом еще накануне второго этапа. Напрасно, ничего не получилось, руки по-прежнему тряслись так, что не мог заправить ленту в канал, и он бросил это. Оставаться же одному в комнате не было никаких сил, и Эрлен снова вышел на улицу.
Едва ступив на мостовую, он пожалел, что не остался дома. Все вокруг оглушало как будто специально устроенной сутолокой и суматохой, казалось, не было прохода ни от людей, ни от машин. Несмотря на то что внутри все было сдавлено беспощадными тисками, чувствительность Эрликона страшно и болезненно обострилась — длинная изогнутая ручка двери была холодной, как лед, а запахи проникали сквозь ноздри прямо в мозг — пахло металлом, морской влагой, откуда-то несло жареным мясом, и уж совсем невыносим был стук укладываемой где-то поблизости брусчатки. Это все были ощущения, а в мыслях жгучая, невыносимая ясность бытия навалилась на него. Не стало ни тумана, ни малейшей неопределенности — все свои поступки с начала и до конца он видел необычайно ярко и отчетливо. Это было тяжело, непривычно, и поверх этого он подумал:
«А ведь теперь эта гадость знает дорогу к сердцу», — и даже испугался, но только умом, словно речь шла о ком-то постороннем, и тотчас же с левой стороны в сердце вошла тонкая игла.
Чувствуя только одну эту иглу в себе, Эрлен свернул с улицы в узкий проулок, ведущий на грузовой двор отеля, где, как по волшебству, не было ни одного человека и стояла полная тишина. Он успел различить несколько мусорных баков, едва не столкнувшись с ними, и кирпичную стену, потому что сразу о нее оперся. Но стена поехала под рукой, сладковатая вонь ударила в нос, и Эрликон удивился, обнаружив, что лежит на земле.
Упал он мягко и безболезненно и подумал: «Сейчас станет легче». Но легче не стало, а, наоборот, игла в сердце проникла глубже, сделалась толстой и как будто ветвистой. Ах, если бы сейчас рука друга, или матери, или возлюбленной помогла бы остановить эту колючую мерзость или хватило бы ему силы прикоснуться к пистолетной рукояти, как к самому надежному воинскому талисману… Но нет, не явилось ни то ни другое, мир начал сжиматься и отступать, теснимый с краев мутными вуалями, и Эрлен вдруг увидел Бэклерхорста — феодал стоял у стола и, опустив голову так, что подбородок складкой упирался в шею, перелистывал лежащие перед ним бумаги, затем прямо сквозь него улыбнулся Кромвель, и дальше уже он не мог ничего разобрать.
Минут через двадцать во двор вбежали маршал и механик. Дж. Дж., вернувшись в гостиницу, только взглянул на распущенную по полу магнитную пленку, как сразу почуял неладное; портье внизу любезно сообщил, что Терра-Эттин вышел очень бледный. Кликнув Вертипороха и движимый неведомо чем, Кромвель тут же кинулся в кирпичную щель за выступом фасада.
Эрликон лежал за мусорными баками, привалившись спиной к стене и рассыпав, как черные свечи, волосы по асфальту; день в его глазах застыл. Дж. Дж., опустившись рядом, припал к голове головой и позвал:
— Эрли! Мальчик! — Потом сказал, глядя в землю: — Все-таки убили. — И, обернувшись, страшно зашипел на остолбеневшего Вертипороха: — Машину, живо!
Двое с лишним суток спустя они оба шли наверх по наклонному тоннелю реанимационного отделения стимфальской Медицинской академии. Механик был все в том же новом, «юбилейном» плаще, Кромвель — в черной маршальской шинели при мундире, фуражке, сапогах, портупее с серебряными львами, но без единого креста и орденских планок. По бетонному съезду меж серых стен они поднялись в маленький дворик перед воротами, где их ждал глянцевый, как жук, «Фандерберд-универсал» с поднятыми крыльями дверей и крышей длинного багажника. Вертипорох посмотрел на часы:
— Сказали, через десять минут.
За последние сорок восемь часов Одихмантий осунулся, глаза покраснели, слезы, скатываясь по щекам, застаивались в усах.
— Ты проводил Шейлу?
Дж. Дж. кивнул:
— Да. Вот устроили девке приключения.
— Сколько ей лет?
— Тридцать шесть. Послушай меня, не осложняй себе жизнь. Я прекрасно справлюсь один.
Маршал выглядел очень строгим и прямым, седые космы исчезли, оставив лишь одну белую волну надо лбом. Вертипорох на его предложение отрицательно покачал головой.
— Ты был в Пансионе?
— Да, та же картина. Странно мне все это.
— Во сколько она уезжает?
— Не раньше пяти. Успеем, успеем. Подумай еще раз. Там что-то непросто. Боюсь, не ждет ли кто нас.
— Нет, нет.
— Твое право. Приказывать не могу.
Внизу распахнулись двери, и двое санитаров в бледно-зеленых халатах и таких же шапочках вывезли на больничной каталке бежево-коричневый гроб. По тому же наклонному пути его доставили наверх и установили в машину; механик по команде маршала вытащил просторный бумажник, но один из санитаров горестно отмахнулся, и они ушли, оставив экипаж в полном сборе.
— Попрощаемся, — сказал Кромвель. — Потом не будет времени.
Одихмантий, тяжко засопев, открыл верхнюю и нижнюю половинки крышки. Эрликон лежал с ясным лицом, помолодевший, без вспухшей вены вдоль лба и кривой морщины над губами, под длинными ресницами голубели призрачные тени, волосы слева, как всегда, были зачесаны на бровь и щеку, создалось впечатление, что он даже стал больше ростом. По распоряжению Кромвеля пилота одели в его старую летную куртку и темный свитер с высоким воротом.
Маршал стоял, держа в руках фуражку, Вертипорох мотал головой, не в силах ничего сказать.
— Эрли, — заговорил наконец Дж. Дж. — Надеюсь, ты слышишь нас. Механик и я просим у тебя прощения. Ты доверил нам свою жизнь, и у нас не хватило ни мудрости, ни сил оправдать твое доверие. Как члены экипажа мы нарушили свой долг, и, хотя нас не предают суду, об этом мы будем помнить до конца дней. Отныне ты — наш судья. Прости нас за то, что мы не сумели удержать своих человеческих чувств и твоего убийцу положим в землю одновременно с тобой. Прости нас еще и за то, что мы, твои товарищи, не сможем быть на твоих похоронах — причины тебе понятны и ты, надеюсь, не держишь на нас зла. Мы всегда и везде будем благодарны тебе за мужество и доброту, которым ты научил нас за то время, что был с нами вместе, — а большего для таких, как мы, не дано сделать ни одному человеку.
Некоторое время они постояли в молчании, затем Вертипорох, всхлипывая, закрыл гроб и багажник, и друзья сели в машину.
— Ну? — спросил Кромвель.
— Джон, у тебя были братья или сестры?
— Нет.
— И у меня не было. А женат ты был?
— Нет.
— А я был.
Маршал покачал головой и промолвил с досадой:
— Черт с тобой, едем.
Немецкий Пансион — группа коттеджей в Южном Стимфале, неподалеку от поворота на Альмадену. Это, пожалуй, самый зеленый из городских районов, и его не зря еще иной раз называют Сосны. Здесь размещалась основная стимфальская резиденция Инги, если она не жила у отца или по каким-то причинам не селилась вблизи Дворца музыки. «Фандерберд» остановился у кружевной кованой ограды, опутанной отцветшим вьюнком, и Дж. Дж. сказал: «Подожди, я посмотрю, что к чему». Он исчез, через минут десять вернулся и сел в машину в глубокой задумчивости.
Загадка, тревожившая маршала и механика, была столь же очевидна, сколь и необъяснима: звонаревская охрана, скрыто ли, явно ли, числом большим или меньшим повсюду сопровождавшая Ингу, по неизвестным причинам пропала до единого человека. «Что сей сон означает? — спрашивал Серебряный Джон. — Где эти дьяволы засели?» — но не находил ответа. Волей-неволей приходилось думать, что кто-то из «отцов» телохранителей попросту отозвал, и, скорее всего, не иначе как сам Звонарь.
Теперь же требовалось решать. Кромвель, хмурясь, пожевал поджатыми губами, как обычно делал в минуты сомнения:
— Тишь да гладь. Что за притча? Рехнулся он, что ли?
Вертипорох пожал плечами:
— У него, кажется, жена умерла.
Да, да. Был же в газетах столб дыма над нормандским побережьем. Зашевелились подземные силы в Пиредровом царстве-государстве. Дж. Дж. настороженно смотрел вдоль ограды.
— Все чудно. И вахлачье какое-то больно сговорчивое, прямо — чего изволите?
— Может, нас подставляют?
— Зачем? Кто? Если Пиредра, то его архангелы нас сюда на милю не подпустили бы… Ладно, резолюция будет такая: черт разберет, что все это значит, но поверим. Рискнем. Есть резон.
— Она скоро выйдет?
— Должна сейчас. — И, едва Кромвель произнес эти слова, из арки с такой же кованой калиткой вышла Инга.
Солнце уже село, дневные тени растворялись в густеющем сумраке, заметно посвежело: вплоть до февраля зима в Стимфале — понятие вполне реальное; прохожие и машины пока мало оживляли пространство улицы между стеной Пансиона и редким сосняком у шоссе на противоположной стороне. Инга была закутана в красную с кистями шаль поверх длинного вязаного платья, волосы ее были распущены, взгляд сосредоточен. Она медленно подошла к автомобилю.
— Начали, — приказал маршал. — Покажешь ей, близко не подходи.
Вертипорох, обойдя машину, поднял колпак заднего отделения и откинул верхнюю часть крышки гроба. Эрлен пребывал в спокойствии, словно смежив веки в раздумье и оттого забыв обо всем окружающем. Инга сделала шаг назад и приложила руку к груди. Выждав мгновение, Дж. Дж. заговорил — как и всегда, будто по писаному; лик его с трудом угадывался в скверном предвечернем свете, лишь белели широкие отвороты шинели и узкая вертикальная полоса подбоя.
— Сударыня, мое имя Джон Кромвель, и это я был обязан не допустить теперешней ситуации, однако же, как вы видите, я ее допустил. Я должен был защитить его жизнь, и я этого не сделал. Произошло же нынешнее положение вещей из того, что Эрлен исповедовал странную философию, согласно которой вы, сударыня, причислялись к существам некоего высшего порядка, способным не считаться и перешагивать через таких людей, как он. Именно эта опасная иллюзия питала его чувства к вам, и именно она оказалась для него роковой. Старинная традиция вашей семьи — а я хорошо знаю вашу семью — убивать людей. Вы убили его, вы живы, и, таким образом, его противоестественная концепция как будто оправдалась. Если он нас сейчас видит, ему, несомненно, грустно от его правоты, а я не хочу, чтобы ему было грустно. С некоторым запозданием мне хотелось бы развеять его иллюзии.
Кромвель умолк, Вертипорох, придерживая полу плаща, неумелой рукой вытащил парабеллум и тут встретился глазами с Ингой. Нет, не соглашалась дочь гангстера так просто отдавать свою жизнь — пиредровская кровь жадна до земных утех и до последнего сопротивляется всем призывам иного мира. Взгляд колдуньи был холоден и темен, зрачки давили и высасывали — механика прошибла липкая испарина, земля под ногами заметно качнулась, и со дна желудка прямо в голову всплыла нестерпимая кислая муть. Пальцы схватило морозом, сухожилия остекленели, и Вертипорох почувствовал, что ему не совладать со ставшим адски тяжелым пистолетом. Секунду продолжался этот морок, и, едва она минула, в механика вступил дух войны — войны столь долгой и столь кровавой, что в ее дыхании меркли все чары и козни преисподней. Кромвелевская бессмертная сущность, бессчетно переварившая все те кошмары и то безумие, которое когда-либо человек изобретал на погибель человеку, без труда превозмогла неизъяснимую силу Ингиного колдовства.
Выстрел, второй. Инга, запрокинув голову, стала боком оседать на асфальт, повернулась в профиль, и Кромвель, взяв выше, выстрелил еще раз, когда между стволом и виском колдуньи не было и семи дюймов. После этого, не оставляя Вертипороха, он закрыл гроб, захлопнул багажник, спокойным шагом обошел машину, сел за руль, и «фандерберд», тонко запев двигателем, растворился в калейдоскопе улицы, наполняющейся первыми вечерними огнями.
Инга лежала на краю тротуара, откинув одну руку так, что лишь пальцами касалась земли, голову склонив набок и упершись бровью в бордюрный камень, лицо ее было равнодушно и даже отчасти надменно, волосы упали на лицо и намокли от крови. Спустя несколько минут ее не стало видно за обступившими людьми.
Совместный путь маршала и слегка обалдевшего механика был недолог. Сначала — до заброшенной стройплощадки, где хаос уходящих под землю труб избавил их от пистолета, а дальше — на близлежащую окраинную улочку — там поджидал громоздкий черный «понтиак» похоронного бюро. Из «понтиака» вылезли два человека. Один, маленький, в официальном темном костюме, вместе с Вертипорохом перенес гроб из одной машины в другую, второй, в рабочем комбинезоне и кепке козырьком назад, уселся за руль «фандерберда» и, не сказав ни слова, скрылся на нем неведомо куда.
— Ну, Дима, давай, — сказал Кромвель. Вертипорох достал из кармана плаща плоскую флягу «Белой лошади», и они с маршалом сделали пару хороших глотков. Одихмантию это было особенно необходимо.
— Все. — Дж. Дж. посмотрел на часы. — Рейс у тебя в девять сорок две, до конца панихиды досидишь — и улетай. Навести свою Москву, отпуск Бэклерхорст тебе выписал, и месяца через полтора подъезжай в «Дассо». Ну, не поминай лихом.
— Будь здоров и ты, Джон, — пробормотал Вертипорох и, не выпуская бутылки из рук, забрался в «понтиак».
Малютка гробовщик завел мотор, вспыхнули подфарники, катафалк, урча, съехал с пешеходной обочины на мостовую, набрал скорость и скрылся за углом.
Оставшись один, Кромвель еще какое-то время постоял на месте, рассеянно глядя то себе под ноги, то куда-то в сторону, потом заложил руки за спину и неторопливо зашагал в сторону центра.
Похоронный «понтиак» пересек город и к половине шестого подъехал к дверям представительства «Дассо». Здесь уже стояли три церемониальных «линкольна» и полицейская машина сопровождения. Из офиса вышли Незванов, Реншоу и с ними почти в полном составе Совет летной ассоциации. В это же время подкатил высокий лобастый глидер с эмблемой стимфальского Центрального госпиталя, и оттуда сначала показался Ли Лабрада в синей командорской форме, а затем высунулся сложно изогнутый костыль, уперся в землю, и появился Эдгар Баженов, поддерживаемый бессменной Люсиндой Джессоп, объятой нешуточными материнскими чувствами. После кратких переговоров все расселись по машинам, полицейский зажег свою мигалку, и кортеж неспешно тронулся через Стимфал на север, по направлению к Ванденбергу, к монументальному зданию Международного летного клуба, откуда через три часа Эрликону предстояло отправиться в последнее свое путешествие — к местам, которые сочли для него домом, — к Стоунбрюгге, к лесным дорожкам Контактерской Деревни, где ожидали его высокие травы и покой.
Может быть, в это же самое время, может быть, немного позже, далеко-далеко от уходящего в осеннюю ночь Стимфала, на Англии-VIII, по такому же шоссе, ведущему тоже в космопорт, ехал в своем очередном, на сей раз ослепительно белом, «мерседесе» Рамирес Пиредра. Никакие силы судьбы не могли заставить авантюриста преодолеть слабость к этой марке, и невозможно объяснить, чем так притягивали его эти массивно-изящные автомобили. Люблю, говорил он, и все тут! Вокруг бушевала весна, цвел май, солнце светило вовсю, и, отключив кондиционеры и опустив стекла, Рамирес смотрел на дорогу, как смотрят иной раз на старого друга после долгой разлуки.
Его, пожалуй, трудно было узнать. Борода исчезла, чудесным образом оставив после себя средиземноморский загар, седина сгинула, белая рубашка, белые брюки, светлый свитер из тончайшей шерсти накинут на плечи и свешивает рукава на грудь — невозможно дать гангстеру больше сорока — ни дать ни взять — сказочный принц.
Рамирес был лучезарно спокоен. Парней Скифа он опережал часов эдак на двенадцать и заранее ласково улыбался любым неожиданностям. Главное, что кончилась проклятая оцепенелость, кончилась неуверенность, чреватая бог знает какими напастями, он вновь творит никем не ожидаемые дела, бежит, его ловят, пахнет жареным, и, как в былые времена, слышен пульс и дыхание жизни. Он снова хозяин своей судьбы.
Через несколько часов ему предстояло устроить катастрофу на рейсовом лайнере, да так, чтобы на следствии комар носа не подточил, посадить этот лайнер на абсолютно неподготовленную для этого планету и, самое главное, уговорить какой-нибудь в меру покладистый труп стать для всего человечества Рамиресом Пиредрой, которого сначала найдут по фальшивым документам, а потом и по настоящим. И он не сомневался, что все это ему удастся, и удастся блестяще, потому что впервые за долгие годы чувствовал себя в ударе, и если есть на свете счастье, то можно сказать, что он был счастлив.
Авантюрист не думал и не догадывался о том, что, может быть, как раз в эти минуты стараниями расторопных стимфальских служб его родная дочь летит бок о бок со своим самым верным поклонником в темноте и стуже одного холодильника, запаянная в прозрачный пластик, что глаза ее закрыты, а правый висок и темя благодаря искусству особых специалистов выглядят почти натурально. Рамиреса волновали иные догадки, и, если бы его расспросить, он высказал бы довольно интересные соображения.
Почти магически он предчувствовал, что его музыкальная империя, лишившись верховного руководства, в скором времени рассыплется на удельные княжества, которые начнут между собой самую настоящую феодальную склоку за падающие доходы. Он почти наверняка знал, что силы, разбуженные всемогущим начальником Четвертого управления, известным под именем Скиф, в самое ближайшее время выйдут из-под контроля, негласно оборвут и похоронят Скифову карьеру, и под ударом чьей-то неведомой руки он навеки сложит буйные электронные кости.
Что же касается Звонаря, то уж тут-то все ясно до последней детали. Этот чудила долго раздумывать не станет, а завернет свои девяносто шестые десятизарядки (вот уж топорный-то символ вольной жизни!) в какой-нибудь свитер и на попутках потащится на Тратеру. Денег, по своей идиотской принципиальности, возьмет полкопейки и будет на бобах искать вдохновения, просветления и еще невесть чего. Короче, это уж точно — первое, что предстоит увидеть возле стародавних тайников знаменитого Соборного дуба, — это разномастную бороду приятеля и компаньона. И прекрасно, и пусть себе — вдвоем намного веселее.
О ком Рамирес совершенно не волновался, так это о жене. Прощай, Снежная королева! Ты, конечно, первым делом ринешься искать банковские счета и найдешь, что положено. А чего не положено, не найдешь, сколько ни ищи: у тебя самой достаточно, и уж кто-кто, а ты не пропадешь. Спустя какое-то время, сейчас ох как трудно сказать, когда именно, в некоем тихом местечке появится никому не знакомый, но чрезвычайно обаятельный человек (с настоящими документами), и этому человеку очень понадобятся деньги. Его никак нельзя обездолить.
А дочь… Честно говоря, пора отдохнуть от этого несуразного отцовства. Вот уж, что называется, пустые хлопоты. Что она там ему наговорила в последний раз? Где-то, через много лет, они встретятся, она ему что-то расскажет об их жизни… вздор какой-то. Нет уж, прощай, дорогая дочурка. Радости от тебя было немного. Разбирайся-ка сама со своими сложностями.
А бог с тобой, с проклятою, С твоею верной клятвою О том, что будешь ждать меня ты долгие года.Пиредра засмеялся.
А ну тебя, патлатую, Тебя саму и мать твою. Прощай, живи, как хочешь, я уехал навсегда.Все!
Первый снег выпал второго ноября, ночью. Нехотя, словно с трудом, рассвело, и проступил лес — еще желто-багряный, но с белыми полянами и травой, сплошь схваченной игольчатым инеем. На шоссе, там, где не было остановки, а стоял щит с надписью «Территория правительственного объекта. Проход запрещен», притормозил аэропортовский автобус, и единственный пассажир — плотный пожилой человек в меховой куртке, с «дипломатом» в руке — тяжело соступил на землю. Автобус уехал, а человек спустился с шоссе, прошел под щитом и побрел через лес, который здесь уходил вниз, следуя за пологим склоном, там сливался в одну пеструю осеннюю полосу, а дальше вновь поднимался вверх, скрывая вершины холмов, и в той дали над ним вырастала в хмурое небо стеклянная колонна Института Контакта.
Человек с «дипломатом» был Диноэл Терра-Эттин, отец Эрлена, тот, чье имя долгое время считалось символом Контакта, а также символом Контакта второго и третьего порядка, и шестого максвелловского уровня, и много еще чего. Для целого поколения ветеранов ИК он был центром бесконечных сплетен, скандалов («Слыхали, что отчебучил?») и непрерывного женского сюсюканья («Ах, наш милый Динчик!»). Портреты его в ту пору обошли обложки всех журналов.
Те времена давно прошли. Мало он теперь похож на те свои портреты. На них он если и не был писаным красавцем, то уж юным и неодолимо привлекательным несомненно, с шальной искрой в глазах, способной воспламенять сердца женщин любого возраста и воспитания. Волосы с рыжим огнем, дерзость и загадка во взоре, белозубая улыбка, избытка мужественности, правда, не ощущается, зато очарования хоть отбавляй.
Теперь… Теперь — старый кабан, потрепанный годами и собачьими клыками. От шевелюры остался седой ежик, сплошные морщины захватили даже веки, шея, как у ящера, под глазами мешки в узоре. Старик, да еще здорово пьющий старик. Какая уж там искра.
Что же, все верно. Однако солнце, опалившее Диноэла до подлинной краснокожести, не сожгло его в далекой стороне, а годы одиночества не притупили разума. Шаг Дина еще тверд, а взгляд по-прежнему голубых глаз ясен, сосредоточен и спокоен до невозмутимости. Вообще, посмотрев на его лицо, можно лишь подивиться и позавидовать интуиции Рамиреса, столь своевременно отбывшего искать счастья подальше от стен легендарной Консьержери.
Тропинка опускалась все ниже и ниже и вывела Диноэла на берег одной из речушек, протекавших по территории Института, — пожалуй, самой крупной из всех, с неожиданным славянским именем Невежна. Было уже совсем светло, солнце сровнялось с верхушками деревьев, белое, красное, желтое пало на воду и соединилось с ее ледяной зеленью, тени протянулись с берега на берег. Само зеркало казалось неподвижным, над ним лениво изгибались прозрачные туманные вуали. За неровным прирусловым валом залегла темнота, нависал черный ивняк с проросшей между ним малиной, их опрокинутое изображение графически четко смотрело из воды, а выше, на фоне леса, белел ломаный рисунок скелетов стеблей и высоких зонтиков цикуты.
Напротив, на правом берегу, где остановился Диноэл, погруженные в траву, а отчасти и в воду, лежали лодки. Все в них, что было открыто небу: скамейки, края бортов, горбы уключин, — все белой стоячей шубой покрывал снег, а там, куда он не смог добраться, блестело влагой потемневшее дерево; трава, обнимавшая бока лодок, стала колюче-заиндевелой, и там и сям были видны замерзшие зелено-желтые стрелы с черным осенним рисунком.
Выше по течению лодки были аккуратно вытащены на берег и уложены одна в другую, образуя фигуру наподобие чешуи, череда их белевших ребер и съеденных тенью уступов под ними напоминала выброшенные течением раковины. Рядом с ними через речку вел мостик на ушедших почти вровень с водой сваях, широкие доски его поблескивали от тончайшей наледи.
За мостом вновь начиналась белизна и осенний убор деревьев, поднимающихся по склону; к рассыпанным по снегу кроваво-красным кленовым листьям уже успела прилипнуть желтая березовая мелочь. В сумраке подступившего леса можно было разглядеть глубокие провалы под корнями деревьев на оползнях, а левее, перед мостиком, где река делала поворот, на крохотном островке щетинились копья начисто облетевшего за ночь орешника.
Дальше, на холмах, вновь играли в мозаику белые пятна прогалин и разноцветной листвы, на самом же гребне серела давно покинутая развалюха, и к ее разъехавшимся бревнам жалась тонкая красная рябинка. Было тихо, ни дуновения ветерка, и лишь какая-то пичуга негромко, с перерывами затягивала свою песню, каждый раз обрывая на самой высокой ноте, и, чуть подумав, начинала сначала. Справа к Диноэлу подобралась угловатая трехпалая тень, он обернулся.
Сосна. Одна, вышедшая из компании сестер у обрыва, с редкой, сбитой на сторону шапкой хвойной кроны; единственная, самая длинная мертвая корявая ветка с шелухой коры у основания оставалась голой и угрюмо упиралась в небо, словно посылая кому-то безмолвное проклятие. Прямо под сосной начинался размытый глинистый откос, и один из корней выходил из земли, выступая над рекой, и коленом уходил обратно, свешивая бахрому мелких корешков.
Ну что же, Скиф, подумал Диноэл, вот я и вернулся.

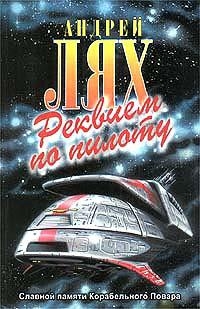

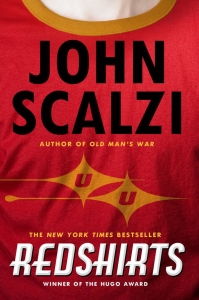

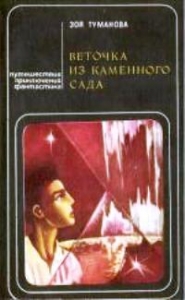
Комментарии к книге «Реквием по пилоту», Андрей Георгиевич Лях
Всего 0 комментариев