Виталий Сергеевич Забирко Путевые записки эстет-энтомолога
Татьяне
ЛОВЛЯ МЛЕЧНИКА НА ЖИВЦА
1
Я прибыл на Пирену трансгалактическим лайнером межнациональной компании «Торговый дом Кузнецова и внука Смита». Точнее, лайнер доставил меня в систему Гангута, а уже на Пирену я попал челночным катером, поскольку космопорта для галактических кораблей на ней не было. Захолустная, бесперспективная для торговли планета. Но для энтомолога – сущий рай, не загаженный отбросами технологической цивилизации.
Катер приземлился на бетонную посадочную полосу посреди плоской, выжженной солнцем, каменистой равнины и подрулил к зданию космостанции: несуразной одноэтажной коробке с непомерно огромной чашей антенны галактической связи на крыше. За космостанцией виднелись чахлые деревья редкой рощицы, в центре которой располагалось небольшое озерцо.
Встречало меня трое низкорослых темнокожих пиренита – все босиком и практически голые: на двоих болтались просторные набедренные повязки, а третий щеголял в потёртых шортах в обтяжку и пробковом шлеме времён колонизации Африки. Как я тут же понял, этот третий оказался не пиренитом, а единственным землянином на планете – консулом Галактического Союза, пигмеем Мбуле Ниобе. В дипломатическом корпусе Галактического Союза издавна повелось на планеты с гуманоидным населением назначать консулов, более-менее похожих на аборигенов.
Мбуле Ниобе несказанно обрадовался моему появлению – жил он здесь безвыездно двенадцать лет, до окончания контракта оставалось ещё три года, а заказываемые им грузы доставлялись с оказией не чаще чем раз в полгода.
Аборигены навьючили консульский груз и моё экспедиционное снаряжение на четырёх громадных долгоносов с подрезанными крыльями и погнали их к зданию станции. Насколько я знал, космостанция и посадочная полоса были единственными следами человечества на Пирене. Чего мне и хотелось.
Пилот челночного катера попрощался, катер без разбега рванул в трепещущее от зноя марево у нас над головой и растаял в зените. И настолько атмосфера Пирены была однородной и изотермической, что даже инверсионного следа в небе не осталось.
После первых же шагов по Пирене рубашка взмокла от пота, и я с ужасом представил, что вот так вот со мной будет целых полгода. Климат на планете ровный, практически без сезонных изменений.
– Снимай рубашку, – безапелляционно перейдя на панибратский тон, предложил консул. – Солнце здесь яркое, но не злое. Ультрафиолета в спектре мало, не обгоришь.
Изобразив на лице нерешительность с примесью некоторой стеснительности, я вежливо отказался.
– Ну и прей себе, – махнул консул рукой, по-своему истолковав отказ. – Через неделю сам снимешь, когда цивилизация с тебя чуть-чуть пообсыплется.
Я только улыбнулся. При других обстоятельствах сам бы без особых увещеваний стащил с себя рубашку.
Пока мы шли к космостанции, Мбуле Ниобе тараторил без умолку. Странно, но двенадцать лет добровольной робинзонады не сделали из него бирюка. Впрочем, это и понятно – не времена парусного флота. Межпространственная связь позволяла Ниобе связываться с любым закоулком освоенной Вселенной, и недостатка в собеседниках он не испытывал – таких консулов-отшельников было хоть пруд пруди. Но, естественно, общение с живым собеседником не шло ни в какое сравнение с переговорами по межпространственной связи.
Поток консульского красноречия захлестнул меня, и сваренный вкрутую пиренской жарой мозг успевал схватывать лишь обрывки из рассказа консула о житье-бытье на планете, о её природе, о племенах, их обычаях, их взаимоотношениях, о местной пище… К тому же, Ниобе настолько быстро перескакивал с одной темы на другую, что я успевал только кивать, изредка вставляя неопределённые междометия. Радушие и говорливость консула вряд ли объяснялись исключительно моим появлением, скорее это было складом его характера. Флегматику в консулах-одиночках делать нечего. Можно свихнуться.
Внутри космостанция делилась на восемь отсеков: ангар, склад, диспетчерскую, кухню, столовую, комнату для прислуги, апартаменты консула и гостевую. Ниобе помог мне перетащить экспедиционное снаряжение в гостевую комнату, и тут же, извинившись, с явным сожалением ушёл рассортировывать свои грузы, пообещав через часок наведаться и пригласить меня на обед.
Гостевую комнату, похоже, никто не занимал со дня постройки космостанции. И, хотя здесь было чисто прибрано, застелена свежая постель и работал кондиционер – консула за неделю предупредили о моём прибытии, – затхлый, тяжёлый воздух нежилого помещения так и не выветрился, намертво впитавшись в обшарпанные стены, потолок и покоробившийся пластик пола.
Я открыл холодильник и с удовольствием обнаружил, что он доверху забит банками с консервированными напитками. Вскрыв банку тёмного пива, я захлопнул холодильник, перевёл регулятор кондиционера на пять градусов ниже выставленной температуры и, стащив с ног ботинки и носки, лёг на кровать поверх одеяла. Посвежевший поток воздуха приятно овевал покрытое испариной лицо, а ледяное пиво, скользнув долгожданным холодом по пищеводу, вернулось в голову охлаждённой кровью и остудило разгорячённый мозг. Отупение от жары, охватившее меня с первых минут пребывания на Пирене, сняло, как рукой. Блаженствуя, я сделал ещё пару глотков и тут же пожалел о снятых ботинках. На большой палец правой ноги степенно взобрался огромный восьминогий жук, чем-то похожий на земного Antia mannerheimi , и, усевшись, стал обстоятельно покусывать ноготь жвалами, поводя по сторонам парой длинных гребенчатых усиков. Дрыгнув ногой, я сбросил жука на пол, но тут же почувствовал, как по левой ступне, щекоча кожу, упорно карабкается какая-то многоножка. Стряхнув и её, я сел на кровати.
В комнате царил энтомологический рай. Из всех щелей и углов выползали разнообразные насекомые: шести-, восьми-, десяти– и более ногие; первичнобескрылые и крылатые, скрыто– и наружночелюстные. Закованные в хитиновые панцири и мягкие, как слизняки. Прямо нашествие какое-то. Словно они прослышали о прибытии на планету энтомолога и спешили засвидетельствовать своё почтение. Некоторые из особенно нетерпеливых раскрывали крылья и взлетали.
– Э, – сказал я с нервным смешком, – вы ошиблись. Я узкий специалист. Меня интересуют только парусники.
Обиженный моим разъяснением ярко-зелёный жук на лету сложил крылья и ухнул в банку с пивом. Я осторожно поставил банку на пол, уселся на кровати в позе Будды и стал с интересом наблюдать за нашествием. В тайной надежде, что насекомых привлёк в комнату не запах человеческого тела.
Так оно и оказалось. Конечным пунктом их нашествия являлся потолок. Крылатые достигали его довольно быстро, а вот бескрылым приходилось взбираться по стене; но, все они, оказавшись на потолке, замирали в полной неподвижности. Некоторые срывались, но, побарахтавшись на полу, упрямо возобновляли свой крестный ход. К счастью, на кровать влезали немногие, чутьём угадывая более короткий путь.
Через час, когда консул заглянул в комнату, потолок был почти полностью облеплен насекомыми. В некоторых местах они висели в два-три слоя, и я с замиранием сердца покорно ждал, когда эта хитиновая масса не выдержит собственного веса и рухнет.
Консул с изумлением уставился на потолок, перевёл недоумевающий взгляд на меня и вдруг неудержимо расхохотался. Хохоча, он подошёл к окну и распахнул его настежь. И именно тогда вся масса насекомых рухнула вниз.
Брезгливые не становятся энтомологами. Но только идиоту может понравиться, если ему на голову высыплют ведро живых, копошащихся тараканов. Как ошпаренный, я соскочил на пол и стал лихорадочно стряхивать облепивших меня насекомых, меся ногами кашу из хитиновых панцирей и трахей. Ниобе залился совсем уж истерическим хохотом.
Через минуту, смахнув с себя большую часть насекомых, я вдруг с изумлением обнаружил, что они лежат на полу абсолютно неподвижно – большинство лапками вверх. Я недоумённо посмотрел на Ниобе.
– Д-дневная диапауза, – всё ещё давясь смехом, выдавил консул. – Выше двадцати восьми градусов местные насекомые впадают в спячку. Будь осторожнее в следующий раз с настройкой кондиционера – не буди спящих пауков!
Я не стал объяснять консулу, в чём состоит разница между насекомыми и паукообразными – тем более что Arachnida здесь тоже встречались, – подобрал с пола носки, вытряхнул застывших в диапаузе насекомых из ботинок и на цыпочках, держа ботинки и носки в руках, пошёл в душевую. Мне была известна особенность пиренских насекомых во время дневной жары впадать в спячку, но то, что биологический хронометр подскажет им, что ещё не вечер, и для продолжения диапаузы погонит на потолок – самое жаркое место в комнате, – оказалось новостью. Представляю, что здесь творится ночью!
Когда я вышел из душевой, Ниобе сидел на подоконнике и болтал ногами, а один из аборигенов заканчивал сметать насекомых в большой пятиведёрный чан, трамбуя их веником, так как в чан они уже не помещались.
– Спасибо, Урма, – сказал консул. – Можешь идти.
Абориген, крякнув от натуги, взгромоздил чан себе на голову и вышел.
Ниобе соскочил с подоконника, закрыл окно и выставил регулятор кондиционера на тридцать градусов.
– Жарковато, – сказал он, – зато насекомых не будет. А теперь – прошу ко мне.
В своём кабинете он усадил меня в кресло, включил телеканал Галактического вещания и приготовил пару коктейлей. Как я давно заметил, включённый экран телеканала великолепно справляется с ролью коммуникационного связующего во время застолья. Вроде бы его никто и не смотрит, и не слушает, но он прекрасно заполняет паузы в разговоре, а иногда и направляет русло беседы.
– «Пирена», – сказал Ниобе, протягивая мне узкий стакан. – Я назвал этот коктейль «Пирена». Кроме земной водки все остальные составляющие из местных трав. Ручаюсь, тебе понравится.
Коктейль мне действительно понравился. В меру пряный, алкоголя чуть-чуть, кислинки и сладости как раз по моему вкусу. Но в названии коктейля консул был не оригинален. Почти на каждой из полусотни планет, где мне довелось побывать, гостеприимные хозяева считали своим долгом угостить коктейлем из местных ингредиентов. За редким исключением все коктейли носили название планеты.
– Как ты уже убедился, – улыбнулся Ниобе, – работы здесь для энтомолога непочатый край.
Я пожал плечами.
– Как сказать. Боюсь, вы ошибаетесь. – Панибратство консула я категорически проигнорировал. – Меня не интересуют синантропные насекомые. Как, впрочем, и все остальные, кроме парусников. Я, скорее, не энтомолог, а коллекционер.
Ниобе вопросительно посмотрел на меня поверх стакана.
– Парусники – это бабочки? – спросил он.
– По земной классификации – семейство бабочек из отряда чешуекрылых. Но в космической систематике эстет-вид Papilionidae объединяет различные живые организмы, имеющие лишь внешнее сходство с земными парусниками, и их главными отличительными признаками являются большие, так называемые «вырезанные», крылья и их цветовая гамма. Например, межзвёздный экзопарусник Parnassius diaastros имеет только одно крыло и ни внешне, ни по своему строению и близко не напоминает насекомых. Но чего стоит форма его крыла, не говоря уже о гамме расцветки теневой плоскости!
– Понимаю, – закивал Ниобе. – Мне приходилось слышать об эстетической энтомологии…
Он приготовил мне ещё один коктейль, а затем, извинившись, исчез за дверью своих апартаментов.
Я осмотрелся. Рабочий кабинет консула был оформлен согласно всем канонам провинциального убожества. Несколько кресел, рабочий стол с двумя компьютерными дисплеями, экран галактического вещания и передвижной столик с напитками соседствовали с развешенными по стенам чучелами голов местных животных, либо увенчанных массивными рогами, либо ощерившихся пилообразными жвалами распахнутых челюстей. Чисто функциональная мебель до смешного уродливо дисгармонировала с охотничьими трофеями.
Ниобе вернулся, неся три большие плоские коробки.
– Когда десяток лет безвыездно сидишь в одиночестве на чужой планете, начинаешь увлекаться всем подряд, – словно оправдываясь, с улыбкой сказал он. – В том числе и энтомологией. Вот, посмотрите мою скромную коллекцию.
Он протянул мне коробки. Кажется, официально-корректный тон, которым я вёл разговор, специально пересыпая его научными терминами, и холодное неприятие панибратства заставили консула перейти на «вы».
Под прозрачными крышками к чёрному бархату, устилавшему дно коробок, были приколоты булавками пиренские насекомые. Коробку с жуками я просмотрел мельком и сразу же отложил, а вот коробки с бабочками изучил более внимательно. О ловле мотыльков и их мумификации Ниобе имел смутное, если не сказать варварское, представление. Фактически, ни одного неповреждённого экземпляра в коллекции не было. То крыло сломано, то пигментные пятна смазаны пальцами; не говоря уже о продавленных брюшках и нехватке у многих бабочек ног и усиков. Рядовая коллекция энтомолога-любителя, в которой не было ни одного интересного экземпляра.
– Неплохо, – похвалил я, чтобы не обидеть хозяина.
Консул расцвёл.
– Это что! – явно рисуясь, махнул рукой Ниобе и осторожно извлёк из ящика стола ещё одну коробку. – А что вы скажете об этом?
Чутьё у меня, как у охотничьей собаки. Я ещё не видел, что в коробке, а сердце встрепенулось. И, как всегда, не ошиблось. На тёмно-синем бархате был распят огромный, с крыльями, как ладони, чёрный парусник. Чешуйки на крыльях напоминали пыль древесного угля – абсолютно не отражали свет. Лишь два голубых пятна полумесяцами глаз смотрели на меня с верхушек передних крыльев скорбным взглядом.
– Парусник… – восхищённо пробормотал я. Горло у меня перехватило. Я готов был убить консула – так бездарно мумифицировать великолепный экземпляр! Лет через десять он рассыплется в прах…
– Я назвал его «скорбящая вдова», – с напыщенной гордостью произнес Ниобе. – Похоже, правда?
Я только кивнул и стал рассматривать парусника под разными углами к свету. Никакого радужного отблеска от чешуек! Впервые я видел такое. Абсолютно чёрные крылья.
– Где вы его поймали?
– В бассейне реки Нунхэн. В среднем течении. – Консул защёлкал клавишами одного из компьютеров, и на дисплей спроецировалась аэровидеосъёмка участка широкой спокойной реки, медленно несущей мутные белесые воды между голыми плоскими берегами. – Приблизительно здесь. Местное племя называет бабочку вестницей смерти.
– Это её ареал?
– Вероятно. По крайней мере, в других племенах я о ней ничего не слышал.
– Она часто встречается?
– Чрезвычайно редко. Я видел единственный раз и сразу поймал.
– Н-да… – Я с сожалением вернул коробку консулу. – Буду надеяться, что и мне повезёт. Тем более, что маршрут моей экспедиции пролегает как раз вдоль русла Нунхэн. Кстати, я попросил бы вас завтра утром забросить меня на птерокаре к её истоку. Со всем снаряжением, разумеется.
– Зачем так торопиться? – искренне расстроился Ниобе. – Успеете насмотреться на Пирену. Погостите у меня с недельку – знаете, как я соскучился по цивилизованному обществу?
Будь это на любой иной планете, или при других обстоятельствах, я сам бы напросился. Всегда нужно время для акклиматизации. Но на Пирене консул был для меня помехой. И существенной. Я бы предпочел, чтобы здесь никого из гуманоидов Галактического Союза вообще не было. Кроме аборигенов, естественно.
– Весьма сожалею, – твёрдо сказал я, – но время экспедиции расписано чуть ли не по минутам. Я должен пройти вдоль русла Нунхэн всего за полгода – сами понимаете, что для трёх тысяч километров это весьма небольшой срок. Если удастся пройти быстрее, тогда непременно воспользуюсь вашим предложением.
Ниобе несказанно огорчился. Готовя очередную порцию коктейля, он передозировал водки, и напиток получился излишне крепким.
– Останьтесь хоть на завтра, – попросил он. – Кстати, здесь у озера есть любопытные экземпляры бабочек.
Я категорически помотал головой.
– Вот, всегда так, – горестно вздохнул консул. – Пилоты челночных шлюпок ведут себя аналогичным образом. Только разгрузились – и сразу назад. Словно космос им не надоел до чёртиков…
Его сетования прервал стук в дверь.
– Да-да? – отозвался Ниобе.
В дверь просунулась голова аборигена.
– Сахим, – сказал абориген, – обед готов.
– Идёмте в столовую? – предложил консул, но тут же, махнув рукой, решил по-своему. – Да чего там – вези сюда, Харук!
– Знаете, – извинился он передо мной, – я привык обедать в кабинете, поэтому столовая в запущенном состоянии. Здесь нам будет лучше.
Абориген вкатил в кабинет столик, уставленный тарелками.
– Мой повар, – наконец-то представил его консул. – Готовит бесподобно. Спасибо, Харук, можешь идти.
– Приятной еды, сахим, – поклонился абориген и вышел.
Консул пододвинул столик ко мне поближе.
– Угощайтесь. Здесь всё местное. Решил вас удивить.
Некоторое время мы ели молча. Действительно, приготовлено было вкусно, хотя я и предпочитал пробовать больше растительную пищу, к мясной притрагиваясь только тогда, когда её брал Ниобе. Подозреваю, что мясо, в основном, принадлежало членистоногим Пирены. Впрочем, как я уже говорил, энтомологи не брезгливы. На Статусе мне довелось лакомиться яйцами скальных пауков, а на Магоре-IY отведать круто перчёные коконы панцирных живоглотов.
Беседа как-то не клеилась, консул был явно расстроен моим завтрашним отлётом и, похоже, не мог найти темы для разговора. Я ему не помогал. Заводить близкое знакомство я не собирался. Кто он мне? Так, случайный попутчик в поезде жизни.
Внезапно Ниобе встрепенулся и уставился на экран галактического вещания во все глаза.
– Слушайте, а ведь это о вас! – воскликнул он.
Я посмотрел на экран. Действительно, в блоке новостей показывали моё интервью недельной давности, которое я дал корреспонденту программы «Загадки и тайны Вселенной» в космопорту «Весты».
– Господин Бугой, – тараторил корреспондент, – насколько нам стало известно, вы направляетесь на Пирену, чтобы поймать млечника. Как велика вероятность, что вам это удастся?
– Весьма велика, – лаконично буркнул я с экрана.
– Но, по данным биологов, в этом секторе Галактики млечники до сих пор не встречались. На чём основывается ваша уверенность?
– На моих личных исследованиях.
– Вы не могли бы коротко рассказать о них нашим зрителям?
– Нет, не мог бы. Это профессиональная тайна.
Корреспондент не растерялся. Тот ещё пройдоха.
– Простите, но это не праздный интерес. Профессор Могоуши утверждает, что ваша экспедиция на Пирену для поимки млечника чистой воды фикция.
Пройдоха знал, чем меня зацепить.
– Бред, – отрезал я.
– Это вы о высказывании профессора? – ехидно заметил корреспондент. Для этих стервятников нет ничего аппетитнее, чем стравить между собой старых недругов.
– Нет, я вас просто поправил. Это профессор назвал мою экспедицию не фикцией, а бредом.
– И чем вы ему можете возразить?
– Ничем. Я ни с кем не собираюсь вступать в полемику. Я сам выбирал маршрут экспедиции, поэтому чужое мнение меня абсолютно не интересует. Я верю в свою звезду. О том же, кто из нас прав, мы поговорим после моего возвращения.
Кадр сменился, и я увидел на экране всё того же корреспондента, беседующего теперь уже с профессором Могоуши. Как всегда Могоуши больше растекался мыслию по древу, пространно повествуя о своей коллекции экзопарусников и о том, как он их добывал, чем отвечал на вопросы корреспондента о целях и задачах моей экспедиции. Корреспонденту удалось пару раз вклиниться и всё-таки заставить Могоуши высказаться в мой адрес, но, честное слово, лучше бы он этого не делал, потому что профессор вылил на мою голову очередной ушат помоев. Это и понятно – моя коллекция экзопарусников превосходит его коллекцию и по количеству, и по качеству, и по широте охваченных регионов. Кроме того, в моей коллекции около сотни уникальных экземпляров, а в его – лишь два десятка. Для честолюбивого Могоуши я был бельмом в глазу. Но больше всего профессора бесило то, что ни в одном интервью, ни в одной статье я не упоминал его имени. Будто профессора эстетической энтомологии Могоуши вообще не существовало.
В конце передачи показали стереослайды экзопарусников. Я насчитал около двух десятков из своей коллекции и лишь три экземпляра из коллекции Могоуши. Но, право слово, могли бы показать ещё с сотню моих, которые по красоте превосходили этих трёх профессорских.
– Красивые у него бабочки, – сказал Ниобе.
– Не у него, а у меня, – отрезал я. – Из его коллекции показали всего три слайда.
Со злости я залпом опрокинул в себя стакан янтарной жидкости и поперхнулся. Жидкость напоминала собой адскую смесь спирта, соляной кислоты и перца. Если бы смог расцепить зубы, сведённые невыносимой оскоминой, то изо рта, наверное, вырвались языки пламени.
– Это настойка зелёного пиренского гриба, – спокойно объяснил Ниобе и, как ни в чём не бывало, протянул мне бокал с какой-то мутной жидкостью, чтобы я запил. – Пробирает изумительно!
Я оттолкнул его руку, схватил со стола банку земного оранжада и опорожнил её одним глотком.
– Да уж… пробирает… – сипло выдавил, вытирая выступившие слёзы. Огненный клубок зелья медленно опускался по пищеводу, сжигая всё на своём пути.
– Напрасно вы запили оранжадом. Настойку зелёного гриба нужно нейтрализовывать соком кактуса Сибелиуса.
Я взял бокал с соком и точно также, одним духом, проглотил и эту жидкость. Зубы отпустило мгновенно, и теперь уже приятный шар мятного холода стал медленно опускаться вслед за огненным, туша пожар. Когда они встретились, я испытал нечто вроде взрыва внутри себя. Вначале огненные иглы пронзили всё тело, затем ледяные. Хмельная дурь настойки зелёного гриба, ударившая было в голову, развеялась в клочья, сознание прояснилось.
– Этот сок полностью нейтрализует настойку? – спросил я, недоверчиво прислушиваясь к успокаивающимся внутренностям.
– Полностью.
– Зачем тогда пить?
– А для контраста! – рассмеялся Ниобе. – Хотите ещё?
– Упаси боже!
Я поспешно плеснул в стакан обыкновенной земной водки, чтобы консул не успел наполнить его какой-нибудь своей гадостью.
Ниобе последовал моему примеру и поднял стакан.
– За успех вашей экспедиции, – предложил он.
– Спасибо.
К водке я вообще-то равнодушен, если не сказать более – предпочитаю лёгкие спиртные напитки, да и те в меру, – но сейчас ей просто обрадовался.
– Вы извините, – проговорил консул, закусывая, – я что-то не совсем понял цель вашей экспедиции. Если не ошибаюсь, млечник – это гриб?
– Не ошибаетесь, – усмехнулся я. – Но это в том случае, если исходить от латинского названия Lactarius . А если от греческого Galaktikos (и то и другое слово переводятся как млечный), то вместо гриба получаете вид хищного психофага, обнаруженного на нескольких населённых гуманоидами планетах нашей Галактики в довольно обширной области. Видели его всего несколько раз, но, по косвенным данным, предполагается, что это весьма распространённый вид.
– Почему же его так редко видели?
– Потому, что гипотетически это либо живой материальный объект, обитающий в n-мерном пространстве и появляющийся в трёхмерном когда ему заблагорассудится, либо живая энергетическая субстанция на основе полей и столь малых физических частиц, что в материальном мире является абсолютно проницаемой. Отсюда, кстати, и его другое, более звучное название – призрачный парусник. Существует всего два снимка млечника. Я видел оба. Смею вас заверить, что в мире нет ничего более прекрасного.
– Как же вы собираетесь ловить его, если он абсолютно проницаем?
Я откровенно рассмеялся.
– Вы похожи на корреспондента из программы «Загадки и тайны Вселенной». Это мой маленький профессиональный секрет. Кстати, пока я буду в экспедиции, попрошу меня не навещать и не вызывать по рации. Имеются сведения, что млечник очень чувствителен к электромагнитным полям, а птерокар создает весьма ощутимые биомагнитные помехи, которые могут отпугнуть млечника. Если возникнет чрезвычайная ситуация, я сам вас вызову.
Консул совсем погрустнел. К концу дня (обед как-то незаметно перешёл в ужин) Ниобе напился, хотя и утверждал, что к спиртному, как и я, равнодушен. Вполне возможно, что так оно и было, но мой категорический отказ остаться погостить, видимо, сказался на этом обстоятельстве. Время от времени консул возвращался к уговорам и даже пообещал подарить «скорбящую вдову», если останусь хотя бы на день, но я твёрдо стоял на своём. После каждой неудачной попытки уговорить меня, Ниобе тяжело вздыхал, от расстройства выпивал рюмку водки и на некоторое время менял тему разговора. Но минут через двадцать всё повторялось. В конце концов он таки подарил мне парусника просто так, расщедрившись под воздействием алкоголя. И я не отказался, пообещав, что если поймаю ещё один экземпляр, то этот обязательно верну. Кончилось всё тем, что после очередной порции водки консул откинулся на изголовье кресла и мгновенно заснул.
Я встал, размял затёкшие ноги и вышел на крыльцо. На каменистую равнину давно опустилась прекрасная пиренская ночь. У меня захватило дух. Я очутился меж двух звёздных сфер: одна надо мной – настоящая, неподвижная, холодная; другая в ногах – колыхающееся, мигающее, бесконечное море светлячков. Воздух звенел от жужжания, скрипа и верещания насекомых. А в озере посреди чахлой рощицы за зданием космостанции кто-то шумно, со всплесками ворочался.
«Здравствуй, Пирена», – сказал я про себя.
2
По-моему, консул солгал о своём равнодушии к спиртному. На следующее утро, наскоро позавтракав, он как живчик метался от птерокара в мою комнату, помогая прислуге переносить экспедиционное снаряжение. После такой дозы, которую принял вчера Ниобе, только потомственные алкоголики не испытывают синдрома абстиненции.
Загрузились мы быстро – экспедиционное снаряжение было упаковано относительно компактно, – и птерокар, легко взмахнув крыльями, поднялся в воздух. Я оглянулся и проводил взглядом уменьшающееся здание космостанции. Если млечник клюнет на приманку, то, чем бы ни закончилась охота, мне сюда не вернуться.
Наш путь лежал в предгорье хребта Хэнэ, откуда брала своё начало Великая Река Пирены. Во время полёта консул непрерывно тараторил, с излишней запальчивостью посвящая меня в геологические и этнографические подробности этой местности. Здесь, на берегу озера Таньтэ, из которого маленьким ручейком вытекала Нунхэн, располагалось селение племени хакусинов, где я, по словам Ниобе, мог приобрести долгоносов для экспедиции и нанять проводника. Во главе племени стоял некто Колдун (я так и не понял, то ли имя у него такое, то ли должность – на мой вопрос Ниобе ответил весьма путано и невразумительно, и получалось вроде бы и то, и другое, но вместе с тем и не совсем). Этот Колдун настолько сильный экстрасенс, что понимает галактический интерлинг без перевода, и я мог, по словам Ниобе, разговаривать с ним без транслингатора. Вообще иерархия в племенах Пирены довольно любопытна – здесь верхнюю ступеньку занимает не физически сильнейший, а обладающий наиболее выраженными парапсихологическими способностями. Учитывая, что все пирениты в той или иной степени владеют экстрасенсорикой, такое не удивительно.
Всё это я знал и без консула: готовясь к экспедиции, я основательно разобрался в психопотенциальных возможностях аборигенов. Они были огромны. Статичный патриархальный уклад почти миллионнолетней истории не позволил пиренитам развиваться по технологическому пути, а повёл их по бесконечной дороге медленной эволюции парапсихологических наклонностей. К счастью, этот путь хоть и создал из пиренитов экстрасенсориков, но эволюционировавшие вместе с психикой физиологические особенности организма не позволяли направлять психоэнергию вовне. Не будь такого ограничения, пирениты давно бы правили Галактикой. Матушка-природа лишний раз показывала, что не допустит бога над собой. И если какой-то вид она чем-то щедро одаривала, то всегда можно было найти, чем она его жестоко обделяла. Человечеству достались непомерное честолюбие, рациональное мышление и логическое восприятие мира, позволившие владеть и управлять материей. Пиренитам – величие духа и тайны сознания, но абсолютное равнодушие к материальным благам. Соприкасаясь с материальным миром, они брали от него только то, что необходимо для поддержания своей физической оболочки, как и человечество обращалось к духовному лишь при наличии хоть минимального материального комфорта. Именно это обстоятельство и сыграло огромную роль в том, что я оказался здесь. Не будь Пирены, я бы никогда не отважился на ловлю млечника. Но консула не собирался ставить об этом в известность. Как, впрочем, и никого другого.
Пирена давно пережила свою геологическую молодость и зрелость и вступила в предзакатный период спокойной тихой старости. Когда-то мощные тектонические разломы превратились в щебневые и песчаные пустыни, перемежавшиеся бесконечными лёссовыми плато и рыхлыми породами континентальных осадочных отложений. Горные кряжи выветрились и просели, почти все озёра и впадины занесло илом, и только хребет Хэнэ пока противостоял эрозии. Поверхность Пирены выровнялась и, обезводев, сбросила с себя растительность. И жизнь отступила к берегам ещё сохранившихся рек да немногих озёр. Но с высоты пяти километров она совсем не просматривалась: зелёно-жёлтые листья местных растений сливались с разводами серо-рыже-охристой почвы, и пейзаж планеты сверху напоминал марсианский ландшафт. Даже реки, насыщенные до предела взвесью лёсса и осадочных отложений, имели молочно-желто-бурые цвета и не отблёскивали на солнце.
Приземлились мы на песчаном берегу небольшого озера Таньтэ рядом с селением хакусинов, и птерокар сразу окружила восторженная толпа аборигенов. По-моему, единственное, что сближает пиренитов с людьми – это любопытство. Но если человек смотрит на необычную вещь с утилитарной точки зрения, оценивая, что она собой представляет, и стоит ли стремиться заполучить её в свою собственность, то любопытство пиренитов абсолютно бескорыстно. Мысль о том, что необычной, выходящей за рамки их патриархального уклада вещью можно владеть и как-то ею пользоваться, им чужда. Их цивилизация основана на чистом созерцании и осмысливании увиденного.
Хакусины помогли выгрузить из птерокара моё снаряжение, а затем провели к Колдуну. Колдун нас встретил, сидя на циновке перед своей хижиной. Пожалуй, и в племенах, где уважали прежде всего физическую силу, ему была бы уготована роль вождя. Высокий, чуть ли не с меня ростом, грузный в отличие от своих соплеменников, с непомерно крупной головой и неподвижным тяжёлым взглядом чёрных глаз.
– Здравствуй, Ниобе, – сказал он. – Приветствую и тебя, тёмный человек.
Транслингатор, заблаговременно прицепленный мною к мочке уха, мгновенно перевёл его слова.
Ниобе с удивлением покосился на меня.
– Здравствуй, Колдун, – сказал он. – Это – господин Бугой из Галактического Союза. Он…
– Знаю, – оборвал его Колдун и жестом предложил сесть на циновки напротив себя.
Мы сели. Колдун смотрел мне прямо в глаза пронизывающим взглядом. Обычной улыбки аборигенов на его лице не было. Хорошо, что полгода назад мне вживили в подкорку мозга электроды, и теперь череп прикрывала экранирующая сетка. Экранирование преследовало иную цель, но не будь его сейчас, на моей экспедиции можно было поставить крест.
– Почему ты прячешь свои мысли? – напрямик спросил Колдун.
– Я иду на опасную охоту, – также прямо ответил я.
– На бабочек? – приподняв брови, удивился Колдун. Видно, все сведения обо мне он уже извлёк из головы Ниобе.
– Эта бабочка – хищный психофаг.
Колдун задумался. Похоже, транслингатор достаточно точно перевёл ему смысл сказанного. Зато Ниобе недоумённо уставился на меня.
– На Пирене таких бабочек нет, – наконец сказал Колдун.
– Людей на Пирене тоже не было, – возразил я. – Но мы пришли. Прилетит и млечник.
Колдун вновь задумался.
– Хорошо, – тяжело уронил он. – Все имеют право на тайну своих знаний. Что ты хочешь?
– Я хочу купить у вас трёх выносливых долгоносов и нанять проводника.
– Я понимаю, что ты подразумеваешь под словами «купить» и «нанять». Но у нас так не делается. Мы делимся всем, чем можем. Выбирай себе проводника, а он подберёт из стада лучших животных.
Я оглянулся. Полукругом нас обступила толпа аборигенов. Все они доверчиво улыбались, и каждый готов был сопровождать меня.
– Я полагаюсь на ваш выбор, – уклончиво ответил я. Но в этом уступать Колдуну не собирался.
Колдун помрачнел.
– Когда ты уходишь? – спросил он.
– Сейчас.
По лицу Колдуна заходили желваки. Он встал.
– Темны твои мысли, пришелец Бугой, – глухо сказал он. – С тобой пойдёт Тхэн.
Он повернулся ко мне спиной и, не проронив больше ни слова, скрылся в хижине.
«Чёрт! – пронеслось в голове. – Видно не так уж безукоризненна сетка экранирования, как мне обещали!» Холодок страха заструился между лопатками. Но отступать было поздно.
Тхэн оказался улыбчивым парнем с весёлым взглядом и беззаботным характером. Не мешкая, он привёл трёх тягловых долгоносов, мы навьючили на них экспедиционное снаряжение и, не откладывая, тронулись в путь. Ниобе, вконец растерянный после странного, непонятного ему разговора с Колдуном, что-то невразумительно бормотал на прощание, но мне было не до него. Мне тоже очень не понравился разговор с Колдуном, и я спешил как можно быстрее покинуть селение. Поэтому я сухо попрощался с консулом, напоследок ещё раз предупредив, чтобы он не вздумал вызывать меня по рации, или навещать на птерокаре.
Провожали нас всем селением с весёлыми шутками и добрыми напутствиями. Вначале я воспринял это благодушно, однако, когда мы прошли уже километра три по берегу озера и достигли истока Нунхэн, а толпа всё не отставала, понял, что «провожание» может затянуться до самого устья реки. Причём на полном серьёзе – из справочника мне был хорошо известен благожелательный нрав аборигенов и их готовность оказывать помощь вплоть до самопожертвования. Тогда я поблагодарил всех и объяснил, что такое количество сопровождающих будет мешать мне охотиться на бабочек. Слово «мешать» для пиренитов как табу. С многочисленными извинениями они, наконец, отстали.
И моя экспедиция началась. Правда, через полчаса продвижения вдоль узенькой здесь, как ручей, Нунхэн нас догнал птерокар, медленно плывший на небольшой высоте. Консул высунулся из фонаря и помахал мне рукой. Но я состроил зверское лицо и погрозил ему кулаком. Птерокар поспешно затрепыхал крыльями, набрал высоту и ушёл за горизонт. Оставалось надеяться, что этот идиот, страстно жаждущий общения со мной, не испортит охоту.
Наш путь вдоль реки был не из лучших. Предгорье есть предгорье. Крупный щебень, валуны, а чуть дальше от берега – глыбы потрескавшихся скал и крутые осыпи. Местами они подступали к самой реке, и тогда приходилось брести по колено в холодной воде. К счастью, Нунхэн – река не быстрая и не сбивала с ног, хотя я пару раз искупался с головой, поскользнувшись на невидимых в мутной воде валунах.
Тхэн дикой козой скакал по камням, радуясь, как мальчишка, для которого такой способ передвижения был самым лучшим развлечением. Долгоносы шли подобно танкам на суставном ходу в марш-броске по пересечённой местности – уверенно, монотонно, на одной скорости. Будь у меня восемь ног и такая же ориентация в пространстве, и я бы не спотыкался на каждом шагу, всмятку разбивая самовосстанавливающиеся бригомейские кроссовки. Пожалуй, при такой ходьбе кроссовкам не хватит ночи, чтобы полностью регенерироваться. Хорошо, что я не поскупился и заказал две пары, хотя за обувь, выращенную на Бригомее по спецзаказу, мне пришлось выложить баснословную сумму. Но, право слово, кроссовки того стоили. Мало того, что они самовосстанавливались, они ещё и массировали ступни, снимали усталость и перерабатывали кожные выделения.
Однако больше всего досаждала жара. Сухая, безветренная, от которой не помогало даже невольное купание. Добровольно же окунаться в холодную, но ужасно мутную, как грязевой поток, воду не хотелось. Пот лил с меня ручьями. Единственным утешением было то, что впадавшие днём в диапаузу местные насекомые не кружили назойливо надо мной. Сил отмахиваться от них просто не было.
Вконец выбившись из сил и начав отставать, я крикнул ушедшему вперед Тхэну, чтобы он остановил долгоносов, и в изнеможении рухнул ничком на осыпь. Тхэн подскочил ко мне, схватил за руки и попытался войти в контакт с моей нервной системой, чтобы помочь прийти в себя и снять усталость. Пуще жары я боялся именно этого. Рыкнув на Тхэна диким зверем, я ногой отшвырнул его, как котёнка. Не хватало, чтобы он таким образом проник в моё сознание.
– Запомни… – прохрипел я пересохшим горлом. – Прикосновение ко мне – табу!
Тхэн сидел на корточках и испуганно смотрел на меня во все глаза.
– Сахим, – пролепетал он, – я только хотел…
– Даже если буду умирать, – отрезал я, – не смей прикасаться ко мне!
Отдышавшись, я хлебнул из термоса тонизирующего напитка и поднялся.
– Помоги мне, – примирительно буркнул я, и лицо Тхэна вновь озарилось улыбкой. Бог мой, какие великолепные слуги получились бы из пиренитов, если бы не их экстрасенсорика!
Мы сняли часть груза с переднего долгоноса и распределили его на двух других. Затем я достал спальник, сложил его вчетверо и затолкал в ложбину между средне– и заднегрудью освобождённого от поклажи долгоноса. Седло с виду получилось неплохим – даже со спинкой, роль которой выполняли атрофированные сочления подрезанных крыльев.
Когда я взобрался на долгоноса и уселся в импровизированное седло, челюсть у Тхэна отпала. Никогда пирениты не использовали долгоносов как верховых животных. Я поёрзал на спальнике, проверяя устойчивость. Вроде бы неплохо, только рукам ухватиться не за что. Тогда я вынул из тюка пару крепёжных шнуров и привязал их к культям подрезанных крыльев наподобие ремней безопасности.
– Трогай, – сказал я Тхэну.
И наш маленький караван пошёл. Вид едущего верхом на долгоносе человека привёл Тхэна в неописуемый восторг. Он заливисто смеялся, забегал то с одной стороны долгоноса, то с другой, чтобы поглазеть на меня с разных точек, восторженно хлопал себя по бёдрам, приседал… Но я мог дать голову на отсечение, что сам он никогда не усядется на моё место. Вещи и действия, выходящие за рамки обыденной повседневной жизни пиренитов, были для него табу.
Мне приходилось ездить на лошадях и слонах на Земле, на длинноногах на Миснере, на бородавчатах на Истре, но всё это ни шло ни в какое сравнение с ездой на долгоносах. Они были рождены для верховой езды. Плавный, постоянный ход, и только когда местность становилась особенно неровной, появлялось небольшое покачивание. Чудо, а не животные!
Наконец я смог посмотреть по сторонам. Растительность в верховьях Нунхэн практически отсутствовала. Лишь изредка на скалах встречались чахлые, почти безлистые кустики, да на пологих берегах у воды некоторые валуны кое-где были подёрнуты тонкой жёлтой коркой плесени. Зато рыба в реке водилась в изобилии. В редких заводях на мелководье вода то и дело всплёскивалась, и по её поверхности расходились концентрические круги.
Некоторое время я рассматривал в бинокуляры окружающие скалы, но ничего интересного не обнаружил. Потрескавшиеся граниты, базальты, слоёные пироги карбонатных отложений. Голые, выгоревшие на солнце, разрушенные эрозией. Пирена была на миллиард лет младше Земли, но отсутствие океанов, насыщавших атмосферу влагой, не позволяло планете наложить макияж из почвы и растительности на свои морщины, и она быстро состарилась.
Тхэн наконец оставил меня в покое и теперь бежал впереди каравана, неутомимо прыгая с камня на камень. Его босые ноги так и мелькали, с одинаковым усилием отталкиваясь как от гладких валунов, так и от остроугольных камней свежих осыпей. В одном месте он прыгнул на столь острый скол кварца, что, как мне показалось, край камня по щиколотку пропорол его ногу. Но Тхэн словно не заметил этого, продолжая прыгать с той же сноровкой. Я вновь надел на глаза бинокуляры, но даже при сильном увеличении следов крови на камнях не обнаружил. Рассмотреть же в мельтешении ног, каким образом Тхэну удаётся не пораниться на острых камнях, мне не удавалось. Тогда я включил на бинокулярах запись изображения, заснял бег Тхэна, а затем прокрутил его с замедленной скоростью. Меня покоробило, когда я увидел, как острые грани камней вонзаются в ступни Тхэна, причём пару раз проткнув их насквозь. Но, всмотревшись в его прыжки и даже застопорив кадр, на котором была хорошо видна поверхность ступни, как раз после её очередного прокола насквозь, я ничего на ней не обнаружил! Пожалуй, его ноги могли дать сто очков вперёд бригомейским кроссовкам…
К полудню жара меня доконала. Не помогал и тонизирующий напиток, который я поглощал с методичностью Ниобе, хлеставшего вчера водку. Я впал в сумеречный транс безразличия и апатии. Окружающий монотонный пейзаж слился в глазах в однообразное серое марево, пышущее жарой, а русло реки превратилось в жерло туннельной печи, по которому медленно сползал наш караван. Мысли спеклись в единый ком бесконечного ожидания прохлады. Наверное, нечто подобное испытывают бедуины, пересекая пустыню верхом на дромадерах.
Вышел я из этого транса только под вечер, когда мы наконец покинули предгорье и выбрались на равнину. Появившийся горячий ветерок мгновенно высушил пропитавшуюся потом одежду, и те секунды прохлады, которые я испытал при испарении с рубашки пота, привели меня в чувство.
Перед нами расстилалась бескрайняя глинистая равнина, поросшая пучками редкой остролистой травы. Река, подпитавшись в предгорье ручьями, стала шире, но, выйдя на простор, успокоилась. Однако по-прежнему её воды были мутны, и потому извивающееся по равнине русло больше походило на гладкую искусственную дорогу, чем на реку.
– Стоп! – приказал я Тхэну. – Здесь мы устроимся на ночлег.
Поскольку днём пиренские насекомые впадали в спячку, я собирался ловить их по утрам и вечерам, а днём идти вдоль русла Нунхэн.
Чувствовал я себя окончательно разбитым. Но всё же, пока Тхэн развьючивал долгоносов, нашёл силы собрать фильтрующий насос и искупаться под его струёй прямо в одежде. Душ из чистой тёплой воды освежил, и я ощутил себя почти человеком. Естественно, пока купался, Тхэн прыгал вокруг и хохотал, будто присутствовал на цирковом представлении. Я окатил его водой из шланга, что вызвало новую бурю неуёмного восторга. Но когда я предложил ему искупаться, он категорически отказался. Чёрт поймёт их психологию!
– Сахим кушать хочет? – спросил Тхэн, когда я выключил насос.
– Да. Будь добр, приготовь что-нибудь.
Тхэн обрадовался, будто я щедро одарил его. Он залез по колено в реку, нагнулся и стал легонько похлопывать по воде ладонями. Я с интересом принялся наблюдать. Через минуту Тхэн прекратил шлёпать и тихо-тихо на одной унылой, свербящей в ушах ноте засвистел. А затем вдруг резко опустил руки в воду и одну за другой выбросил на берег пять крупных, как башмаки, панцирных многоножек, похожих на раков, только без клешней.
– Кушайте, сахим, – предложил Тхэн, выбираясь из воды.
Я посмотрел на копошащихся в траве многоножек, и меня невольно передёрнуло.
– Что, прямо живыми? – недоверчиво спросил я.
– Они так самые вкусные! – заверил Тхэн.
– Гм… А сварить их можно?
– Можно, – кивнул Тхэн, но лицо его при этом выразило неодобрение. – Но сырыми они вкуснее…
– Тогда вари, – не согласился я. – В рыжем тюке найдёшь котелок и печь. Печь – это такой белый металлический ящик с прозрачной крышкой. Как ею пользоваться покажу потом.
Тхэн взял многоножек в охапку и, расстроено качая головой, пошёл к тюкам. Не нравилось ему моё решение.
Я распаковал синий тюк и стал собирать автоматический сачок для ночной ловли крылатых насекомых. Установил на треноге пятиметровый шест со светильником, а затем долго настраивал гравитационную ловушку на классическую форму крыльев парусников. Как я уже говорил, остальные насекомые меня не интересовали. Пока я возился с настройкой ловушки, солнце скатилось к горизонту, воздух посвежел, и на свет божий из дневных убежищ начали выползать насекомые. Откуда-то потянуло дымком, и я оглянулся. Тхэн давно распаковал тюк, достал из него печь и котелок, но воспользоваться ими и не подумал. Развёл костёр и варил многоножек в плоской глиняной посудине. И откуда он её взял – ведь шёл налегке?
Я подошёл поближе. Четыре тоненьких прутика каким-то чудом поддерживали над костром глиняную чашу. Огонь жадно лизал прутики, но они стойко противостояли языкам пламени, словно были сделаны из металла. Я заглянул в чашу. Чистая прозрачная вода кипела ключом. А её откуда взял Тхэн? Если бы он включал фильтрующий насос, я бы слышал. Да и никогда он не станет пользоваться насосом.
– Сейчас будет готово, сахим, – улыбнулся Тхэн и стал бросать в кипяток многоножек. Они мгновенно покраснели, совсем как раки. Всё-таки много схожего у Пирены с Землёй.
Я сел на землю и почувствовал, насколько устал. Гудели ноги, болели все мышцы, отвыкшие от физических нагрузок, саднило кожу на лице и открытых солнцу запястьях. Нет, кожа не обгорела – действительно, как и уверял консул, в спектре Гангута ультрафиолета почти нет, – а просто начала дубеть от жары и ветра.
– Готово, сахим, – сказал Тхэн, спокойно опустил руку в чашу, достал многоножку и протянул мне.
Я взял и чуть не обварился. Пока я перебрасывал с руки на руку горячую многоножку и дул на неё, Тхэн снова, как ни в чём не бывало, запустил руку в бурлящую воду, вытащил следующую многоножку и стал есть. От многоножки валил пар, но Тхэн не обращал на это внимания, словно температура пищи была нормальной. Ел он не спеша, аккуратно, но всё подряд вместе с хитином и внутренностями.
Я не стал экспериментировать и следовать его примеру. Облущил панцирь и осторожно попробовал мясо. По цвету и вкусу оно напоминало рачье – такое же сладковатое, белое, поскрипывающее на зубах. Довольно вкусно, хотя и несолоно. Хорошо, что наши с пиренитами вкусовые ощущения совпадают. Но когда Тхэн протянул мне вторую многоножку, я достал соль и посолил.
– Будешь варить в следующий раз, – сказал я и бросил ему пакет приправы, – добавишь в воду щепотку соли и специй.
– Хорошо, сахим, – покорно согласился Тхэн, хотя в голосе его явственно прозвучали нотки неодобрения.
Я съел трёх многоножек, Тхэн – двух. Еды оказалось как раз в меру. Что-что, а норму еды пирениты чувствовали чисто интуитивно, никогда не превышая её. Нарвать плодов, или выловить рыбы больше, чем сможешь съесть, для них невиданное святотатство.
– Навар пить будете? – предложил Тхэн. – Хороший навар, вкусный.
– Нет, спасибо. Я заварю на печи чаю.
Тхэн пожал плечами, снял чашу с огня голыми руками, напился через край кипятку и снова опустил чашу на огонь. И тут чаша расплеснулась по земле жидкой грязью, а остатки бульона загасили костёр. Чаша оказалась обыкновенным куском глины, чудом сохранявшим форму посуды во время приготовления пищи. Я осторожно выдернул из земли один из прутиков, поддерживавших чашу над огнём, и он легко переломился между пальцами. Вот и верь после этого справочнику, что аборигены Пирены не используют психоэнергию вовне!
Пока я набирал фильтрующим насосом воду в чайник и заваривал на печи чай, Тхэн мановением рук нагнал под берег с поверхности реки ряску и накормил ею долгоносов.
– Чай будешь? – на всякий случай предложил я, когда он снова подошёл ко мне.
– Нет, сахим, – отрицательно покачал головой Тхэн. – Хакусины сами себя обеспечивают едой и питьём.
Я пожал плечами и налил себе кружку.
Смеркалось. С реки потянул свежий ветер, и равнина стала оживать. То там, то здесь начали зажигаться огоньки светлячков, проснувшиеся насекомые заверещали, застрекотали, стали роиться в воздухе. Совсем обнаглевший паук с кулак величиной вскочил мне на кроссовку и впился в неё хелицерами. Я брезгливо сбросил его на землю и раздавил. Затем отставил кружку с чаем в сторону и достал из тюка баллончик репеллента. Не хотелось, чтобы ночью по мне ползали насекомые.
– Не надо, сахим, – остановил меня Тхэн. – Долгоносы этого не любят.
Он взял прутик и очертил на земле вокруг меня квадрат примерно три на три метра.
– Здесь вас никто не тронет.
И он оказался прав. Пока пил вторую кружку, я увидел, как два паука, один за другим бежавших по направлению ко мне, натолкнулись на черту и в панике устремились прочь.
Когда я допил чай, стемнело окончательно. На небе высыпали звёзды, и я, глядя на них, представил, как высоко-высоко, прямо надо мной, в безвоздушном пространстве у самой кромки атмосферы Пирены парит стая Papilio galaktikos . Если я правильно всё рассчитал, то сейчас они атаковать не будут. Подождут, пока мой охотничий азарт притупится. Это должно произойти где-то в середине маршрута. Или ближе к концу.
Я встал, подошёл к мачте автоматического сачка и включил свет. Что ж, поохотимся пока на местных ночных парусников. Если они есть.
Вернувшись, я расстелил в очерченном Тхэном квадрате спальник и забрался в него.
– Давай спать, – предложил своему проводнику.
– Спите, сахим, я лягу позже, – ответил Тхэн. Подтянув под себя ноги, он сел на землю и упёрся ладонями в колени. Лицом он повернулся в сторону предгорья, и его губы беззвучно зашевелились.
– Здравствуй, Колдун, – перевёл транслингатор, уловив неслышные мне звуки. Тхэн посмотрел на меня и плотно закрыл рот. Но напряжённой застывшей позы не изменил.
«Всё ясно, – подумал я. – Каждый вечер он будет таким образом переговариваться с Колдуном. Это плохо. Не знаю, как они это делают, но как бы их переговоры не помешали моей охоте. А точнее – не влез бы между мною и млечником Колдун…» Однако здесь я ничего поделать не мог. Моего запрета на переговоры Тхэн бы не понял и не принял – это его жизнь. К сожалению, проводник не консул, на которого я мог прикрикнуть.
Я перевернулся на другой бок и, хотя на сто процентов был уверен, что этой ночью млечник не отважится на нападение, принял таблетку тониспада. Тониспад позволял хорошо отдохнуть, но в тоже время сон становился обострённо чутким. Теперь на протяжении всей экспедиции мне предстояло каждый вечер глотать эту гадость.
Засыпая, я почувствовал, как биотраттовые рубашка и брюки стали сжиматься, плотно облегая тело. Начиналась еженощная переработка кожных выделений. Не представляю, как в обыкновенной одежде, не раздеваясь, я смог бы провести на Пирене целых полгода.
3
Как и следовало ожидать, за ночь в ловушку никто не попался, хотя на земле под светильником я обнаружил около трёх десятков мёртвых ночных мотыльков. Видимо сонм бабочек вокруг светильника привлёк хищных насекомых, и они славно здесь попировали. Что же касается отсутствия парусников, то они, как правило, ведут дневной образ жизни. Но встречаются и исключения, наподобие Ornithoptera monstre с Сигелы-II. Впрочем, этого теплокровного ночного хищника с метровым размахом крыльев лишь с большой натяжкой относят к насекомым, чаще выделяя в одиозный межкласс Insecta-Aves .
Пока я собирал автоматический сачок, Тхэн поймал большую рыбу и запёк её в глине. Естественно, опять без соли и специй. Мы позавтракали и двинулись в путь.
Второй дневной переход я перенёс легче, чем первый. Может, стал акклиматизироваться, а может, просто потому, что в этот день не шёл пешком, а ехал верхом на долгоносе, и мои силы расходовались только на борьбу с жарой и гулявшим по равнине знойным ветром. Во всяком случае потел я меньше и в сумеречное состояние не впадал, несмотря на то, что ландшафт равнины был более однообразен, чем предгорья.
Равнину мы прошли за четыре дня. В сачок мне так ничего и не попалось, поэтому все дни были похожи друг на друга. Каждый вечер я устанавливал сачок, каждое утро собирал его. Каждый вечер после ужина Тхэн, сидя на земле, застывал в прострации и вёл переговоры с Колдуном. И каждый день мой проводник кормил меня местной пищей, несолёной и пресной. В конце концов мне это надоело, и, когда он в очередной раз варил в своей неизменной чаше разового пользования рыбу, я не выдержал и бросил в воду приправу. Вот тогда я впервые увидел, как аборигены обижаются. Есть уху Тхэн отказался категорически. И долго насуплено наблюдал за мной, как я ем. Но когда я через силу выхлебал всю уху, он неожиданно повеселел. Оказывается, расстроило Тхэна не то, что я своим необдуманным поступком лишил его ужина, а то, что остатки еды придется выбросить! Похоже, соблюдение экологического равновесия было заложено в него на религиозно-инстинктивном уровне. Мне бы его заботы…
На шестой день пути мы вступили на лёссовое плато, в котором Нунхэн вымыла глубокое ущелье. Здесь река стала уже, глубже и ускорила свой бег. Непрочные стены ущелья то и дело обрушивались в воду, и Нунхэн, разлившись озером, либо промывала себе новое русло, либо водопадом преодолевала естественную плотину. При этом вода настолько насыщалась взвесью лёсса, что напоминала собой сточную канаву. Стакан такой воды после отстоя был на две трети заполнен осадком, из-за чего фильтры в насосе приходилось менять чуть ли не после каждого откачанного литра. Если бы не умение Тхэна расслаивать суспензию в своих глиняных чашах, то фильтров не хватило бы и на половину пути.
Растительность вновь исчезла – она просто не успевала укорениться на постоянно подмываемых берегах. Но количество насекомых осталось почти то же, правда, виды их изменились – появилось больше жесткокрылых; а мохнатые пауки равнины уступили место поджарым и гладким, с тонкими ногами. Удивляло и то, что рыба, и довольно крупная, спокойно существовала в клоаке, в которую превратилась река.
В первую же ночь на плато я, наконец, услышал знаменитый вой пиренского голого тигра, самого большого хищника планеты. На всякий случай я нащупал в кармане рукоять парализатора – единственного оружия, которое взял с собой, – но воспользоваться им не пришлось. Тхэн досадливо, словно отгоняя муху, махнул рукой – и вой тигра стал удаляться. Вообще было удивительно, что на Пирене практически отсутствовали млекопитающие, хотя эволюция органической жизни во многом походила на земную. Но в какой-то период развития большинство млекопитающих по неизвестным причинам вымерло, и осталось всего три вида хищников и около двух десятков грызунов. Освободившееся место в экологической нише заняли членистоногие, эволюционировавшие до невероятных размеров, как, например, долгоносы. Существовало несколько теорий, объяснявших такую замену, одна из которых не последнюю роль отводила аборигенам, якобы намеренно уничтожившим на заре своей цивилизации почти всех млекопитающих. На вопрос, зачем это пиренитам понадобилось, теория ответа не давала, но одним из косвенных аргументов, на которых она базировалась, являлся сам факт существования долгоносов. Иначе как искусственной селекцией на генетическом уровне их появление на планете ничем объяснить нельзя.
Переход через лёссовое плато превратился в сущий ад. Буквально с первых же метров мне пришлось спешиться и помогать Тхэну вытягивать долгоносов на крутые сыпучие осыпи. Долгоносы, вопреки первому впечатлению, оказались на редкость тупыми животными – их интеллект находился на уровне тлей, разводимых на своих плантациях муравьями. Они могли часами месить осыпающийся под ногами лёсс на одном месте, пытаясь с упорством тараканов преодолеть косогор только по прямому пути. Кроме того, у долгоносов напрочь отсутствовало чувство непредвиденной опасности, хорошо развитое у млекопитающих. Даже видя, что на их пути в реку рушится подмытая водой скала, они продолжали движение под падающие обломки, и чувство самосохранения срабатывало лишь тогда, когда какой-либо из отскакивающих камней не попадал в них. Тут уж они удирали, не разбирая дороги. В одном месте только психоэнергия Тхэна, с помощью которой он более часа удерживал начавшую рассыпаться на наших глазах скалу, спасла караван от погребения под осыпью.
Каторжный труд по преодолению лёссового плато сблизил меня с проводником. О дружбе здесь вряд ли можно было говорить – слишком разные у нас психология и интересы, – но чувство товарищества между нами определённо возникло. На стоянках словоохотливый Тхэн постоянно болтал, с детской наивной непосредственностью повествуя о своём нехитром житье-бытье. О жене, о детях, о Колдуне; много рассказывал о долгоносах, о том, что они значат для племени… Кстати, последнего я так и не понял: ни раньше – из справочника, ни теперь – из рассказов Тхэна. Долгоносов холили, лелеяли, но никогда не использовали в пищу или на каких-либо работах. Да и смешно было представить, что аборигены, с их владением психоэнергией, будут привлекать на тяжёлые физические работы животных. Похоже, долгоносы занимали в племени место священных животных, наподобие коров в Индии. Но и это не совсем верно, так как хакусины спокойно, без всяких предубеждений, предоставили их для экспедиции. Впрочем, вместо долгоносов, или на равных с ними основаниях, могли пойти в качестве носильщиков и сами хакусины (стоило мне попросить – так бы и было; другое дело, что именно это меня и не устраивало – мне нужен был только один абориген). То есть получалось, что долгоносы занимали в племени абсолютно равное положение с аборигенами. Учитывая уровень их интеллекта, это выглядело весьма странно.
Хоть многое я знал из справочника, но ещё больше почерпнул из рассказов Тхэна. Так, наконец, я понял, кем на самом деле является Колдун. Оказывается, раньше он был таким же обыкновенным хакусином, как и все остальные. Но когда срок жизни предыдущего Колдуна приблизился к концу, его по жребию выбрали на место вождя. После смерти старого Колдуна новый Колдун начал претерпевать физиологические изменения, приобрёл известные мне формы и стал отличаться от своих сородичей. Как я понял, Колдун на самом деле не вождь (можно ли сказать о голове, что она – вождь рукам и ногам?), а хранилище знаний племени и, одновременно, парапсихологический связующий между всеми хакусинами. Именно он принимает излишки сбрасываемой аборигенами психоэнергии, хранит её и передаёт тому, кто нуждается в ней дополнительно. Кстати, именно с помощью Колдуна Тхэн удерживал рушившуюся на караван скалу. Вообще без такого Колдуна не обходится ни одно племя. Он и советчик, он и помощник, он и судья. Средоточие всего их мира. В приближённом понимании – пчелиная матка в улье со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Возможность столь сильной зависимости Тхэна от Колдуна весьма меня обескуражила – это ломало все мои планы, – но, узнав, что их связь не является постоянной, и мой проводник в обычной ситуации вполне самостоятельная личность, не в пример общественным насекомым, я успокоился.
Как я ни спешил побыстрее пройти лёссовое плато (не хотелось, чтобы млечник атаковал меня именно здесь, где пространство манёвра было ограниченно), потратили мы на его преодоление две недели. Но, рано или поздно, всё когда-то кончается; кончилось и плато, и мы вышли на обширную солончаковую пустошь. Несмотря на то, что берега вновь разлившейся Нунхэн покрывал довольно толстый слой нанесённого рекой плодородного лёсса, ничего здесь не росло. Почва настолько пропиталась концентрированным раствором сульфата натрия, что выдавливала его на поверхность, где он застывал на солнце белой, хрустящей под ногами коркой. Вода в реке приобрела горьковато-солёный вкус слабительного, и мне приходилось в дополнение к обыкновенным фильтрам ставить на насос ещё и мембранные.
Нунхэн уже не только напоминала, но и полностью соответствовала сточной канаве. Ил, выносимый на берега излучин реки, гнил, и над водой висел удушливый смрад разлагающихся водорослей и микроорганизмов. Избегая его, мы зачастую удалялись от берега на два-три километра. Почва здесь была похожа на бетон, и лапы долгоносов дробно стучали по её поверхности, выбивая тонкую незримую пыль, белесыми кристалликами соли оседавшую на наши потные тела. От этого моя кожа окончательно задубела, причём до такой степени, что я, пожалуй, мог так же безбоязненно совать пальцы в крутой кипяток, как и Тхэн. Впрочем, подобных экспериментов я проводить не собирался, прекрасно понимая, что не в дублении кожи дело.
Насекомые практически исчезли, похоже, они, как и Тхэн, не переносили соли. Зато рыба в реке так и кишела. Тхэн рассказывал, что раз в полугодие хакусины спускаются сюда на лодках для ловли тахтобайи – угреобразной рыбы, достигающей двух метров в длину. Кажется, это единственная рыба, которую аборигены вялят, заготавливая впрок и нарушая тем самым свой же закон об излишествах пищи. То ли она отличается особым вкусом (зная неприхотливость пиренитов к еде и их экологические табу, я был уверен, что это не так), то ли просто мясо тахтобайи содержит в себе необходимые аборигенам белки и аминокислоты, отсутствующие в их повседневной пище. Но не столько сам факт отлова рыбы впрок поразил меня, как то, что хакусины добираются сюда всего за два дня. Когда я переспросил Тхэна, не ошибся ли он, мой проводник недоумённо пожал плечами и повторил, как маленькому ребёнку, что хакусины добираются сюда на лодках. Можно подумать, что после такого объяснения, мне должно было стать всё ясно. Впрочем, поразмыслив, я представил, как хакусины при этом используют свои парапсихологические способности, и всё стало на свои места. Почти. Потому что, зная их потенциальные возможности, этот срок был чересчур долог.
На солончаках меня ждала непредвиденная удача. Нет, и здесь в автоматический сачок никто не попался. Удача пришла с неожиданной стороны. Когда мы, огибая то ли пятую, то ли шестую зловонную косу, в очередной раз удалились от берега, я заметил, как над белесой, слепящей искрами мельчайших кристалликов сульфата натрия почвой перемещается, беспорядочно мельтеша в воздухе, кусочек блестящей слюды. Честно сказать, вначале я принял его за кусочек целлофановой обёртки, гонимой ветром, и только минут через пять расплавленный жарой мозг слабо возмутился – откуда здесь, на Пирене, целлофан? Абсолютно индифферентно я поймал на прицел парализатора мельтешащий в глазах блеск и нажал на спуск. При этом у меня было только одно желание – избавиться от галлюцинации. Но то, что я увидел, резким толчком вывело сознание из дремотного созерцания. После выстрела блестящий кусочек слюды на мгновение замер, а затем мягко спланировал на почву. Значит, живое существо – мёртвую материю ветер бы по-прежнему продолжал гнать над солончаками!
Я уже говорил, что нюх у меня на парусников, как у собаки. И, хотя он в первый момент подвёл меня, сейчас я был уверен – парусник! Не останавливая долгоноса, я спрыгнул на землю и помчался к месту падения бабочки.
Нашёл я её на белесой земле с трудом, но, когда обнаружил, обомлел. Небольшая шестикрылая бабочка, идеально белая, с размахом крыльев в полтора дюйма. Крылья отличались от канонической формы парусников – ни одного острого угла, – но такое вполне допустимо. Их словно каллиграфически вырисовали плавными извивами рукописной славянской вязи. Конечно, парусник не относился к экземплярам экстракласса – где-то третий-четвёртый по шкале Мидейры, – но, если правильно мумифицировать, третий эстет-класс ему можно обеспечить. Я осторожно заключил бабочку в обездвиживающую её и непроницаемую для ветра гравиловушку, и только после этого приказал обескураженному моим поведением Тхэну разбить лагерь.
Чтобы по всем правилам мумифицировать насекомое, необходимо не менее трёх дней напряжённой работы. Впервые на Пирене я развернул палатку, поставил в ней препараторский столик и, с видом триумфатора, водрузил на него ловушку с пойманным парусником. И приступил к священнодействию.
Первым делом я осторожно приподнял парусника гравиполем над поверхностью стола, а затем, медленно вращая верньер тонкой настройки, распрямил крылья. Потом долго оценивал, какую позу ему придать перед тем, как залить полибластом. Пожалуй, лучше всего будет «поза посадки на цветок» с полусогнутыми лапками, вот-вот готовыми коснуться цветка, и чуть наклонёнными вперёд плоскостями крыльев, будто тормозящих полёт парусника перед посадкой. И хоботок, хоботок обязательно вытянуть в струнку, словно парусник собирается воткнуть его в нектарник. (Чёрт побери, не видел я здесь ни одного цветка! Может, мой парусник – некрофаг, но я этого и знать не хочу. В эстет-энтомологии всё должно быть красиво!)
Я зафиксировал парусника и принялся рассматривать его под микроскопом. Чешуйки на крыльях представляли собой прозрачные мельчайшие кристаллы тетрагональной формы с практически симметричными гранями. Перемещая окуляр по отношению к осветительной лампе, я попытался найти угол преломления света в чешуйках, при котором бы достигалась дисперсия. Однако мои глаза так и не увидели цветовой радуги дисперсного света, а неожиданно получили световой удар отражённого. Минут на десять я ослеп. Когда же световой шок прошёл, я, трясущимися от предвкушения открытия руками, уменьшил яркость освещения на два порядка и стал более детально рассматривать чешуйки парусника. Прозрачные четырёхгранные пирамидки чешуек обладали аномальным оптическим свойством: они не преломляли свет, зато под определённым углом плоскость кристаллов полностью отражала его. Ай да парусник! Это же скрытый эффект парусника экстракласса! Световой убийца. Достаточно сфокусировать отражённый свет в одной точке, как объект, попавший в фокус, ослепнет навсегда.
Я понял, что поза, придуманная мною паруснику, никуда не годится. Если я хочу получить экземпляр экстракласса, то вручную мне не справиться. И хоть я не любил при мумификации пользоваться техникой – ручная работа своей филигранной незавершённостью придаёт бабочке вид живой, что сродни искусству, в то время как автоматика, в своём стремлении к абсолюту линий и форм, мертвит насекомое, превращая его в муляж, – пришлось распаковать компьютер и подключать его к работе.
Восемнадцать часов компьютер манипулировал с парусником, по миллидолям изгибая его крылья, чтобы совместить отражённый свет всех чешуек в фокус. Наконец он закончил работу. Шесть крыльев парусника были выгнуты странным цветком, неподобающим по форме летящему насекомому. Но эффект превзошел все ожидания. Под каким бы углом сверху не падал свет на крылья, он собирался в двадцати метрах впереди насекомого в испепеляющий фокус. Видимо, не прав я оказался в первоначальной оценке свойств граней чешуек. Разные грани у них выполняли разные функции, иначе бы получилось четыре фокуса. Отражающей была лишь одна грань, а три другие всё же преломляли свет и направляли его через четвёртую, совмещая с отражённым, потому что сила светового потока обладала такой мощью, что даже на расстоянии двух метров поток прожёг дыру в пологе палатки. Представляю, что делается в фокусе, рассчитанном компьютером!
Дальше я работал с парусником вручную, освещая его только снизу. Кропотливо придавая его телу вид атакующего хищника с плотно прижатыми к брюшку лапками и вытянутыми в струнку усиками, я просидел за препараторским столиком почти сутки. И только убедившись, что достиг совершенства в позе парусника вплоть до изгиба последней шерстинки на брюшке, я включил систему автоматической консервации насекомого. Ионизированное облучение убило в его теле всех бактерий и обезводило клетки. А затем тело Luminis mori – я назвал его так – было залито в цилиндр гиперпрозрачного полибласта. Когда полибласт окаменел, я собственноручно приклеил к поверхности цилиндра на пути отражённого светового потока рассеивающую линзу. При демонстрации на выставке я её уберу.
Возился я с парусником трое бессонных суток, а четвёртые – отсыпался. Проснулся совершенно разбитым – как никогда вымотала меня мумификация парусника в полевых условиях, – но при этом блаженно счастливым. Выпил кофе, пополам с Тхэном съел зажаренного целиком какого-то грызуна, похожего на тушканчика, и мы, свернув лагерь, снова тронулись в путь.
Несмотря на жару и усталость, душа моя пела. Коллекция пополнилась ещё одним уникальным экземпляром экстракласса.
Но самым уникальным в моей коллекции будет млечник. Я был в этом абсолютно уверен.
4
Два месяца пролетели как один день. Казалось бы, каждый день растягивался до бесконечности, минуты пиренской жары превращались в часы, когда мерцающее сознание зацикливалось на одном желании – быстрейшем наступлении вечерней прохлады, однако отсутствие событий нивелировало пройденный путь, и жара сплавляла все дни в единый ком знойного кошмара. Я чувствовал, что начинаю тупеть. Однообразие дней, упадок моральных и физических сил, несмотря на достаточно калорийную пищу, постепенно низводили меня до состояния болвана. Я превратился в подобие кибера с унылой монотонной программой. Мои действия дошли до автоматизма: разобрать утром автоматический сачок для ночной ловли, позавтракать, навьючить долгоносов; затем весь день потеть, либо сидя верхом на долгоносе, либо вытягивая караван на крутых осыпях; а вечером снова ставить сачок, развьючивать животных, ужинать…
Чтобы окончательно не отупеть, я стал по вечерам вести дневник, но помогало это слабо. Измученный дневным переходом мозг с трудом ворочался, требуя отдыха. И я, часто махнув рукой на записи, укладывался спать.
За это время мы преодолели более трети пути, пересекли ещё одно лёссовое плато и вышли в долину среднего течения Нунхэн. Здесь в реку впадало несколько притоков, и она, по-прежнему оставаясь мелкой, раскинулась в ширину чуть ли не за горизонт, изобилуя многочисленными островами нанесённого лёсса. Великая Река текла по долине спокойно и неторопливо, но её вялый ход был обманчив. Раз в пять-семь лет острова полностью перекрывали ей путь, и тогда река меняла своё русло. Массы воды устремлялись в долину, сметая всё на своём пути. Иногда новое русло Нунхен уходило за сотни километров от старого, и практически вся долина на аэровидеосъёмке напоминала поверхность старого мёртвого дерева с содранной корой, под которой усердно потрудились древоточцы.
Острова и берега густо поросли высокой травой, кое-где виднелись кусты и низкорослые деревья. Я с недоумением оглядывал окрестности. Когда Ниобе показывал мне видеозапись места в среднем течении Нунхэн, где он поймал свою «скорбящую вдову», берега реки выглядели удручающе голыми.
В этот вечер мы разбили лагерь в рощице редколиственных деревьев, дававших какую-никакую тень. Пока я устанавливал автоматический сачок, Тхэн развьючил долгоносов и отпустил их пастись. При этом он, как всегда, разговаривал с животными, предупреждая, чтобы они далеко не отходили от лагеря, потому что неподалёку бродит тигр. Вообще мой проводник постоянно что-то бурчал себе под нос, обращаясь то к долгоносам, то к реке, то к траве, деревьям, солнцу, пустыне… Причём разговаривал он так, будто вёл диалог, а я просто не слышал собеседника. Вначале пути это меня веселило и развлекало, но потом я привык и перестал обращать внимание.
Закончив установку сачка, я достал из спальника дневник и, насилуя себя, записал новые координаты, километраж сегодняшнего пути, дневную температуру и атмосферное давление, хотя все эти данные автоматически отмечались на моём запястном календаре. Но, как ни силился, описать безликий день у меня не хватило фантазии. Тем временем Тхэн поймал хрящевую черепаху, собрал каких-то трав и кореньев и сварил суп. И я был чрезвычайно ему благодарен, когда он, позвав ужинать, прервал мои мучения.
Наученный горьким опытом, я теперь наливал суп в отдельную миску и только тогда солил его. Тхэн на словах не возражал, хотя каждый раз неодобрительно качал головой.
Мы уселись по разные стороны костра и стали есть. Я – ложкой из миски, а Тхэн – прихлёбывая суп через край глиняной чаши.
– Сахим, – проговорил Тхэн, – давайте переберёмся на другой берег. Я высмотрел здесь хороший брод. С острова на остров…
– Зачем? Там что, бабочек больше? – спросил я чисто из чувства противоречия. Я и сам собирался где-то здесь переправляться на тот берег, потому что километрах в ста вниз по течению на этом берегу находилось селение племени нухолосов. А встреч с аборигенами я намеренно избегал.
– Долгоносы устали, – сокрушённо покачал головой Тхэн. – Потёртости у них на спинах от груза. Им отдохнуть надо, раны залечить…
Здесь мой проводник был прав. Местами хитиновый панцирь на спинах долгоносов протёрся до мяса, и хотя с помощью Тхэна животные успевали за ночь нарастить новый, был он тонким, некрепким и за день перехода вновь протирался насквозь.
– А почему для этого надо переходить на другой берег?
– На том берегу в двух дневных переходах есть селение.
Я поперхнулся и закашлялся. Как – на том берегу? Неужели я до такой степени вымотался, что стал путаться в карте? Ни слова не говоря, я достал карту и развернул её. Нет, всё правильно. Селение нухолосов находится на нашем берегу. Не верить карте я не мог, но, зная Тхэна, ему тоже.
– Здесь что, два селения? – спросил я.
– Почему – два? – теперь уже удивился Тхэн. – Селение в этой долине одно. И живут в нём нухолосы.
– А откуда ты взял, что оно на том берегу? На моей карте селение на нашей стороне реки.
– Было здесь, сахим, – согласился Тхэн. – Ещё двадцать дней назад было. Теперь селение за рекой.
Я недоумённо поднял брови.
– Почему?
– Скоро Нунхэн будет искать себе новый путь. И потечёт там, где раньше жили нухолосы.
«Понятно… – подумал я. – Теперь многое понятно. В том числе, почему на аэровидеосъёмке консула берега реки голые и пустынные. Видимо консул поймал парусника в тот момент, когда Нунхэн изменила русло. Так сказать, на новых берегах…»
– Это тебе Колдун сказал?
– Да, сахим. Он разговаривал с Колдуном нухолосов.
– И как скоро река изменит свой путь?
– Скоро, сахим. На третью ночь.
Я прикинул в уме. Хороша ситуация, нечего сказать! Продолжая идти вдоль берега, мы как раз попадём под наводнение на месте бывшей деревни. Если мы уже не в его зоне.
– Спроси у Колдуна, вот здесь, где мы сейчас находимся, вода нас не накроет?
Тхэн рассмеялся.
– Зачем тревожить Колдуна по пустякам? Я и сам знаю, сахим. Река начнёт поворачивать вон там. – Он махнул рукой вниз по течению. – Видите большой остров с деревьями?
– Значит, нам здесь ничего не грозит?
– Ничего, сахим.
Я задумался. Идти сейчас вперёд не имело смысла, а переправляться на другой берег – нельзя. Оставалось одно: переждать наводнение здесь. Я вновь развернул карту и, сверив на запястном календаре хронометраж пройденного пути с его разбивкой по карте, убедился, что опережаю график, составленный дома, на трое суток. Маловато. Сидеть здесь придётся минимум неделю, пока новое русло Нунхэн более-менее установится и уровень воды нормализуется. Значит потом нужно увеличивать либо скорость каравана, либо время дневных переходов, чтобы войти в график. Прямо сказать, перспектива невесёлая…
Я вспомнил, с каким напряжением мы штурмовали второе лёссовое плато, и понял, что такого темпа могу не выдержать. А если в этот момент меня атакует млечник? И тут до меня, наконец, дошло. Идиот! Нет, кажется, я действительно отупел до маразма. Изматывая себя непосильными нагрузками, лишь бы только не выбиться из графика, я тем самым облегчаю млечнику его задачу. Ведь он только и ждёт, когда я вымотаюсь до изнеможения, чтобы взять меня без всякого сопротивления! Конечно, соблюдение графика играет не последнюю роль в моём предприятии, но не ценой же собственной жизни навёрстывать просроченное время? Так легко из охотника превратиться в дичь.
– Решено, – сказал я Тхэну. – Завтра ставим здесь палатку и отдыхаем. Шесть дней.
– Может, всё-таки пойдем в селение, сахим? – несмело предложил Тхэн.
– Нет. Бабочки не любят жить рядом с населёнными пунктами, – на ходу выдумал я причину.
Тхэн рассмеялся.
– Это, наверное, у вас, людей, – сказал он. – Мы живём со всем живым в дружбе.
– Знаю, – кивнул я. – Но бабочка, на которую я охочусь, обитает не на Пирене. А я говорю о ней.
Тхэн пожал плечами, загасил костёр и, взяв с земли мою пустую миску, пошёл её мыть. Я не стал ждать, когда он вернётся и усядется у погасшего костра с лицом истукана, чтобы вести переговоры с Колдуном, забрался в спальник, принял таблетку тониспада и закрыл глаза.
Этой ночью у меня страшно разболелась голова. Меня бросало то в жар, то в холод, я метался во сне, как в бреду. Экранирующая сетка, как мне казалось, раскалилась добела, сжигая на голове кожу и волосы, а электроды вольтовыми дугами испепеляли мозг. Руки сами собой тянулись к голове, и если бы не действие тониспада, чётко разграничивавшего в сознании реальность происходящего и фантасмагорию сна, возможно, в припадке боли я бы неосознанно сорвал с себя сетку. Но стоило только рукам прикоснуться к голове, как я просыпался.
Тхэн, почувствовав, что со мной творится неладное, почти не спал. Пару раз он подходил ко мне, шептал успокаивающие слова, но прикоснуться ко мне не осмелился. В конце концов он сел рядом со мной на землю и просидел весь остаток ночи не смыкая глаз.
Наутро я проснулся с тяжёлой, как с похмелья, головой. Умылся, выпил кофе и поставил палатку. Отдыхать, так отдыхать. Похоже, переутомление, накапливавшееся во мне, выплеснулось прошедшей ночью. Как на финише у стайера, отдавшего все силы дистанции. Но до моего финиша было ещё далеко… Если только головная боль не имела другой причины.
Я попросил Тхэна, чтобы он оградил палатку от нашествия насекомых, установил в ней кондиционер и выставил температуру на двадцать градусов. И, право слово, чуть не замёрз – настолько привык к одуряющей пиренской жаре.
Закуклившись в спальник, я всё утро пролежал в прохладе палатки, пытаясь дрёмой компенсировать кошмарную ночь, но уснуть так и не смог. Кофе меня взбудоражил, нормальная температура вернула ясность мысли, и я понял, что пора. Пора готовиться к встрече с млечником.
Ближе к полудню я выбрался из палатки и увидел, что Тхэн спокойно спит прямо на земле на самом солнцепёке. Чуткости его сна можно было позавидовать. Куда там мне с патентованным тониспадом! Стоило только посмотреть на Тхэна, как он тут же открыл глаза и поднял голову.
– Сахим чего-то хочет? – спросил он.
– Да. Начнём расставлять силки для млечника.
Брови Тхэна удивлённо взлетели.
– Сейчас?
– Сейчас.
– Но, сахим, жара началась. Все бабочки спят.
– Млечник не спит, – сказал я. – Да и ваши бабочки не все впадают в дневную диапаузу. Ты помнишь, когда я поймал парусника на солончаках? В полдень.
Возразить Тхэну было нечего. Он встал.
– Вьючить долгоносов? – спросил он.
– Не надо, – отмахнулся я и впервые за время экспедиции стал развязывать красный тюк. Достав из тюка рюкзак, я загрузил в него пять гильз локальной пространственной свёртки и взял лопату. – Бери рюкзак и пойдём.
Тхэн поднял рюкзак, попытался нести его за лямки и так и эдак, но по-всякому было неудобно, и тогда он, не мудрствуя, взгромоздил рюкзак на голову. Я рассмеялся и помог ему надеть рюкзак на плечи. Такой способ переноски, как и всё необычное, вызвал у Тхэна бурный восторг, и он долго по-детски счастливо похохатывал, идя за мной вдоль реки. А потом замурлыкал нехитрую песенку о том, как мы идём, как солнце светит, как река течёт, как трава растёт…
Эта песня в разных вариациях, в зависимости оттого, что видели перед собой глаза проводника, сопровождала меня всю экспедицию. Но в отличие от заунывных песен земных караванщиков её мелодия была много веселей. Оно и понятно. Как ни привычна для бедуинов пустыня, но впереди их ждал оазис с другой жизнью, и они заводили бесконечные песни на одной ноте, чтобы скоротать путь от одного оазиса до другого. Для Тхэна же вся его знойная планета была средой обитания, его оазисом с нормальной для пиренитов пятидесятиградусной температурой. И он пел от радости жизни и своего неугомонного характера.
Мы прошли километра полтора вверх по течению. Здесь, выбрав небольшой пригорок, я взошёл на него и оглянулся на палатку. Пожалуй, достаточно.
– Копай. Глубина ямы должна быть около метра. – Я воткнул лопату в землю и смерил взглядом Тхэна. – Ну, тебе по грудь.
Тхэн взял лопату и принялся её недоумённо рассматривать. Я улыбнулся, отобрал у него инструмент и показал, как нужно копать. И опять меня ждал взрыв весёлого изумления. Тхэн выхватил лопату и рьяно принялся за дело.
– Рюкзак сними! – фыркнул я.
Тхэн оказался способным учеником. Работал он как землеройный автомат, и буквально через десять минут достиг нужной глубины.
– Достаточно, – остановил я его. Похоже, Тхэн настроился прокопать Пирену насквозь. – Вылезай.
Тхэн выбрался из ямы, и я замерил её метровой гильзой пространственной свёртки. Глубоковато. Придётся земли подсыпать.
– А теперь засыпай, – приказал я, опустив гильзу в яму и держа её за верхний конец.
Глаза проводника полезли на лоб.
– Зачем? – изумился он.
– Засыпай! – рявкнул я. Гильза была тяжёлой, и держать её на весу было нелегко. – Только осторожнее…
Когда Тхэн почти полностью засыпал яму, я отобрал у него лопату и сам закончил дело, утрамбовав напоследок землю ногами. Из засыпанной ямы торчал только торец гильзы с маленькими усиками антенн. Придирчиво осмотрев результаты работы, я подогнул антенны в сторону палатки и только тогда вкрутил в торец гильзы активатор. До самого упора, пока сигнальный глазок не замигал зелёным светом.
– Порядок. – Отряхнув ладони, я встал с колен. – Пойдём дальше.
И повёл Тхэна теперь уже прочь от реки. Гильзы следовало вкопать так, чтобы в охватываемый ими сектор свёртки пространства попадала палатка. Честно говоря, не верил я, что гильзы сработают в нужный момент и, главное, успеют накрыть млечника. В лучшем случае у меня будет пять секунд, а разгонное время энергетического выброса гильз составляет три с половиной секунды. То есть для нажатия кнопки мне остаётся всего полторы секунды, причём это только в том случае, если я замечу млечника в самый момент его появления. Поэтому я не очень рассчитывал на гильзы, надеясь только на то, что свою другую роль – провокационную – они сыграют.
Вторую гильзу мы не вкапывали. Тхэн поставил её на указанное мною место, и она сама легко, как раскалённый стержень в масло, вошла в землю. Теперь понятно, почему аборигены не знают лопат.
Когда я, стоя на коленях, подгибал усики антенн и вкручивал в торец гильзы активатор, нас вдруг на мгновение накрыла тень. Словно птерокар неслышно, на бреющем полёте пронёсся над нами. Это было столь неожиданно, и столь непривычно для безоблачного неба Пирены, что мне показалось, будто нас атакует млечник. Я прыгнул в сторону, упал на землю, откатился и выхватил парализатор. И увидел, как метрах в десяти над нами, аритмично взмахивая крыльями, стремительно скользит парусник «скорбящая вдова». Двигался он, как и все большие чешуекрылые, скачками, прыгая в воздухе из стороны в сторону.
Я выстрелил в него раз, другой, но не попал, и парусник, выйдя из зоны досягаемости, скрылся за прибрежными деревьями.
– Чёрт! – выругался я и в сердцах стукнул рукоятью парализатора по земле. Нужно было выставить парализатор на рассеивающий луч, а не стрелять узконаправленным.
– Плохо, сахим, – мрачно изрёк Тхэн. Он стоял метрах в пяти от меня, скрестив руки на груди. Впервые я видел его в такой позе и без улыбки. – Когда вестница смерти появляется днём, это не к добру.
Он вдруг резко повернулся ко мне спиной и застыл.
– Так и есть, – глухо сказал он. – И Колдуну что-то не нравится. Завтра днём он будет здесь.
Я встал с земли, отряхнул с одежды пыль и с сожалением посмотрел вслед скрывшемуся паруснику. И только тогда до меня дошло, что сказал проводник.
– Как – завтра? Ещё на солончаках ты говорил, что хакусинам туда добираться два дня!
– Я говорил правду, сахим. И именно сейчас моё племя на солончаках ловит тахтобайю.
Я совсем оторопел.
– Ну и что? Ведь отсюда до солончаков в три раза дальше, чем от них до вашего селения!
– Это не имеет значения, – невозмутимо обронил Тхэн. – Где мы будем ставить следующую гильзу, сахим?
Я внимательно посмотрел на проводника. Кажется, события начинали развиваться в ускоренном темпе. Может, и к лучшему, что не удалось подстрелить «скорбящую вдову». Похоже, времени на её мумификацию у меня бы не было.
– Идём, – сказал я.
Остальные три гильзы мы поставили глубоко в долине, окружив палатку полукольцом. Когда мы вкапывали четвёртую гильзу, я неосмотрительно выпил всю воду из фляги, и оставшийся путь изнывал от жажды. Не знаю, то ли сегодняшняя жара оказалась чересчур сильной и для Тхэна, то ли его обеспокоил неожиданный дневной разговор с Колдуном, или появление вестницы смерти выбило из колеи, но он уже не пел, движения стали вялыми, и он еле плёлся за мной, спотыкаясь на каменистой почве.
Хорошо, что я утром догадался поставить чайник с кипячёной водой в палатку. За время нашего отсутствия вода охладилась, и я, забравшись под полог, жадно выхлебал её прямо из носика. И, как подкошенный, рухнул на спальник. Каждой клеткой обезвоженного организма я чувствовал, как вода, словно в сухой песок, впитывается в меня, насыщая блаженной влагой. Когда вода полностью пропитала всё тело и выступила на иссушенной солнцем коже испариной, я испытал острый пароксизм безумного счастья. Как от наркотика. Не нужно мне было больше ничего на свете.
И в этот пик наивысшего блаженства снаружи донёсся сдавленный крик, а затем глухой звук упавшего тела. Находясь ещё в полуобморочном состоянии, я высунул голову из палатки. Так и не сняв рюкзак, Тхэн навзничь лежал на земле, широко раскинув руки. Глаза его были закрыты, и, похоже, он не дышал.
– Тхэн! – позвал я.
Мой проводник никак не отреагировал.
– Что с тобой, Тхэн?
Я выбрался из палатки. Никакой реакции. Чёрт, неужели пиренита тоже может хватить тепловой удар?
Я протянул к нему руку, но тут же отдёрнул её. Чего-чего, а тактильного контакта с экстрасенсориком я не мог допустить даже в такой ситуации. Дрожащими руками извлёк из заднего кармана брюк металлизированные экранирующие перчатки, надел их и только тогда положил руку на грудь Тхэна. Сердце аборигена билось нормально, лёгкие работали замедленно, но спокойно. Он будто спал. Непослушными в перчатках пальцами я поднял Тхэну левое веко и вздрогнул. Чёрный глаз аборигена тускло и неподвижно смотрел на меня. У человека при обмороке или тепловом ударе глаза обычно закатываются, но физиология пиренитов была для меня тайной за семью печатями. Может, у них так и должно быть?
– Тхэн, ты меня слышишь?
Я осторожно потрепал его по щеке. И опять никакой реакции. Левое веко так и осталось открытым, но, как мне показалось, глаз смотрел на меня вполне осмысленно. Вот только его выражение… Никогда не видел у Тхэна такого застывшего, холодного взгляда. Если бы он был человеком, я бы сказал, что его разбил паралич.
Не зная, что делать, я взял котелок, спустился к реке, зачерпнул воды и, вернувшись, вылил ему на голову. Но и это не помогло. Словно вылил воду на труп. Вода скопилась в глазницах, и было жутко видеть открытый глаз, наполовину погружённый в мутную лужицу. Я провёл рукой перед лицом Тхэна. Лужица в глазнице дрогнула, и радужка последовала за рукой. Всё-таки я не ошибся в своём предположении, Тхэн меня видит. Но что с ним теперь делать? Перетащить куда-нибудь в тень?
Я попытался сложить его раскинувшиеся по земле руки, чтобы было удобнее тащить тело, однако это оказалось не таким простым делом. Если бы Тхэн не дышал и не смотрел на меня, я бы подумал, что имею дело с окоченевшим трупом. Впрочем, и это не совсем верно. Руки, хоть и с трудом, но всё же гнулись, застывая в любом положении, как у куклы. Вот это было вообще непонятно. Не по-людски.
Кое-как, с трудом преодолевая сопротивление одеревеневшего тела, я посадил Тхэна и уже собирался перетаскивать в тень палатки, как вдруг он забился в моих руках в ужасной судороге. От неожиданности я отпрыгнул в сторону. Страшно и непонятно заиграли, забугрились с огромной скоростью все мышцы тела, однако сам он при этом был неподвижен, оставаясь в том положении, в котором я его усадил.
Судорога прекратилась так же внезапно, как и началась. Наконец Тхэн медленно повернул голову и посмотрел на меня. От его жуткой кукольной позы и пустого одноглазого взгляда по спине пробежали мурашки.
– Тхэн… – выдавил я.
Он не ответил. Левый глаз смерил меня сверху вниз, и лишь тогда правое веко дрогнуло, и второй глаз стал медленно открываться. Также неторопливо, расслабляясь, опустились руки, чуть согнулась спина, и тело Тхэна приняло нормальный вид сидящего пиренита. Лишь застывшее лицо и неподвижный взгляд красноречиво говорили, что последствия непонятного припадка полностью не исчезли. И неизвестно, когда пройдут.
Около часа я пытался разговорить Тхэна, заставить его сказать хоть слово. Но все мои ухищрения разбивались, как о глухую стену. Он сидел, подобно изваянию, вперившись в меня тяжёлым немигающим взглядом. Я чувствовал, что он меня понимает, но то ли не может, то ли почему-то не хочет отвечать.
В конце концов я оставил его в покое и, поскольку уже начинало вечереть, принялся готовить ужин. Как я понял, рассчитывать на то, что Тхэн, как всегда, накормит меня, не приходилось.
Впервые на Пирене я сварил суп из земных концентратов. Пока я ходил за водой, включал насос и возился у печи, Тхэн не отрываясь наблюдал за мной, не по-человечески поворачивая голову чуть ли не на сто восемьдесят градусов.
Суп я разлил в две миски. Одну поставил перед Тхэном на землю, положил ложку; а сам сел напротив и принялся есть из другой.
– Попробуй, – предложил я ему. – Конечно, сублимированный суп уступает по вкусу натуральному, но столь же калориен.
К моему удивлению Тхэн осторожно взял миску, потом ложку (никогда до этого он ложкой не пользовался – обычно ел руками, а юшку выхлёбывал через край) и стал есть. Явно копируя меня. Но получалось у него плохо. Суп выплёскивался не только из ложки, но и изо рта, растекаясь по рукам, бороде, груди, обливая ноги. Когда он вычерпал весь суп, пожалуй, только спина осталась не забрызганной.
– Пойди, искупайся, – посоветовал я, собирая посуду.
Тхэн и не подумал пошевелиться. Но когда я понёс грязную посуду к реке, он встал и, покачиваясь, неуверенно двинулся за мной. Словно никогда до этого не ходил.
Я вымыл посуду и снова посоветовал ему искупаться. И опять он никак не отреагировал на мои слова. Стоял и молча наблюдал за мной. При этом я заметил, что радужки у него намертво застыли посреди глазных яблок, и если ему нужно было куда-то посмотреть, он поворачивал голову. Как андроид с жёстко установленными фотоэлементами.
Я включил насос и окатил Тхэна водой из шланга. Он пошатнулся и чуть было не упал. Но не от неожиданности – он даже глаз не закрыл, когда в них попала струя. Просто напор воды нарушил его равновесие.
Мне очень хотелось забраться в палатку, чтобы хоть одну ночь выспаться по-человечески, но я пересилил себя и, как обычно, расстелил спальник на земле. И, так как заговаривать насекомых в эту ночь было некому, опрыскал всё вокруг репеллентом. Вернувшиеся в сумерках с пастбища долгоносы жалобно заскулили и, недовольно взбрыкивая, ушли в ночь.
«Как бы не разбежались», – привычно подумал я. Впрочем, кажется, теперь это не имело никакого значения.
Приняв две таблетки тониспада, я лёг на спальник вверх лицом. Так лучше всего было наблюдать за Тхэном и не упускать его из виду.
Тхэн долго стоял метрах в пяти от меня, чётким силуэтом вырисовываясь на фоне звёзд, но затем всё-таки сел. Спиной к реке, лицом ко мне. Как видно, вести сегодня переговоры с Колдуном он не собирался.
Две таблетки тониспада позволяли отдыхать, не закрывая глаз. Я словно раздвоился. Почти весь мозг спал, бодрствовала лишь та его часть, которая ещё в реликтовые времена среднего карбона заставила моих земноводных пращуров в поисках спасения от хищников выбраться из воды и утвердиться на суше, а потом весь последующий эволюционный период охраняла от исчезновения. Я знал, что сплю, но одновременно с этим видел над собой звёзды, реку в ногах, колышущуюся от ветра траву и застывшую чёрную тень моего проводника. Чувство опасности необыкновенно обострилось и будило меня даже от неслышного пролёта одиночных ночных насекомых, изредка с дури залетавших в опрысканную репеллентом зону. Но потом сознание затуманилось, и впервые на Пирене я увидел сон.
Я сидел в утлой лодке на корме, а на её носу стоял Колдун хакусинов и сверлил мой мозг тяжёлым недобрым взглядом.
– Что ты сделал с Тхэном? – жёстко спросил он, и в моей голове вспыхнула разрастающаяся точка боли.
– Я не трогал Тхэна, – ответил я, но не услышал своего голоса.
Не услышал его и Колдун.
– Не молчи, тёмный человек, – продолжал жечь словами мой мозг Колдун, раздувая огонёк боли. – Не прячься от меня. Я знаю, что ты меня слышишь.
– Твой Тхэн заболел! – беззвучно закричал я. – И я здесь ни при чём!
– Так что ты сделал с Тхэном? Почему я его не чувствую?! – терзал меня Колдун.
Боль стала невыносимой. Ещё мгновение, и её пожар взорвался бы ядерной вспышкой.
– Прекрати!!! – заорал я и вскочил. И едва успел отбить тянувшуюся к моей голове руку Тхэна.
– Что тебе?! – стоя на коленях, крикнул я в темноту его лица. – Я предупреждал, чтобы ты не вздумал ко мне прикасаться!
Мои слова не оказали на него никакого действия. В слабом свете далеко установленного от нас светильника автоматического сачка я увидел, как руки Тхэна вновь потянулись ко мне. Тогда я рванул из кармана парализатор и выстрелил.
Тхэн застыл с протянутыми руками, а затем медленно, как статуя, завалился на бок с деревянным стуком. Я стёр холодную испарину с лица, отдышался и подождал, пока бешено колотящееся сердце не успокоится. И только затем оттащил застывшее в параличе тело Тхэна в сторону.
– Запомни, – сказал я, нагнувшись над ним, – сейчас я устанавливаю на парализаторе максимальную мощность. И если ты ещё раз попытаешься прикоснуться ко мне, то будешь мёртвым.
Поправив сползшие с рук металлизированные перчатки, я вернулся к расстеленному на земле спальнику. Теперь можно спать спокойно. До утра Тхэн был полностью обездвижен.
Но спокойно заснуть не удалось. Не успел я улечься, как из тьмы равнины донёсся перепуганный визг долгоносов, и земля задрожала от их бешеного галопа. А затем все звуки ночи перекрыл леденящий душу торжествующий рёв пиренского голого тигра, оповещавшего окрестности об удачном окончании своей охоты.
5
Встав с первыми лучами солнца, я приготовил нехитрый завтрак из земных концентратов, поел, выпил кофе и накормил уже пришедшего в себя Тхэна. Между нами возникло чувство взаимной настороженности, но если я, стараясь не упускать проводника из вида, подглядывал за ним исподтишка, то он продолжал откровенно пялиться на меня, нимало не скрываясь. Однако попыток прикоснуться ко мне больше не предпринимал.
Прикинув в уме, что трёх гильз пространственной свёртки будет достаточно, чтобы замкнуть кольцо вокруг палатки, я загрузил их в рюкзак и закинул его за плечи.
– Идём со мной, – предложил Тхэну. Упускать проводника из вида я не собирался ни на секунду.
К моему удивлению Тхэн встал и последовал за мной.
Возле первой намеченной мною точки мы наткнулись на половину туши долгоноса, облепленную копошащимися насекомыми. Пиренская жара сделала своё дело буквально за несколько часов, и от туши тянуло тошнотворным смрадом разлагающегося мяса. Выбитые на каменистой почве следы уцелевших долгоносов вели от места трагедии вниз по течению. Кое-где в пыли просматривались и отпечатки когтистых лап пиренского голого тигра, последовавшего за долгоносами.
Зайдя с наветренной стороны от туши, я выбрал место с песчаной почвой и принялся копать. Землекоп из меня оказался никакой, и я потратил около часа, пока достиг нужной глубины. Конечно, без скользящих по ручке лопаты металлизированных перчаток дело пошло бы быстрее, но снимать их я не собирался. Ни днём, ни ночью. Этой ночью они спасли меня от тактильного контакта с Тхэном, когда я отбил протянутую ко мне руку.
Пока я копал, Тхэн сидел на земле под всё усиливающимся солнцепёком и не сводил с меня взгляда. Он-то сидел, а я, обливаясь потом, копал, прекрасно понимая, что заставить это делать Тхэна не удастся.
На вторую гильзу я потратил два часа. Жара стала невыносимой, хотелось побыстрее установить гильзу, вернуться в лагерь и забраться в прохладу палатки, но я намеренно сдерживал себя, копая медленно, неторопливо, сберегая силы. Млечник мог появиться в любую минуту.
Именно на этой яме я понял, что переоценил свои силы, решив за сегодня установить три гильзы. На третьей я упаду и стану лёгкой добычей млечника. Поэтому, активизировав вторую гильзу, я жадно допил из фляги остатки воды и под эскортом Тхэна вернулся в лагерь. Но, как ни манила прохлада внутри палатки, сел снаружи в её тени, боясь упустить из вида своего проводника.
Первым делом я всыпал порошок тонизатора в чайник и напился. От жары это не помогло, но, по крайней мере, водный баланс в организме восстановило.
Тхэн потоптался напротив и тоже сел. Похоже, и он не собирался спускать с меня взгляда. И тут я увидел его ступни. Кровавое месиво, а не ноги. Что-то изменилось в организме моего проводника: если раньше острые камни и колючие шипы были ему нипочём, то теперь они превратили его ноги в кровоточащие раны. Хотя по его поведению, по тому, как он шёл, можно было подумать, что раны не приносят боли и совершенно ему безразличны. Я посмотрел на землю. Цепочка кровавых следов тянулась от Тхэна в долину, где мы ставили гильзы. А вот потеря им крови мне совсем ни к чему. Слишком много я вложил в экспедицию, чтобы из-за такой мелочи она бездарно провалилась.
– Сиди, как сидишь, – приказал я, достал аптечку, обработал его раны и заклеил подошвы пластырем. Действовал чрезвычайно осторожно, всё время наблюдая за Тхэном, чтобы он не попытался коснуться меня. Но он не воспользовался моментом, прекрасно сознавая, что сейчас я среагирую гораздо быстрее его.
Закончив санацию ран, я с нескрываемым сожалением бросил перед Тхэном вторую пару бригомейских кроссовок.
– Обувайся.
Тхэн посмотрел на лежащую перед ним обувь, перевёл взгляд на мои ноги и стал послушно напяливать кроссовки. Нет, не так уж безразлично он относился к своему телу. Раны, видимо, всё-таки досаждали.
Непривычный к обуви, он потратил на натягивание кроссовок с полчаса. Всё это время я стоял рядом и наблюдал. Когда же он, наконец, справился со столь непростой для себя задачей, я взял пустой чайник и пошёл к насосу. Под неусыпным надзором Тхэна сменил фильтры, искупался в одежде под струёй, смыв с себя пот и пыль земляных работ, а затем набрал полный чайник воды. И уже собирался возвращаться в тень палатки, как моё внимание привлекла стремительно перемещающаяся на горизонте точка. Словно катер летел по самому обрезу воды и неба. Чёрт, неужели консул нарушил мой запрет и решил навестить нас? Только этого не хватало!
Я надел на глаза бинокуляры и поймал в них точку. Нет, не катер Ниобе стремительно разрезал воды Великой Реки. В утлой лодке моего сна сюда мчался Колдун хакусинов. Лодка шла со скоростью глиссера, почти не касаясь воды, но никаких приспособлений для этого у неё не было. На носу лодки в грозной позе стоял Колдун и смотрел на меня недобрым пронзительным взглядом. И я мог поклясться, что видел он меня так же отчётливо, как и я его в бинокулярах.
Вдруг его взгляд сместился чуть в сторону, и выражение лица стало меняться с калейдоскопической быстротой. Грозная решимость уступила место недоумению и непониманию, которые тут же перешли в отвращение и открытую неприязнь. Лодка внезапно вильнула и против всяких законов физики унесла Колдуна за ближайший остров. Причём Колдун так и остался непоколебимо стоять на её носу, словно инерции для него не существовало.
Я растерянно сорвал с глаз бинокуляры и оглянулся. Тхэн, встав с земли, ковылял к берегу. Его взгляд, наконец оторвавшийся от меня, был устремлён на остров, за которым скрылась лодка Колдуна.
Больше никаких особых событий в этот день не произошло. До самого вечера мы с Тхэном сидели друг напротив друга и играли в гляделки. Лучше получалось у Тхэна, так как я только изредка бросал на него взгляды, лишь бы не упустить из поля зрения.
Чтобы как-то снизить воздействие изнуряющего сознание зноя и заставить голову нормально работать, я изготовил сухой лёд и, по кубику бросая его в чайник, протирал ледяной водой лицо и затылок. Это помогало, хотя столь варварский метод грозил простудой при пятидесятиградусной жаре.
Вечером я вскрыл два саморазогревающихся пакета со свиными лангетами, мы поужинали, и я лёг спать, приняв снова две таблетки тониспада. Долгоносы так и не вернулись в лагерь – то ли, потеряв с Тхэном контакт, они почувствовали себя вольными животными, то ли тигр загнал их глубоко в долину. Но мне было уже всё равно, что с ними станется.
Эта ночь прошла более спокойно, чем предыдущая. Хотя мне опять приснился Колдун. Но на этот раз сон был коротким, и обжигающая боль не сверлила мозг.
– Я знаю, пришелец Бугой, что ты меня слышишь, – сказал Колдун.
Лицо его было угрюмым и злым.
– Тхэна нет. Он умер, – продолжал он. – Тот, кто сейчас рядом с тобой – не Тхэн. Я не знаю, есть ли твоя вина в том, что произошло. Ты прячешь свои мысли. Но, если ты виноват…
В этот момент сон оборвался. Глухой удар далеко за горизонтом разбудил меня. Тхэн, не шевелясь, сидел на своём месте; стрекотали цикады, сияли звёзды, но что-то в долине изменилось. Со стороны реки доносился необычный шум: едва различимые шипение, бульканье, клёкот… И тогда я вспомнил, что сегодня ночью Нунхэн должна прорвать сооружённую ей же плотину из лёсса и уйти в долину выбирать новое русло. Значит, свершилось…
За ночь уровень воды в реке понизился, и она отступила от берега метра на три, обнажив илистое топкое дно. Появилось много новых островов, а старые, ещё выше поднявшись над водой, кое-где соединились перешейками. Липкая жижа обнажившегося дна не позволяла подойти к обрезу воды, и пришлось к насосу подключать пятиметровый гофрированный шланг и забрасывать его в реку. Если вода отступит ещё дальше, придётся лезть в прибрежную тину, так как более длинного шланга не было, да и этот чудом оказался в экспедиционном снаряжении.
Включив насос и умывшись, я непроизвольно бросил взгляд на остров, за которым вчера скрылась лодка Колдуна. Что же Колдун почувствовал, чем его так сильно напугал Тхэн, если он, явно настроенный на решительный и непримиримый разговор со мной, не только отказался от встречи, но и в панике бежал за остров?
В тине на берегу острова я заметил наполовину погружённое в воду бревно. Странно, но таких больших деревьев я до сих пор на Пирене не встречал. Чтобы получше рассмотреть его, я нацепил на глаза бинокуляры и понял, что никакое это не бревно, а перевёрнутая, полузатопленная лодка Колдуна. Медленно перемещая взгляд по берегу острова, я обнаружил и самого Колдуна. Его мёртвое тело, почти полностью погружённое в воду, медленно-медленно, то и дело цепляясь за дно, перемещалось вдоль берега, увлекаемое течением. Вот, значит, почему мой второй сон был столь кратким…
Почувствовав за спиной движение, я сорвал с глаз бинокуляры и обернулся. Тхэн встал с земли и напряжённо смотрел на остров. Он тоже видел тело Колдуна, и для этого ему не нужны были бинокуляры.
«Хватит, – понял я. – Хватит кривить душой перед самим собой. Если пользоваться терминологией рыболова, то млечник заглотал наживку. Но вместо живца попался на голую блесну. Вот уж третий день он голоден. И больше не выдержит». Я был почти уверен, что теперь, просто так, тихо, он с крючка не сойдёт. Но стопроцентной гарантии дать не мог.
Я внимательно посмотрел на Тхэна. Лицо его осунулось, под кожей на теле выступили вены. То одна, то другая мышца вдруг начинала непроизвольно подёргиваться. Я представил, как вибрируют нервы голодного млечника от яростного метания в теле хакусина.
На снимок млечника я наткнулся в видеожурнале «Научная парапсихология» лет десять назад. Этот журнал не входит в круг моих интересов – его предложил мне мой комп-секретарь, выуживавший из всей ежедневно выходящей в Галактическом Союзе информационной видеолитературы всё, что касается экзопарусников, по принципу автоматического сачка. С тех пор я собрал обширнейший материал о Papilio galaktikos и стал одним из редких специалистов по этому опасному эстет-виду. Но своих знаний никогда не афишировал.
История «знакомства» человечества с Papilio galaktikos , вероятно, уходит в глубину веков, хотя тогда никто об этом не догадывался. Людей, подвергшихся нападению психофага, принимали за одержимых или нервнобольных и, зачастую, возводили в разных религиях в ранг святых. Не последнюю роль в этом играла конечная стадия контакта с млечником, когда Papilio galaktikos , высосав всю психоэнергию человека, покидал мёртвое тело, и окружающие принимали бесплотный светящийся силуэт психофага за отлетающую в рай душу с крылышками.
Впервые синдром катастрофического нервного истощения (СКНИ) описал невропатолог Марк Ли из Земного Корпуса Мира, наблюдавший его у аборигенов Целитеры. Нервная система аборигенов Целитеры на порядок уступает по своей сложности человеческой, поэтому СКНИ протекал у них стремительно и бурно, в течение всего двух недель. Целитерцы, обладавшие чрезвычайно уравновешенным и спокойным характером, медлительные, с заторможенной реакцией, вдруг становились буйно помешанными и за две недели сгорали в нервном припадке.
Описание симптомов болезни поступило в журнал «Вестник галактической медицины» вместе с извещением о смерти её первооткрывателя. Патологоанатомическое заключение гласило, что Марк Ли скончался от открытой им же болезни. Это известие вызвало обеспокоенность в медицинских кругах Галактического Союза, и в целях предупреждения эпидемии на Целитеру была направлена группа микробиологов для выявления возбудителя болезни. Возбудителя микробиологи не обнаружили, да и случаи заболевания СКНИ на Целитере как-то сами собой сошли на нет. Однако статья Марка Ли наделала много шуму. Из разных уголков освоенной Вселенной стали поступать сведения об аналогичных случаях заболеваний, чьи симптомы весьма напоминали описанные Марком Ли, с непременным летальным исходом вследствие полного разрушения нервной системы. Скорость протекания заболевания у разных рас зависела только от сложности нервной системы, но поскольку возбудителя СКНИ так и не обнаружили, было выдвинуто предположение о волновом психотропном воздействии на сознание. Гипотеза подтверждалась сообщением некоторых специалистов, наблюдавших покидающую тело «душу с крылышками». Вначале на эти сообщения не обращали внимания, считая их досужими домыслами излишне религиозного медицинского персонала, пока не появился снимок Papilio galaktikos , сделанный патологоанатомом Егором Цумице, работавшим в клинике Армии Спасения на Апротавии-III. Снимок принёс Цумице мировую известность, но радовался он ей недолго, также скончавшись от СКНИ.
Вот тогда и заговорили о волновом психофаге, паразитирующем на нервной системе гуманоидов. Однако изловить его, а тем более, исследовать, никому не удавалось, поскольку, внедрившись в психику гуманоида, он представлял собой бесплотную волновую субстанцию, неотделимую от сознания её носителя. И только после смерти поражённого субъекта, покидая его для перехода в n- мерное пространство, психофаг на мгновение обретал обособленную псевдоматериальную энергетическую структуру, по странному совпадению похожую на прекрасного лучезарного Papilionidae . Но не всегда. В случае опасности (а ловушек для млечника изобрели предостаточно) он, переселялся в нервную систему одного из незадачливых ловцов, минуя стадию энергетической структуры. Кроме того, ареалом млечника, по-видимому, являлась вся Галактика (хотя некоторые исследователи, в том числе и мой горячо нелюбимый профессор Могоуши, ограничивали его место обитания всего несколькими звёздными секторами), что делало неприемлемыми традиционные методы изучения смертельно опасных заболеваний.
Сведения о психофаге, собранные воедино, выглядели устрашающе. Чуть ли не как угроза всему разумному в Галактике. На самом же деле статистические данные показывали, что в год происходит не более пятидесяти случаев нападения психофага. Это на сто двадцать триллионов гуманоидов Галактического Союза. Поэтому начатые при открытии СКНИ широкомасштабные исследования лет через пять были свёрнуты, финансирование проекта прекращено, и проблемой Papilio galaktikos стали заниматься исключительно энтузиасты.
Вроде меня. Но я со своими выводами никого не знакомил. Во-первых, потому, что официальная наука не признавала без аргументированных доказательств абсурдных с её точки зрения гипотез, а во-вторых, меня страшила участь как первооткрывателей, так и многочисленных авторов опубликованных гипотез, верно предугадавших многие функциональные особенности Papilio galaktikos и кончивших жизнь в бреду катастрофического нервного истощения.
Итак, мои предположения:
...
1. Вид Papilio galaktikos , вопреки расхожему мнению, разумен. Это подтверждается тем, что он нападает только на гуманоидов и никогда – на животных. Вероятно, он паразитирует не на любой нервной системе, а исключительно на высокоразвитой, с образно мыслящим сознанием, поскольку его жертвами становятся, в основном, гуманоиды с высоким интеллектуальным потенциалом.
2. Млечник обладает чрезвычайно развитым чувством самосохранения. Находясь в недоступном для нас n-мерном пространстве, он постоянно контролирует наши коммуникационные сети и извлекает из них всю информацию о себе. Иначе никак не объяснишь случаи избирательного нападения млечника на некоторых авторов гипотез о его функциональных особенностях, происшедшие с учёными на планетах, где раньше появление Papilio galaktikos не наблюдалось.
3. Млечник, всё же, недостаточно умён, что, вероятно, связано с его паразитической сущностью, не позволяющей мыслить широко и делать далеко идущие выводы. Только существо с ограниченными мыслительными способностями будет уничтожать гуманоидов, правильно предсказавших его функциональные особенности, и не тронет авторов ложных гипотез.
На этих предположениях я и построил свой план ловли Papilio galaktikos . И ещё – на изобретённой недавно сетке интактильной психозащиты мозга, стоящей баснословную сумму, сравнимую со стоимостью боевого галактического крейсера. И ещё – на уникальной психике пиренитов, которые предпочтут мгновенное самоубийство интеллекта медленному поглощению своего сознания хищным психофагом. И ещё – на субсидии гипермиллиардера Геориди, поскольку ни одна из государственных структур не смогла бы не только выделить астрономическую сумму на финансирование экспедиции, но и обеспечить полную тайну её подготовки и проведения. Впрочем, меценатов бы тоже не нашлось, если бы единственный сын Геориди, наследник гигантского состояния, три года назад не скончался в угаре катастрофического нервного истощения.
Пока всё шло по моему плану. Зная, что млечник не покинет тело Тхэна среди дня – его энергетическая структура не переносила потока фотонов, – я спокойно занялся своими делами. Свернул с глаз долой палатку, чтобы не вводила меня в искушение, а вместо неё поставил тент. Затем, решив всё-таки установить последнюю гильзу пространственной свёртки, вскинул на плечо рюкзак и предложил Тхэну сопровождать меня.
К моему удивлению, он отказался. Точнее, никак не отреагировал на мои слова, продолжая неподвижно сидеть на земле. Боясь оставить его вне поля зрения, я решил, что ничего страшного не произойдёт, если вкопаю последнюю гильзу неподалёку от лагеря. Правда тогда при включении ловушки вокруг лагеря могла образоваться искажённая сфера свёрнутого пространства с несколько изменёнными физическими параметрами, но я надеялся, что степень искажения из-за одной неправильно установленной гильзы будет несущественной.
Я начал копать яму на берегу метрах в тридцати от лагеря, и тут Тхэн впервые после припадка проявил интерес к моему занятию. Он встал с земли, проковылял ко мне, нагнулся к рюкзаку и, вынув оттуда гильзу, долго её рассматривал. А когда я установил гильзу и ввернул в неё активатор, протянул руку к мигающему огоньку.
– А вот это – не трогать! – приказал я и направил на Тхэна парализатор.
Тхэн посмотрел на меня долгим неподвижным взглядом, а затем, повинуясь, вернулся в лагерь и вновь уселся на землю.
Полдня я, тщательно и не торопясь, упаковывал экспедиционное снаряжение в тюки. Аккуратность и скрупулёзность – одни из основных черт моего характера. Кроме того, неспешная работа отвлекала и успокаивала возбуждённую нервную систему. Я чувствовал, что сегодня вечером всё должно решиться. Или – или. Или я поймаю млечника, или…
Зато Тхэн стал проявлять признаки беспокойства. Он уже не столь пристально следил за мной. Вставал, снова садился, нервно прохаживался по берегу, поглядывал на реку, но больше, задирая голову, – на небо. И мне казалось, что в его безразличных глазах, появилась тоска. Пустой, лишённый сознания мозг пиренита не давал млечнику пищи. Психофаг метался в нервной системе Тхэна как в западне.
Нервы и у меня пошаливали, хоть я и выпил с водой лошадиную дозу тонизатора. Упаковав практически всё снаряжение, кроме светильника автоматического сачка, я забрался под тент, но находиться там без дела не смог. Ещё задолго до наступления вечера вылез из-под тента и попытался приготовить ужин. Но, как всегда бывает перед каким-нибудь ответственным делом, что-то случается. Мизерное, незначительное, словно специально происходящее для того, чтобы вывести человека из равновесия. По принципу ложки дёгтя в бочке мёда.
Моя СВЧ-печь отказалась работать. Полчаса я потратил на то, чтобы выяснить причину неисправности, но так и не понял, в чем дело. Зато вспомнил, что млечник относится к СВЧ-излучению точно так же, как и к потоку фотонов. И хотя печь была экранирована, видимо она всё-таки досаждала психофагу, так как в простую поломку я не верил.
Попытавшись настроиться на философский лад – чему быть, тому не миновать, – я развёл костёр, повесил над ним чайник и поужинал консервами. Тхэн есть отказался – понятно, не та пища нужна млечнику, а на физиологические потребности материальной оболочки, в которой он находился, ему было наплевать. Впрочем, в прямом смысле слова он вряд ли умел это делать.
Вода в чайнике никак не хотела закипать. То ли я слишком высоко повесил его над огнём, то ли просто не умел разводить костёр. Но спешить мне было некуда, и я терпеливо сидел у костра, изредка подбрасывая в огонь сухие ветки. Главное сейчас – сохранять спокойствие. Ибо, следуя теории невезения, за ложкой дёгтя в бочке мёда непременно следовало падение бутерброда маслом вниз. Хотя я всегда относился к последней сентенции с некоторым предубеждением: скажите пожалуйста, кто будет есть бутерброд, даже если он упадёт на землю маслом вверх?
Вода закипела с наступлением сумерек, когда я, наконец, не жалея, подбросил в огонь большую охапку хвороста. Совершенно неожиданно в лагерь вернулись долгоносы. Ноги у них подкашивались; они жалобно скулили, и жались поближе к костру. На спине у одного долгоноса я заметил глубокие борозды от когтей тигра. Только долгоносов мне сейчас и не хватало! Я швырнул в них горящей головнёй, долгоносы шарахнулись в сторону, но далеко не ушли.
Осторожно прихлёбывая из кружки горячий чай, я проводил взглядом быстрый экваториальный закат Пирены. С наступлением вечера Тхэн успокоился, сел на землю, а когда на небе высыпали звёзды, наконец открыл рот.
– Господин Бугой, – спросил он неожиданно хорошо поставленным голосом, – так как вы всё-таки собираетесь ловить млечника?
Сердце ёкнуло, но я не подал вида. Транслингатор молчал – Тхэн говорил на чистейшем интерлинге, позаимствовав лексику у дикторов Галактического вещания.
Я отхлебнул из кружки и лишь тогда сказал:
– Вопрос поставлен неверно. В нём две ошибки. Первая – не как я его собираюсь ловить, а на что.
– Хорошо, – согласился Тхэн. – На что вы собираетесь ловить млечника?
– На его гипертрофированное чувство самосохранения, – как можно более самодовольно заявил я. Только откровенная, неприкрытая наглость могла мне сейчас помочь. – Стоило только объявить по Галактическому вещанию цель моей экспедиции, как млечник тут же заинтересовался моей персоной и последовал за мной.
Некоторое время Тхэн молчал, переваривая мои слова. Затем тем же ровным дикторским голосом поинтересовался:
– А в чём же состоит вторая ошибка в моём вопросе?
Я искренне рассмеялся. Надеюсь, искренность у меня получилась натуральной.
– Ты употребил глагол «поймать» в будущем времени, а нужно – в прошедшем. Млечника я уже поймал , – проговорил я с расстановкой. – Когда млечник понял, что проникнуть в мою психику ему не по силам, он атаковал моего проводника. Откуда млечнику было знать, что пирениты – единственные в Галактике гуманоиды, которые полностью владеют своей психикой, и что они предпочтут убить своё сознание, лишь бы не отдать его на съедение тебе, Papilio galaktikos !
На этот раз млечник замолчал надолго. Но когда он вновь заговорил, голос его звучал по-прежнему ровно и спокойно.
– Вы извратили мой вопрос так, как вам это выгодно. Я же хотел узнать только то, что спросил.
Что ж, в логике ему не откажешь. Здесь он прав.
– Ну и что? – нагло заявил я.
– А то, что пока я в этом теле, вам меня не достать.
– А куда ты денешься? – фыркнул я. – Выйдешь из тела, как миленький! Ни один абориген тебя к себе в сознание не пустит. Далековато ты от них, да и силы твои на исходе. Они просто отшвырнут тебя, как котёнка, и ты снова очутишься в теле Тхэна. Да и будь ты в полной силе, на таком расстоянии они успели бы убить не только своё сознание, но и тело, чтобы ты не смог найти в нём временного пристанища. Как это сделал вчера Колдун хакусинов. А единственный гуманоид на Пирене, в психике которого ты мог бы восстановить свои силы, находится чересчур далеко отсюда, чуть ли не на другой стороне планеты.
– Остаётся ещё ваше сознание, – напрямик сказал млечник. Он упорно величал меня исключительно на «вы». Что значит, обучаться по телеканалу!
– В мой мозг введены электроды защитной сетки, – с уничижительным презрением бросил я. – И если тебе удастся проникнуть в мою нервную систему тактильным способом, то электроды уничтожат моё сознание. Вместе с тобой.
– Не думал, что обо мне известно столь много, – ровным голосом проговорил млечник, словно сообщая сводку погоды. – Проглядел я вас…
– Не все разговоры людей поступают в коммуникационные сети, – съехидничал я.
– И всё же, каким способом вы собираетесь меня поймать? – вернулся к началу разговора млечник.
– Не надо прикидываться, будто ты глупее, чем на самом деле, – съязвил я. – Ведь ты при мне сегодня изучал гильзу пространственной свёртки. Из кокона свёрнутого пространства тебе не выбраться.
– Следует понимать, что если…
– На все твои если у меня есть парализатор! – грубо оборвал я его и самодовольно похлопал себя по карману.
– Именно об это я и говорю, – спокойно заметил млечник. Мышцы на теле Тхэна ходили волнами, лицо дёргалось, как у припадочного, и это абсолютно не вязалось с его голосом. На самом деле млечник, наверное, орал от ужаса и безнадёжности, но речевой аппарат тела хакусина переводил его слова с монотонностью автомата. – Если вы выстрелите в меня сейчас, то я просто рассеюсь в пространстве, и ваша охота закончится ничем.
– Не смеши меня! – расхохотался я. – Ты слишком любишь себя, чтобы решиться на самоубийство. Тем более что жизнь я тебе гарантирую.
– Да, – согласился он, – все козыри у вас в руках. Но вы не учли одного обстоятельства…
– Сидеть! – заорал я и выхватил парализатор.
Он застыл с приподнятой рукой, будто я уже нажал на спуск. Меня охватила оторопь. Чёрт, будь проклята его замедленная реакция! Будь проклято его гипертрофированное чувство самосохранения! Пожалуй, я действительно не учёл одного обстоятельства: он никогда не решится на американскую дуэль – кто выстрелит раньше? – без стопроцентной гарантии своей жизни. Стрелять я не собирался, но он ведь этого не знал! Переиграл я сам себя…
«Что делать? Что же делать? – лихорадочно билась мысль. – Как выйти из этого положения?»
Спасла положение неожиданная зарница где-то далеко-далеко за горизонтом у меня за спиной.
«Откуда на Пирене грозы?» – удивился я и, хоть и с опозданием, но, надеясь, что реагирую натурально, оглянулся.
Как взметнулась рука Тхэна, я не видел, но ветвистую молнию, сорвавшуюся с его пальцев, заметил краем глаза. Со страшным грохотом молния вонзилась мне в грудь, швырнула на тент, и я, ломая стойки и кутаясь в полотнище тента, покатился по земле. Дико заверещали долгоносы, галопом уносясь прочь.
Притворившись мёртвым и благодаря судьбу, что сорванное полотнище тента не закутало мне лицо, я из-под полуприкрытых век наблюдал за Тхэном. Некоторое время он смотрел на меня, а потом стал медленно, словно оглядывая окрестности, поворачивать голову. Вначале в одну сторону, почти на сто восемьдесят градусов, потом в другую. Когда его взгляд скользнул вдоль берега, я увидел, как зелёный мигающий огонёк активированной гильзы пространственной свёртки, установленной последней вблизи лагеря, разбрызнулся беззвучными искрами. Вот, значит, что имел в виду млечник под неучтённым мною обстоятельством.
«Клюнул. И на это ты тоже клюнул», – подумал я, осторожно просовывая под тентом руку к пряжке ремня на поясе.
Тхэн запрокинул голову и уставился на звёзды. Затем, не отрывая взгляда от неба, медленно лёг навзничь, сложил на груди руки и перестал дышать. И тогда началось. Из тела Тхэна поднялся светящийся пар, который мгновенным рывком собрался в шар над грудью хакусина, и уже этот шар стал медленно, подобно цветку, раскрываться крыльями млечника.
И когда млечник полностью развернул свои крылья, и они стали вибрировать, готовя психофага к прыжку в n- мерность, я расщёлкнул пряжку на ремне и нажал спрятанную в ней кнопку. И млечник навечно застыл в метровом кубе нуль-темпоральной ловушки. Самой совершенной ловушке в мире для кого бы то ни было.
Есть! – чуть не заорал я, титаническим усилием разорвал спеленавший меня тент и вскочил на ноги. Нервная дрожь била меня, как в лихорадке. С трудом оторвав взгляд от пойманного млечника, я поднял глаза к небу.
Ну! Ну, когда же? Что они тянут?!
Чтобы сбить нервное напряжение, я начал считать про себя секунды.
Мгла пала на тридцать второй. Пятикилометровый купол волновой защиты отрезал меня, участок реки и огромную площадь долины от всего мира. Погасли звёзды, и теперь лишь светильник автоматического сачка освещал окрестности.
– Бугой! Бугой! – взорвался транслингатор голосом Геориди. – Что у тебя?
– Какого чёрта! – рявкнул я. – Почему так долго не было купола?!
– Ты поймал его?! – орал Геориди, словно не слыша меня.
– Да! Но почему так долго не было купола? А если их – стая? Вам что – на меня плевать? Главное – трофей?!
– Мы были на другой стороне планеты…
– Какого чёрта?! – окончательно осатанел я, давая волю взбудораженным нервам.
– А какого чёрта ты заводил дружбу с консулом?! – взорвался в ответ Геориди. – Аборигены ему сообщили, что вчера ночью в среднем течении Нунхэн погиб Колдун хакусинов. Консул весь день вызывал тебя по рации, а вечером ринулся к тебе на птерокаре. Сам понимаешь, что нам пришлось делать.
Я вспомнил зарницу за горизонтом. Вот, значит, что за гроза там была…
– Так вы его…
– В пыль, – отрезал Геориди.
– Ладно, – примиряюще сказал я. – Когда сюда прибудете?
– Часа через два.
– Хорошо, жду.
– До встречи. Да, поздравляю! – спохватился Геориди.
– Спасибо, – фыркнул я.
Транслингатор отключился.
Вот уже полгода, за три месяца до того, как я прибыл на Пирену, галактический крейсер, скрываясь в коконе искривлённого пространства, исключавшем его обнаружение, барражировал в системе Гангута. На его борту находилось трое человек с вживлёнными в мозг сетками психозащиты: пилот, штурман и бывший гипермиллиардер Геориди. Бывший, потому что четыре сетки психозащиты, включая и мою, и покупка боевого крейсера, почти разорили его. Впрочем, это его проблемы. Чтобы отомстить за смерть сына, он был готов на всё.
Моя же проблема, наконец разрешённая, висела перед моими глазами в кубе нуль-темпоральной ловушки. Я осторожно приблизился к телу Тхэна. Если меня караулила стая млечников, то один из них мог занять освободившееся место в нервной системе хакусина. Но нет, анализатор показал, что ни один орган внутри Тхэна не функционирует. А первой, как известно, погибает в теле нервная система. Хакусин Тхэн умер окончательно.
Легко сняв с груди Тхэна почти невесомый, невидимый куб нуль-темпоральной ловушки, я первым из людей смог рассмотреть млечника во всех подробностях. Теперь навечно живого и навечно неподвижного. Жизнь всей Вселенной сжалась для млечника в одно мгновение. Действительно, ничего более прекрасного и более совершенного, чем призрачный парусник, в мире нет. Его красота действовала, как наркотик. И если он был виновником того, что наши предки, принимая млечника за воспаряющую из тела умершего «душу с крылышками», выдумали райские кущи, то в такой загробный мир хотелось верить.
Не замечая времени, словно сам попал в нуль-темпоральную ловушку, я стоял над млечником, завороженный его красотой. Очнулся я через час, лёжа на земле с гудящей пустой головой. Оказывается, находясь в трансе, я упал, и, вероятно, это спасло мне жизнь. Было в красоте млечника что-то гипнотическое, опустошающее сознание даже через зрительный нерв.
Пошатываясь, я встал и, как ни тянуло снова посмотреть на млечника, пересилил себя и заставил готовиться к отлёту. Первым делом сорвал с тела лохмотья обгоревшей рубашки и въевшуюся в тело кольчугу энергетической защиты, из-за которой на Пирене так ни разу и не разделся. Управился с вещами за полчаса – благо почти всё упаковал ещё днём – и сел на тюк ждать приземления шлюпки с крейсера. Не упакованными остались только куб нуль-темпоральной ловушки с млечником – его ждал спецконтейнер на крейсере, да мачта со светильником – не в темноте же мне сидеть.
Мирно, как ни в чём не бывало, верещали на все лады насекомые, в реке кто-то плескался, а в долине волнами колыхалось море мигающих светлячков, чётким полукругом очерчивая границу непроницаемого купола волновой защиты. Боясь снова впасть в наркотическое наваждение, я лишь мельком бросал взгляды на застывшего в ловушке млечника. Сердце моё пело.
Труп Тхэна уже со всех сторон облепили копошащиеся насекомые, и в полутьме, еле озаряемой светильником автоматического сачка, казалось, что он ожил и шевелится. Так, пожалуй, до завтрашнего дня от него останется один скелет. Только сейчас я заметил на Тхэне свои кроссовки. Называется – упаковался! Я встал с тюка, подошёл к трупу, тряпкой из остатков рубашки обмахнул с ног насекомых и снял кроссовки. Оставлять здесь целое состояние я не собирался.
И в этот самый момент из глубины долины, эхом отражаясь от купола волновой защиты, донёсся перепуганный визг долгоносов, тут же заглушённый раскатами торжествующего рёва пиренского голого тигра.
Я повернулся в сторону рёва и широко улыбнулся.
– С удачной охотой! – крикнул я в темноту во всю мощь своих лёгких.
ИМИТАЦИЯ
1
Когда я прибыл на станцию «Пояс астероидов-VI», беспилотная яхта Мальконенна уже ждала меня в доках. Пронаблюдав, как станционные киберы перегрузили багаж из межгалактического лайнера на яхту, я проверил страховочное крепление, задраил люки и запросил разрешение на старт. И через пять минут вывел яхту в открытый космос.
Лететь предстояло не более часа, яхта, расправив паруса под солнечным ветром, шла в автоматическом режиме, и заняться было абсолютно нечем. В корне неверно представление, что в Поясе астероидов корабли чуть ли не ежеминутно подвергаются метеоритной атаке. Её вероятность здесь всего в два раза выше, чем на околоземной орбите, а использование современных средств защиты полностью исключает возможность столкновения. Корабль даже не сочтёт нужным оповещать экипаж об опасности, по собственному усмотрению искривляя пространство на пути следования метеоритного потока. Поэтому я расслабленно сидел в кресле, отрешённо уставившись в обзорный экран, усыпанный неподвижными звёздами, и прокручивал в голове варианты предстоящего разговора.
С крелофонистом Тоттом Мальконенном мы познакомились на Трапсидоре, где по просьбе местного министерства искусств демонстрировалась моя коллекция экзопарусников. На Трапсидоре праздновали двухсотую годовщину независимости от метрополии, и на месячнике экзоискусств были представлены столь разнообразные виды творчества, что о многих из них я не имел и малейшего представления (конечно, речь идёт не о крелофонии – этим видом экзомузыки увлечено более двадцати процентов гуманоидов, – однако я к ней как раз равнодушен). Наше знакомство с Мальконенном можно было бы считать случайным, если бы не последующие обстоятельства. Мы познакомились у стойки бара, и разговор, как это часто бывает на подобных мероприятиях, завязался весьма непринуждённый. Лишь потом, дня через три, когда Мальконенн начал обихаживать меня намёками на свои проблемы, я догадался, что он имел обо мне обширную информацию и отнюдь не случайно сел рядом в баре.
С первого взгляда Тотт Мальконенн производил впечатление уверенного в себе корифея крелофонии, но, познакомившись поближе, я увидел за маской артистической надменности комплексующего, надломленного человека с неуравновешенной психикой. Несколько позже, дав Мальконенну предварительное, со многими оговорками и ни к чему меня не обязывающее согласие подумать над его предложением, я собрал о нём сведения и понял причину неуравновешенности крелофониста.
Тотт Мальконенн был внуком знаменитого астрофизика Мирама Нуштради, обосновавшего теорию гиперперехода в макрокосмосе, и слава деда не давала внуку покоя. К естественным наукам Мальконенн тяги не испытывал и попытался проявить себя на ниве искусства, увлёкшись экзомузыкальными экзерсисами. Как ни странно, но года через три после первых невыразительных выступлений на сцене одна из его композиций вошла в десятку лучших произведений года, и афиши концертных программ виртуоза-крелофониста Тотта Мальконенна запестрели в различных уголках обжитой Вселенной. Однако слава в мире крелофонии вещь сиюминутная, если не подтверждается высококлассными хитами. К сожалению, новые композиции Мальконенна не блистали оригинальностью, и он постепенно начал терять рейтинг в хит-парадах. Сейчас Тотт Мальконенн занимал место где-то в пятом десятке, и его звезда потихоньку скатывалась за черту рейтинга в небытие. Естественно, Мальконенн не хотел с этим мириться.
Я редко берусь за чужие дела, тем более, когда они не совсем по моему профилю. Но иногда приходится. Гонораров за демонстрацию коллекции экзопарусников на выставках хватает только на содержание скромной виллы в окрестностях системы Друянова, поэтому для финансирования экспедиций за новыми экспонатами приходится искать меценатов. В чистом виде меценатов сейчас днём с огнём не найти, а спонсоры, порой, оказываются хуже ростовщиков (в лучшем случае спонсор требует, чтобы его имя увековечили в названии нового вида экзопарусника, в худшем – присваивает экспонат себе), да и выделяемые ими субсидии весьма скромные. Мальконенн же обещал такую сумму, что она с лихвой окупила бы мою давнюю и, казалось, несбыточную мечту – сафари на Сивилле.
Полгода я скрупулёзно разрабатывал обстоятельный план, как удовлетворить желание заказчика, затем ещё два месяца ждал удобного момента, а когда он наступил, отправил астрограмму Мальконенну. Ответ получил через час и немедленно вылетел в Солнечную систему рейсовым лайнером компании «Пангалактика».
С расстояния пятисот километров вилла Мальконенна была похожа на исламский полумесяц со звёздочкой. В реестре частных владений Пояса астероидов вилла значилась под названием «Выеденное яйцо», и по мере приближения, когда плоскостное изображение начало приобретать объёмность, она в самом деле стала напоминать половинку скорлупы выеденного яйца, ярко освещаемую со стороны заполненной атмосферой котловины искусственным светилом, а с противоположной – сумеречным светом далёкого Солнца. Ради любопытства я провёл спектральный анализ искусственного светила и убедился в его полной идентичности спектру естественного аналога. Хорошо быть наследником богатого деда, я для своей виллы такую роскошь позволить не мог.
Яхта свернула парус, двигаясь по инерции зашла в сумеречную безатмосферную область над астероидом, и я увидел под собой хаотическое нагромождение скальных пород, возможное в своей причудливости только в поле малой гравитации. Унылое, безрадостное зрелище дикой свалки. Не зря теневые области космических вилл называют задворками поместья. Гася скорость маневровыми дюзами, яхта неторопливо проплыла над скалами, направляясь к мигающей россыпи сигнальных огней причального створа. Как только мы оказались над створом, диафрагма шлюза распахнулась и силовое поле втянуло яхту внутрь астероида. Гулко громыхнули амортизационные захваты, диафрагма шлюза захлопнулась, отсекая меня от неподвижных звёзд, на причале зажёгся свет, и в ангар, клубясь инверсионным паром, хлынул воздух. Когда дымка рассеялась, включилось искусственное гравитационное поле и входной люк яхты со щелчком распахнулся. Одно удовольствие наблюдать, как чётко, отлажено и синхронно действует автоматика.
Выйдя на причальную палубу, я огляделся. Вопреки ожиданию, Мальконенн меня не встречал. Воздух был морозным и влажным, как всегда после резкой декомпрессии, но против обыкновения в нём не ощущалось запаха пластика и привкуса железа, как обычно бывает при заполнении шлюзовых камер из цистерн сжатого воздуха. Пахло травой и хвоей, а влага имела привкус настоящей росы. Мальконенн не скупился и заполнял причал воздухом поместья.
Я аккуратно выгрузил багаж на кибертележку и, приказав ей следовать за собой, взошёл на платформу лифта, которая и доставила меня на поверхность. Как я ни был подготовлен внешним видом виллы из космоса, но подобной роскоши не ожидал. Поместье Мальконенна представляло собой небольшую благодатную долину, окружённую со всех сторон высокими горами. Понятно, что горы были наведённым стереоэффектом, но около пяти квадратных километров площади долины являлись настоящими. Половину долины занимало озеро с кристально-чистой водой, метрах в трёх от гладкого, словно вылизанного, песчаного берега начинался редковатый сосновый лес, который ближе к горам густел и, незаметно переходя на склонах в стереоэффект, превращался в непроходимые дебри. Метрах в ста от платформы лифта высился трёхэтажный коттедж сложной архитектуры готического стиля, но без присущей позднему средневековью мрачности. Островерхие башенки, балкончики, открытые террасы из розового псевдотуфа придавали строению вид сказочного замка. Здесь действительно всё было как в сказке. Или как на настоящей Земле. В тёплом влажном воздухе разливался терпкий аромат сосновой смолы, по пронзительно-голубому небу неторопливо дрейфовали редкие облачка. Одна тучка заслонила солнце, на песок набежала тень, и это обыденное для настоящей Земли явление повергло меня в изумление. Такого стереоэффектом добиться нельзя – мираж не способен отбрасывать тень. Очевидно, где-то высоко на склоне котловины астероида был замаскирован парогенератор, который время от времени продуцировал в атмосферу лёгкие облака. Не удивлюсь, если окажется, что в программе экосистемы поместья заложены дожди, грозы, ветры, сезонные изменения.
Странно, Мальконенн меня и здесь не встречал. Я немного потоптался на подъёмной площадке лифта, но так и не дождавшись появления хозяина, ступил на тропинку, ведущую к коттеджу. Кибертележка послушно последовала за мной.
Песок скрипел под ногами, где-то вдалеке гулким эхом стучал по сосне дятел, а вокруг, перепархивая с дерева на дерево, пересвистывались синички. Стайка бабочек-белянок сорвалась с куста можжевельника и нестройной гурьбой полетела к озеру. Откуда ни возьмись появилась большая синяя стрекоза и принялась сопровождать меня, с неутомимостью геликоптера делая огромные круги. В то, что она настоящая, не очень верилось – вряд ли для её пропитания Мальконенн разводил в поместье мошек и комаров. С другой стороны, чем чёрт не шутит! По поверхности озера то и дело расходились круги от играющей в воде рыбы, а ей чем-то кормиться нужно?
На ступеньках коттеджа Мальконенн меня тоже не встретил, и это обстоятельство начинало тревожить. Нужен я был Мальконенну как воздух, и такое отношение к моему приезду настораживало. Но едва я вошёл в коттедж, как всё понял – пол под ногами ритмично подрагивал от неслышных уху частот крелогенератора. Тотт Мальконенн творил, и ему было не до условностей гостеприимства.
Ох, уж эти творческие натуры! По роду своей деятельности я изредка посещаю выставки и вернисажи, где приходится контактировать с людьми подобного типа. Так что знаком с ними не понаслышке. Предельно рассеянные, но в то же время импульсивные, излишне эмоциональные, полностью подчинённые своему внутреннему не в меру разболтанному чувственному миру. С трудом переносят контакт с реальностью, поэтому неделями хандрят, хнычут, что у них ничего не получается, но лишь только нисходит озарение, с головой уходят в творчество, порой изнуряя себя до полного физического истощения и эмоционального опустошения. Скорее всего, импульсом, подвигшим Мальконенна в данный момент на творческий порыв, оказалась моя астрограмма. Воодушевлённый её содержанием, он не смог удержаться и ушёл в творческий поиск. Элементарная логика, что своими экзерсисами он может поломать свои же далеко идущие планы, на таких людей в момент вдохновения не действует. Сиюминутное озарение для них превыше всего.
Холл коттеджа был увешан картинами древних мастеров. В конце жизни дед Мальконенна увлёкся коллекционированием раритетов – скульптуры, живописи, – причём собирал произведения изобразительного искусства самой высокой пробы. Мог себе позволить – в начале массового внедрения транспортных средств гиперперехода отчисления за использование его открытия составляли астрономическую сумму, и даже до сих пор проценты по унаследованным авторским правам продолжали капать на банковский счёт внука. Среди раритетов, приобретённых Мирамом Нуштради, значились полотна Леонардо да Винчи, Иеронима Босха, Сальвадора Дали, скульптуры Родена, но вершиной его коллекции был песчаниковый бюст египетской царицы Нэфр’ди-эт, датируемый XXIII веком до нашей эры и относящийся к смутным временам конца Древнего Царства.
Придирчивым взглядом окинув холл, я не обнаружил среди экспонатов жемчужины коллекции. Вероятно, она была выставлена в другом зале. Если бы не увлечение знаменитого астрофизика в конце жизни, не знаю, как бы я смог выполнить заказ его внука. Возможно, нашёл бы иной путь, но на сто процентов уверен, что его осуществление было бы гораздо сложнее.
В третьем по счёту зале, оборудованном под студию крелозаписи, я, наконец, обнаружил Тотта Мальконенна. Маленький, щуплый, с куцым чубчиком белокурых волос он был похож на подростка, страдающего анемией. По всей видимости, в детстве он напоминал херувимчика, но сейчас занимался отнюдь не богоугодным делом – развалясь в кресле и запрокинув голову, Мальконенн пребывал в прострации, стеклянными, невидящими глазами уставившись в потолок. От стоящего в углу зала крелогенератора по полу змеились тонкие прозрачные шланги, заканчивающиеся присосками, прилепленными к гладко выбритому затылку крелофониста. Шланги подёргивались живыми щупальцами, внутри них белесой дымкой клубился нейронный активатор, отчего возникало жутковатое впечатление, будто крелогенератор высасывает из Мальконенна мозги. Не знаю, какая именно композиция крутилась в голове крелофониста, но, судя по асинхронным толчкам крови у меня в висках и неприятному зуду под черепной коробкой в районе темени, была она весьма неудобоваримой. Хотя я не знаток, а по отголоскам резонирующего вторичного нейронного контура даже истинному ценителю трудно угадать, что за тема сейчас звучит – шедевр, или дикая какофония.
На столике перед Тоттом Мальконенном лежала груда кювет с псевдоожиженным наполнителем для крелозаписи – некоторые были полностью закристаллизованы, некоторые частично, – стояла начатая бутылка алазорского, пустой бокал, рядом с бокалом лежал разорванный пакет стерильной ваты, а на ней покоился небольшой пузырёк с оранжевой наклейкой.
Я взял пузырёк, прочитал название и покачал головой. Мальконенн дошёл до точки, если начал использовать пантакатин. По капле в глаза, затем ватку, смоченную препаратом, в ноздри, в уши, под язык, между пальцами… то есть к наиболее чувствительным рецепторам всех органов чувств. Сильный галлюциноген, вроде бы не вызывающий привыкания, но основательно опустошающий нервную систему.
Глаза Мальконенна слезились, из ноздрей и ушей выглядывала вата, губы были плотно стиснуты, пальцы сжаты в кулаки так, что побелели костяшки. Не удивлюсь, если ватные тампоны, смоченные пантакатином, находятся и под каждой из присосок.
Первым делом я разобрал багаж и отослал из зала кибертележку. Затем пододвинул к столику напротив Мальконенна кресло и установил вокруг пять гасящих акустику буйков, стараясь, чтобы получилась равносторонняя пентаграмма. Углы замкнутого звукового экрана всегда должны быть больше девяноста градусов, поэтому ни квадрат, ни треугольник не подходил. Удивительные параллели наблюдаются порой между строго обоснованными научными теориями и верованиями древних, защищавших себя от нечистой силы меловой пентаграммой или кругом. В нечистую силу я не верил, но система жизнеобеспечения поместья настроена таким образом, что фиксирует всё происходящее внутри неё. А я не хотел, чтобы когда-нибудь наш конфиденциальный разговор был кем-либо прослушан.
Усевшись в кресло, я налил Мальконенну полный бокал вина, отключил крелогенератор и принялся ждать. С минуту ничего не происходило, затем тело крелофониста начало мелко подрагивать, на лице проявилась гримаса недовольства, выступили крупные капли пота. Мальконенн тяжело, с присвистом, задышал, заперхал и, наконец, очнулся. Возвращение в реальность было бурным. Мальконенн судорожными движениями сдирал с себя присоски, вырывал вату из ноздрей и ушей, натужно кашлял, отплевывался. Освободившись от тампонов, двумя руками схватил бокал с вином и принялся жадно пить, икая, захлёбываясь и обливаясь.
Я брезгливо поморщился. Не используй он галлюциноген, ничего подобного не было бы.
Когда Мальконенн допил вино, его сильно передёрнуло, но на этом конвульсии прекратились. Некоторое время он сидел неподвижно, дыхание постепенно успокаивалось. Затем он поднял голову и обвёл комнату не совсем осмысленным взглядом.
– А? – испуганно вскрикнул он, увидев меня. – Ты… Ты кто?!
Я молчал. Не люблю фамильярности, да и говорить что-либо в таких случаях бесполезно. Беспричинный страх всегда сопутствует окончанию действия пантакатина, что отчасти объясняет отсутствие привыкания к препарату.
Мальконенн дрожащей рукой поставил бокал на столик, оторвал пук ваты, вытер слезящиеся глаза, потное лицо.
– Так кто ты?! – снова спросил он, пытаясь опознать меня сквозь туман галлюциногена, медленно выветривающийся из головы.
Зашарив по карманам, Мальконенн достал ампулу, сломал кончик непослушными пальцами, поднёс к ноздрям и глубоко вдохнул. Раз, второй. Взгляд прояснел, он немного успокоился.
– Бу… Бугой? – недоверчиво протянул он, в конце концов узнав меня, и расслабленно откинулся на спинку кресла. – Так ты уже прилетел?
– Да.
– Ух… – выдохнул Мальконенн, разминая ладонями лицо. – Извини, что не встретил, заработался…
– Вижу, – мрачно сказал я.
– Что? – вскинулся он и перехватил мой взгляд, брошенный на стол. – Ах, это… Вот, решил попробовать пантакатин. Дрянь, прямо скажу, та ещё.
Врал Мальконенн безбожно. Судя по его реакции, дозу он употребил порядочную и использовал её весьма квалифицированно. Но мне было безразлично, какой у него стаж наркомана.
– Это твоё личное дело, – сказал я.
– Надеюсь, всё останется между нами? – тихо попросил он. – Сам понимаешь…
Я понимал. Слух о том, что Мальконенн употребляет галлюциноген, поставил бы жирный крест на его карьере. Продюсеры не жалуют крелофонистов, подстёгивающих воображение медикаментозными средствами, справедливо полагая, что такие исполнители уже на пределе своих возможностей.
– Останется, – поморщился я. – Как и всё остальное.
Мальконенн недоумённо посмотрел на меня, снова поднёс ампулу к лицу, шумно втянул пары носом, поочерёдно зажимая ноздри, задержал дыхание и тряхнул головой. В этот раз его сознание прочистилось основательно. Руки перестали дрожать, глаза заблестели.
– Да, конечно, – криво усмехнулся он. Детской шалостью выглядело его увлечение пантакатином по сравнению с нашим общим делом.
– Алазорского? – предложил он.
– Нет. И вам больше не советую.
Следовало сказать: «Когда закончим дело – хоть залейся», – но я промолчал. Не хотелось «тыкать», уподобляясь Мальконенну. И напрасно, потому что он потянулся за бутылкой.
– Как хочешь, – пожал он плечами, – а мне надо.
Однако, перехватив мой взгляд, налил в стакан всего на два пальца. Лучшим средством после такой дозы пантакатина было для Мальконенна напиться и проспаться, но я ему этот шанс предоставлять не собирался. Я прибыл сюда заключать сделку, а не пьянствовать.
– Вы получили приглашение на выставку экспонатов древнего искусства Земли на Раймонде? – спросил я.
– Что? – Мальконенн поперхнулся вином и ошарашено заморгал белесыми ресницами. Как и все альбиносы, крелофонист был чрезвычайно впечатлителен, вдобавок на его психику накладывалось остаточное действие пантакатина.
Он поставил бокал на столик и прокашлялся.
– Значит, это твои штучки, – заносчиво сказал он. – А я подумал, чья-то гнусная шутка.
– Какие могут быть шутки, к тому же гнусные? – пожал я плечами. – К вам в вежливой форме обратились с официальной просьбой выставить для показа экспонат из коллекции вашего деда. К тому же и гонорар за показ весьма приличный.
– Плевать я хотел и на деньги, и на побрякушки деда! – взорвался Мальконенн. – Я – крелофонист, и только в этом качестве отвечаю на приглашения!
Именно на такую реакцию я и рассчитывал. Не давала слава деда покоя внуку, потому он ни в грош не ставил антикварную коллекцию, доставшуюся в наследство. Что и требовалось доказать, иначе об успехе моей акции не могло идти речи.
– На гонорар за показ скульптуры Нэфр’ди-эт вы могли бы официальным путём приобрести не двух, а десяток поющих занзур, или несколько контрабандных яиц на чёрном рынке экзотических животных, – спокойно заметил я.
Щека Мальконенна нервно дёрнулась.
– Мне не нужны взрослые занзуры – ни одной оригинальной композиции от них не дождёшься. Стоит только занзуре в неволе услышать какую-либо мелодию, как она забывает свой дар и всю оставшуюся жизнь занимается аранжировкой услышанного. Мне необходимы яйца занзуры, из которых я в изолированном отсеке с природными условиями Раймонды выращу диких особей. Их пение будет моим вдохновением и позволит создать такие крелокомпозиции, которых ещё никто не слышал. Но об этом никто – подчёркиваю, НИКТО! – знать не должен! Это должны быть МОИ композиции! Поэтому мне не подходят контрабандные яйца с чёрного рынка – Лига защиты животных внимательно отслеживает всех охотников-контрабандистов, и рано или поздно покупатель экзотических животных становится известен.
Я покивал головой, соглашаясь. Какое к чёрту вдохновение? Красть собирался Мальконенн чужие мелодии, но, как любой жулик, мнящий себя неординарной артистической личностью, вуалировал свои намерения напыщенными фразами. Уже не раз слышал сентенции Тотта Мальконенна по этому поводу. Не верил я, что завораживающее пение дикой занзуры – по слухам, сродни пению мифических сирен, – подвигнет Тотта Мальконенна на создание эпохальных композиций, однако гипертрофированным амбициям посредственного крелофониста не было границ. Как говорится, утопающий хватается за соломинку. Меня его проблемы не касались, мне нужны были деньги для сафари на Сивилле, и только из-за этого наши интересы пересекались. Что общего у благородного махаона с бабочкой-капустницей, кроме принадлежности к насекомым? Если случайно и встретятся в воздухе, то тут же и разлетятся.
– И всё-таки на предложение выставить скульптуру на Раймонде вам придётся согласиться, – сказал я.
– Ни-ког-да! – отрезал Мальконенн.
– В таком случае из нашей затеи ничего не получится, – с нажимом сказал я. Чванливое упрямство Мальконенна начинало раздражать.
Мальконенн никак не отреагировал. Сидел, спесиво поджав губы, и своё мнение менять не собирался. Личный имидж был для него превыше всего.
– Никто вам не предлагает сопровождать скульптуру на Раймонду, – смягчил я тон. – Туда поеду я в качестве вашего доверенного лица. По вполне правдоподобной «легенде», которая не уронит ваше достоинство – таким образом вы как бы субсидируете мою экспедицию на Сивиллу. Кстати, если вам так уж безразлична сумма за показ экспоната, можете приплюсовать её к моему гонорару.
Некоторое время Тотт Мальконенн сидел неподвижно, обдумывая сложившуюся ситуацию. На его излишне эмоциональном лице играла противоречивая гамма чувств, по которой легко читался ход мыслей. Взвесив все «за» и «против» и найдя такой поворот вполне приемлемым, он пришёл к заранее предсказанному мною решению. Всё-таки я неплохой аналитик человеческих душ.
– Хорошо, – всё ещё натянутым голосом произнёс он. – Пусть будет по-вашему. Что от меня требуется?
– Для начала показать мне бюст Нэфр’ди-эт.
– Сезам, доставить сюда экспонат номер тридцать два! – приказал Мальконенн. В общении с системой жизнеобеспечения хозяин виллы был не оригинален – половина моих знакомых именно так обращались к своим киберам.
Я усмехнулся и покачал головой.
– Придётся вам самому принести. Система жизнеобеспечения не слышит.
– Почему? – изумился Мальконенн и только тогда заметил стоящие на полу контракустические буйки. – А это ещё зачем?
– Не вы один хотите полного конфидента, – с лёгкой, почти неощутимой иронией в голосе сказал я. Настолько лёгкой, что надеялся, она понятна только мне.
Однако сверхчувствительный Тотт Мальконенн уловил практически незаметный иронический оттенок. Насупился, недовольно глянул исподлобья, порывисто встал и вышел из зала.
Через пару минут он вернулся, неся в руках подставку со скульптурой, накрытой прозрачным цилиндрическим колпаком. Молча поставил её на стол и снова уселся в кресло напротив.
Ваятель, сотворивший шедевр, несомненно был выдающимся скульптором, хотя история не донесла до нас его имени. Ему удалось сотворить то, что редко у кого выходит из-под резца, – придать точёным чертам лица египетской царицы одухотворённость. И это впечатление было настолько сильным, что вызывало светлое чувство, будто красавица живёт в одно время с нами, и, мало того, я с ней неоднократно встречался.
– Вы позволите? – спросил я, указывая на скульптуру.
Мальконенн натянуто кивнул.
Аккуратно отстегнув гравитационные защёлки, я снял колпак. Тысячелетия изрядно потрудились над песчаниковым бюстом. Напрочь исчезла некогда покрывавшая её краска, и лицо египетской царицы испещряли мелкие оспины эрозии. Песчаник весьма недолговечный материал, и просто удивительно, как бюст сохранился до нашего времени, не рассыпавшись в прах. Медленно вращая мраморную подставку, я оглядел скульптуру. В XX–XXI веках её пропитали скрепляющим составом, и это замедлило эрозию, однако со временем стало приводить к необратимым структурным изменениям – кое-где крупинки песчаника потемнели и будто спеклись, тускло поблёскивая бугристой поверхностью. Не знали реставраторы того времени других способов предотвращения эрозии, кроме химических, и теперь вялотекущая сухофазная реакция между рыхлым песчаником и связующей пропиткой грозила через несколько веков превратить скульптуру в монолитное кремниевое изваяние.
Натянув на руки стерильные перчатки, я взял бюст и снял со штыря на подставке. При этом никакого благоговейного трепета перед тенью минувших веков не ощутил. Будь на месте древней скульптуры мумифицированный экземпляр редкого вида экзопарусника, руки у меня непременно бы дрожали. А так… На вкус и цвет товарищей нет – и это напрямую относится к шедеврам.
Я мельком глянул на Мальконенна. Он тоже не испытывал возвышенных эмоций к скульптуре – насуплено глядел на песчаниковое изваяние, будто завидуя, что слава экспоната под номером тридцать два из коллекции деда выше его личного реноме. Бельмом в глазу являлся для него бюст Нэфр’ди-эт. Пожалуй, прохладное отношение к раритетам было у нас общим – но, в отличие от крелофониста, я не завидовал, а рассматривал скульптуру с чисто утилитарных рационалистических позиций. Как инструмент, с помощью которого собирался заработать деньги для экспедиции на Сивиллу.
Перевернув бюст, я внимательно осмотрел его основание. Всё в точности совпадало с каталожными данными. В основании скульптуры был просверлен узкий конус пятисантиметровой глубины – когда-то, посаженная на деревянный колышек, она именно так крепилась к постаменту, и нашедшие бюст археологи не стали отходить от канона, заказав вместо утерянной подставки новую, со штырём. Но меня это никак не устраивало.
– Смотрите, – показал я углубление Мальконенну, – идеальный место для контрабанды яиц занзуры. Бюст Нэфр’ди-эт пойдёт спецгрузом и под охраной, и ни один таможенник Раймонды не сможет взять его в руки.
Всё-таки Мальконенн основательно загрузился пантакатином, потому что до него не сразу дошёл смысл моих слов. С минуту он сидел, тупо уставившись на скульптуру, и, похоже, никак не мог отрешиться от своей антипатии к раритету. И только затем, когда суть идеи наконец-то прорвалась в его сознание, он расцвёл.
– Понял! – чересчур эмоционально воскликнул он. – Понял! Гениально!!!
Меня покоробило. Может, в среде непризнанных гениев так и принято выражать свои чувства, но я к чрезмерным эмоциям отношусь скептически. От них за три версты разит фальшью дешёвых водевилей.
И здесь Мальконенн меня «срезал». Недооценил я его интеллект. Свою роль он сыграл на высшем уровне. Артист.
– Не хватает только самого малого – яиц занзуры, чтобы туда спрятать, – с едким сарказмом заметил он. От восторженности на лице не осталось и следа. Ошибся я, подозревая, что его сознание заторможено галлюциногеном. Передо мной сидел умный человек, с трезвыми мыслями и холодным рассудком. И было непонятно, кто с кем ведёт игру.
– Каким образом ты их собираешься раздобыть? – спросил он.
– А вот это уже моё дело. Вы платите за товар, а какими методами я его буду добывать, вас не касается. К тому же, если я вдруг попадусь на контрабанде, вам лучше не знать подробностей. Во избежание.
Мальконенн немного подумал, недовольно двигая желваками на скулах и не сводя с меня пристального взгляда. Я хладнокровно выдержал этот взгляд.
– Разумно, – вынужден был согласиться крелофонист. – Что ещё от меня требуется?
– Испортить эту скульптуру. – Мстя за его сарказм, я не стал вдаваться в объяснения.
Брови Мальконенна недоумённо взлетели, мгновенье он не мог вымолвить ни слова, затем откинулся на спинку кресла и расхохотался.
– Послушайте, Бугой, в своём ли вы уме?
Я ухмыльнулся. До положительного результата переговоров было ещё далеко, но, по крайней мере, своей фразой я заставил его перейти на «вы».
– В своём. Для того чтобы в скульптуре мог поместиться контейнер с двумя яйцами занзуры недельной кладки, необходимо увеличить углубление до семи сантиметров и расширить на два миллиметра, придав вместо конусной формы цилиндрическую.
На этот раз Мальконенн задумался надолго. То ли жаль было уродовать бюст, то ли из-за своего метафорического воображения не мог представить, какое отверстие должно в конце концов получиться.
– Вибрация при сверлении не разрушит скульптуру?
– Межмолекулярный бур не даёт вибрации. Сделает нужную выемку будто ложкой в сбитых сливках. Полная гарантия от трещин, сколов, осыпания.
– Это-то ладно… – раздумчиво протянул Мальконенн. – Но возникает другой вопрос. Верю, что ни один таможенник к бюсту не сможет притронуться. Но я также не сомневаюсь, что на таможне его обязательно просветят. Как по-вашему, при этом никто не заметит внутри бюста яйца занзуры?
Оказывается, не я один умел пользоваться искусством замаскированной иронии. Вопрос Мальконенн задал без тени улыбки, серьёзно, однако в его глазах плескалась еле уловимая доля наигранной наивности. Ассоциативно на ум из далёкого детства выплыл эпизод из сказки Милна, когда плюшевый мишка вздумал полакомиться мёдом в дупле с дикими пчёлами и решил, притворившись тучкой, подняться на дерево с помощью воздушного шарика. «Как по-твоему, Винни, – наивно спросил Пятачок, – а пчёлы не заметят под шариком тебя?»
– Не заметят, – досадливо поморщился я. Абсолютно ни к месту пришлось воспоминание.
– Почему? – усилил интонацию Мальконенн, и в голосе прорезались нотки сарказма. – У раймондцев глаза устроены по-другому?
– Потому, – в тон крелофонисту отрезал я. Сам иногда прикидывался «наивным простаком», однако не терпел, когда кто-либо пытался применить этот приём в разговоре со мной. – Предлагая вам испортить скульптуру, я имел в виду вовсе не расширение полости внутри неё.
Мальконенн выпрямился в кресле.
– Что же вы имели в виду? – спросил он, помрачнев. Не так уж и равнодушен оказался Мальконенн к бюсту египетской царицы, хотя, скорее всего, его волновал только один вопрос: насколько мои манипуляции могут снизить стоимость раритета.
– Создать в расширенной полости капсулу темпорального сдвига.
По выражению лица Мальконенна я понял, что это ему ни о чем не говорило. Но он молчал. Ждал объяснений.
– Темпоральным преобразователем на поверхность выемки наносится плёнка нуль-времени толщиной в два ангстрема. Таким образом как бы создаётся темпоральная капсула, внутри которой наблюдается сдвиг во времени приблизительно на двое суток. Помещённый внутрь бюста предмет проявится там как изображение через два дня, даже если его там уже не будет.
Тотт Мальконенн не спешил с вопросами. Сидел, думал. Вопреки ожиданию, никаких эмоций в этот раз его лицо не выражало.
– А…
– Это останется со скульптурой навсегда.
Мальконенн понимающе кивнул. Однако кивок вовсе не означал согласие. Вопросы ещё не закончились.
– Увеличение темпорального сдвига более двух суток нежелательно, – сказал я, предупреждая следующий вопрос. – Для этого придётся увеличить толщину нуль-темпоральной плёнки, что может привести к сбою при тестировании скульптуры на её подлинность.
Мальконенн снова кивнул, продолжая выжидательно смотреть на меня. Но я молчал, ждал его решения.
– Ещё что?
– Всё.
Он глубоко задумался. Я его понимал – не каждый решится поставить на раритетной скульптуре жирную чернильную печать, пусть даже и невидимую, но обнаруживаемую при помощи специального темпорального оборудования. Если Мальконенн откажется, мои мечты о сафари на Сивилле рассыплются в прах. Ещё десять минут назад я был на сто процентов уверен, что Мальконенн согласится, однако неожиданные метаморфозы его интеллекта сильно поколебали моё мнение. Не во всём, оказывается, был предсказуем невесть что возомнивший о себе крелофонист.
Молчал он долго. Взгляд потух, словно Мальконенн обратился взором внутрь себя, и опять ни тени эмоций не проявилось на лице. Знал за собой крелофонист такую слабость и, если надо, умел себя контролировать. Только по ожившим глазам я понял, что он принял решение.
– И чёрт с ней! – в сердцах махнул он рукой. – Для меня важнее другое. Один раз живём. Договорились.
– Вот и хорошо, – с облегчением выдохнул я. – Тогда приступим.
Я распаковал багаж, собрал оборудование, проверил его и только затем занялся работой. Выемка песчаника межмолекулярным буром заняла не больше минуты, зато на создание конуса темпорального сдвига ушло около двух часов. Конфигурация искривлённой пространственно-темпоральной плоскости требовала ювелирной точности в исполнении, и малейшая ошибка в расчётах грозила потерей экспоната вне времени. Поэтому я вначале по миллиметру воссоздал виртуальную модель темпоральной капсулы, раз пять перепроверил все расчёты и параметры, и только затем внедрил её в выемку бюста Нэфр’ди-эт. Проверка параметров на темпоральном сканере показала, что сдвиг во времени в полости бюста составляет сорок шесть часов пятьдесят две минуты. Чуть меньше расчетного времени, но я был этим очень доволен. На полчаса меньше, зато больше гарантий, что при тестировании скульптуры на подлинность не будет сбоев. Так и оказалось. Портативный хронограф зафиксировал, что возраст бюста составляет пятьдесят три столетия плюс-минус сорок девять лет. Как и до внедрения капсулы темпорального сдвига.
– Это всё? – спросил неотрывно наблюдавший за моей работой Мальконенн, когда увидел, как я удовлетворённо распрямляюсь от предметного столика темпорального преобразователя.
– Нет. Осталась совсем чепуха. Сделать новую подставку.
– А чем вас эта не устраивает? – не понял Мальконенн. – Она тоже представляет собой историческую ценность – ей уже несколько столетий.
Вопрос меня откровенно развеселил.
– Как по-вашему, – в тон Мальконенну уел его я, – что произойдёт, когда я помещу внутрь бюста яйца занзуры, а затем надену его на штырь? Или вы ничего не заметите?
Щека Мальконенна дёрнулась, он потемнел лицом, но сдержался. Не выносил он иронии над собой похлеще меня.
– А как проверить темпоральную капсулу? – попытался он выйти из пикантного положения.
– Элементарно.
Я перенёс бюст Нэфр’ди-эт на предметный столик лучевого сканера, включил экран. Затем сунул палец в полость, и мы увидели, как на экране к бюсту приблизилась полупрозрачная рука, но указательный палец в полости так и не появился. Создавалось впечатление, что он как бы растворяется в ней по мере погружения.
– Через два дня, поместив бюст под сканер, вы сможете наблюдать, как в полости появится мой палец, – сказал я. – Однако повторять эксперимент не советую. Через неделю сюда прибудут эксперты из страхового агентства Союза антикваров, и нехорошо получится, если при сканировании они увидят внутри бюста ваши мелькающие конечности.
Мальконенн мрачно кивнул.
Ещё полчаса у меня ушло на создание копии подставки для скульптуры. Сделал я её из псевдомрамора один к одному по внешнему виду оригинала. Но вместо штыря в подставке была выемка, в которую плотно входило основание скульптуры.
– Теперь всё? – повторился Мальконенн, наблюдая, как я устанавливаю бюст на новую подставку, прикрываю его прозрачным колпаком и защёлкиваю гравитационные зажимы.
– Нет, – покачал я головой, но в детальные объяснения вдаваться не стал и принялся упаковывать оборудование.
Когда я закончил, Мальконенн уже не задал своего, ставшего сакраментальным, вопроса.
– Алазорского? – предложил он, усаживаясь в кресло.
И только тогда я понял, почему он так настойчиво интересовался, когда же я закончу работу. Как ни старался Мальконенн держать себя в руках, его основательно мутило от галлюциногена. А алкоголь лучше всего снимает постпантакатинный стресс. По глазам Мальконенна было видно, насколько ему невмоготу, и как хочется выпить.
– Ещё один аспект, и на сегодня мы полностью закончим наши дела, – уклончиво ответил я, выкладывая на столик бумаги. – Согласуем смету подготовительных работ.
Мальконенн тяжело вздохнул, наклонился над бумагами и начал читать, держа ладони на коленях и не прикасаясь к листам. Не хотел, чтобы я видел, как дрожат у него руки.
Дойдя до графы «Оборудование», он поднял глаза и посмотрел на упакованный багаж.
– Вы оставляете его мне?
– Нет. Забираю с собой и спущу в аннигилятор вашей яхты. Здесь мы оборудование уничтожать не будем – система жизнеобеспечения зафиксирует этот факт.
– Разумно, – согласился Мальконенн и вновь уткнулся в бумаги.
Когда он дошёл до предпоследней станицы, брови его удивлённо подскочили.
– А это ещё что? – изумился он. – Эта сумма в десять раз превышает ваш гонорар!
– Медицинская страховка, – спокойно объяснил я. – Для успешной реализации задания мне предстоит перенести две хирургические операции на генетическом уровне. Такие операции не всегда проходят гладко, и если я стану калекой, то хочу прожить остаток лет обеспеченным человеком.
– Пусть будет так, – недовольно скривился Мальконенн, посмотрел на резюмирующую цифру в конце документа и выписал чек.
– Теперь-то мы можем выпить лёгкого вина за успех общего дела?! – уже не скрывая эмоций, спросил он, протягивая мне чек.
– Вы – да, я – нет, – покачал я головой. – Через пять часов я буду лежать на операционном столе в марсианской клинике межвидовой хирургии в отделении имплантации инородных органов, поэтому алкоголь мне противопоказан. Надо спешить, чтобы успеть на рейсовый лайнер «Пояс астероидов-VI – Марс», иначе придётся ждать трое суток, и тогда вряд ли успею адаптироваться к новому телу до рейса на Раймонду. Так что – всего доброго, – протянул ему руку.
Мальконенн тяжело вздохнул и подал вялую потную ладонь.
– Гад ты, Бугой, – горько сказал он в сторону. – Опять мне пить в одиночку…
Я ничего не ответил. Развернулся и зашагал прочь.
Когда я вышел на крыльцо виллы, в долине вечерело. Солнце только что скрылось за обрезом гор, и в небе над котловиной проявилась блеклая луна в первой четверти. Вероятно, стереоэффект, так как не помню, чтобы из космоса у «Выеденного яйца» наблюдался ещё один сателлит, кроме искусственного светила. Хотя я тогда особенно не приглядывался, а дед Мальконенна был достаточно экстравагантной личностью, чтобы позволить себе заказать уменьшенную копию естественного спутника Земли. Воздух над долиной посвежел, и в нём отчётливо слышались мельчайшие звуки. Из собирающегося над озером тумана доносились редкие всплески, поодиночное кваканье лягушек, а затем над ухом запищало, и на щёку спикировал большой комар.
– Чёрт! – выругался я, прихлопнув его ладонью. Предположение, что комаров в долине нет, оказалось неверным. Похоже, экосистему поместья создавали на века, а без комаров экологического равновесия не достигнуть. Собственно, а почему бы и нет? При современных электронных способах защиты от насекомых комары досаждать не будут. Но у меня не было репеллента, и пока дошёл до лифтовой площадки, убил на себе с десяток настырных кровососов.
Сгрузив багаж на палубу яхты, я отослал кибертележку и, уже закрывая люк, неожиданно подумал, что если бы поместье принадлежало мне, в воздухе обязательно порхал хотя бы один из видов парусников. Например, чёрно-зелёный земной Ornithoptera – как раз его ареал. Душа обмирает, когда этот громадный, размером с две ладони, птицекрыл бесшумно проносится над головой…
Отойдя на яхте от виллы Мальконенна на сто километров, я отправил багаж в аннигилятор и уселся перед экраном. Поместье «Выеденное яйцо» медленно отдалялось, чтобы через некоторое время раствориться среди неподвижных равнодушных звёзд.
Моё мнение о Мальконенне вновь изменилось. Не очень существенно, но и не в лучшую сторону. Когда он меня уговаривал взяться за дело на Трапсидоре, то сулил золотые горы, но как только дошло до оплаты, принялся скрупулёзно проверять каждую строчку расходов. Правду говорят – чем богаче человек, тем более прижимист. Даже не подумал приплюсовать к гонорару сумму, предложенную за показ бюста Нэфр’ди-эт на Раймонде, а когда увидел графу комиссионных за эту сделку, кисло поморщился. Так что обо всей сумме я и не подумал заикаться. Скаред, одним словом. Знал бы, не связывался.2
Хирург, трансплантировавший мне жабры по заказанному образцу, был землянином. Грузным, рыхлым, страдающим одышкой в разреженной марсианской атмосфере, а потому, наверное, вечно хмурым и всем на свете недовольным. Когда я попытался мягко намекнуть, что при его профессии давно пора сменить лёгкие, он более обычного помрачнел и пробурчал, что как в старину сапожники ходили без сапог, так и сейчас хирурги не пользуются услугами своих коллег. А затем, во время осмотра швов и тестирования жабр, пустился в долгие занудные объяснения, насколько трансплантация вредна для организма. Особенно, если вживляются органы, предназначенные для среды, губительной для человека, и, что ещё хуже, когда эти органы вживляются временно. Последствия, вызванные адаптацией чужеродных органов, а затем их отторжением, могут привести к такой разбалансировке организма, что потребуются годы лечебных процедур для восстановления нормальной жизнедеятельности.
В конце концов я не выдержал нудных нотаций и раздражённо оборвал на полуслове:
– Вам не кажется, что подобными сентенциями вы подрываете авторитет своей профессии? С такими воззрениями нужно не трансплантацией заниматься, а быть активистом Комитета статуса человека, выступающего за категорический запрет даже маломальских изменений биологической сущности Homo sapiens .
Против ожидания, резкая отповедь не обидела хирурга. Наоборот, я впервые увидел на его лице подобие улыбки. Немного снисходительную грустную усмешку умудрённого житейским опытом человека.
– Возможно, вы и правы, – сказал он со вздохом. – Наверное, когда-нибудь я сменю профессию. Не напрасно около шестидесяти процентов штатных сотрудников Комитета статуса человека бывшие медики с большим стажем практической работы. Слишком много нам известно об искусственных мутациях, и мы, как никто, понимаем, что насильственное изменение естественной эволюции Homo sapiens может завести в тупик, из которого нет возврата.
Я благоразумно промолчал, предпочитая не втягиваться в дискуссию. Жизнь у меня одна, мой организм – моя личная собственность, и как я с этой собственностью поступаю – сугубо частное дело. Человеческая жизнь тем и отличается от животного существования, что предусматривает активный поиск за пределами своих возможностей, но мало кто из людей это понимает, предпочитая спокойное существование на уровне амёбы. Замкнуться в своём мирке, где всех удовольствий – есть, спать, плодиться и беречь здоровье, – не для меня.
Нейрохирургом, вживившим мне под ногти безымянных пальцев дублирующие друг друга молекулярные биочипы и подключившим их к нервной системе, был целитерец, хотя я бы поостерёгся относить его как биологическую особь не только к медлительным аборигенам Целитеры, но и вообще к какой-либо расе. Дело в том что, в отличие от земного коллеги, он был ярым поборником трансмутации и настолько перекроил своё тело, что от целитерца в нём осталось не более десяти процентов. И это при всём при том, что на Целитере строжайшим образом соблюдается кодекс сохранения вида в неприкосновенности. Но, как говорят, в семье не без урода. Он сменил целитерское гражданство на межгалактическое и, тем самым, освободился от моральных обязательств перед своей родиной. Трансмутация его организма имела несколько однобокую направленность – недовольный тем, что при общении с другими расами он чересчур медлителен, нейрохирург занялся усовершенствованием своей нервной системы и достиг поразительных результатов. Я даже не могу описать, как он выглядел – движения нейрохирурга по палате напоминали размытое мельтешение крыльев колибри, так что нельзя было разобрать, где именно он находится. Говорил он тоже на запредельной скорости, отчего слова сливались в непрерывный писк, и смысл сказанного доходил до меня через пятое на десятое. К счастью, отвечать на его вопросы не требовалось, нейрохирург обладал способностью читать мысли по физиомоторике, и лишь изредка, когда я вообще ничего не понимал из скорострельного писка, рефлекторные ответы моего тела ставили его в тупик. Тогда он на несколько мгновений застывал напротив койки, замедлял темп речи, и я, наконец, мог видеть размытое в пространстве лицо целитерца с синюшным большим носом и выпученными глазами. При этом всё тело продолжало мельтешить, вызывая иллюзию, будто у него не менее двух десятков пар рук и ног. Может, так оно и было – когда он прикреплял к моему телу датчики, создавалось впечатление, что это делается единым шлепком; а может, и нет – при такой скорости движений он вполне мог обходиться одной парой рук.
При каждом своём посещении он уговаривал меня то подсоединить биочипы напрямую к мозгу, то вживить их на постоянной основе, то расширить оперативную память, но я непреклонно стоял на своём – спустя месяц биочипы должны безболезненно прекратить функционирование и рассосаться. Столь радикальное отношение к усовершенствованию своих способностей тоже было не по мне – человек во всём должен оставаться человеком, и выделяться среди себе подобных только яркой личностью, иначе общество его не примет. Вряд ли кто восхищался способностями нейрохирурга-целитерца, вряд ли у него были друзья – а самосовершенствование ради себя самого, как я считаю, пустая трата сил и времени. Амбиции человека приносят удовлетворение только тогда, когда плоды его достижений вызывают восхищение у окружающих. Иначе жизнь превращается в бессмыслицу. А как, скажите, можно не то, что восхищаться, а поддерживать отношения с сумасбродным целитерцем, когда в результате гиперускоренного метаболизма от его тела за три версты тошнотворно разит потом?
На третий день после операций я связался с Мальконенном, чтобы проконтролировать, как он выполнил мои указания.
Мальконенн был пьян до невменяемости. По последним сведениям, почёрпнутым из видеожурнала «Мир крелофонии», я знал, что он напрочь разругался со своим продюсером, однако не предполагал, какие последствия вызовет разрыв их отношений. Видимо, дела Мальконенна на ниве крелофонии шли совсем плохо, если он ударился во все тяжкие, глуша свою несостоятельность наркотиками и спиртным. Но если логически поразмыслить, то иного и не следовало ожидать. Только в больном воображении могла возникнуть бредовая идея создания крелофонических композиций на основе пения диких занзур. Так что винить нужно было не его, а себя самого, польстившегося на внушительный гонорар.
На мои вопросы, послал ли он астрограмму, подтверждающую его участие в выставке древнего искусства Земли на Раймонде, и согласован ли срок прибытия на виллу экспертов страховой компании, Мальконенн лишь глупо хихикал и бормотал нечто невразумительное. А затем вдруг начал заплетающимся языком с воодушевлением объяснять, как он оборудовал пещеру внутри скальных пород астероида для содержания зазнур в практически естественных условиях. Когда я это услышал, волосы на голове зашевелились. Не знаю, как сдержался и не наорал на Мальконенна, но связь с ним мгновенно оборвал.
С полчаса я не находил себе места. После подобных заявлений открытым текстом в эфире на моём плане можно было ставить жирный крест. Какого чёрта я связался с этим идиотом?! Надо же так опростоволоситься! Сколько сил потрачено на подготовку, плюс две хирургические операции – и всё насмарку… С таким заказчиком нужно немедленно рвать отношения, пока не очутился за решёткой.
Однако, поостыв, я всё-таки решил продолжить начатое. Слишком далеко зашёл, чтобы останавливаться на полпути. К тому же, несколько раз прослушав запись нашего разговора, немного успокоился. Диалог получился чрезвычайно туманный и понятный только посвящённому во все детали. А таких людей было всего двое – я и Мальконенн. Как ни пытался крелофонист произнести слово «занзуры», кроме шипения ничего не выходило, и Тотт заменил «занзуры» на пьяное «птышки». А под «птичками» и обустройстве их жизни на межпланетной вилле можно понимать что угодно, особенно в фривольном смысле. Мало ли в эфире Солнечной системы частных бесед на отвлечённые темы… Но про себя твёрдо решил: случись ещё одна подобная выходка со стороны Мальконенна, и я разорву контракт. О чём и уведомлю заказчика при первой же очной встрече без посторонних ушей.
Пока же я проделал со своим клиентом то, что при любых иных условиях было бы неосуществимым. Дистанционно повлиять на работу системы жизнеобеспечения автономной космической виллы невозможно – фильтры функциональной защиты отсекут любую информацию извне, которую сочтут вмешательством в действия системы жизнеобеспечения. Но меня на станции «Пояс астероидов-VI» поджидала яхта Мальконенна, – неотъемлемая биоэлектронная ячейка сложнейшего организма современной космической виллы, настроенная на подчинение моим командам, – поэтому отдать соответствующие распоряжения через её рецепторы было хоть и сложным делом, но вполне реальным. Конечно, серьёзно повлиять на систему жизнеобеспечения через рецепторы яхты я бы всё равно не смог, однако, благодаря вживлённым под ногти биочипам, сумел-таки выбрать приемлемый вариант и через блок врачебного надзора ввёл запрет на предоставление хозяину алкогольных напитков. Поскольку это обосновывалось медицинским предписанием, то подобное распоряжение Мальконенн сам отменить не мог – нужно было вызывать системотехника. Таким образом я «убивал двух зайцев»: приводил Тотта Мальконенна в трезвое состояние и одновременно проверял на слабохарактерность. Если он вызовет ремонтную бригаду системотехников, я откажусь от выполнения заказа. С людьми, на которых нельзя положиться, дел лучше не иметь. Ни в обыденной жизни, ни, тем более, в экстремальных ситуациях.
На шестой день я выписался из клиники, хотя показания по вживлению жабр ещё не достигли оптимума. Хирург пытался воспрепятствовать моему решению, уговаривая остаться под квалифицированным наблюдением ещё пару дней во избежание нежелательных эксцессов, но меня поджимали сроки. То ли Мальконенн с пьяной головы неправильно понял мои указания, на какой день нужно вызвать экспертов страховой компании, то ли устроители выставки на Раймонде спешили побыстрее заполучить экспонат, пока непредсказуемый в своих решениях крелофонист не передумал, но экспертная группа и охрана для сопровождения ценного груза прибывала на виллу «Выеденное яйцо» сегодня.
Я терпеливо выслушал все наставления хирурга, как вести себя в ближайшие дни, какие препараты принимать и что делать, если раньше срока появятся признаки отторжения жабр. Надеюсь, что землянин, в отличие от целитерца, не умел читать мысли по физиомоторике пациента, так как я, пожимая ему при расставании руку, страстно пожелал больше никогда в жизни не встречаться с этим занудным человеком. И если потребуется реабилитация после отторжения жабр, соглашусь на любой госпиталь, кроме марсианского.
Прощание же с нейрохирургом вообще нельзя назвать прощанием. Он вихрем подскочил ко мне в коридоре клиники, на мгновение завис напротив, пискнул что-то и тут же умчался радужным мельтешащим смерчем, окутав меня напоследок тошнотворным облаком пота. Только благодаря вживлённым биочипам я смог расшифровать его последнюю тираду – целитерец с непререкаемым апломбом заявил, что запах его пота адаптирован под наилучшие духи Целитеры, и потому мне никогда не понять всей прелести и изысканности аромата. От такого наглого заявления я опешил, а затем страстно захотел на мгновение обрести ту же скорость движения, что и нейрохирург, догнать его и с не меньшим апломбом посоветовать восстановить своё первоначальное гражданство, возвратиться на родную планету и там охмурять «божественным» ароматом целитерок, поскольку для всех остальных гуманоидов этот запах сродни смраду гниющих отбросов. Было у нас с целитерцем кое-что общее – низкий уровень толерантности. Но у цельных натур так и должно быть. Те, кто комплексует, извиняется, испытывает угрызения совести, обращает излишнее внимание на чужое мнение, идут к своей цели окольными тернистыми тропами и почти никогда не доходят.
В этот раз Тотт Мальконенн ждал меня на причале. Был он трезв, и, пока яхта швартовалась, я наблюдал на экране за его тщедушной фигурой, всем своим видом выражавшей раскаяние. Выглядело раскаяние весьма натурально, однако, зная артистические способности Мальконенна, я не очень-то верил в его искренность. Артист он первоклассный, но, на его беду, талант исполнителя и талант композитора слишком разные вещи. На его беду мне было наплевать, однако то, что он чувствовал себя виноватым, обнадёживало.
Когда диафрагма люка с треском распахнулась, Мальконенн с излишней поспешностью устремился ко мне, протягивая для рукопожатия руку и сконфужено отводя глаза в сторону.
– Здравствуйте, Бугой! – наигранно весело воскликнул он. – Надеюсь…
Он мазнул по мне взглядом и осёкся. Лицо изумлённо вытянулось, протянутая рука застыла в воздухе.
– Вы… Вам нехорошо?
Его реакция была предсказуема. Видел себя в зеркале – безобразный горб на спине, лицо отёкшее, бледно-желтушное, чёрные круги под глазами. И таким мне предстояло быть полтора месяца. Дикий коктейль человеческой крови и плазмы гидробионта Раймонды представлял серьёзное испытание для печени и почек, поскольку медикаментозные ингибиторы защищали внутренние органы от вредного воздействия инородной плазмы лишь на девяносто восемь процентов. И этого соотношения приходилось строго придерживаться, так как при ста процентах защиты наступало отторжение имплантанта.
– А вы как себя чувствуете? – спросил я, пожимая повисшую в воздухе руку Мальконенна. – Похмелиться не хочется?
Мальконенн сник, попытался выдернуть руку, но я держал её крепко.
– Что вы, право… – смущённо пробормотал он. – Ничего страшного, в конце концов, не случилось…
– Случится, – мрачно пообещал я. – Ещё одна подобная выходка с вашей стороны, и наши договорные отношения будут разорваны. С уплатой вами всех обусловленных договором компенсаций. Если потребуется, то и через суд.
При упоминании о суде Мальконенна передёрнуло. Больше всего он боялся огласки. Для моей репутации суд тоже был ни к чему, но крелофонист прекрасно осознавал, что это отнюдь не поставит крест на моей карьере. Слишком я независим в своей области, чтобы превратиться в изгоя. Для него же огласка означала полный крах.
– Зачем же так сразу – суд… – забормотал он. – Даю слово, что, пока вы будете на Раймонде, я ни грамма в рот не возьму и носа с виллы не высуну до вашего возвращения.
Он попытался заглянуть мне в глаза, но тут же отвёл взгляд. Нехороший у него был взгляд, неискренний, но я ему поверил. У чересчур эмоциональных натур внешняя реакция редко совпадает со словами.
– И всё это время не будете отвечать ни на чьи звонки, кроме моих, – сказал я.
– И всё это время не буду отвечать ни на чьи звонки, кроме ваших, – эхом откликнулся Мальконенн.
– Даже если продюсер предложит вам сверхзаманчивые гастроли.
Это был удар ниже пояса. Третьеразрядному крелофонисту никто не предложил бы и низкосортного турне.
– Даже… – по инерции продолжил Мальконенн, но тут до него дошёл иезуитский смысл моих слов, горло у него перехватило, он напрягся, медленно поднял голову.
– Обещаю, – процедил он, с ненавистью глядя сквозь меня, – что всё это время проведу как отшельник и не поддамся ни на какие соблазны.
Получилось излишне патетично, но, учитывая его богатый сценический опыт, наложение театральных штампов на обещание не следовало принимать за ёрничанье.
– Договорились, – ровным голосом сказал я и отпустил его руку. – Помогите перенести багаж на причал – мне после операций нельзя поднимать тяжести.
Мальконенн нырнул в люк яхты и один за другим вынес на причал три объёмных баула. Последний, наиболее тяжёлый, он не смог поднять и волоком протащил по настилу.
– Оставьте тут, – распорядился я. – Незачем переносить в дом, а затем обратно. Когда, кстати, прибудет катер с экспертами?
– Через полтора часа, – отдуваясь, выдохнул Мальконенн. – Что у вас в баулах?
– Снаряжение.
– Да? И для…
– Меньше будете знать, крепче будете спать! – оборвал я его на полуслове. – Кстати, снаряжение сделано по сецзаказу, и расходы превысили первоначальную смету.
– Я доплачу, – быстро согласился Мальконенн, чем приятно удивил. Когда мы расставались неделю назад, я посчитал его за скареда. Оказывается, не всё так просто – дурман наркотиков и спиртного вызвал у крелофониста манию меркантильности, как у иных буйство. Трезвый Мальконенн нравился мне больше.
– Идёмте, – смягчил я тон. – Не торчать же нам на причале в ожидании экспертов полтора часа. К тому же экспертизу экспонатов положено проводить в здании.В котловине был полдень. Искусственное солнце стояло в зените, перегретый песок источал жар, и рассеянная тень от куцых крон корабельных сосен не спасла от зноя. Пока мы шли по тропинке до коттеджа, я изошёл потом. После недели пребывания в статичных условиях госпиталя, пять минут пребывания на жаре на фоне общей послеоперационной слабости вызвали дурноту, и мне было не до красот долины. Поэтому, как только мы оказались в прохладе комнат, я упал на диванчик в первом же зале, достал баллончик с аэрозолем и, расстегнув ворот, брызнул за шиворот хорошую порцию двухпроцентного формальдегида. Жабры обожгло, меня передёрнуло, а затем по телу начала разливаться блаженная истома. Главное, не переусердствовать с формальдегидом: то, что для жабр – основа жизнедеятельности, для человеческого организма – яд.
Мальконенн наблюдал за моими действиями со странным выражением брезгливости и одновременно сочувствия на лице.
– Еще не адаптировался, – кисло усмехнулся я. – С вашего позволения я прилягу?
– Да-да, – спохватившись, озабоченно засуетился он. – Укладывайтесь… Подушку дать?
Я слабо отмахнулся, осторожно лёг боком на диванчик, вытянулся и пододвинул под голову съёмный надувной подлокотник. Как минимум, месяца полтора спать и отдыхать, лёжа на спине, мне заказано.
Мальконенн бесцельно прошёлся по залу, остановился и нерешительно посмотрел на меня.
– Что? – спросил я, преодолевая слабость.
– Вы говорили о счетах… Перерасход за спецснаряжение…
Я тяжело вздохнул. Начинается! Неужели передумал оплачивать? Недавнее приятное удивление по поводу готовности крелофониста всё оплатить сменилось досадой.
– Нет-нет, – понял меня без слов Мальконенн. – Не в том смысле… Мне нужны счета, чтобы перечислить деньги…
– Придут электронной почтой, – пробормотал я, прикрывая веки. После аэрозольного шока меня охватила сонливость. – Если уже не пришли…
– Ага, ага… – закивал Мальконенн и вновь бесцельно заколесил по комнате. – Не хотите посмотреть, как я оборудовал грот для занзур? – предложил он.
– Нет.
– Тогда чем будем заниматься?
– Ничем. Ждать прибытия экспертов, – не открывая глаз, сказал я.
Ждать Мальконенн не умел, но, к счастью, тревожить меня больше не стал. Бродил по залу, шумно вздыхал, несколько раз присаживался в разные кресла, кажется, пытался слушать через наушники крелофонию… Точно не помню, веки разлеплял редко, к тому же немного вздремнул.
Очнулся я по синхронной команде вживлённых биочипов секунд за десять до сообщения системы жизнеобеспечения виллы, что катер с экспертами страховой компании причалил к створу. Лишний раз убедился, насколько биочипы незаменимы для моего предприятия, но, тем не менее, вживлять их навечно не собирался. И никакому нейрохирургу меня в этом не переубедить.
– Надо идти встречать! – встрепенулся Мальконенн, вскакивая с кресла.
– Ни в коем случае, – охладил я его пыл, неторопливо садясь на диване. – Оставьте эмоции для своих концертов, а сейчас сыграйте роль солидного коллекционера антиквариата, который оказывает огромное одолжение, предоставляя экспонат для выставки на Раймонде. Нельзя показывать свою заинтересованность, иначе вашу нервозность примут за желание получить хорошие деньги, а это в среде коллекционеров считается дурным тоном. К тому же не хочу, чтобы кому-нибудь из экспертов закралось в голову подозрение об иных целях, преследуемых хозяином. Поверьте, большинство экспертов прекрасные миелосенсорики и фальшь в поведении улавливают мгновенно.
– Я постараюсь, – взял себя в руки Мальконенн.
– Уж будьте добры, – не удержался я от язвительной улыбки и получил в ответ испепеляющий взгляд. Сразу стало понятно, что после окончания дела наши пути-дорожки разойдутся навсегда. И к лучшему.
В комиссию входили пять гуманоидов. Пока они шли по лесной тропинке к коттеджу, Сезам показал их в окне крупным планом и представил каждого. Распорядитель выставки раймондец Теодор Броуди, маленький, лысенький толстячок с рыжими бакенбардами в старинном чёрном сюртуке с длинными фалдами и таком же старинном цилиндре, шагал впереди процессии. Он был единственным, кто более всего походил на человека, хотя именно раймондцы имели к гуманоидам весьма спорное отношение. За ним следовали двое похожих друг на друга как зеркальные копии ионокцев – Эшпертер Ай и Эшпертер Эго, эксперты страховой компании. Худые как жерди, в белых хитонах, с бритыми головами и постными выражениями на лицах ионокцы были больше, чем обыкновенные близнецы. Несмотря на биологическую независимость тел, их сознания настолько тесно взаимодействовали между собой, что отдельно, как особи, они существовать не могли. Я уже и не помню, сколько раз выставлял свою коллекцию экзопарусников на выставках, которые обсуживали разные страховые компании, но всегда экспертами были ионокцы. Об их честности, неподкупности и скрупулёзности в делах ходили легенды. Лёд мог стать горячим, но ионокец продажным – никогда. Замыкали группу двое шестируких хейритов, в форме межгалактической службы безопасности с сержантскими погонами – Абрикар Кроузи и Транкар Бракан, которые несли как торшез переносной сейф для особо ценных грузов. Хейриты прекрасные телохранители с великолепной реакцией, однако их присутствие вызвало у меня лёгкую оторопь. Я недоумённо вскинул брови и посмотрел на Мальконенна.
Крелофонист никак не воспринял моё недоумение. То ли был в курсе, кому поручена охрана песчаникового изваяния, то ли просто не понимал меня. Привык, что во время гастролей его охраняли хейриты, и даже не подозревал, насколько для данного случая они неуместны. Впрочем, меня это не касалось. Имена хейритов я тут же забыл – зачем мне близкое знакомство с рядовыми охранниками? – личное имя ионокцев-антиподов Ай и Эго тоже почти мгновенно выветрились из памяти, зато имя раймондца постарался запомнить. С ним предстояло работать, причём в том направлении, о котором распорядитель выставки и не подозревал.
Церемония передачи экспоната – весьма рутинная процедура, расписанная по минутам и ролям, почти как вручение верительных грамот. Не столь торжественная, но столь же нудная. Всё проходит согласно протоколу. Вначале Сезам представил присутствующих друг другу (хотя уверен, что информацию о нас с Мальконенном члены комиссии получили ещё находясь на своём катере), затем распорядитель выставки раймондец Теодор Броуди начал медленно, с чувством, с расстановкой зачитывать условия договора, написанного излишне высокопарным слогом. После каждого пункта он останавливался, попеременно посматривал то на меня, то на Мальконенна и продолжал чтение только после моего утвердительного кивка. Мальконенн же, памятуя мои наставления, ни разу не удостоил Броуди не то, что словом, но и взглядом. Сидел, развалясь в кресле, с насупленным, отсутствующим видом, будто всё происходящее его не только не касалось, но и было в тягость. Этакий парвеню, что отчасти почти так и было, поскольку как ценитель раритетов Мальконенн представлял собой полный ноль.
Наконец Броуди закончил чтение договора, и в зал вкатилась кибертележка с установленным на предметном столике изваянием царицы Нэфр’ди-эт. Я натянул на руки стерильные перчатки, снял прозрачный колпак, аккуратно взял скульптуру с подставки и протянул её Броуди.
И тут я увидел его лицо. Теодор Броуди, распорядитель выставки древнего искусства Земли на Раймонде, существо, которое лишь с большой натяжкой признавали гуманоидом, стоял передо мной соляным столбом, во все глаза зачарованно уставившись на скульптуру. Воистину, нет пророка в своём отечестве! Мы с Мальконенном, плоть от плоти Homo sapiens , наследники земной цивилизации, с прохладцей, мягко говоря, относились к своим историческим ценностям. Поэтому столь искреннее и неподдельное восхищение земным раритетом вызвало у меня негативную реакцию. Я отнюдь не расист, в обществе каких только экзотических гуманоидов мне не приходилось бывать, но сейчас ощутил неприятное чувство, почти сродни омерзению, словно какая-то бородавчатая жаба из гнилого болота рассматривала мои интимные части тела, пытаясь по ним определить уровень интеллекта.
– Возьмите, – с излишней сухостью в голосе сказал я.
Броуди не услышал, продолжая зачарованно смотреть на скульптуру. Ничего общего с жабой в раймондце не было, наоборот, он был точной копией человека – маленького, пухленького, добродушного с виду, – но ощущение омерзения не проходило.
– Броуди! – громче сказал я, и раймондец, наконец, очнулся.
– Ах, да, простите… – Он поспешно выхватил из кармана сюртука такие же как у меня перчатки, напялил на руки и с крайней осторожностью, будто стеклянную, принял скульптуру. – Огромная честь не только созерцать, но и держать в руках это… это… сокровище… чудо…
Броуди запинался, всем своим видом выражая смущение и благоговейный трепет перед древним экспонатом, но в глубине бегающих глаз раймондца таилось что-то тёмное, инородное, отталкивающее. Будь он человеком, с уверенностью сказал бы, что Броуди врёт, но… Я не специалист по внеземным формам жизни и уж тем более по физиогномике псевдогуманоидов. Оценочные критерии человеческого поведения для них не подходят. Например, внешний вид паукообразного сектелида приводит человека в дрожь, а его отрывистый трубный глас, грозное щёлканье зазубренных жвал во время разговора вызывают ощущение, что сектелид готовится на вас напасть, разорвать на части и тут же употребить в пищу. На самом деле миролюбивей и безобидней существа во Вселенной не найти. Возможно, так было и с глазами раймондца. И то, что мне показалось затаённой ложью, на самом деле крайняя степень смущения.
Ионокцы индифферентно приняли скульптуру из рук раймондца, установили в нишу переносного анализатора и принялись снимать показания. Ай тихим шелестящим голосом зачитывал параметры, а Эго тут же заносил данные в память электронного секретаря. Масса скульптуры, объём, спектральный анализ, химический состав, возраст… Вот уж у кого эмоции отсутствовали полностью, так это у ионокцев. Для них не имело значения, что именно они оценивают – произведения искусства или окаменевшие экскременты динозавров, – и то, и другое они анализировали с одинаковой невозмутимостью и скрупулёзностью.
– Возраст скульптуры пять тысяч триста лет плюс-минус тридцать четыре года, – резюмировал Ай и посмотрел на меня.
Я достал карманный хронограф и прошёлся сканером по скульптуре. На шкале моего анализатора возраст песчаникового изваяния составил ту же цифру, но плюс-минус сорок восемь лет. Неделю назад было плюс-минус сорок девять, но это в пределах погрешности. Что же касается сравнения с показаниями хронографа ионокцев, то наши данные не превышали допустимых отклонений для приборов различной степени точности. Для столь древней скульптуры разночтение в определении возраста могло достигать около сотни лет.
Данные были занесены в экспертный протокол, являвшийся неотъемлемой частью договора, и подписаны всеми присутствовавшими. Затем договор подписали Броуди и Тотт Мальконенн, раймондец торжественно передал мне скульптуру, я водрузил её на подставку, накрыл колпаком и поместил в переносной сейф. После чего Броуди закрыл сейф и опечатал его.
В общем, как я и говорил, рутинная процедура, которую не скрасил и обязательный ритуал завершения сделки – шампанское (предвидя это, мне пришлось, подлетая на яхте к вилле Мальконенна, снять запрет на предоставление алкогольных напитков). Хейриты, находясь службе, не пили, прагматичные ионокцы хоть и выпили, но всё с тем же беспристрастным видом, без удовольствия, отдавая должное чуждой для них традиции и не более того. Я сделал вид, что пригубливаю шампанское (по медицинским показаниям, пару дней следовало воздержаться от алкоголя, да и потом, во избежание отторжения жабр, употреблять умеренно), и сел в кресло, вертя бокал пальцами, как бы в ожидании светской беседы. Удивил Мальконенн – он поднёс бокал ко рту, понюхал, поморщился и пить не стал, возвратив бокал на столик с сумрачным видом. И я внезапно понял, что вовсе не мои строгие предупреждения подействовали на него – крелофонист находился в крайней степени через силу сдерживаемого возбуждения. Никак не мог дождаться, когда всё закончится. Слишком многое он поставил на карту, чтобы играть благодушную роль маститого коллекционера антиквариата.
Один Броуди излучал прекрасное расположение духа. Сказал спич во славу земного искусства, не забыв при этом отдать должное владельцу скульптуры Нэфр’ди-эт, любезно предоставившему её для выставки на Раймонде. Выпив, раймондец пустился было в восторженные разглагольствования на тему «ars longa, vita brevis» [1] и как любят на его родной планете искусство Земли, но, наткнувшись на более чем холодное восприятие, стушевался, скомкал речь, и стал прощаться. Ещё раз поблагодарил Мальконенна, пожал ему руку и, заметив, что я продолжаю сидеть в кресле, повернулся ко мне.
– Надеюсь, вы не надолго задержитесь? – спросил он.
– Минут на пять, не больше, – заверил я. – Кстати, если вас не затруднит, пусть киберы погрузят на катер мой багаж. Три баула стоят на причале.
– Какие могут быть разговоры! – воссиял улыбкой Броуди. – Непременно.
И опять меня кольнула его улыбка, почему-то показавшаяся неискренней. Чересчур оживлённо вёл себя Броуди, слишком восторженно, почти на уровне экзальтации, и от этого был похож на марионетку из кукольного водевиля, которую дёргают за невидимые ниточки, заставляя ни к месту улыбаться, рассыпаться в любезностях, шаркать ножкой… Не человек, а персонаж. Впрочем, человеком он-то и не был – до сих пор ведутся дискуссии, является ли внешнее человекоподобие раймондцев настоящей формой тела, или же это искусственная оболочка. И мне было трудно судить, действительно ли Броуди неискренний, себе на уме, субъект, или же негативное отношение к раймондцу обусловлено знанием его физиологической неопределённости.
Броуди вышел, за ним последовали хейриты с сейфом, последними покинули зал ионокцы. Возле двери ионокцы приостановились и степенно кивнули на прощание. Степенность получилась плохо, в ней было больше механического, чем живого, но мне на подчёркнутую отчуждённость ионокцев было наплевать. Не с ними мне предстояло каждый день общаться на протяжении месяца, а с Броуди.Лишь только экспертная группа показалась в окне на пути к причалу, Мальконенн преобразился. Схватил бокал, залпом выпил шампанское, трясущимися руками налил ещё и снова выпил.
– И не глядите на меня так! – взорвался он, метнув в мою сторону яростный взгляд. – Я дал слово, что в ваше отсутствие грамма спиртного в рот не возьму – так и будет! Но вы ещё находитесь здесь!
Я тяжело поднялся с кресла. Напрасно я остался. Напрасно вообще связался с этим неуравновешенным человеком – похоже, в своих обещаниях он придерживался единственного принципа: «Моё слово – что хочу, то с ним и делаю. Хочу – дам, хочу – заберу». Всё, что я хотел сказать ему перед отлётом, мгновенно выветрилось из головы. Ни к чему мои наставления – получится пустое сотрясение воздуха.
Алкоголь сделал с Мальконенном своё дело, и нервное напряжение отпустило крелофониста. Он обмяк, на лице выступила обильная испарина.
– Сдержу я слово, сдержу… – куда-то в сторону пробормотал Мальконенн, вытирая платком лицо. Скорее, пытался убедить самого себя не отступаться от принятого решения, чем доказать мне свою твёрдую волю. Какая, к чёрту, у него воля? Тем более твёрдая…
Я молчал.
Мальконенн спрятал платок, тяжело вздохнул и посмотрел на меня.
– Что ж, Бугой, – сказал он, – договор подписан, отступать поздно. Время пошло. С богом. – Он на мгновенье запнулся, а затем неожиданно добавил: – Хоть я в него и не верю.
– Я тоже неверующий, – ровным голосом, почти как ионокец, сказал я, развернулся и вышел. Хотелось, чтобы навсегда, но сюда ещё предстояло возвращаться.
Наконец-то я понял причину спонтанно возникшей антипатии к Тотту Мальконенну. Его знаменитый дед был таким же страстным коллекционером, как и я. И хотя я сам, ничтоже сумняшеся, предложил использовать один из ценнейших экспонатов антикварной коллекции Мирама Нуштради для провоза контрабанды, мне ужасно не хотелось, чтобы наследником моей коллекции экзопарусников оказался такой вот мальконенн. С души от подобной вероятности воротило.
3
Катер, на котором комиссия прибыла на виллу Мальконенна, представлял собой автономный отсек галактического лайнера-трансформера, рассчитанный на барражирование между кораблём-маткой и космостанциями без посадки на планетоиды, не оборудованные унифицированными причально-стыковочными створами. По своим габаритам отсек соответствовал апартаментам высшего класса, однако, войдя внутрь, я увидел на стене голограмму планировки и понял, что ошибся. Но не намного. Это был отсек экстракласса из десяти комнат, включая холл, информотеку, бильярдную и даже небольшой бассейн. Обычно я путешествовал бизнес-классом в однокомнатной каюте, поэтому в другое время с удовольствием воспринял бы столь высокие знаки внимания к своей персоне, но не сейчас. Восстановительный послеоперационный период ещё не закончился, и мне необходимы тишина и покой. А какой может быть покой, если предстояло «сожительствовать» в одном отсеке с членами комиссии?
Комиссию в полном составе я обнаружил у распахнутой двери хранилища ценных грузов.
– Остались небольшие формальности. – При моём появлении Теодор Броуди расплылся в неестественно приторной улыбке. – Мы должны в вашем присутствии закрыть комнату и опечатать.
– Да-да, – кивнул я. Совсем забыл о заключительной стандартной процедуре. И не мудрено с таким заказчиком, как Мальконенн. – Можете приступать.
Хейриты внесли в хранилище сейф, установили посередине, зафиксировали на месте гравитационными зажимами, и вышли. Броуди собственноручно затворил массивную дверь и с поклоном протянул мне один из двух электронных ключей.
– По счёту «два», – елейно улыбаясь, предупредил он.
Я сдержанно кивнул. От слащавых улыбок Броуди начинало тошнить. Будь он гуманоидом, определённо списал бы его ужимки на гомосексуальную ориентацию.
– Раз… два!
Мы синхронно вставили ключи, в толще бронированной двери громыхнуло, и она наглухо срослась с герметичным хранилищем биметаллическим швом молекулярно-диффузионного замка.
– Надеюсь, с формальностями покончено? – спросил я, опуская ключ в карман.
– Да, – заверил раймондец, излучая всеми порами тела радушие. – Предлагаю продолжить общение, так сказать, в неформальной…
– Прошу прощения, – сухо перебил я, – у меня сильно болит голова. Где я могу отдохнуть?
Броуди смешался.
– Отсек полностью ваш, мы здесь пробудем всего два-три часа до стыковки с кораблём-маткой…
– В таком случае располагайтесь, где вам будет удобно, – быстро сориентировавшись, предложил я на правах хозяина. – Надеюсь, в баре вы найдёте напитки, а меня прошу извинить.
Корректно кивнув, я развернулся и направился в сторону, где, согласно голограмме планировки отсека, находилась спальня. Однако спохватившись в конце коридора, обернулся.
Хейриты заняли пост по обе стороны двери хранилища и стояли непоколебимыми статуями, ионокцы степенно шествовали в холл, и только раймондец растерянно застыл посреди коридора, недоумённо провожая меня взглядом. Вид у него был как у побитой собаки.
Тоскливо засосало под ложечкой. Только расстался с одной излишне экзальтированной личностью, как на тебе – другая…
– Кстати, сколько времени займёт переход из Солнечной системы к Раймонде? – спросил я.
– Трое суток, – встрепенулся Броуди. – Двое на подготовку лайнера и сутки…
– Ещё раз приношу извинения, – снова перебил я, – но мой организм весьма негативно реагирует на пребывание в космосе. Поэтому прошу всё это время меня не беспокоить. – Увидев, как вытянулось лицо раймондца, я чуть помедлил и добавил: – Если почувствую себя лучше, я вам сообщу.
Ни с кем в эти дни я контактировать не собирался – последняя фраза была чисто дипломатической уловкой, так как настойчивое желание Броуди навязать своё общество почему-то настораживало. Это мне по разработанному сценарию надлежало искать контакты с устроителями выставки, на деле же получалось наоборот. Игру предстояло перекраивать по ходу действия, но как, если чем дальше, тем больше крепло подозрение, что это не МОЯ игра, а партия в покер, в которой выиграет тот, у кого в рукаве больше джокеров.
На удивление, спальная комната оказалась маленькой и выглядела почти аскетически: двуспальная кровать, одёжный шкаф с зеркальными дверцами, крохотная душевая кабинка. Вот тебе и экстракласс! Но в этот момент мне было наплевать на отсутствие роскоши – раймондцу я не соврал, у меня действительно раскалывалась голова. Приняв назначенные марсианским хирургом препараты, я ничком рухнул на постель и, когда минут через пять головная боль начала стихать, погрузился в сон.
Как любой нездоровый человек, спал я неспокойно, пребывая между сном и явью. То ли снилось, то ли мерещилось, будто меня медленно, как в водоворот, засасывает в пространственную воронку и тянет в бездну. Вокруг меня, всё убыстряясь, носились предметы спальни: кровать, зеркала, душевая кабинка… Они сталкивались, но, странное дело, не трещали, не разбивались, а прогибались от ударов, вытягивались, трансформируясь самым невероятным образом.
Когда очнулся от полусна-полудрёмы, оказалось, что привидевшаяся фантасмагория была не так уж и далека от представшей перед глазами реальности. Напрасно я столь пренебрежительно отозвался об отсеке экстракласса. Состыковавшись с кораблём-маткой, отсек претерпел существенные параметрические изменения, спальня расширилась, но о её точных размерах мешала судить видеостена, открывавшая вид на пологий песчаный берег с редкими пальмами и безграничным простором спокойного лазурного океана. Душевая кабинка и шкаф с зеркалами исчезли без следа, но я подозревал, что служебные помещения также расширились и теперь скрывались за одной из стен, возможно, за видеозавесой берега безымянного атолла – стоит только попытаться ступить на вылизанный волнами прибрежный песок, как тут же очутишься в оборудованной по высшему классу сауне. Кровать подо мной также неимоверно разрослась, не уступая в размерах татами, – здесь можно было бы проводить соревнования по борьбе, если бы не антигравитационная прослойка в псевдожидком матрасе. Бороться на нём можно только лёжа, но к спортивным соревнованиям такая борьба не имеет никакого отношения.
– Приятного пробуждения, – услышал я воркующий женский голосок, повернулся на бок и увидел у себя в ногах сидящую на краю кровати белокурую диву в полупрозрачном пеньюаре. – А сейчас позвольте ознакомить вас с новой планировкой отсека…
– Не надо, – поморщившись, буркнул я.
Моё недовольство ничуть не смутило диву. Она обворожительно улыбнулась.
– Может быть, вы предпочитаете юношей?
– Сгинь! – гаркнул я, и она тут же исчезла. – Юношей… – процедил сквозь зубы, пытаясь сесть на кровати. Ничего не получилось – антигравитационная прослойка скользила подо мной как вода. – Я нормальный самец, и ни юноши, ни виртуальные суррогаты меня не прельщают…
Поскольку из-за жаберного горба я не мог перекатиться через спину к краю кровати, пришлось «плыть» по-собачьи. И только добравшись к краю, я, наконец, смог сесть, спустив на пол ноги.
– Дай голограмму планировки – сам разберусь.
По возникшей передо мной голограмме стало понятно, что отсек изменился не просто существенно, а кардинально. Увеличился раза в два, появились ещё шесть комнат, бассейн из десяти– стал двадцатипятиметровым, с вышкой для прыжков… Спрашивается, зачем это всё нужно мне одному? Тем более, на трое неполных суток? Да и вообще какому-либо пассажиру, учитывая, что на подобных лайнерах, используемых исключительно для гиперперехода между звёздными системами, пассажиры проводят максимум пять дней? Воистину, неисповедимы желания и чаяния нуворишей…
Как я и предполагал, сауна находилась за видеозавесой, а вот шкаф для личных вещей, превратившись в комнату, оказался за противоположной стеной-диафрагмой, открывавшейся от прикосновения. Сюда, как показывала голограмма, переместился из тамбура мой багаж. Но больше всего меня удивило перемещение хранилища – из центра отсека оно сдвинулось к краю, и теперь двери вместе со стоящими на посту хейритами находились в общем коридоре лайнера. Что ж, такое решение меня устраивало. Не очень-то приятно, выходя из туалета, натыкаться на безмолвную стражу. Никто не любит посторонних в своём жилище, пусть даже таком огромном.
Я попросил дать панораму лайнера, и система жизнеобеспечения послушно начала демонстрацию палуб, обзорных площадок, ресторанов, баров, кегельбанов, коридоров, лифтов, попутно сообщая, что лайнер совершает переход через гиперствор космостанции «Пояс астероидов-VI» в гиперствор космостанции «Раймонда-II», на борту находятся триста восемнадцать пассажиров, в основном сопровождающих экспонаты частных коллекций древнего искусства землян для выставки на Раймонде. Гиперпереход назначен на завтрашний день, на восемнадцать сорок две по корабельному времени, о чём за полчаса до начала будет оповещено по всему кораблю. Затем оповещение будет повторяться каждые пять минут, а последнюю минуту начнётся посекундный отсчёт.
Когда пошла реклама, какие из развлечений компания «Галактика» может предоставить на своём лайнере, я заставил систему жизнеобеспечения замолчать и сам, без её сопровождения, виртуально прошёлся по палубам и коридорам. Честно скажу, не знаю, зачем это сделал, скорее всего, повинуясь интуитивному чувству, что здесь что-то не так. Но ничего подозрительного не обнаружил. Бары, как бары, рестораны, казино, обзорные площадки… Параллельно парадному коридору для пассажиров, спиралью закручивавшемуся внутри лайнера, шёл теневой, куда выходили двери хранилищ со стоящими на посту хейритами. Судя по количеству охраны, выставка на Раймонде предстояла грандиозная.
Стройный ряд хейритов в мундирах межгалактической службы безопасности впечатлял, и я отвлёкся от анализа ситуации. Пожалуй, хейриты были единственными известными существами, которые в совершенстве владели тайной управления собственным метаболизмом. Вот так, застыв, как в анабиозе, они могли без движения простоять до полугода, обходясь без воды и пищи, – энергия расходовалась только на зрительный нерв. Зато в минуты опасности энергия выплёскивалась через край, и в быстроте реакции с ними мог поспорить разве что мой недавний знакомец нейрохирург-целитерец. Но он добился этого искусственной перестройкой своего организма, а хейриты были такими от природы.
И всё-таки странно, что для охраны произведений искусства выбрали именно хейритов. Они незаменимы как телохранители, но обычно для сопровождения ценных грузов нанимают каотийцев – тщедушных, медлительных, но прекрасных миелосенсориков, хотя их услуги и обходятся на порядок дороже услуг хейритов. Охранники и бойцы они никакие, зато, единожды запечатлев в памяти образ охраняемого предмета, каотийцы могли с поразительной точностью указать, в каком уголке Вселенной и где конкретно в данный момент находится предмет в случае его похищения. Поэтому кража произведений искусства при охране их каотийцами теряет всякий смысл – выйти на след похитителя и вернуть пропажу законному владельцу при современных средствах сообщения не составляет особого труда. Я, например, для сопровождения своей коллекции экзопарусников всегда нанимал каотийцев…
Догадка холодными иглами обожгла мозг. Вот оно – то, что интуитивно предчувствовал, что неосознанно выискивал на корабле! Не торопясь с оценкой ситуации, я ещё раз дотошно осмотрел все помещения корабля, кроме личных апартаментов пассажиров, куда доступ был запрещён. Но теперь я внимательно рассматривал не сами помещения, а пассажиров и обслуживающий персонал. Публика собралась разношерстная – хотя более половины оказались землянами, но и иных рас было предостаточно. Однако среди всех гуманоидов я не обнаружил ни одного представителя тех рас, которым присущи способности хотя бы посредственных миелосенсориков. Ни единого! И вряд ли какой-нибудь миелосенсорик отсиживался в данный момент в своей каюте – они, как никто, любят бывать в обществе. Наплевав на конспирацию, я запросил список пассажиров, и когда система жизнеобеспечения его любезно предоставила, скрупулёзно проштудировал. Так и есть, ни одного гуманоида с маломальскими способностями миелосенсорика.
Версию о подготовке лайнера к нападению мифических пиратов я сразу отбросил. Слишком наивно, когда в реальном мире пираты существуют только в виртуальных проекциях дешёвых боевиков для убогого духом плебса. Другая версия была ещё менее правдоподобной – решиться заменить такое количество раритетов их молекулярными копиями мог только идиот. А поскольку речь шла о государственной ответственности раймондцев перед Галактическим Союзом, об этом не могло идти речи. Во-первых, молекулярное копирование произведений искусства запрещено законом, предусматривающим поистине драконовы санкции, поскольку раритеты должны быть святынями, а не предметами ширпотреба; во-вторых, выявить подделку не составит труда – несмотря на идентичность всех физико-химических параметров, хроносканирование копий точно показывает дату их изготовления. Поэтому подмена даже одного произведения искусства его копией представлялась абсурдной. Был, в общем, один способ создания точной хронологической копии оригинала – молекулярное моделирование, – когда воссоздание объекта ведётся путём подстановки молекул, идентичных по времени возникновения с оригиналом. Но этот способ умопомрачительно дорог – затраты на изготовление, допустим, двухкаратового бриллианта выше стоимости оригинала на два порядка, причём затраты растут в геометрической прогрессии в зависимости от массы копируемого предмета. За цену подобной копии скульптуры Нэфр’ди-эт, наверное, можно было купить всю коллекцию раритетов, предназначенных к демонстрации на Раймонде, если их выставить на аукционе.
Все три версии возникли в голове не случайно. Страсть к земному искусству у раймондцев была безграничной, причём настолько, что выходила за рамки разумного понимания. Например, все города на Раймонде были точными архитектурными копиями старинных земных городов, поэтому при вступлении в Галактический Союз раймондцам пришлось привести названия всех культурно-исторических копий в соответствие с требованиями галактического закона о раритетах, придав земным названиям приставку i-(imitatio). Но были на Раймонде и настоящие земные раритеты. В частности, раймондцы за баснословную сумму приобрели обветшалую от времени и непригодную к реставрации Эйфелеву башню и восстановили её в первозданном виде в своём i-Париже. Охота за земными произведениями искусства велась самым широким фронтом, но весьма безалаберно и бессистемно. За исторические реликвии Земли или хотя бы за их показ на Раймонде выкладывались умопомрачительные суммы, поэтому у меня сразу же и возникли мысли о возможном ограблении, либо подмене настоящих раритетов их копиями.
Версия должна быть достаточно безумной, чтобы иметь право на существование. Однако все три версии оказались чрезмерно безумны, а иные не приходили в голову. И тогда я занялся тем, чем обычно занимался при подготовке к любой экспедиции, – детальным изучением мира, в котором предстояло провести почти месяц. Сбору сведений о Раймонде и их анализу я посвятил полгода, но в свете сложившихся обстоятельств нелишне было просмотреть эти сведения ещё раз. Как известно, повторение – мать учения, и то, что ранее казалось несущественным для проведения акции, сейчас могло проявиться с неожиданной стороны. В конце концов для этого я и имплантировал под ногти безымянных пальцев биочипы. Точнее, не только для этого, но и в том числе.
Поскольку по корабельному времени приближался вечер, я заказал в ресторане лёгкий ужин с доставкой и направился на розыски информотеки среди многочисленных комнат своего отсека. Не мешало после сна принять душ, но в моём положении купание в чистой воде было противопоказано. За все свои многочисленные экспедиции, а их насчитывалось более сотни, это был второй случай, когда я не мог себе позволить снять одежду и помыться. Но на Пирене я хотя бы мог, не раздеваясь, обливаться водой, здесь же мне было заказано даже это. Купаться на Раймонде предстояло один раз, но в такой среде, в которой нормальный человек недолго бы плавал. Живым.
Автоматический указатель я включить не догадался, поэтому информотеку разыскивал минут десять, пока, наконец, не обнаружил её рядом с бассейном. Оригинальное соседство, надо сказать.
Когда я вошёл в комнату, то обнаружил, что ужин уже доставлен и столик сервирован. Я сел, налил в стакан сока, но пить сразу не стал. Оттопырил воротник рубашки, брызнул за шиворот аэрозолем двухпроцентного формалина и с усилием вдохнул имплантированными жабрами. Лёгкие неприятно обожгло, в голове помутилось, на сетчатке глаз заплясали биоэлектрические сполохи. Я положил на язык таблетку и только тогда залпом опорожнил стакан. Туман в голове и искры в глазах исчезли через минуту, всё тело покрылось крупными каплями пота. Такую процедуру мне предстояло проделывать целый месяц перед приёмом пищи. Невесёлое, прямо сказать, путешествие выдалось на этот раз.
Вытерши лицо платком, я положил на тарелку пару ложек салата и только тогда подключился к информотеке, решив совместить пищу для желудка с пищей для ума.
Сведения о Раймонде в информотеке лайнера были не то чтобы скудными, а весьма специфическими, ориентированными на туристов, поэтому некоторые пробелы приходилось восполнять из памяти биочипов. Однако я старался этим не злоупотреблять – всё-таки, информацию с биочипов я знал, а неординарное изложение туристического проспекта, рассчитанное на дилетантов, могло по-иному высветить проблему.
Информацию о звёздной системе, её координатах в Галактике я пропустил и начал с истории открытия Раймонды. А история открытия планеты, точнее, её исследования, выглядела почти анекдотически. Обнаружила планету около пятисот лет назад экспедиция вольных трапперов, отлавливавших представителей инопланетной фауны для зоопарков Солнечной системы (в те времена для подобных экспедиций не требовалось разрешение Лиги защиты животных, поскольку Земля не только не входила в Галактический Союз, но даже не подозревала о его существовании). Планета имела массу чуть меньше земной, похожие климатические условия, но состав атмосферы отличался не в лучшую сторону: азот, углекислота, формальдегид и лишь следы кислорода. Два процента формальдегида в атмосфере ставили под сомнение возможность существования на поверхности планеты углеродной жизни, но трапперы всё же высадились и, к своему громадному удивлению, обнаружили жизнь не в зачаточном состоянии (характерную для планет с подобной атмосферой), а в громадном многообразии как растительного, так и животного мира. Естественно, что исследованием столь аномального явления в экспедиции заниматься было некому, трапперы наугад отловили десятка два наиболее экзотических по внешнему виду животных и побыстрее отбыли восвояси. Спешка объяснялась тем, что при посадке был сильно повреждён посадочный модуль – его пришлось оставить, а для подъёма на орбиту трапперов и образцов инопланетной фауны воспользоваться резервным модулем с ограниченным топливным ресурсом.
Уже на пути в Солнечную систему обнаружилось, что представители фауны Раймонды (кстати, до сих пор неизвестно, в честь кого и почему планета получила это имя) по своей морфологии чрезвычайно лабильные существа – способность к мимикрии не ограничивалась изменением окраски кожных покровов, а простиралась на перестройку внутренних органов и скелета. К тому же они обладали идеальной способностью имитировать любые звуки, из-за чего гораздо позже планету попытались переименовать в Имитацию, но новое название не прижилось, скорее всего из-за возможности двойственного толкования. Но самым невероятным было то, что среди экземпляров фауны Раймонды трапперы прихватили с планеты… носторианца, чья экспедиция волею судеб высадилась на Раймонде одновременно с землянами. Случай чуть было не закончился трагически, поскольку на Земле о носторианцах тогда ничего не знали, и какими только приёмами бедный инопланетянин не пытался вступить в контакт, земляне воспринимали эти попытки за имитацию. Лишь когда носторианец, дойдя до крайней степени отчаяния, вынужден был стащить с себя скафандр в вольере с ядовитым для него воздухом Раймонды, только тогда земляне поняли, с кем имеют дело.
На Земле контакт с носторианцами был воспринят как эпохальное событие (они вошли в первую десятку инопланетян, с которыми земляне познакомились), а ещё через год состоялась первая встреча с представителями Галактического Союза. Не удивительно, что из-за последовавшей за этим биотехнологической революции земной цивилизации о Раймонде напрочь забыли. Вспомнили о планете с морфологически лабильными животными лишь лет через пятьдесят экзобиологи Тристаунского зоологического центра, когда в вольере скончался последний представитель фауны Раймонды – кудахтающий квохч. Ещё лет десять ушло на аргументацию обоснований необходимости изучения животного мира Раймонды для получения государственной субсидии, и только тогда, наконец, состоялась комплексная экспедиция самого широкого научного профиля. Которая привела к ошеломляющим результатам, но в отношении поставленных исследовательских целей закончилась полным фиаско.
За шестьдесят лет атмосфера планеты кардинально изменилась – теперь её состав практически соответствовал земному. Парадоксально, но это никак не сказалось на животном и растительном мире, по крайней мере, исходя из тех скудных данных, которые в своё время собрали трапперы. Было непонятно, как такое крупномасштабное преобразование планеты могло безболезненно совершиться в столь короткие сроки (по технологиям, известным в Галактическом Союзе, на преобразование планет уходили столетия, и этот процесс сопровождался глобальными тектоническими катаклизмами). Гипотеза, что Раймонду колонизовала до сих пор неизвестная высокоразвитая цивилизация, умерла в самом зародыше, лишь только началось изучение поверхности планеты с орбиты. Действительно, с орбиты были обнаружены многочисленные поселения, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что населяют её… люди, и архитектура поселений во многом не просто напоминает, а, зачастую, копирует земные города, причём почему-то весьма архаичного периода, чуть ли не времён начала освоения Пространства.
Гипотеза, что Раймонду колонизовали земляне, воспользовавшись неизвестным открытием в области преобразования планет, просуществовала дольше первой, но не намного. Предполагаемые колонисты встретили высадившуюся экспедицию весьма радушно, кое-где даже восторженно. Говорили они на устаревшем, но вполне понятном линге, так что взаимопонимание было достигнуто буквально с первых шагов по Раймонде. Колонистов отличал просто-таки болезненно-обострённый интерес к Земле, и это поначалу отнесли к вполне естественному психологическому стрессу, вызванному долгожданной встречей со своими единоплеменниками после непреднамеренно вынужденной изоляции колонии от прародины. Но когда начался обмен информацией, обнаружилась странная особенность. Излишне эмоционально принимая любую информацию о Земле, колонисты не менее эмоционально предоставляли обширную информацию о Раймонде: географические данные, климатические, материалы о фауне, флоре, устройстве городов, посёлков, социальном укладе… В то же время вопросы по истории возникновения земной колонии и преобразовании атмосферы умело замалчивались. А предложение медицинского обследования населения на предмет генетических изменений человеческого организма в условиях Раймонды встретило столь категорический отказ, что вызвало в экспедиции землян не просто недоумение, а подозрительную насторожённость, так как против была не только администрация колонии, но и любой наугад выбранный колонист наотрез отказывался пройти медицинские тесты. Когда же одному из экзобиологов удалось-таки совершенно случайно заполучить образцы биологических тканей одного из колонистов, погибшего в прозаической техногенной аварии, это вызвало бурную негативную реакцию. Настолько эмоциональную и неадекватную, что она вылилась в вооружённый конфликт, в результате которого половина из высадившихся исследователей погибла, образцы тканей раймондца изъяты, а оставшиеся в живых выдворены с Раймонды. Среди погибших числился и «удачливый» экзобиолог, успевший таки провести исследования биологических образцов и передавший результаты на орбиту. Результаты произвели эффект разорвавшейся бомбы – никакого отношения к людям мнимые колонисты не имели. Это был местный вид какого-то существа, благодаря своей морфологической лабильности принявший человекообразную форму. Как это произошло, почему и зачем, неизвестно до сих пор, поскольку ни одной достаточно обоснованной научной гипотезы не существует.
Правда, туристический проспект из информотеки лайнера, опуская все данные о трагической экспедиции (эту информацию я извлёк из совсем других источников и хранил на биочипах), приводил мифологизированную историю о том, как раймондский праразум, долгое время дремавший в бездействии на планете, неожиданно «получил в подарок» от землян потерпевший аварию модуль трапперов, имевший на борту обширную информотеку. Пробудившись от сна, праразум начал знакомиться с информацией и настолько увлёкся необычным для него образом жизни, что решил воссоздать себя «по образу и подобию» оригинальных мыслящих существ. Таким, мол, образом и появилась на Раймонде цивилизация, чьи представители считают себя почти прямыми потомками землян, буквально боготворя свою мнимую прародину.
Мифическое предание не выдерживало никакой критики: что это ещё за праразум, почему именно пра-, откуда он взялся, почему дремал и в честь чего пробудился? Но как верующие никогда не задаются подобными вопросами относительно бога, так и туристы принимают всё на веру, и чем больше нелепостей в преданиях, окружающих какой-нибудь уголок Вселенной, тем сильнее туда тянет праздных зевак. Тем более что обоснованной научной гипотезы возникновения столь парадоксальной цивилизации не имелось, а в сложившемся мифе всё-таки содержалось рациональное зерно – модуль трапперов с обширной информотекой.
Почти сутки я скрупулёзно изучал имеющиеся сведения о Раймонде и её аборигенах и обнаружил одно любопытное обстоятельство, которое ранее посчитал несущественным для своей акции. Для моего предприятия это по-прежнему оставалось несущественным, но сложившуюся на лайнере ситуацию частично проясняло. Раймондцы действительно не жаловали миелосенсориков любых рас – вероятно, в равной степени не желали, чтобы кто-либо копался как в их телах, так и мозгах. Тайну своего происхождения они берегли свято. Обнаружил я это совершенно случайно, затребовав списки туристических групп, побывавших на Раймонде за последний год. Надо сказать, что туризм на Раймонде процветал – вместе с торговлей экзотическими животными был чуть ли не основным источником дохода, – и список я получил внушительный. Но ни одного миелосенсорика среди туристов не обнаружил, как ни старался. Видимо, их отсеивали ещё на стадии формирования в консульствах списков туристических групп. Зато обнаружил, что двух туристов не допустили на планету из-за того, что медицинский тест на аллергию к формалину (в некоторых заповедных уголках Раймонды сохранились первозданные озёра, насыщенные формальдегидом) дал у них положительную реакцию. Имя туриста-кашторайца – Иоген Тпрница – мне ничего не говорило, хотя среди кашторайцев никогда не было миелосенсориков, зато бортайца Аугицо Портасу знал не понаслышке. Приходилось встречаться. Это был уникум среди бортайцев, обладавший редкими способностями миелосенсорика, хотя свои способности не афишировал, поскольку работал на службу галактической безопасности. Очевидно, не только землян беспокоила тайна происхождения раймондцев, если служба галактической безопасности попыталась заслать на планету своего агента. Так что отнюдь не из-за аллергии к формалину не пустили на Раймонду двух туристов. Это был только предлог.
Вместе с тем, покопавшись в собственной памяти с помощью биочипов, позволяющих восстановить эпизоды жизни с кинематографической точностью, я «вспомнил», что на некоторых выставках видел присутствовавших там одновременно миелосенсориков и раймондцев, а на Трапсидоре, в частности, даже «обратил внимание» на мирно беседующую за стойкой бара парочку: раймондца и каотийца. Выходит, не так уж патологически боятся раймондцы миелосенсориков, либо же во время своих инопланетных вояжей находят средство от вторжения в свой мозг чужого сознания. Типа экранирующей сетки на моей голове. Именно это и укрепило в мысли, что не всё так просто с ситуацией на лайнере. Одного из джокеров в рукаве неведомого игрока, затеявшего игру в выставку древнего земного искусства, я обнаружил, но сколько ещё карт и какого достоинства там находится, оставалось загадкой.
Отвлёк меня от анализа ситуации сигнал оповещения о получасовой готовности лайнера перед входом в гиперствор. И тогда я решил прекратить участие в навязанной мне чужой игре. Выяснил, что на данный момент от неё не исходит угрозы, и достаточно. Пора начинать свою игру, и не равён час объявиться некоему дотошному игроку, который попытается разгадать мой ребус.
4
Гиперпереход из Солнечной системы к Раймонде я проспал. Причём, на удивление, впервые после операции спал сладким сном младенца, без сновидений. Хорошую штуку – псевдожидкий матрас с антигравитационной прослойкой – придумал какой-то изобретатель. Горстями под него горох насыпай – самая привередливая принцесса не ощутит малейших неудобств.
Ничего нового для меня в гиперпереходе нет – посмотреть на него со стороны можно раз, другой, но когда счёт перевалил за сотню… Входя в гиперствор, лайнер словно растворяется в его мембране без остатка, а на выходе, расположенном иногда за многие тысячи световых лет от старта, наблюдается обратный процесс. Но это, повторюсь, если смотреть на лайнер со стороны; изнутри, то есть с обзорных площадок, пассажиры видят лишь мгновенную смену звёздного неба: вот только что над ними были одни созвездия, как вдруг – совершенно иные. Три процента землян испытывают при гиперпереходе лёгкое головокружение, остальные ничего не чувствуют. Я относился к большинству. Соврал я Броуди насчёт своей фобии к космическому пространству, но как-то ведь нужно было избавиться от его общества?
Система жизнеобеспечения сообщила, что мы уже четыре часа находимся на орбите космостанции «Раймонда-II», сейчас проводится стандартная проверка бортовых систем, и через три часа, после разделения отсеков, каждый пассажир пройдёт индивидуальный таможенный контроль. Приняв к сведению, что в моём распоряжении имеется три свободных часа, я решил отказаться от затворничества и пообедать в ресторане. Но Броуди об этом сообщать не стал. Зачем? Принимая условия его игры, я решил, перефразируя известную поговорку, поступать по-своему: если гора столь настойчиво стремится к Магомету, то он должен оставаться на месте.
Посетителей в ресторане оказалось немного, и это меня порадовало. Можно, не вступая ни с кем в разговоры, спокойно поесть и, осматривая публику, провести, так сказать, рекогносцировку. Кажется так в древние времена назвали визуальное изучение противника в районе предстоящих боевых действий. Конечно, район был не тот, да и окружающая публика не являлась противником – она представляла собой ту среду, в которой мне предстояло действовать.
Однако моим чаяниям не суждено было сбыться. Лишь только официант сервировал столик и подал закуски, как передо мной возник молодой, щеголевато одетый землянин.
– Вы позволите? – спросил он, держась за спинку стула.
У землянина было приятное, симпатичное лицо, открытый взгляд серых глаз – такие люди располагают к себе, хотя потом, порой, бывает трудно от них отвязаться. Конфликтовать, отказывая в месте за столиком, я не собирался, как, впрочем, и заводить близкое знакомство, – поэтому лишь неопределённо пожал плечами.
– Благодарю. – Молодой человек истолковал неопределённость в свою пользу и уселся. – Не люблю, знаете ли, обедать в одиночестве…
Он подозвал официанта и принялся, переспрашивая и уточняя, заказывать обед. По тому, как тщательно и щепетильно он относился к выбору исключительно изысканных блюд, я понял, что передо мной один из владельцев ценнейших исторических реликвий. Впрочем, рассуждая здраво, таких пассажиров здесь каждый второй. В крайнем случае – третий.
– Арист Тарандовски, – представился он, отпустив официанта, и выжидательно посмотрел на меня.
Делая вид, что старательно пережёвываю, я кивнул. Мол, принял к сведению. Но он отступать не собирался.
– А вы, если не ошибаюсь, известный коллекционер экзопарусников Алексан Бугой?
Против воли я улыбнулся и, отхлебнув из бокала минеральной воды, откинулся на спинку кресла. Резкая боль в жабрах мгновенно заставила выпрямиться, напомнив, что в моём положении так делать не следует.
– Вы сильно изменились, – корректно заметил Тарандовски. – Травма в последней экспедиции?
Я покачал головой.
– В старину говаривали, что горб у человека появляется от чрезмерных усилий. «Горбатиться» – слышали такой термин?
В глазах Тарандовски заплясали весёлые огоньки.
– Слышал «горбиться», – заметил он, – но это означает уподобляться горбатому…
Я делано рассмеялся. Многозначительную фразу сказал Тарандовски. Неужели он и есть тот самый «дотошный игрок», появления которого я опасаюсь? Рановато… Вроде бы повода для его появления я ещё не давал. К тому же он землянин, а не раймондец.
– Ну, а о том, что горб наживают, вы, надеюсь, слышали?
На это Тарандовски возразить было нечего, и он развёл руками. Слышать то он слышал, но, несмотря на пораженческий жест, не верил. И тогда я перешёл в атаку, резко изменив тему.
– Одно непонятно, господин Тарандовски, откуда вы меня знаете? Антиквариат и эстет-энтомология настолько далёкие друг от друга области, что не имеют точек соприкосновения. Никаких.
– Профессия у меня такая, – спокойно объяснил Тарандовски. – Сопровождать ценные коллекции на выставки. Любые выставки и любые коллекции в качестве доверенного лица владельца. Вполне возможно, и вам когда-нибудь пригожусь.
Он протянул визитную карточку, я взял её, прочитал и сунул в нагрудный карман.
– Может быть, и пригодитесь, – уклончиво ответил. В визитке указывалось, что искусствовед-промоутер Арист Тарандовски является почётным членом ряда Академий наук. Особо престижных академий в перечне не было. – Подрабатываете, или это основное поле вашей деятельности?
– Скорее второе, но не совсем. Это мой образ жизни – удовлетворять собственное любопытство за чужой счёт. Люблю, знаете ли, путешествовать. В крови, наверное, – по материнской линии в моём роду встречались цыгане.
Подошёл официант и принялся выставлять перед Тарандовски многочисленные тарелочки и салатницы. Не скрою, я наблюдал за этим с некоторым сарказмом. Чрезмерное количество блюд вызывало чувство, что передо мной этакий парвеню, дорвавшийся до обеденного стола, но не знающий, в какой руке держат нож, а в какой – вилку.
– А ещё люблю хорошо и красиво поесть, – сказал Тарандовски, перехватив мой взгляд. Он пригубил предложенное официантом вино и кивнул в знак одобрения. – Это у меня, по всей видимости, от славян – предков по отцовской линии. Говорят, они были хлебосольными и гостеприимными… Не желаете ли лёгкого вина?
– Нет, благодарю, – отказался я, наливая в бокал минеральную воду.
Столовыми щипцами Тарандовски подхватил из судочка мастурианскую креветку, щипковым пинцетом ловко сорвал с неё панцирь и принялся по всем правилам этикета с достоинством есть, отщипывая по кусочку и макая в соус. Получалось у него мастерски.
– Славянин, говорите? Среди моих предков тоже были славяне. Древний аристократический род князей Бугой. Не слыхали?
– Князья Бугой? – Тарандовски наморщил лоб, задумался. – Ах, да, вероятно, редукция гласной «а»… – задумчиво протянул он. – Бугай… Крепкий, здоровый, свирепый… гм… – Он глянул на меня и смешался. – Воин, воитель…
– Вот-вот, – подчёркнуто твёрдо поставил я точку на этой теме, строго глядя в глаза Тарандовски. Тест на искусствоведа и аристократа он прошёл с блеском, выкрутившись из довольно пикантной ситуации, но далее изгаляться над моей фамилией я ему разрешать не собирался.
– А позвольте узнать, каким это образом вы здесь оказались? – поинтересовался Тарандовски, тактично меняя направление разговора. – Сами намекали, что между антиквариатом и эстет-энтомологией непреодолимая пропасть.
– Не только намекаю, но и утверждаю, – поправил я. – Демонстрировать коллекцию экзопарусников на выставке древнего искусства Земли, всё равно что есть десерт вместе с первым блюдом. Столь же неудобоваримо. Здесь я выполняю ту же роль, что и вы. Представляю экспонат своего друга – скульптуру египетской царицы Нэфр’ди-эт.
Лицо Тарандовски вытянулось, он поперхнулся.
– Нэфр’ди-эт? – выдохнул он. – Из коллекции Мирама Нуштради? Она же более пятидесяти лет нигде не выставлялась! Как вам удалось уговорить наследников? Неужели…
И в этот момент я выключился из разговора, потому что увидел, как от центра зала к выходу из ресторана идёт сивиллянка. Как Тарандовски не отвлекал меня разговором от наблюдения за залом, я мог поклясться, что до этого момента сивиллянки в ресторане не было – она словно возникла ниоткуда и теперь плавно, по-царски, плыла между столиками. Ни шла, ни шествовала, а именно плыла – ни одна складка на её хитоне не шевелилась, – и создавалось впечатление, что кто-то невидимый проносит по залу зачарованную статуэтку жёлто-горячих тонов. Створки двери перед ней распахнулись, она ступила за порог, замедлила движение и повернулась. Причём повернулась так, будто сделала это не сама, а её развернули на невидимом глазу постаменте.
И тогда я увидел её лицо. Ни в какое сравнение не шли известные стереоснимки сивиллянок, не способные передать одухотворённость живой натуры, когда на зрительный образ накладывается психокинетическое воздействие. Её лицо было прекрасно, и светилось той неземной красотой, при виде которой возникало лишь одно желание – преклонить колени. Она посмотрела мне в глаза, улыбнулась всепонимающей, всепрощающей улыбкой, и мне на мгновение показалось, что хитон сивиллянки чуть встрепенулся, подобно только-только расправляющимся крыльям…
Но в это же мгновение автоматические двери ресторана щёлкнули, отрезая сивиллянку от моего взгляда, и я вернулся в реальность.
– Что вы там увидели? – услышал я голос Тарандовски.
– Где? – машинально отреагировал я, переводя взгляд на искусствоведа-промоутера.
– На стене.
Я снова посмотрел на дверь, за которой скрылась сивиллянка, но двери не было. Была глухая стена. Вход в ресторан находился в другой стороне.
– Ничего, – спокойно ответил я и улыбнулся. Почему-то подумалось, что улыбнулся улыбкой сивиллянки, но на лице обычного смертного она вряд ли возможна. Тем не менее, душа у меня пела. Деньги для сафари на Сивилле – это лишь полдела. Можно затратить огромное состояние, добираясь в отдалённый уголок Вселенной, где из-за физико-пространственных характеристик гиперстворы не функционируют, годы просидеть на космостанции возле Сивиллы, но на планету так и не попасть. Опуститься на поверхность невозможно ни при каких обстоятельствах, даже в качестве терпящего бедствие в открытом космосе. Чтобы побывать на Сивилле, требуется личное приглашение. И это приглашение я только что получил.
Аппетит у меня пропал, причём настолько, что вид степенно вкушающего пищу гурмана вызывал неприятие. Не совмещаются в сознании возвышенное и земное.
– Приношу свои извинения, – сказал я, вставая, – вынужден вас покинуть. Совсем забыл о важной встрече.
Тарандовски недоумённо посмотрел на меня, окинул взглядом стол.
– Вы же практически ничего не ели!
– Дела, господин Тарандовски, прежде всего дела! – отшутился я и направился к выходу. Конечно, настоящему – сквозь стены ходить не умел, хотя в данном случае очень хотелось. И если бы сейчас в стене вновь открылась дверь, и сивиллянка поманила меня к себе, ушёл бы не задумываясь, плюнув на свои обязательства перед Мальконенном.
На выходе из ресторана я носом к носу столкнулся с Броуди. Он торопился в зал, но встретившись со мной, несказанно расстроился. Видимо, система жизнеобеспечения сообщила ему о моём «выходе в свет», и он спешил навязать своё общество.
– Как, вы уже отобедали?
– Да, – благодушно кивнул я. Встреча с сивиллянкой настроила меня на минорный лад.
– А обещали сообщить, если почувствуете себя лучше. Хотел вам компанию составить… – Броуди окончательно упал духом. – Может быть, посидим в баре? – предложил он без тени надежды.
– Что вы, право, торопитесь, – пожурил я раймондца, не став играть «в кошки-мышки». – У нас впереди целый месяц, успеем ещё пообщаться. Может, и надоесть друг другу успеем. Простите, но пора упаковывать вещи и готовиться к таможенному досмотру.
Кивнув Броуди на прощанье, я одарил его всё той же улыбкой, которую считал похожей на сивиллянскую. К своему багажу я не прикасался, так что упаковывать мне было нечего. Тем более готовиться к таможенному досмотру.
5
О небывалой красоты паруснике Сивиллы я узнал совершенно случайно. Произошло это в космопорту «Весты», где я коротал время в баре, ожидая рейса в систему Друянова. Сидел за стойкой, неторопливо потягивал крем-соду со льдом и от нечего делать смотрел по телеканалу галактические новости. Бар был пуст, лишь через стул от меня за стойкой сидел пожилой сгорбленный меступянин. Вид у него был крайне потерянный, будто гуманоида постигло горе. Непоправимая потеря кого-то близкого случилась давно, но рана так и не зарубцевалась. На стойке перед меступянином стоял бокал с пронзительно-жёлтым напитком, но он не пил. Смотрел на бокал отрешённым взглядом и пребывал, вероятно, где-то далеко-далеко отсюда во времени и пространстве. Тело меступянина застыло в неудобной позе, двигалась только правая рука; причём двигалась как бы сама по себе, независимо от тела, набрасывая светокарандашом на клочке бумаги какой-то рисунок. Происходило это машинально и бесконтрольно – меступянин пребывал в прострации, загипнотизированный необычно ярким цветом напитка в нетронутом бокале.
Вступать в разговор с меступянином, отвлекая его от скорбных мыслей, не хотелось, но я всё же непроизвольно посмотрел через его плечо на рисунок. И обомлел. Это была бабочка дивной красоты. Точнее, не вся бабочка, рисунок был незакончен, а только её широко распахнутые крылья. Они искрились, переливаясь всеми цветами радуги, и от этого казалось, что крылья трепещут, а вокруг них мерцает солнечный ореол. Я впервые встретился с такой техникой плоскостной живописи – когда-то Леонардо да Винчи первым из художников игрой светотени сумел передать на плоскости объём, но мне не приходилось ни слышать, ни видеть, чтобы кто-нибудь мог передать на плоскости движение. Несомненно, меступянин был выдающимся художником, если не гениальным.
– Что это?! – невольно вырвалось у меня.
Меступянин медленно повернул голову. В узких щелях его глаз застыла беспредельная тоска.
– Это? Это Судьба, – тихо изрёк он и сделал попытку скомкать рисунок.
Я поймал его за руку.
– Где вы видели этого мотылька? Или это плод вашей фантазии?
Молча освободив руку, меступянин скомкал-таки рисунок и сунул в карман. Затем встал со стула.
– Погодите! – буквально взмолился я. – Скажите, где вы его видели?!
– На Сивилле… – тихо пробормотал он и направился к выходу.
– Постойте! – попытался я его остановить, но меступянин ушёл. А я почему-то не смог встать со стула и догнать.
Второй раз какое-то подобие сведений о мотыльке Сивиллы я получил во время раута на конгрессе эстет-энтомологов на Палангамо. Совершив взаимовыгодную сделку с давним приятелем Раудо Гриндо (он предложил мне два экземпляра парусников четвёртого класса с Парадигмы в обмен на одного третьего класса с Риодамапумы, который у меня был в трёх экземплярах), мы прохаживались по залу, раскланиваясь со знакомыми и болтая о пустяках. Как-то само собой кто-то из нас упомянул о Сивилле (причём вне контекста разговора об экзопарусниках, а скорее, в связи с закрытостью планеты для изучения), и тогда Раудо Гриндо сказал, что среди присутствующих на рауте есть один граниец, который побывал на Сивилле. И даже показал мне его. Граниец Эстампо Пауде стоял в одиночестве, прислонившись к колонне, и, казалось, ничто вокруг его не интересует, кроме чёток, которые он задумчиво перебирал пальцами левой руки. Я сделал вид, что он меня тоже не интересует, перевёл разговор на другую тему, но затем, улучив момент, освободился от Раудо Гриндо и подошёл к гранийцу.
– Господин Пауде? – спросил я. – Разрешите представиться, Алексан Бугой.
Пауде никак не отреагировал на моё имя, известное каждому эстет-энтомологу. Но он и не был эстет-энтомологом, и каким образом оказался на рауте никто не знал. Продолжая спокойно щёлкать костяшками чёток, граниец молча поднял на меня глаза, полные грусти и печали, и я поразился, насколько выражение его круглых фасеточных глаз совпадает с выражением раскосых глаз меступянина из бара космопорта «Весты».
– Говорят, вы побывали на Сивилле? – снова спросил я.
Граниец продолжал молчать. Но он слушал меня, и это обнадёживало. И я пошёл напролом.
– Вам не приходилось встречать на Сивилле мотылька… – Как мог, я попытался описать рисунок меступянина.
Где-то посредине неуклюжих объяснений граниец отстранился от колонны и жестом остановил меня.
– Это Судьба, – тихо пророкотал он и медленно двинулся прочь.
Я не стал окликать его – слишком много народу было в зале, – но и последовать за ним не смог. Ноги будто приросли к полу, как в баре космопорта «Весты».
Более никаких сведений о мотыльке Сивиллы мне нигде не удалось обнаружить. Ни в одном источнике. Впрочем, и о самой планете ходили настолько разноречивые слухи, что верилось в них с трудом. По одному из слухов, сивиллянки настолько скрупулёзно и точно, чуть ли не по минутам, предсказывают будущее, что жить становится неинтересно. В мистику я не верил, хотя поведение двух субъектов, побывавших на Сивилле, заставляло настораживаться, но вот в том, что необычайно прекрасный экзопарусник экстракласса обитает на этой планете, был уверен на сто процентов. Охотничье чутьё меня никогда не подводило.
И я решил: чего бы это ни стоило, обязательно побываю на Сивилле, добуду уникального экзопарусника и назову его Moirai regia . Царица судеб. И никак иначе.
Размечтавшись, я едва не забыл, зачем прибыл на Раймонду. Вернул меня с горних эмпиреев на грешную палубу лайнера сигнал расстыковки отсека и корабля-матки. Вновь поменяв габариты, отсек трансформировался в катер и по вытянутой параболе направился в зону таможенного контроля космостанции «Раймонда-II».
Рановато я ударился в мечты – старею, что ли? Приглашение, полученное от сивиллянки, дорогого стоило, но без внушительной суммы, необходимой для перелёта к Сивилле, мечты о сафари окажутся пустыми фантазиями. Нужную сумму я мог получить, выполнив заказ Мальконенна, но для этого необходимо работать. Работать и работать, забыв на время о личной цели.
В таможенном зале, куда кибертележка доставила багаж, меня уже поджидал Броуди со своей неизменной елейной улыбкой. Похоже, раймондец решил опекать меня очень плотно. На уровне прессинга. Он помахал мне издали рукой, подошёл к таможеннику и принялся что-то обстоятельно втолковывать. Определённо насчёт меня, поскольку таможенник, внешне очень похожий на Броуди – маленький, пухленький, розовощёкий, с носом пуговкой, – то и дело постреливал в мою сторону маслеными глазками, приветливо улыбаясь. В общем-то, все раймондцы были пухленькими улыбчивыми коротышками, и если правда, что их внешняя оболочка всего лишь имитация, то для оформления своей конституции они выбрали не очень-то приглядный образец землянина. Даже удивительно, что при подобном выборе раймондцы – одни из самых ревностных почитателей земного искусства.
Переговоры Броуди с таможенником закончились тем, что мой личный багаж пропустили без досмотра. Но сейф со скульптурой царицы Нэфр’ди-эт всё же просветили. И по тому, как таможенник цокал языком, охал и ахал, глядя на экран, я понял, что ему страстно хотелось одному из первых увидеть земной раритет. Пусть даже в таком, полупрозрачном, эфемерном виде от режущего глаз спектра химического состава песчаника.
Когда процедура закончилась, таможенник, всё ещё пребывая в восторженном расположении духа от увиденного, радушно пожелал мне приятного времяпрепровождения на Раймонде, я поблагодарил, и Броуди увлёк меня к кабине межпространственного лифта.
Перемещение на планету межпространственным лифтом обходится раз в десять дороже спуска на челночном планере, но лицезреть Раймонду с высоты птичьего полёта не довелось ещё ни одному туристу. И я знал почему. В результате кропотливого сбора информации мне удалось правдами и неправдами добыть не только копию плёнки космической съёмки раймондской поверхности, принадлежавшую первой и единственной земной экспедиции, но и некоторые современные материалы по этому вопросу, имевшиеся у службы галактической безопасности, благо они не являлись секретными (через всё того же бортайца Аугицо Портасу, не допущенного на Раймонду якобы из-за аллергии к формалину). Кроме качества записи, никакой другой существенной разницы между старинной и современной видеосъёмками не наблюдалось. Как тогда, так и сейчас, вся материковая часть планеты была покрыта густым грязно-зелёным покровом буйной растительности, на фоне которой редкими проплешинами смотрелись немногочисленные озёра на северо-востоке и кое-где на юге, да гряда голых скал на западном побережье океана. Даже узкие речушки (широкие и полноводные на Раймонде отсутствовали), полностью скрывались под сводами леса. Островки городов и посёлков, разбросанные по лесу, выглядели нонсенсом, поскольку ни дорог между ними, ни обработанных полей вокруг не было. «Потёмкинские деревни», – очень метко охарактеризовал эти поселения Портасу, передавая мне материалы видеосъёмки. По заключению комиссии, подобное устройство поселений никак не угрожало галактической безопасности, материалы были признаны несекретными, тем не менее не подлежали широкой огласке на том основании, что выявленные особенности социального уклада являются сугубо внутренним делом раймондской цивилизации. По этому поводу председатель комиссии, каотиец Местрахази, в шутливой форме выразил личное мнение: мол, земляне должны радоваться и гордиться, что во Вселенной нашлась такая цивилизация, которая им во всём подражает.
Но ни мне, ни всем остальным Homo , многие из которых уже давно не были землянами, радоваться и гордиться почему-то не хотелось. Слишком насторожённо мы относимся даже к себе подобным, чтобы поверить в чужеродное бескорыстное прекраснодушие. С человеческой точки зрения в деятельности раймондской цивилизации таился какой-то подвох, который рано или поздно проявится. И лучше рано, чтобы не было поздно.
Кабина межпространственного лифта доставила нас на брусчатую площадь перед огромным дворцом весьма строгой архитектуры – длинное здание с плоским фасадом и двускатной крышей больше напоминало дом какого-то зажиточного бюргера середины XIX века, и только впечатляющие размеры убеждали, что бюргеру оно не по карману. Мне почему-то казалось, что дворец i-Тюльери (где, согласно проспекту, должна проходить выставка древнего искусства Земли на Раймонде) выглядит несколько иначе. Более вычурно, что ли, типа виллы Мальконенна. Впрочем, не знаток архитектурных памятников – эта область искусства меня никогда не прельщала.
– i-Эрмитаж! – с пафосом воскликнул Броуди, указывая рукой на дворец. – Точная копия земного, других не делаем. – Он поймал мой недоумённый взгляд и смешался. – Мы не ожидали, что количество экспонатов превысит возможности выставочных площадей дворца i-Тюльери. Сами понимаете, что для каждого экспоната необходима оптимальная площадь, иначе, из-за тесноты, выставка будет выглядеть как лавка старьевщика. Пришлось срочно возводить новый дворец.
Я кивнул, вроде бы как с пониманием, но в голове раздался предупреждающий щелчок. Второй. Первый был, когда я увидел стройные ряды охранников экспонатов, сплошь состоявшие из хейритов.
На площади перед i-Эрмитажем то и дело появлялись кабины межпространственного лифта, высаживали пассажиров и исчезали.
– Сегодня день размещения экспонатов, – сказал Броуди. – Завтра – открытие выставки. Идёмте, для экспозиции вашей скульптуры подготовлен отдельный зал. Мы считаем скульптуру царицы Нэфр’ди-эт жемчужиной выставки.
Это я уже понял. Не случайно меня самолично опекал распорядитель выставки. Излишне навязчиво опекал.
Поднявшись по ступенькам на высокое крыльцо, я оглянулся. Брусчатая площадь заканчивалась метрах в ста от дворца идеально ровной, будто обрезанной по линеечке, сплошной стеной раймондского леса. Настолько плотной, что отсюда невозможно было отличить стволы от листьев. Слева и справа от дворца живая стена растительности плавно огибала углы здания, и создавалось впечатление, что лес окружает i-Эрмитаж со всех сторон.
– Нет вокруг ничего – здесь только i-Эрмитаж! – с гордостью возвестил Броуди. – Слишком много городов претендовали на организацию выставки, и мы решили никого не обижать.
Я промолчал, и в голове раздался третий щелчок. Чтобы не обижать, или… Что «или» я не знал. Хорошо бы ошибиться, но внутреннее чувство подсказывало: что-то обязательно случится. Непременно. Не столь радикальное, как похищение скульптуры, но весьма неприятное. Своему предчувствию я доверял, оно меня никогда не подводило.
Зал, подготовленный для экспозиции скульптуры Нэфр’ди-эт, оказался просторным и светлым. Я бы даже сказал чересчур просторным для миниатюрной скульптуры. В этом опять было что-то не то – выставочная площадь для каждого экспоната должна быть оптимальной, поскольку чрезмерно большая площадь также вредна для экспозиции, как и маленькая. Но я не стал заострять внимание и выражать недовольство. Не для того сюда прибыл.
Хейриты пронесли сейф к центру зала, поставили на пол, и началась стандартная процедура установки экспоната. Броуди открыл сейф, достал скульптуру и передал её ионокцам, которые опять сняли с неё все параметры. Все подписали протокол, затем Броуди с торжественным видом передал скульптуру мне, и я водрузил её на полутораметровый постамент. Лишь только я шагнул в сторону, как вокруг постамента включилось защитное поле, и хейриты тут же заняли пост по обе стороны от экспоната. Так они и простоят весь месяц, ни на шаг не сдвинувшись с места.
– Всё, – с тяжёлым вздохом сказал Броуди и виновато посмотрел на меня. – Рад был бы выпить с вами шампанского, посидеть в баре, поговорить об искусстве… Но дела распорядителя выставки…
Я чуть не расхохотался, глядя на его расстроенное лицо, но сдержался. Искренне говорил раймондец, не кривил душой.
– Не переживайте, у нас ещё будет время, – заверил его. – Кстати, где я буду жить? Надеюсь, неподалёку от выставки?
– В северном крыле. Всё северное крыло i-Эрмитажа переоборудовано на время выставки под гостиничные номера. Ваш номер двести первый, багаж туда уже доставлен. Конечно, номер скромнее, чем на лайнере, – сами понимаете, мы не хотим менять историческую планировку дворца, – но, надеюсь, в обиде не будете. Кстати, открытие выставки завтра в полдень.
На этом мы и расстались. Броуди с ионокцами ушли размещать другие экспонаты, а я направился разыскивать свой номер. Вопреки зародившимся мрачным ожиданиям, что единственным из удобств будет переносной стульчак, как у древних королей, номер оказался вполне приемлемым. Из трёх комнат, с душевой и современным санузлом. Даже матрас был с антигравитационной прослойкой, что мне особенно понравилось. И хотя на нём я тоже не мог спать на спине, однако испытывал гораздо меньше неудобств с имплантированными жабрами.
Ночью мне приснился экзопарусник Сивиллы. Его крылья закрывали полнеба, а ореол вокруг них создавало солнце за спиной экзопарусника. Место так и не нарисованного гениальным художником-меступянином туловища занимала сивиллянка, и от слепящего ореола было непонятно, то ли крылья являются продолжением её рук, то ли представляют собой распахнутый хитон. Но как я ни всматривался в её лицо, никак не мог вспомнить его черт – вместо этого передо мной всё чётче проступали черты лица царицы Нэфр’ди-эт.
Проснувшись, я долго лежал в постели, удивляясь тому, как во сне парадоксальным образом трансформируются реальные образы, и какие неожиданные параллели иногда возникают на основании этого. Только во сне я увидел, насколько древняя египетская царица похожа на сивиллянку. И ещё одну параллель подсказал мне сон: нетронутый напиток в бокале художника-меступянина в баре космопорта «Весты», ореол вокруг крыльев нарисованной Moirai regia , чётки в руках гранийца на рауте во время конгресса эстет-энтомологов на Палангамо и хитон сивиллянки были одного цвета. Пронзительно-жёлтого. И, как мне почему-то казалось, это был цвет солнца Сивиллы.
Однако, поднявшись с кровати и совершив утренний моцион как для человеческого тела, так и для имплантированных жабр, я настрого запретил себе расслабляться и думать о сафари на Сивилле. Нельзя допускать, чтобы страстное желание побывать на Сивилле превратилось в идею-фикс, затмевающую всё на свете. Придёт время, когда смогу позволить себе мечтать, но сейчас необходимо работать. Работать для того, чтобы приблизить мечту.
6
Наивность восприятия искусства у раймондцев сродни восприятию людьми сверхъестественных явлений. Зная это, я надеялся, что психологически подготовлен к эмоциональному всплеску, который вызовет на Раймонде выставка древнего искусства Земли, но всё же столь грандиозного ажиотажа не ожидал. Брусчатая площадь перед i-Эрмитажем была запружена толпой до отказа и не вмещала всех желающих, о чём красноречиво свидетельствовали качающиеся кроны деревьев окружающего леса. Казалось, всё население планеты собралось на открытие выставки. Это было настолько абсурдно, что не укладывалось в сознании. С точки зрения науки индивидуумы одного социума не могут иметь одинаковый психотип – такое сообщество обречено на вымирание. Но вот поди же ты сколько во Вселенной вариантов… Искусство не воздух, без которого нельзя прожить, к тому же потребность в воздухе относится к физиологическим, а не эстетическим потребностям. С другой стороны, если психотип раймондцев «вылеплен по образу и подобию человека», то это может иметь далеко идущие последствия. Как верующий человек все необъяснимые явления приписывает божьему провидению, безоглядно веря в это и не подвергая анализу, поскольку «вылеплен по образу и подобию божьему», так, вполне вероятно, и раймондцы относятся к творениям человека. Тогда не удивительно, что восприятие земного искусства находится у них на почти физиологическом уровне.
Прекрасно понимая шаткость своих умозаключений, я не стал углубляться в анализ ситуации. Да и к чему? Я не социолог, цель у меня гораздо прозаичнее. Поэтому ограничился лишь созерцанием происходящего, но надолго меня не хватило.
Ровно в полдень президент планеты произнёс патетическую речь, то и дело прерываемую восторженными криками, затем разрезал ленточку перед дверьми i-Эрмитажа, и во дворец хлынула толпа жаждущих приобщиться к возвышенному. Больше всего поразило, что в плотно сбитой массе никого не задавило – при аналогичных условиях в людской толпе без эксцессов бы не обошлось. Толпа подхватила меня и медленно понесла по залам. Зрелище, надо сказать, было впечатляющим и… и, в общем-то, страшным. Единообразие восторженных лиц, одновременный выдох «ахов» и «охов» в каждом зале вызывали жуткое ощущение, что это не разношерстная толпа, а единый организм, с единым лицом, изображение которого раздробилось по поверхности существа как в фасеточном глазу насекомого.
Уже через полчаса своего вынужденного «дрейфа» с толпой меня начало мутить, и я попытался пробраться в северное крыло. К удивлению, у меня получилось. Как ни плотно был зажат между раймондцами, при первых же попытках протиснуться я ощутил, что встречаю сопротивление не человеческих мускулов, а некого подобия густого киселя. Тела раймондцев при моём продвижении продавливались как вязкая масса, тут же смыкавшаяся за моей спиной. Я не из брезгливых, но честно признаюсь, что последние метры перед дверью в коридор к северному крылу проделал с закрытыми глазами, опасаясь, что стошнит.
Не люблю крепкое спиртное, но иногда оно крайне необходимо. Выпив в баре две рюмки водки, я почувствовал, как тошнота отступила. Не ожидал от себя подобной реакции – в экспедициях приходилось потреблять столь экзотические местные блюда, что нормальный человек лишь от их вида надолго бы потерял аппетит.
Просидел я в баре до позднего вечера, по трансляции наблюдая за действом, разворачивавшимся в залах i-Эрмитажа. Бойкие экскурсоводы со знанием дела расписывали многовековую историю земных реликвий, толпа единоутробно ахала, колыхалась в такт, и при одной только мысли, что я могу снова оказаться среди раймондцев, в податливой протоплазме их тел, начинало мутить. Почти в аналогичной ситуации я оказался на Пирене, когда с потолка на голову рухнула масса копошащихся насекомых. Но, честное слово, тогда себя чувствовал значительно лучше. Водку я больше не пил, а, как заведённый, потреблял ледяной тоник – горьковатый напиток хорошо прочищал сознание. Никогда не считал себя расистом, но внезапно зародившееся омерзение к толпе раймондцев перебороть не мог. Прямо-таки идиосинкразия какая-то.
Бар пустовал. Изредка в него заглядывал кто-нибудь из землян, на скорую руку проглатывал пару бутербродов и вновь убегал в залы дворца. В отличие от меня остальным землянам ажиотаж вокруг их экспонатов чрезвычайно нравился. Я же продолжал сидеть и ждать. Ждать, поскольку знал, кто и зачем будет меня разыскивать. И дождался.
Поздним вечером, когда в тёмном небе над i-Эрмитажем с грохотом и треском расцвёл праздничный фейерверк, а на площади монотонным воем восхищения завыла толпа, в баре появился Броуди.
– О! Вы здесь! – воскликнул он, подходя. – На полчасика вырвался – пока будет продолжаться салют, могу передохнуть от своих обязанностей. Кстати, а вы почему не на площади? Это ведь не простой фейерверк, а китайский, по древнейшим рецептам!
– Не люблю шумных мероприятий, – кисло поморщился я. – Утомляют.
– Да-а? – с сомнением в голосе протянул раймондец. – Тяжёлый случай… Два шампанского! – заказал он бармену.
– Спасибо, но шампанское не буду, – отказался я.
– Почему?
– Водку недавно пил, – соврал я. На самом деле пил водку как минимум часов пять назад.
– Тогда – две водки!
– И водку больше не буду. Тоник.
Броуди внимательно посмотрел на меня.
– Трудно с вами, – вздохнул он. – Ничем не угодишь… Шампанское и тоник! – снова изменил он заказ.
Мы сдвинули бокалы и выпили за открытие выставки древнего земного искусства.
– Мне ведь поручено ублажать всех землян, показывая достопримечательности Раймонды, – признался Броуди. – Наше правительство чрезвычайно заинтересовано в дружеских и добрососедских отношениях с Землёй.
Я покивал головой.
– Практически любое ваше желание мы готовы исполнить. Где вы хотите побывать, что посмотреть?
«Как же, так я тебе сразу и сказал! – подумал я. – Держи карман шире!» Однако про себя порадовался. Это я должен был изыскивать возможные пути, как попасть на озеро Чако, но при нынешнем положении вещей всё могло получиться значительно проще. Разработанный заранее многоходовой план терял актуальность, следовало лишь дождаться нужного предложения от самих раймондцев.
– Даже так? – сделал удивлённое лицо. – Право, не знаю… Это столь неожиданное предложение… Я подумаю.
– Думайте, – согласился Броуди, и мы выпили за «добрососедские» отношения Земли и Раймонды, находящихся в разных спиральных рукавах Галактики.
– Не желаете ли посетить наш оперный театр? – предложил Броуди. – i-Ла Скала один к одному. Завтра там дают «Тоску′», как всегда в изначальном варианте на языке подлинника. У нас иначе не ставят, всё только в первозданном виде.
– Не «Тоску′», а «То′ску», – машинально поправил я, сделав правильное ударение на первом слоге.
– Это ещё почему? – возразил Броуди. – Там все так заунывно поют, такая скорбь на лицах… Мы все плачем, когда слушаем…
Я ошарашено посмотрел на него. Раймондец не шутил, не ёрничал, говорил абсолютно искренне.
– Да, действительно, грустная история… – двусмысленно констатировал я. Упаси бог человечество от таких ценителей земного искусства! Интересно, а с каких тогда позиций они оценивают скульптуру Нэфр’ди-эт?! Очень хотелось бы знать.
– Так как, придёте? Вам забронировать место в ложе? – с надеждой в голосе спросил Броуди.
– Нет. Я не знаю староитальянского.
– Причём здесь староитальянский? – возмутился Броуди, будто я произнёс нечто кощунственное. – Речь идёт об искусстве, а оно – вне языков!
Я тяжело вздохнул.
– У нас несколько разные подходы к искусству, – осторожно сказал и сделал весьма прозрачный намёк: – Вам нравится земное, я же им пресыщен. Мне бы чего-нибудь местного, экзотического, сугубо раймондского…
– Да? – Броуди растерялся. С минуту он сверлил меня непонимающим взглядом, затем надолго задумался. – Конечно, вы же эстет-энтомолог… – пробормотал он. – Хорошо, попытаемся что-нибудь придумать…
Мы снова выпили теперь уже просто так, и Броуди заторопился.
– Через десять минут фейерверк заканчивается, и мне пора приступать к своим обязанностям, – сообщил он. – Значит, что-нибудь экзотическое? Организуем. Непременно организуем! – заверил Броуди на прощанье и ушёл.
Я повернулся к экрану вещания. На нём разноцветными кометами расцветал фейерверк, а за окном не стихал восторженный разноголосый вой, не имеющий ничего общего с человеческим. Будто тысячи тысяч мартовских котов собрались вместе и драли глотки каждый на свой лад.
Поднявшись с табурета у стойки, я подошёл к окну, выглянул. И отшатнулся. Снизу, тускло высвечиваемое сполохами фейерверка, на меня тысячами распахнутых глоток зарилось несусветное чудовище. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй…» – кажется так описывал некое хтоническое чудовище один из славян. И сейчас это чудище ожило, но было оно не стозевно, а многоглоточно. И глоток сих было не счесть. Пожалуй, только один эпитет – «озорно» как в нынешнем прочтении, так и в первоначальном, когда озоровать означало разбойничать, не подходил к характеристике слившейся воедино толпы раймондцев. Хотя, возможно, мне не всё известно о раймондцах – не случайно же звучали предостерегающие щелчки в моей голове…
«Не схожу ли я с ума?» – подумал я, отворачиваясь. Любой яд, и формальдегид не исключение, действует на психику, обостряя восприятие и трансформируя увиденное в апокалиптические картины. Но всё же почему-то думалось, что в увиденном за окном есть крупица истины. Grano veritas.
7
Со следующего дня потянулась череда единообразных будней. Рано поутру, до открытия выставочных залов, я, согласно регламенту, посещал зал со скульптурой Нэфр’ди-эт, проверяя, всё ли в порядке. То же самое проделывал поздним вечером, когда выставку закрывали на ночь. Весь день, пока залы были до отказа заполнены аморфной массой глазеющих раймондцев, я проводил либо в баре, выбирая время, когда там почти не было посетителей, либо в своём номере, изучая регулярно поставляемые Броуди проспекты очередных местных достопримечательностей. Поневоле приходилось разыгрывать роль чванливого, привередливого сноба, которого не устраивают ни Великие пещеры, ни Заповедные луга, ни резервация кудахтающих квохчей, ни наблюдение за жизнью драконспшов на воле, ни океаническая рыбалка, ни охота на большого проглота, ни дендрарий скачущих папоротников… Вечером я встречался в баре с Броуди, вежливо возвращал ему проспекты и получал другие. С каждым отказом Броуди мрачнел всё больше, да и я чем дальше, тем сильнее чувствовал себя не в своей тарелке. Время шло, а нужного предложения я так и не получал.
С землянами я старался не общаться и, тем более, не заводить знакомств. На озеро Чако я должен отправиться один – было бы совсем некстати, чтобы новоприобретённый приятель начал набиваться в попутчики. Лучше прослыть нелюдимым бирюком, чем поставить под удар выполнение договора с Мальконенном. Поэтому, когда как-то среди дня в ресторане я столкнулся с Тарандовски, то постарался отделаться от него холодным кивком. Но ничего не получилось. Тарандовски нахально уселся за столик и принялся живописать свои приключения на Раймонде.
Искусствовед-промоутер активно осуществлял свой modus vivendi – удовлетворение собственного любопытства за чужой счёт, – три дня проведя в i-Ватикане, а теперь собираясь в пятидневную экскурсию по Рио-Негро в заповедник мигрирующих дубов. Описывая своё предыдущее путешествие в восторженных тонах (оказывается, i-Рим и i-Ватикан, архитектурно тождественные земным, на Раймонде были разными городами, расположенными на противоположных полушариях), Тарандовски не преминул сообщить, что практически все земляне побывали кто в трёхдневном, кто в недельном путешествиях по экзотическим уголкам Раймонды, и все остались весьма довольны. Тарандовски ещё лелеял надежду посетить Великие пещеры, а сейчас приглашал составить ему компанию в экскурсии по Рио-Негро. Естественно, я вежливо отказался, и Тарандовски очень расстроился. Оказалось, что посещение им Великих пещер целиком и полностью зависело от того, сможет ли он уговорить меня на экскурсию по Рио-Негро. Как мог, я утешил его, пообещав похлопотать перед организаторами выставки, и вечером устроил натуральный разнос Броуди за то, что он занимается шантажом. Броуди побледнел, начал заикаться, оправдываться и клятвенно уверять, что не имеет к этому никакого отношения, что он обязательно во всём разберётся, и Тарандовски непременно посетит не только Великие пещеры, но и ещё какой-либо иной экзотический уголок Раймонды.
Насчёт будущих экскурсий для Тарандовски я поверил (лишь бы только искусствоведа не навязали мне в попутчики к озеру Чако), а вот в то, что Броуди не имеет к шантажу никакого отношения – нет. В голове прозвучал очередной предупреждающий щелчок – что-то здесь не так. И хотя это обычная практика устроителей выставок – организовывать экскурсии для владельцев экспонатов, – нигде ещё развлекательные путешествия не навязывали столь настойчиво, причём на довольно продолжительный срок. Было, было в «облом чудище» что-то озорное, хотя пока никак не проявлялось.
На следующее утро я проснулся раньше обычного, побродил по пустующим выставочным залам, но ничего подозрительного не обнаружил. Возле каждого экспоната стояло по два хейрита, фиксирующих малейшее движение, несмотря на свою полную неподвижность. Случись что, они бы уже действовали. Зайдя в зал, где экспонировался песчаниковый бюст Нэфр’ди-эт, я самым тщательным образом осмотрел все уголки, а затем долго стоял напротив скульптуры, вглядываясь в черты лица древнеегипетской царицы, чрезвычайно похожей на сивиллянку. Подспудное чувство неясной тревоги, что что-то обязательно случится, не покидало меня, и чем дольше вглядывался в лицо песчаникового изваяния, тем тревога становилась сильнее. Покинул я зал во время звонка об открытии выставки и чуть было не угодил в хлынувшую в зал толпу раймондцев. Спасло от контакта с «облым чудищем» лишь то, что я уже прекрасно ориентировался в лабиринте залов дворца и раньше толпы успел попасть в коридор, ведущий в северное крыло.
Прошло две недели со дня открытия выставки – половина срока пребывания на Раймонде, – а я в своём предприятии не продвинулся ни на шаг. Пора было менять тактику, и пришлось посетить пару раутов, устраиваемых местным бомондом в честь выставки на Раймонде древних экспонатов земного искусства из частных коллекций. Побывал в пригороде i-Парижа, а также в i-Афинах. Впрочем, городов не видел, поскольку в первом случае меня доставили межпространственным лифтом прямо в i-Версаль, а во втором – в i-Парфенон, воспроизведенный в первозданном виде. Не знаю, возможно, формальдегид действительно серьёзно нарушил функции моего сознания, но рауты произвели на меня тягостное впечатление. Столько откровенного, ничем не прикрытого лизоблюдства никогда не доводилось наблюдать: со всех сторон на меня смотрели как на икону, внимали каждому слову и даже чих воспринимали как божье откровение. Такое ощущение, что это я был экспонатом, а не привезённая мною на выставку скульптура Нэфр’ди-эт. Все мужчины щеголяли во фраках с длинными фалдами, узких полосатых брючках, высоких цилиндрах; многие были с рыжими накладными бакенбардами, многие с тросточками. Бытовавшую некогда у славян поговорку, что «все китайцы на одно лицо», можно было смело адресовать раймондцам. Маленькие, пухленькие, со слащавыми улыбками они напоминали собой этаких растиражированных до неприличия гудвинов из «страны Оз» (уж не оттуда ли был позаимствован человеческий облик, если верить в псевдонаучную теорию происхождения раймондцев?). Женщины, такие же пухленькие, розовощёкие, со вздёрнутыми носиками были одеты по соответствующей моде: в пышных платьях с кринолинами, напудренных париках с буклями. Разговоры велись исключительно на темы земного искусства, каждый считал себя в этой области непревзойдённым знатоком, но высокопарный слог, охи, ахи, чрезмерное жеманство выглядело столь фальшиво, что рауты показались мне дешёвыми водевилями с третьеразрядными актёрами. Больше часа я ни на одном, ни на втором рауте не задержался, как Броуди не уговаривал остаться на ночь, чтобы с утра насладиться достопримечательностями i-Версаля и i-Парфенона (с величайшей гордостью и пафосом в голосе он сообщил, что некоторые картины i-Версаля являются подлинниками, равно как и одна из колонн i-Парфенона). Больше всего после раутов хотелось помыться, словно я был с головы до ног перепачкан клейкой протоплазмой, хотя плотных контактов с раймондцами, как во время открытия выставки, не было. Но принять душ по известным причинам я не мог, что очень удручало.
Попытки на первом рауте самому изыскать возможность поездки на озеро Чако ни к чему не привели, и я согласился на второй раут только из-за того, что на первом увидел на отвороте платья одной из раймондок оригинальную брошку – двумерного паучка на короткой золотой цепочке. Паучок шевелил лапками, дёргался, подпрыгивал, то и дело то исчезая в складках платья, то появляясь. В трёхмерном мире двумерный паучок абсолютно проницаем – удерживала его на платье лишь заколка с золотой цепочкой, звенья которой где-то посередине переходили из двухмерности в трёхмерность. Это была безумно дорогая вещь, так как её физическая сущность до сих пор не имела научного объяснения, и производились подобные брошки исключительно на Раймонде, если так можно сказать о побочном эффекте жизнедеятельности Великого Ухтары озера Чако. Почерпнул я эти сведения из каталога «Артефакты Вселенной», а более подробно об озере Чако и Великом Ухтары узнал из мемуаров землянина Алишера Кроуфера, возглавлявшего восемьдесят лет назад департамент истории и археологии Земли, которому посчастливилось побывать в экскурсии на озеро Чако и самолично лицезреть преобразование трёхмерного червя в двумерного. Именно его мемуары легли в основу разработки моей акции, и теперь, когда у самого порога заветной цели всё застопорилось, я решил разыграть несложную трёхходовую интригу, чтобы направить помыслы Броуди, желающего во что бы то ни стало вытащить меня из i-Эрмитажа на несколько дней, в нужное русло.
Первым ходом было моё согласие на раут в i-Парфеноне, что с моей стороны, в общем-то, являлось мужественным решением – раутом в i-Версале я был сыт по горло. До тошноты. Более получаса на рауте в i-Парфеноне я изображал этакого улыбающегося, чрезвычайно довольного оказываемым вниманием болвана, одновременно исподтишка обшаривая глазами платья раймондок в поисках брошки-артефакта. Совсем уж было отчаявшись увидеть редкостное даже на Раймонде украшение, я неожиданно обнаружил его на лацкане фрака одного из особо напыщенных раймондцев. Кажется, какого-то высокопоставленного чиновника из департамента искусств. На этот раз это была двумерная серебристая рыбка, трепещущая на маленьком рыболовном крючочке.
И тогда я сделал второй ход. Стёр с лица опостылевшую улыбку, наклонился к Броуди и шёпотом спросил:
– Что это?
– Где?
– На фраке у одного из гостей… Безделушка.
Броуди поискал глазами в толпе, увидел то, что привлекло моё внимание, и вскинул брови.
– О-о! – протянул он. – Тут вы, господин Бугой, ошибаетесь. Это отнюдь не безделушка. Чрезвычайно ценная и необычная вещь. Исключительно наша, раймондская. За одну такую «безделушку» мы приобрели подлинную колонну Парфенона. Вон ту, кстати.
Броуди указал на одну из колонн, но я лишь вскользь глянул на неё и продолжал развивать тему:
– Ваша? Раймондская? И где же у вас водятся такие рыбки?
– Водятся? – чрезвычайно удивился Броуди. – Помилуйте, господин Бугой, такие рыбки нигде не водятся. – Он понизил голос до шёпота: – Это творение Великого Ухтары…
– А кто это такой? Ваш выдающийся дизайнер-модельер?
Глаза Броуди округлились, он внимательно посмотрел на меня. Я же постарался придать своему лицу максимум заинтересованности. Далось это легко, поскольку соответствовало моим устремлениям, и единственной фальшью было то, что я знал, кто такой Великий Ухтары.
– Простите, господин Бугой, – зашептал Броуди, – но у нас о таинстве Великого Ухтары открыто говорить не принято. Это святое. Это истоки нашей цивилизации. Реликтовые истоки.
Затем Броуди резко сменил тему, и я не стал настаивать на своём, надеясь, что свою заинтересованность тайной двумерной рыбки показал достаточно откровенно. Следующий ход должен был сделать Броуди, предложив экскурсию на озеро Чако.
Однако третья неделя подходила к концу, до закрытия выставки оставалось всего ничего, а нужного предложения я так и не получал. Броуди продолжал снабжать меня проспектами абсолютно неприемлемых вариантов экскурсий и путешествий, которые я теперь даже не просматривал. Необходимо было ускорить события, а это означало, что третий ход в затеянной интриге надлежало сделать мне. Если гора не идёт к Магомету… Кажется, я это уже формулировал, только в ином контексте.
Разговор начался, как всегда, поздним вечером за стойкой бара.
– Тяжёлый вы всё-таки, человек, господин Бугой, – вздохнул Броуди. – Ни одно предложение вас не устраивает. Как только с вами жена уживается.
– Я не женат.
– Да? Тогда понятно… Поверьте, мы, раймондцы, очень гостеприимный народ, и не было ещё ни одного случая, когда бы гость Раймонды не посетил ни одного экзотического уголка планеты. Для нас это сродни оскорблению.
Я пожал плечами. Ждал продолжения. Для третьего хода в интриге повода было недостаточно.
– Конечно, я понимаю, водись у нас чешуекрылые, вы бы в охоте на них провели весь месяц и, может быть, даже задержались после закрытия выставки. Но чего в нашей фауне нет, того нет.
«Какие там чешуекрылые в вашей фауне, – раздражённо подумал я, – когда нет ни одного стабильного вида живых существ, а вы сами под действием собственных эмоций расплываетесь в нечто аморфное и пугающе безликое?»
Броуди сделал знак бармену, чтобы тот повторил, взял бокал, но пить почему-то не стал. Вздохнул, поставил бокал на стойку, отодвинул и посмотрел на меня внимательным, изучающим взглядом. Обычной слащавой улыбки на его лице не было.
– Господин Бугой, – тихим голосом произнёс он, – вас по-прежнему интересуют творения Великого Ухтары?
Я ответил ему прямым взглядом. Стоило Броуди ещё чуть-чуть потянуть время, и я бы сам начал этот разговор. Юлить, продолжая изображать из себя пресыщенного сноба, не следовало. Отвечать нужно было откровенно и честно. Я так и хотел сделать, но в последний момент всё же придал ответу обтекаемую форму.
– Пожалуй, это самое любопытное, что я увидел на Раймонде.
– Хорошо, – кивнул Броуди. – В таком случае имею честь предложить вам экскурсию на озеро Чако, где обитает Великий Ухтары.
Я удивлённо вскинул брови, выпрямился на табурете, чтобы поблагодарить, но Броуди властным движением руки остановил меня. Властный жест настолько не вязался с его обычной угодливостью и подобострастием, что невольно озадачивал. Выходит, не так уж и никчемны раймондцы, как могло показаться с первого взгляда. Четыре века назад экспедиция землян убедилась в этом на собственном опыте, теперь, кажется, пришёл мой черёд. Оставалось надеяться, что исход будет не столь радикальным.
– Учтите, что после моего предложения отрицательный ответ будет принят как оскорбление, – очень серьёзно сказал Броуди. – Великий Ухтары – наша святыня, за всё время пребывания Раймонды в Галактическом Союзе лишь шестеро гостей планеты побывало на озере Чако. Это громадная честь, и только после длительных согласований в департаменте культуры вам разрешено быть седьмым.
«Вот это да! – ошарашено пронеслось в голове. – В мемуарах Алишера Кроуфора и намёка на подобное не было!» Какую же услугу восемьдесят лет назад оказал раймондцам глава департамента истории и археологии Земли, если даже не знал о той величайшей чести, которую ему предоставляют? Или он и есть тот самый человек, который продал раймондцам колонну Парфенона, взамен получив двумерный артефакт? Но и я хорош! Угораздило же меня безоглядно довериться мемуарам какого-то взяточника и на их основании строить план акции, в то время как озеро Чако – табу для всех пришельцев!
– Будь по-вашему, – сказал я ровным голосом. – Если так ставите вопрос, я согласен.
– Вот и отлично! – Броуди расплылся в дежурной слащавой улыбке и вновь превратился в угодливого чиновника. – Завтра утром к вам зайдёт экипировщик и снимет мерку.
– А это зачем? – Верный роли спесивого сноба, я чуть не добавил язвительное: «Для гроба?» – но сдержался.
– Снаряжение надо подогнать по вашей комплекции. Местность в районе озера Чако реликтовая, практически первозданная, с холмов часто спускаются формальдегидные туманы, и без специального снаряжения вам там долго не продержаться. К тому же экскурсия сопряжена с некоторым риском. Нет-нет, не волнуйтесь, если будете в точности следовать инструкциям, ничего не случится.
– Я – эстет-энтомолог, – презрительно скривил я губы, дав-таки выход наигранному снобизму. Реноме выбранной роли следовало поддерживать в любой ситуации. – Вы, господин Броуди, даже не представляете, в какие переделки мне приходилось попадать на иных планетах во время охоты за экзопарусниками. Когда мы выступаем?
– Через четыре дня. Раньше никак нельзя, воды в озере мало.
– Но… – Я прикинул в уме. – Это как раз приходится на закрытие выставки…
– Не беспокойтесь, господин Бугой, экскурсия продлится только три дня, и мы вернёмся в i-Эрмитаж в день закрытия.
Броуди расплылся в такой обворожительной улыбке, что я невольно её поддержал. А почему бы и нет? Застопорившаяся было акция сдвинулась с мёртвой точки и теперь стремительно приближалась к своей кульминации.
– Предлагаю тост за ваше приятное времяпрепровождение на озере Чако! – поднял бокал Броуди. Затаённая хитрость «облого чудища» смеялась в его глазах мелкими искрами.8
Утром пришёл экипировщик, снял с меня мерку, и уже в полдень в номер доставили снаряжение, подогнанное по моей фигуре. Проводив посыльного, я распаковал доставленный тюк, затем свой багаж и принялся менять раймондское снаряжение на изготовленное на Земле по спецзаказу, скрупулёзно сверяя каждую вещь. Особенно долго пришлось провозиться с плащ-накидкой – местная была серо-голубой, моя же, изготовленная по исходным данным мемуаров Алишера Кроуфора, – грязно-зелёной. Фактура у накидок была одна и та же, но моя имела стабилизирующую пропитку, которая в нужный момент превращала эластичную ткань в жёсткий каркас, и перекраска ткани лучевым колоротрансгрессором заняла около двух часов. Единственной вещью из раймондского снаряжения, которую я не заменил, оказалась респираторная маска – и по внешнему виду, и по конструкции она сильно отличалась от изготовленной на Земле. Но для моего предприятия конструкция респиратора не имела никакого значения.
Этим вечером Броуди был особенно предупредителен и лебезил сверх всякой меры. Казалось бы, своей цели он достиг – «сосватал» меня в путешествие, – пора, как говорится, и честь знать, поумерить лакейство. Ан нет. Определённо случился какой-то казус с экскурсией – раймондец пил больше обычного, угощал, балагурил, но при этом старательно отводил взгляд, избегая смотреть мне в глаза.
Поняв, что так может продолжаться бесконечно, либо пока Броуди не напьётся любимым шампанским до беспамятства, я решил взять инициативу в свои руки.
– Господин Броуди, – сказал я, – что вы ходите вокруг да около? Говорите прямо: нелады с организацией экскурсии? Департамент культуры изменил решение, и мне отказано в посещении озера Чако?
– Нет-нет, что вы, что вы… – Глаза Броуди изумлённо округлились. – Как можно изменить решение? Это касается нашего престижа, такого ещё никогда не было! Экскурсия обязательно состоится!
– Тогда в чём дело?
Броуди смешался, заказал две порции шампанского в расчёте и на меня, но я отказался от угощения. Он выпил залпом, прокашлялся, отодвинул бокал в сторону, взялся за второй. Если начнёт уговаривать взять с собой Тарандовски – откажусь наотрез. И от такого попутчика, и от экскурсии. Слишком это подозрительно, а я не хочу гнить на каторге.
– Понимаете… – пробормотал он, вертя бокал за ножку и виновато косясь в сторону. – Всё дело в том, что таинство деяния Великого Ухтары свершается не по нашему желанию. Всё зависит от уровня воды в озере Чако… – Он залпом опорожнил и второй бокал. – А по прогнозам вода достигнет оптимального уровня в день закрытия выставки…
Я молчал, верный принципу последним раскрывать карты. Пусть вначале партнер выложит свои, тогда посмотрим, что делать. Судя по словам Броуди, экскурсия состоится, а это главное.
– Понятно, что вы, как представитель владельца экспоната, желали бы присутствовать на церемонии закрытия… Предстоит грандиозное действо… – Броуди стрельнул на меня совсем уж больным взглядом. – Но… но…
При воспоминании о церемонии открытия выставки я внутренне содрогнулся. Многое бы отдал, чтобы больше никогда в жизни не присутствовать на подобных «грандиозных действах». Однако опять промолчал.
– Но… я вас умоляю, – продолжал бубнить Броуди, – не роняйте престиж нашей гостеприимности, это может подорвать туристический бизнес. Департамент культуры готов компенсировать ваше отсутствие на церемонии закрытия выставки любыми средствами. Вплоть до того, что передать в дар любую двумерную брошь по вашему выбору…
Внутри у меня всё ухнуло куда-то вниз, в голове отчётливо тренькнул предупреждающий звоночек. Двумерную брошь в подарок! Брошь, чья цена на рынке драгоценностей соответствует цене виллы Мальконенна! С одной стороны это означало мою полную финансовую независимость, но с другой… КАКУЮ ЦЕНУ Я ДОЛЖЕН БЫЛ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТЬ?!! Timeo danaos et dona ferentos [2] … В сказочку об «уроне престижа» гостеприимности раймондцев я не верил.
– Кстати, вы и сами можете принять участие в таинстве Великого Ухтары… – продолжал канючить Броуди угасающим голосом.
Ну, это он уже перегнул палку! А для чего, спрашивается, подгоняли снаряжение по моей фигуре? Я смерил Броуди холодным взглядом, и он угас окончательно.
– Я подумаю, – высокомерно процедил я, встал из-за стойки и ушёл к себе в номер. Мог себе позволить такую выходку, ибо понял, что сидел у меня на крючке Броуди крепко, и не то что соскальзывать, трепыхаться не собирался.
На следующий вечер, когда Броуди вновь принялся уговаривать меня слезливым голосом, я выдержал долгую паузу и только затем, как будто оказываю громадное одолжение, согласился. На радостях экспансивный раймондец разве что не облобызал меня, однако я несколько охладил его порыв, оконтурив сроки своей экскурсии: если день таинства деяния Великого Ухтары сдвигается, то и я выеду на озеро Чако на день позже. Моё заявление, основанное исключительно на наитии, было тем пробным шаром, которым я собирался проверить правильность своих предположений. И пробный шар попал если не в точку, то где-то рядом. Радость Броуди поумерилась – чем-то я несколько нарушил его планы, – но он всё равно остался доволен. Была, ох, была цена у моей экскурсии, и цена немалая, несоизмеримо более высокая, чем цена двумерной броши. Рядом с этой ценой раймондский артефакт смотрелся безделицей. Лишь одно меня утешало и оправдывало: все земляне – владельцы экспонатов и такие же промоутеры, как и я, – уже побывали в длительных путешествиях по экзотическим местам Раймонды, но получили за своё отсутствие на выставке гораздо меньшую компенсацию.
С Бори Чилтерном, егерем реликтового заповедника «Территория туманов», Броуди познакомил меня за час до отъезда. Егерь прибыл в i-Эрмитаж для сопровождения гостя к озеру Чако, а затем бдительной опеки во время экскурсии во избежание эксцессов в чаще дикого леса. С первого взгляда егерь не произвёл на меня впечатления – такой же полноватый коротышка, лысоватый, розовощёкий как и все раймондцы. Но пообщавшись в ним пять минут, я понял, что Бори Чилтерн сильно отличается от тех раймондцев, с которыми мне до сих пор доводилось общаться. Не было в его словах и жестах и тени угодливости, улыбался он хоть и часто, но к месту, держался просто, но за этой простотой чувствовалось достоинство. Оказывается, «не все китайцы на одно лицо». Провожая нас к кабине межпространственного лифта, Броуди очень сокрушался, что не может сопровождать меня в экскурсии, поскольку обязанности распорядителя выставки не позволяют отлучиться из i-Эрмитажа ни на минуту. При этом, кажется, говорил искренне – было в таинстве деяния Великого Ухтары нечто такое, что влекло к нему раймондцев равно так, как верующих влекут святые места. Но когда мы распрощались, я вошёл в кабину и оглянулся, мне вновь показалось, что в глазах Броуди пляшут искорки злорадства «облого чудища».
9
Заповедник «Территория туманов» располагался на северо-востоке континента. Здесь ещё действовали гейзеры, выбрасывавшие в атмосферу формальдегид, поэтому дикий холмистый край не пользовался популярностью у инопланетных туристов, несмотря на то, что именно тут природа сохранилась практически в первозданном виде. Такова была официальная версия, я же подозревал, что дело совсем в другом. По моим данным, где-то в этой местности покоились останки модуля трапперов, из-за чего раймондцы, свято оберегавшие тайну своего происхождения, не желали пускать в заповедник посторонних.
В i-Эрмитаже было позднее утро, а у озера Чако день клонился к вечеру. Кабина межпространственного лифта доставила нас на небольшой пригорок на восточном берегу метрах в сорока от воды. Озеро было большим, широким; поверхность – идеально ровной, без малейшей ряби, но какой-то мутно-серой, как слежавшийся прошлогодний снег. Лишь у северо-восточного берега, там, где в озеро впадала небольшая речка Рио-Бланко, виднелось отблёскивающее на солнце зеркало настоящей воды. На западном берегу возвышались два округлых, поросших лесом холма, чуть севернее от них располагался ещё один холм с голыми покатыми склонами рыже-охристой глины. Только при большой (если не извращённой) фантазии можно было вообразить лежащую на противоположном берегу женщину, где голый холм – это запрокинутое лицо, а два других – груди. Тем не менее, согласно атласу, именно грудями великанши именовались лесистые холмы. Непроходимая чаща буро-зелёного леса вплотную подступала к обрезу воды на всех берегах, и только с глинистого холма да с нашего пригорка к воде имелся свободный доступ. На сине-фиолетовом небосклоне не наблюдалось ни единого облачка, ртутно-белое солнце резало глаза, но совсем не грело, и от этого возникало гнетущее ощущение наступающей осени, хотя сезонные изменения на Раймонде отсутствовали. Ничего земного, привычного для человеческого глаза, в пейзаже не было, но мне вдруг почему-то вспомнилось озеро на вилле Мальконенна – скорее всего, сказалась элементарная ностальгия по родной земле, которая появляется у человека буквально с первых минут отъезда в дальние края. Атавизм осёдлости.
– Наденьте респиратор, – посоветовал егерь, – и можете пройтись, посмотреть окрестности, пока я буду ставить палатку. Но в лес один не заходите и от воды держитесь подальше.
В воздухе ощущалась примесь формальдегида: щипало глаза, першило в горле, – и я послушно прикрыл лицо забралом респиратора. Затем огляделся. На берегу, у самой воды, высился на подпорках небольшой антигравитационный катер, а слева, метрах в пятидесяти от нас, в лощине между пригорком и окружавшим его лесом, стояло четыре палатки.
– Наши туристы, – объяснил Бори Чилтерн, заметив направление моего взгляда. – Сохранилась в народе тяга к своим истокам… – в голосе егеря проскользнула то ли гордость, то ли горечь. – Не беспокойтесь, своё общество они навязывать не будут, предупреждены. Но, если пожелаете познакомиться, в гостеприимстве не откажут. Когда-то в вечер свершения таинства Великого Ухтары здесь собирались громадные толпы. А сейчас… – Чилтерн расстроено махнул рукой и отвернулся.
Общением с раймондцами я был сыт выше всякой меры, поэтому к палаткам не пошёл, а направился вниз, к озеру. Белесая трава под ногами по внешнему виду напоминала макароны: плотные, упругие, слизкие – и приходилось спускаться мелкими шажками, чтобы не поскользнуться. Не доходя до берега метра три, я присел на корточки и стал внимательно рассматривать воду в озере. Передо мной был ещё один артефакт Раймонды того же происхождения, что и знаменитая брошь, – двумерная вода, до краёв заполнявшая котловину озера. Точнее, не сама вода, а проекция двумерной воды в наш трёхмерный мир, абсолютно проницаемая, как фата-моргана. Двумерная пыль. Согласно законам топологической физики при своём образовании двумерная вода должна мгновенно устремиться сквозь материю трёхмерного мира к центру планеты, но этого почему-то не происходило. С точки зрения человеческого восприятия нонсенс усваивался легко, другое ставило в тупик – каким образом двумерная вода в трёхмерном мире имеет объём и к тому же видима, если та же рыбка-брошь представляет собой абсолютную плоскость, видимую глазом лишь при перпендикулярном угле зрения? И хотя на этот счёт имелось математически строгое обоснование о различных проекциях двумерных жидкостей и твёрдых тел в трёхмерный мир, в голове оно не укладывалось.
Как и всё непонятное, двумерная вода озера Чако манила к себе. Хотелось подойти к кромке берега, наклониться и опустить руку в озеро. Я знал, что ровным счётом ничего не почувствую, разве что где-то в сантиметре-двух от видимой поверхности пальцы погрузятся в настоящую воду, заполняющую котловину озера из Рио-Бланко, но проделать такой эксперимент всё равно хотелось.
Внезапно под подошвами кроссовок что-то зашевелилось, и я, испытав гадливое чувство, будто под ногами начали извиваться черви, вскочил с корточек и отпрыгнул в сторону. Как оказалось, ничего страшного не происходило, просто стеблям-макаронинам надоело, что кто-то долго на них стоит, и они начали, выползая, освобождаться из-под тяжести. Чужой мир, чужая экология. На Раймонде не требовалось устанавливать на газонах предупреждающие таблички: «Не топчите траву!», трава сама о себе беспокоилась.
Я глянул вдоль берега и слева от себя, между стволами двух мигрирующих дубов, увидел большую, размерами с взрослого раймондца, ярко-зелёную жабу. Она сидела на шевелящемся узловатом корне мигрирующего дуба, совсем по-человечески водрузив передние хилые конечности с пальцами присосками на колени, и флегматично рассматривала меня выпуклыми глазами. Попеременно то левым, то правым. Что-то в её позе, расплывшейся комплекции, вечной улыбке сомкнутой широкой пасти напоминало раймондцев. И мне даже показалось, что в безразличных глазах жабы мигают те же искорки, что и в глазах Броуди.
– Привет! – сказал я, усмехаясь.
– Привет, – спокойно ответила жаба, чуть приоткрыв пасть. Громадный кадык прошёлся по её горлу сверху вниз и обратно.
Я рассмеялся. Более комичного зрелища трудно себе представить.
– Ах, вот даже как!
– Ах, вот даже как, – снова передёрнув кадыком, подтвердила жаба и посмотрела левым глазом на меня, а правым себе за спину.
– Будем знакомиться? – спросил я.
– Будем знакомиться, – согласилась жаба.
Я шагнул к ней, но в этот момент рука егеря схватила меня за торс и отшвырнула в сторону. Длинный язык жабы пращёй пролетел возле моего лица, шлёпнулся на то место, где я только что стоял, и с чмоканьем убрался в пасть.
– Не советую шутить с пересмешницей, – строго предупредил егерь, помогая подняться с земли. – Проглотить не проглотит, но попытается. Кости помнёт и в слизи так вывозит, что неделю не отмоетесь.
– Спасибо… – поблагодарил я, поспешно отходя от берега подальше.
– Не за что. Это моя работа. Кстати, забыл вас предупредить: не бросайте в озеро камни. Есть такие любители…
– А почему?
– Почему? – Егерь смерил меня взглядом. – Подойдите сюда. Видите, озеро наполняется водой из Рио-Бланко?
– Да.
– Таинство Великого Ухтары начинается тогда, когда уровень воды превысит уровень неощутимой пыли, – торжественным голосом начал вещать Бори Чилтерн. – Тогда Великий Ухтары поднимается со дна озера и громом превращает воду в неощутимую пыль. Дрожат холмы, дрожит воздух, но всё быстро успокаивается, и занзуры со своего холма песней славят мощь Великого духа озера Чако. Но в ветреный день, когда зеркало воды покрывается рябью, Великий Ухтары гневается. Тогда во время таинства гремит гром, сверкают молнии, из волн вырастают чёрные смерчи, и ураган сметает всё на своём пути на многие километры в округе. Поэтому не гневите Великого духа озера, не пускайте волну по поверхности воды.
Я сделал вид, что с почтением внимаю мистическому толкованию топологической трансформации вещества. На самом деле с точки зрения физики взаимодействия топологических пространств всё объяснялось значительно проще. Преобразование трёхмерной воды в двумерную проходило строго по горизонтальной плоскости (наподобие того, как галактические лайнеры проходят через диафрагму гиперствора), и стоило материальному объекту колебательными движениями выйти за пределы этой плоскости, как наступала разбалансировка энергетического потока, часть энергии выплёскивалась в трёхмерный мир и приводила к климатическим катаклизмам.
– Вы уверены, что завтра ветра не будет? – спросил я.
– Уверен. Ветры здесь бывают крайне редко. А потом, видите, мигрирующие дубы стоят возле самой воды? Если бы погода портилась, ещё за неделю до начала таинства деяния Великого Ухтары вы бы не обнаружили ни одного мигрирующего дуба в радиусе пятидесяти километров от озера.
– А кто такие занзуры?
– Занзуры? – Лицо егеря расплылось в мечтательной улыбке. – О, занзуры… Когда-то и у вас на Земле были подобные существа. Сирены. Завтра вечером вы услышите завораживающее пение занзур… Видите, голый холм? Там их родовище… – Он тряхнул головой, словно освобождаясь от наваждения. – Что это мы с вами размечтались раньше времени? Идёмте, надо выбрать наживку для вашего сувенира. Палатку я поставил, внутри чистая земная атмосфера, можете там обходиться без респиратора.
В мечтах егерь побывал без меня, но я не стал его поправлять.
Мы поднялись на пригорок. На месте нашей высадки из кабины межпространственного лифта высился прикрытый тентом штабель из пяти-шести длинных ящиков с составными частями плота. Метрах в двух от штабеля стояла оранжевая земная экопалатка с безобразно перекачанными бортами. Видимо, я был первым землянином-туристом в угодьях егеря, и он не имел понятия, как правильно надувать экопалатки. Ну и ладно, не будем придавать этому особого значения. Спасибо и на том.
– А вы где будете ночевать? – спросил я, оглядываясь вокруг.
Бори Чилтерн пренебрежительно фыркнул.
– Мне говорили, что вы опытный путешественник с большим стажем…
– Да. Прошёл более сотни миров.
– Значит, вас не раз сопровождали проводники и егеря. Скажите честно, неужели среди них встречались такие, которые проводили тихие спокойные ночи в палатках?
Я только развёл руками.
– То-то! – Егерь нырнул под тент, долго там возился, перекладывая какие-то вещи, затем, пятясь, вылез, волоча объёмный ящик. Протащив ящик по траве на ровное место, Бори Чилтерн распрямил спину и откинул верхнюю крышку. – Выбирайте наживку для сувенира.
Подойдя ближе, я заглянул внутрь. До самого верха ящик заполняли прозрачные кубики с живыми моллюсками, рыбками, шевелящими лепестками хищными цветами и прочей мелкой экзотической живностью. Эх, знать бы заранее, что случится такая оказия, непременно привёз бы с Земли живого Papilio . Вот это был бы сувенир… Хотя вряд ли бы он прожил целый месяц в ожидании поездки на озеро Чако. Махаоны долго не живут, а на Раймонде ни насекомых, ни членистоногих нет. Паучок, которого я видел на платье раймондской модницы, был инопланетного происхождения.
Просмотрев десятка три кубиков, я остановил свой выбор на небольшой морской звезде – алого цвета с янтарно-жёлтыми шипами. При этом исходил из чисто меркантильных соображений – на соответствующей колодочке двумерная морская звезда будет выглядеть как орден, и, естественно, её можно продать дороже. Однако по-прежнему настораживала ТА НЕВЕДОМАЯ ЦЕНА, которую мне придётся заплатить здесь за эту безделушку.
– Хороший выбор, – оценил егерь, пряча кубик в карман. – Теперь я займусь подготовкой плота, а вы можете отдохнуть в палатке. Либо сходить познакомиться с нашими туристами. Как хотите. Разбужу завтра утром очень рано.
Я избрал третий вариант – прогулялся по пригорку, но затем всё-таки спустился в лощину к местным туристам. Они произвели на меня странное впечатление. Настолько привык к лакейскому подобострастию до сих пор окружавших меня раймондцев, что и тут ожидал встретить аналогичное отношение. Ничего подобного! Да, аборигены приняли меня радушно, откупорили бутылку шампанского (как я уже давно понял, любимого на Раймонде напитка), но сами не пили, хотя я заметил, что шампанским они запаслись сверх всякой меры – у одной из палаток стояло с десяток ящиков. Несмотря на их гостеприимство, общение у нас как-то не заладилось. Говорили вроде бы на одном языке, но вот общих тем не нашли. Точнее, пытался найти я, а они кивали, улыбались невпопад и на контакт не шли. И между собой не разговаривали, сидели с отрешёнными лицами, словно к чему-то прислушиваясь. Странные туристы, не от мира сего.
Только распрощавшись с ними и поднявшись на пригорок к палатке, я вспомнил, что говорил о туристах егерь, и всё понял. Эти раймондцы воспринимали таинство деяния Великого Ухтары на уровне религиозного обряда. Как паломники, прибывшие в святые места накануне мистерии, они с трепетом в душе ожидали чуда, и ничто мирское их в этот момент отвлечь не могло.
У палатки я уселся в шезлонг и некоторое время наблюдал, как егерь на берегу собирает плот. Затем мне это надоело, и я стал созерцать раймондский закат. Было на что посмотреть. Солнце садилось за озером между двумя лесистыми сопками, и чем ниже оно опускалось к горизонту, тем больше в его спектре становилось зелёно-жёлтого, как неспелый лимон, цвета, а небо тем временем наливалось густым, тревожащим душу ультрамарином. Когда солнце полностью скрылось за горизонтом, и вечерняя заря неожиданно оказалась молочно-белой, вот тогда на её фоне я и увидел, что чёрный контур трёх холмов на противоположном берегу действительно напоминает лежащую на спине женщину. Но в этот момент егерь на берегу включил прожектор, чтобы продолжать работу по сборке плота, и мрачное очарование раймондского заката пропало.
Широко зевнув, я встал с шезлонга, потянулся и направился в палатку спать. Завтра у туристов намечался религиозный праздник, а у меня предстоял тяжёлый рабочий день.
В этот вечер я впервые на Раймонде не принял перед сном медицинских препаратов и не оросил имплантированные жабры раствором формалина. Пора было выводить жабры из летаргии, поскольку завтра начнётся то, ради чего я прибыл на Раймонду и ради чего вживлял в себя и жабры, и биочипы.
10
С первыми проблесками молочно-белой зари я проснулся, экипировался и выбрался из палатки. В предутренней мгле на фиолетовом небосклоне сияли редкие звёзды, а озеро выглядело куском застывшего, ноздреватого льда, сильно подтаявшего у устья Рио-Бланко. По склону глинистого холма, клубясь, в низину спускалось щупальце плотного формальдегидного тумана, и казалось, что лежащая на том берегу великанша поводит головой.
– О! – удивился егерь, завидев меня. Он возился у раскладного столика, вскрывая консервные банки. – Вы – первый из туристов, кого мне не пришлось будить. Идите завтракать.
– Доброе утро, – сказал я.
– Да, доброе, – немного подумав, согласился Бори Чилтерн, и я понял, что земных приветствий он не знал. И к лучшему. До чёртиков надоели местные искусствоведы с их выспренними руладами во славу всего земного.
Пододвинув поближе к столику шезлонг, я сел.
– Кофе? – предложил егерь.
Я кивнул, и он налил в одноразовый стаканчик горячей оранжевой бурды. Ничего общего ни по вкусу, ни по запаху с кофе она не имела. О содержимом консервных банок я не стал спрашивать, чтобы не отбить аппетит. Вкусно, сытно… и ладно.
Чилтерн покончил с завтраком быстро, но остался сидеть на раскладном стуле, поджидая меня. Увидев, что я отложил вилку, и взялся за стаканчик с раймондским кофе, он встал.
– Пора.
Допив так называемый кофе, я тоже поднялся из-за стола. Критическим взглядом окинув мою амуницию, егерь остался доволен, но для проформы чуть туже подтянул ремешок на респираторной маске.
– Порядок. Прихватите плащ-накидку и спускайтесь к озеру.
Когда я подошёл к берегу, егерь возился у простенького плота, представлявшего собой треугольник из трёх антигравитационных понтонов, собранных торец к торцу и для прочности скреплённых арматурными штырями, образующих над плотом пирамидальный каркас. На одном из понтонов было укреплено сиденье, перед ним на консоли торчало некое подобие рыболовной удочки, но вместо лесы с кончика «удочки» в проём между понтонами свешивалась золотая цепочка.
– Садитесь, – сказал егерь, указывая на сиденье. – Мне нужно отрегулировать горизонтальное положение плота по вашей массе.
Я уселся, и егерь занялся настройками гравиполя.
– Так, всё нормально, – наконец сказал он. – Теперь слушайте инструктаж. Я настроил гравиполе так, что плот зависнет над зеркалом озера строго горизонтально на расстоянии пяти сантиметров. Вам предстоит провести на плоту три-четыре часа. Всё это время вы должны сидеть очень тихо, делая как можно меньше движений, чтобы не раскачивать плот. В противном случае, если борт плота коснётся поверхности воды в момент свершения таинства Великого Ухтары, я не то, что ваших костей не соберу, но и горсти неощутимой пыли. Где накидка?
– Здесь.
Я потянулся за накидкой, которую оставил на понтоне, плот качнулся и правым углом царапнул по берегу.
– Вот-вот, – назидательно изрёк Бори Чилтерн. – Надеюсь, вы поняли, что над озером таких движений делать не следует.
Он набросил на меня накидку, застегнул, поправил капюшон.
– Это защитит вас от спонтанного разряда статического электричества, возникающего над озером во время таинства деяния Великого Ухтары, – объяснил егерь. – Сейчас сядьте поудобнее, расправьте накидку изнутри, чтобы чувствовать себя свободно. Повторюсь, над озером этого делать не следует.
Я последовал совету, создавая под накидкой побольше свободного пространства. Что-что, а оно мне было необходимо. Очень.
– Так… – протянул егерь, критическим взглядом оглядывая меня, когда я закончил вертеться под накидкой. – Теперь следующее. На правом подлокотнике находится переключатель. Видите?
– Вижу.
– Когда я отбуксирую плот и подам команду, вы щёлкните им. Это гравитационный якорь, он застабилизирует плот и будет удерживать от дрейфа гравилучом с буйка, установленного возле палатки. Понятно?
– Да.
– И последнее. – Егерь извлёк из кармана коробочку с морской звездой, подтянул на «удочке» цепочку повыше, вынул звезду, аккуратно нацепил на крючок и снова опустил её в коробочку. – Держите. – Он передал коробочку. – Когда прибудем на место, и вы заякоритесь, извлечёте звезду из коробочки и медленно опустите под воду не более чем на один сантиметр. После этого останется только одно – в момент свершения таинства резко подсечь наживку, и вы станете обладателем уникального во Вселенной украшения. Вопросы есть?
– Есть. – Я внимательно рассматривал устройство «удочки».
– Задавайте.
– Я смотрю, здесь установлен автоматический подсекатель…
Бори Чилтерн снисходительно улыбнулся.
– Это на тот случай, если вы прозеваете нужный момент, – дипломатично пояснил он. На самом деле подсекатель на «удочке» не позволял мне сделать подсечку как «до», так и «после». Только «вместе» с ним. – Ещё вопросы будут?
– Да. Вы говорите, я пробуду на озере три-четыре часа, и всё это время должен сидеть тише воды, ниже травы? Так?
– «Тише воды, ниже травы…» – пробормотал егерь. – Хм… Оригинально. Только по-нашему правильнее будет: тише травы, ниже воды… – Он тряхнул головой. – Да. По всем внешним признакам не менее трёх часов, но и не более четырёх.
«А ведь он прав! – изумился я. – Тише шевелящейся травы, ниже уровня двумерной воды…» Но не стал на этом заострять внимание. Следовало играть роль этакого туриста-пентюха, и я спросил:
– А если за это время меня от безделья сморит сон и я бултыхнусь в озеро?
На сей раз егерь откровенно расхохотался.
– Не переживайте, не сморит. Зря, что ли, кофе вас поил? К тому же на сиденье есть страховочный пояс, можете пристегнуться. Всё?
– Всё.
– Тогда поехали.
Егерь залез в катер, поднял его над землёй и, подцепив плот тросом за арматуру, понёс над двумерной водой метрах в десяти от поверхности. Точно по центру озера катер завис и начал медленно-медленно опускать плот. Если операция доставки плота на место заняла минуты две, то его установка – минут пятнадцать. Наконец стравливаемый трос провис, и я почувствовал, как плот легонько закачался на антигравитационной подушке.
– Якоритесь! – крикнул сверху егерь.
Я послушно нажал на кнопку и почувствовал, как плот стабилизировался. Егерь отстегнул буксировочный трос, втянул его на борт и отвёл катер в сторону.
– Теперь опускайте наживку!
Эту операцию я проделал медленно и неторопливо, как учил Бори Чилтерн.
– Нормально! – крикнул из катера егерь. – Сидите смирно, и всё будет в порядке. Счастливо!
Катер умчался, и я остался один на один с Великим Ухтары и заданием Мальконенна, срок выполнения которого наступил.
Первым делом я придал жёсткость накидке, превратив её в твёрдый каркас, чтобы с берега не было заметно манипуляций под накидкой. Задачу ухода с плота, облегчало ещё и то, что я сидел спиной к восточному берегу, поэтому моего исчезновения из-под накидки никто заметить не мог. Однако, закончив с накидкой, я минут пять, раздираемый сомнениями, сидел в полной неподвижности, тупо уставившись на золотую цепочку, уходящую под поверхность «неощутимой пыли». На деньги, вырученные от продажи раймондской безделушки, я мог организовать сотню таких путешествий, как на Сивиллу. Так стоило ли рисковать, выполняя договор с Мальконенном? Чашу весов не в мою пользу склонил единственный, но очень весомый аргумент – я по-прежнему не знал ИСТИННОЙ ДЛЯ МЕНЯ ЦЕНЫ раймондского артефакта, поэтому решил идти до конца.
И тут меня запоздало осенило. Если бы перед отъездом в заповедник «Территория туманов» я в довесок к артефакту попросил пару яиц занзуры, Броуди бы с превеликим удовольствием их подарил. И вовсе не потому, что их цена на рынке экзотических животных смехотворна по сравнению с ценой артефакта. Причину щедрости Броуди я до сих пор понять не мог, но в результате не нужно было бы сейчас нырять в озеро, пускаясь в губительную для здоровья авантюру. К сожалению, все мы умны задним умом, и сейчас просить было поздно: почему-то я был уверен, что своим отъездом на озеро я уже заплатил НЕВЕДОМУЮ ЦЕНУ, и теперь оставалось только нырять.
Медленно и очень аккуратно, как во время тренировок дома на антигравитационном тренажёре, стащил с себя комбинезон и остался в тончайшем гидрокостюме, изготовленном специально для пребывания в агрессивных средах – в воде Рио-Бланко содержалось около двух процентов формалина. Надел перчатки, респираторную маску заменил фильтрующим воздух загубником, а на голову, до самого рта, натянул прозрачную, облегающую маску. Рот я закрою маской перед самым погружением, когда начнут дышать имплантированные жабры. Затем вынул из кармашка гидрокостюма гравикомпенсатор и прикрепил его к сиденью. Когда буду погружаться в озеро, его миникомпьютер, настроенный на показания биочипов, плавно компенсирует отсутствие моей массы на плоту.
Всё было готово к погружению, оставалось только нырять. Оглядевшись напоследок по сторонам, я заметил, что на поверхности озера кое-где начали появляться блестящие пятна воды. Они медленно разрастались, и это очень напоминало таяние льда в пруду. Только процесс на озере Чако протекал гораздо быстрее. Не следовало полагаться на заверения егеря, что в моём распоряжении три-четыре часа. Максимум два, учитывая затраченное время на раздевание и предстоящее по возвращению одевание.
На всякий случай с помощью обыкновенного зеркальца я посмотрел, что делалось на берегу за моей спиной. Егерь возился у раскладного столика, убирая посуду после завтрака, туристов нигде не было видно. Вероятно, ещё спали. Оставалось надеяться, что никто не наблюдает за плотом в оптику: всё-таки в пятисантиметровом просвете между плотом и зеркалом озера можно было заметить моё погружение. Но я бы рисковал в любом случае.
Конечная цель моего подводного путешествия находилась от меня где-то в километре. Лысый глинистый холм имел пологие склоны, но берег возле него, подмытый водой, был довольно крут. И хотя бесшумно выбраться из воды и взобраться на берег не составляло особого труда, проделать обратный путь и погрузиться в воду без всплеска представлялось вряд ли возможным. А чем чревата волна на озере, я знал. К счастью, слева холм огибала небольшая затока с пологими берегами, которая решала проблему бесшумного входа в воду. Именно в эту затоку и лежал мой путь.
«Пора», – решил я, расправил пористый спинной плавник гидрокостюма, через который должны были дышать жабры, надел ласты и стал медленно сползать в воду, держась за поручень. Погрузившись в воду по плечи, натянул маску под подбородок, приклеил её край к воротнику гидрокостюма и первый раз вдохнул жабрами. Режущая боль, обещанная марсианским хирургом, ножом прошлась по спине, но мгновенно прошла, а затем грудь охватил холод. «Для теплокровного гуманоида с вживлёнными жабрами пребывание в воде ограничено двумя часами, – предупреждал марсианский хирург. – Иначе переохлаждение грозит остановкой сердца». Следовало прислушаться к его наставлениям, так как спустя два часа в озере Чако меня ждала ещё одна смерть. От деяния Великого Ухтары. А дважды умереть – это уже слишком.
Вдохнув жабрами второй раз, я отпустил поручень и плавно ушёл под воду. И здесь чуть не запаниковал. Не знаю почему, но я считал, что под водой будет хорошо видно, здесь же царила кромешная мгла. Абсолютно не учёл, что если двумерная вода на поверхности выглядит непрозрачной, то и в объёме будет то же самое! Как же теперь ориентироваться?! Столь глупая ошибка может дорогого стоить.
Закрыв глаза, я громадным усилием воли подавил панику и сконцентрировался. В общем, ничего страшного не произошло – что при свете, что без света, к лысому холму из рыже-охристой глины меня должны были вести биочипы. Свет помог бы с ориентацией в пространстве: где верх, где низ, каково расстояние до поверхности, – но не более. С этой задачей биочипы также легко справятся, если им полностью передоверить управление телом.
Что я и сделал, и тут же почувствовал, что плыву на «автопилоте» биочипов.
Я не Гай Юлий Цезарь, который одной рукой писал «Commentorii de Bello Gallico» [3] , другой – письмо via Roma [4] жене Кальпурнии, а сам в это время вёл весьма щекотливую беседу с прибывшим в Северную Галлию народным трибуном Публием Сестием, пытавшимся заручиться согласием Цезаря на возвращение Цицерона из изгнания. Однако в минуты подводного плавания ощутил в себе такие же феноменальные способности. Одно полушарие мозга думало о предстоящем задании, другое решало абсолютно неуместную в данной ситуации проблему: почему двумерная вода, присутствующая в нашем мире в виде неощутимой проекции, видима, почему она занимает объём, и сколько её накопилось за десятки тысяч лет существования озера? Первые два аспекта проблемы, математически объясняемые топологической полиметрией, не поддавались восприятию существом трёхмерного мира, зато третий вычислялся с помощью простенькой школьной задачи о бассейне с двумя трубами. Поскольку дно озера не удавалось прощупать никакими способами эхолокации, объём озера вычислялся по воде, поступавшей в него из первой «трубы» – Рио-Бланко. За полтора месяца Рио-Бланко приносила в озеро около одного кубического километра воды, затем вся эта вода в мгновенье ока «ухала» через вторую «трубу» в двухмерность и всё возвращалось к исходному положению. В задаче спрашивалось, сколько же воды «ухнуло» в двухмерность за сто тысяч лет (минимальный возраст озера Чако по геологическим данным) и что произойдёт, если вся масса воды вдруг в одночасье вернётся в трёхмерный мир Раймонды? Цифры получались ошеломляющие. Высвободившаяся энергия от такой массы на два порядка превышала энергию сверхновой Йоты Бригомейского Богомола, уничтожившей всё живое в радиусе двадцати двух световых лет. Силён, однако, раймондский дух Ухтары, ни одна цивилизация Галактического Союза не могла похвастаться такой мощью…
Первое полушарие мозга отметило, что я вплыл в мелководную затоку у лысого глинистого холма, и я полностью переключился на предстоящую задачу. Чтобы не создавать даже малейшей волны, к берегу я подплывал очень медленно, почти как аллигатор во время охоты на водопое. Столь же медленно, подобно рептилии, ползком, выбирался на сушу. Но здесь была ещё одна причина не торопиться – мимикрия ткани гидрокостюма под цвет глины протекала не столь быстро, как хотелось. Наконец я полностью выбрался на берег, освободил рот и через загубник вновь задышал лёгкими.
Что меня могут заметить, я не боялся – мимикрия гидрокостюма была качественной, а поднявшееся над горизонтом солнце светило со стороны лагеря, и оттуда моей тени не было видно, – но всё-таки предпочёл передвигаться ползком. Бережёного и бог бережёт – кажется, так говаривали мои славянские предки.
Добывать яйца занзур оказалось неожиданно легко, так как занзуры не выносили прямых солнечных лучей и к тому же не охраняли кладки. Объяснялось это просто – скорлупа яиц содержала столько токсичного для местных форм жизни мескатолина, что на яйца не только никто не покушался, но и на глине лысого холма ничто не росло. Первые кладки яиц я обнаружил уже в десяти метрах от берега, а выше по склону их было не счесть. Самым трудоёмким и длительным процессом оказалось раскапывание кладок, которые находились на глубине полуметра. Я раскопал четыре, потратил на это около получаса, и только яйца в последней меня удовлетворили. Три небольших, с ноготь большого пальца яйца занзуры с ещё мягкой полупрозрачной скорлупой свидетельствовали о том, что кладке не более двух дней. Именно такие яйца мне и нужны. Упаковав яйца в контейнер, я сунул его в нагрудный карман гидрокостюма, запечатал клейким клапаном и принялся восстанавливать первые три кладки, укладывая яйца на дно раскопанных ям и засыпая их глиной. Я не варвар, пусть яйца дозревают, а вылупившиеся из них занзуры очаровывают песенными руладами раймондцев, сохранивших в крови тягу к своим истокам.
Лёгкая эйфория, что всё так гладко и просто закончилось, овладела мной, и я, кажется, что-то тихонько напевал себе под нос. Две кладки восстановил и уже укладывал яйца в последнюю, как вдруг ощутил на себе чей-то тяжёлый, пристальный взгляд. Не донеся яйца до дна кладки, я замер и медленно повернул голову. Рано радовался. Всё хорошее закончилось, начинались неприятности. Смерть от остановки сердца из-за переохлаждения в воде мне не грозила – достаточно нагрелся на солнце, пока выкапывал яйца занзур, – но судьба-злодейка подсовывала иной вариант. У самой кромки воды на берегу сидела пересмешница. Была она раза в два больше особи, встреченной вчера, и явно поджидала меня, не желая взбираться вверх по ядовитой глине. Эта пересмешница мять мои кости и вымазывать слизью не собиралась. Она собиралась меня глотать.
«Ты каким образом здесь оказалась?! – зло подумал я. – Здесь для тебя сплошной яд, даже в глине содержатся следы мескатолина!» Пересмешница никак не отреагировала на мой беззвучный вопль отчаяния. Сидела на месте, поводила выпученными глазами из стороны в сторону, но меня из поля зрения не выпускала. Отнюдь не случайно существовало некоторое сходство между раймондцами и пересмешницей (если верить в псевдонаучную теорию происхождения раймондцев, именно она послужила исходным материалом для лепки мифическим праразумом местного венца творения) – был у неё интеллект или его подобие, так как по части охоты она соображала хорошо. Не обманул её рыжий цвет моего гидрокостюма, и не пугало, что руки у меня выпачканы глиной – содержание мескатолина в таком количестве глины могло вызвать у неё разве что лёгкое желудочное недомогание.
Я с тоской огляделся по сторонам. Иного пути к воде не было – спускаться в озеро с обрывистого берега равносильно самоубийству. А пережидать, безосновательно надеясь, что пересмешница уйдёт, не было времени – вода в озере прибывала на глазах, и уже добрая половина поверхности зеркально отблёскивала чёрными проплешинами. Оставалось одно – драться. Видел я не раз, как земные жабы заглатывали насекомых – в одно мгновение. Но я не насекомое, масса у меня приличная, так что столь быстро у пересмешницы со мной не получится.
Свободной правой рукой я медленно потянулся к поясу за ножом, но пересмешница только и ждала от меня какого-либо движения. Выстрелила языком, поймала руку за запястье и рванула на себя. Не успей я вцепиться левой рукой в край раскопанной ямки, то непременно, совершив кульбит, оказался бы в пасти пересмешницы подобно насекомому в пасти жабы. Растянутый за руки как во время средневековой казни, я почувствовал, как под пальцами хрустнула скорлупа яиц, и где-то на периферии сознания промелькнула мысль, что этим занзурам уже не суждено петь. Как и мне не суждено жить, поскольку край ямы оказался ненадёжной зацепкой и начал расползаться под пальцами. Немыслимым образом извернувшись, я сел и упёрся пятками в землю. И всё равно силы оказались явно неравными, да и твёрдого упора ни для пяток, ни под пальцами не было. Бороздя пятками глубокие рытвины, я медленно, но неуклонно приближался к пасти. Какой глупый конец…
И тогда в бессильной ярости, срывая ногти левой руки, я захватил большой комок глины и швырнул в пасть пересмешницы, отчаянно жалея, что это не парализующая граната. Неожиданно эффект от комка глины оказался не менее действенным. Кадык на широкой шее пересмешницы судорожно дёрнулся, ярко-зелёная, лоснящаяся кожа посерела, выпученные глаза впали в глазницы как проколотые воздушные шарики, язык безвольно обвис и отпустил мою руку. А затем пересмешница начала оседать, крениться назад, заваливаясь спиной в затоку.
Я замер. Сейчас раздастся шумный всплеск, по воде пойдут широкие круги, вызывая возмущение на плоскости топологического перехода, и… Наверное, это был бы конец, но биочип перехватил управление телом на себя, правая рука схватила язык пересмешницы, сильно дёрнула, и тело пересмешницы грузно шлёпнулось на берег.
Я ошарашено уставился на ладони. От перчатки на левой руке остались лохмотья, ноготь с безымянного пальца был сорван до основания, на землю капала кровь. Не обладал биочип под ногтем разумом и не способен был к самопожертвованию, но именно он мгновенно оценил ситуацию, вычислил эффект от попадания громадной дозы мескатолина из раздавленных яиц занзуры на слизистую гортани пересмешницы и швырнул моей рукой ком глины, сам выйдя из строя. А биочип в правой руке не только анестезировал боль от сорванного ногтя, но и вовремя среагировал на падение пересмешницы…
И всё же что-то тут было не так. Мескатолин – сильнейший яд для фауны Раймонды, но даже он не способен моментально убить, должно пройти несколько секунд. Только парализатор способен мгновенно обездвижить животное…
Внимательно осмотревшись по сторонам, я ничего подозрительного не заметил. На пригорке, где расположился наш лагерь, туристы-раймондцы, рассредоточившись, устанавливали на траве какие-то неразличимые отсюда приспособления, и им было явно не до меня. Правда, егеря нигде не было видно, но с такого расстояния его легко принять за туриста.
Тогда я осторожно потрогал язык пересмешницы. Упругий, как от действия парализующего луча. Но в то же время я не знал, каким он должен быть от действия мескатолина.
Имелось у меня кое-что с собой для обобщающего анализа, однако времени на расследование не было – поверхность озера почти вся стала глянцево-чёрной, а серо-белые островки «неощутимой пыли» таяли на глазах. В моём распоряжении оставались минуты, и я пополз к озеру, опираясь на правую руку, а левую прижимая к груди.
Без всплеска входить в воду с плота гораздо проще, чем на мелководье. Минут пять я затратил на погружение, чтобы ни малейшей волны не возникло на поверхности. И только окунувшись с головой в непроглядную темень, я подумал, как правильно сделал, что имплантировал под ногти два дублирующих друг друга биочипа. Не сделай этого, кто бы остановил пересмешницу от падения в озеро и довёл меня сейчас «автопилотом» к плоту?
В этот раз под водой никакого раздвоения личности не произошло. Ныл изуродованный палец; то ли от потери крови, то ли от попавшего в рану мескатолина, то ли от излишка поступавшего в организм через жабры формальдегида поташнивало, поэтому я ни о чём не думал, а лишь страстно желал как можно быстрее очутиться на плоту.
Я почти достиг плота, как вдруг на уровне подсознания почувствовал опасность. Рецепторы оставшегося биочипа засекли первичные следы изменения топологии пространства, передали их в мозг, где послание трансформировалось в странную картину. В кромешной тьме я вдруг «увидел», как со дна медленно, но со всё нарастающей скоростью, клубясь, поднимается нечто аморфное, безликое и страшное в своей неотвратимости как поршень в цилиндре. И если я срочно не покину «озеро-цилиндр», этот поршень раздавит меня в порошок. Двумерный порошок.
Как я не запаниковал, не заработал отчаянно ластами, переключив управление телом на себя, не знаю. «Автопилот» биочипа вывел меня на поверхность озера под плотом, управляя руками, ухватился за поручень, медленно извлёк из воды, усадил на сиденье. И только здесь, когда я, наконец, переключил управление телом на себя, меня скрутило от дикой боли в изуродованном пальце, обожжённом раствором формалина. Биочип почти тотчас отключил мои болевые окончания, но было поздно. В пароксизме боли я нечаянно сорвал укреплённый на сиденье гравикомпенсатор, и он полетел в воду.
Успел ли гравикомпенсатор коснуться воды, я не увидел, потому что в этот момент мир с диким уханьем содрогнулся, словно привидевшийся в озёрной мгле поршень аморфной массы достиг поверхности и спрессовал всю воду в серо-белую математически выверенную плоскость. Ударная волна громом сотрясла плот и, уйдя в атмосферу, рокотом покатилась между холмами.
– УХ’ТА-Р-Р-РЫ… – возвестил миру о своём пришествии Великий дух озера Чако. Небольшие смерчи «неощутимой пыли» заплясали над озером, разбрасывая мелкие шаровые молнии, взрывающиеся с шипением и треском наподобие шутих.
Вихревое электростатическое поле громадной мощности блокировало биочип, и меня вновь до потемнения в глазах оглушила боль в левой руке. К счастью, вакханалия электростатики бушевала недолго, но когда биочип включился и анестезировал руку, от последствий болевого шока я ощущал себя пришибленным. Сознание функционировало заторможено и как бы отдельно от тела. Я действовал так, словно мной по-прежнему управлял «автопилот» биочипа: механически сбросил в озеро ласты (теперь их падение в трёхмерную пустоту котловины озера никаких катаклизмов вызвать не могло), туда же швырнул лохмотья перчаток, выплюнул загубник, надел респиратор и стал натягивать комбинезон. Краем сознания отметил, что шипение и треск шаровых молний переместилось к восточному берегу, и глянул в зеркальце себе за спину. Нет, это были не шаровые молнии. Это были настоящие шутихи и петарды плюс к ним широчайший набор иной пиротехники. Пригорок, на котором был разбит лагерь, затянуло пиротехническим дымом, в этом дыму, освещаемые сполохами фейерверка, метались фигурки донельзя возбуждённых раймондцев. Пришёл их праздник.
Закончив с одеванием, я вернул накидке эластичность, сбросил её с плеч и, встав с сиденья, помахал рукой, чтобы меня забрали. Я думал, что егерь примчит за мной на катере сразу же после свершения таинства, но прошло ещё минут пятнадцать, и только когда фейерверк на пригорке пошёл на убыль, из дыма, наконец, вынырнул катер и направился ко мне.
– Как дела? – приближаясь, радостно прокричал егерь из катера.
– Не очень, – пасмурно ответил я, показывая палец с сорванным ногтем.
– Тю! – изумился егерь. – Как же это?
– А вот так. Сморил меня сон всё-таки, не помог кофе. А когда громыхнуло, я дёрнулся от испуга, хотел схватиться за арматуру, да спросонья получилось не очень удачно.
– Совсем не очень! – чертыхнулся егерь. – Таких туристов-растяп мне ещё не доводилось сопровождать. А как с наживкой?
– С наживкой? – Я растерялся и оглянулся на «удочку». Совсем забыл, зачем я, по официальной версии, находился здесь. Но автоматический подсекатель сработал как часы, и теперь на золотой цепочке в полуметре от поверхности озера шевелила лучами двумерная звезда, то появляясь в поле зрения, то исчезая. – А что с ней случится? У неё ногтей нет… – попытался шуткой нивелировать свою растерянность. – С ней всё нормально.
– Ну ты и фрукт! – фыркнул егерь. – Поехали.
На обратном пути, неся плот над озером, егерь уже не соблюдал никаких мер предосторожности. Левый борт окунулся в двумерную воду и до самого берега бороздил её. Наконец я смог осуществить своё желание и опустить руку в чистую двумерную воду без смеси с трёхмерной. Что я и сделал, но, как и ожидалось, ничего не ощутил. Оправдывая своё название, «неощутимая пыль» беспрепятственно проходила сквозь ладонь, и никаких следов на поверхности озера не оставалось.
На берегу меня встретила толпа восторженных раймондцев, в своём крайнем возбуждении напоминавших дикарей, впервые увидевших инопланетянина. Они обступили меня со всех сторон, всучили в руки большую чашу с шампанским и заголосили на все лады. «У-ух!» – кричали одни, «Т-та, т-та!» – пытались перекричать первых вторые, «Р-р-р-ры!» – заглушали и первых, и вторых третьи. Только сейчас я понял этимологию имени Великого духа озера Чако.
– Пейте, – подсказал егерь из-за спины. – Пейте до дна.
Шампанское пить не хотелось, почему-то от одного его вида с души воротило. Хотелось водки. Сейчас водка была просто необходима, чтобы снять послестрессовое напряжение. Насколько знаю, более радикального способа в природе не существует.
– А водки нет? – тихо спросил через плечо.
– Пейте! – жёстко сказал егерь. – Не выпьете, оскверните ритуал.
Я зажмурился, поднёс чашу ко рту и опрокинул её. Больше на себя, чем в рот. Да и те крохи, которые попали в рот, тоже вытекли и сбежали по бороде пузырящимися струйками. Если бы хоть капля попала в гортань, меня, наверное, вывернуло бы наизнанку. Вот тогда бы уж точно осквернил ритуал…
Не заметив подвоха, толпа раймондцев взорвалась восторженным рёвом, послышались хлопки пробок, и брызги шампанского полетели во все стороны. Похоже, я на правах почётного гостя открыл церемонию потребления «национального» напитка. По крайней мере, на меня уже никто не обращал внимания.
– Всё? – спросил я у егеря, обернувшись.
– Всё-всё, – успокоил Бори Чилтерн и панибратски похлопал меня по плечу.
– Водка есть? – вновь повторил я вопрос.
Егерь недоумённо уставился на меня, но затем, сообразив, понял моё состояние.
– Есть. Идём.
Он подвёл меня к антигравитационному катеру, перегнулся через борт и принялся копаться где-то в изножье. Куртка на спине задралась, и я увидел, что сзади к широкому ремню пристёгнута кобура, с торчащим из неё парализатором.
«Где же ты был всё то время, пока я махал с плота рукой?» – про себя спросил я егеря, тупо уставившись на парализатор.
Егерь наконец извлёк из катера двухлитровую бутыль буро-белесой жидкости и повернулся ко мне.
– Держи.
Я схватил бутыль, как алкоголик в тяжком запое, сорвал пробку и основательно приложился к горлышку. Как и кофе, раймондская водка ничего общего с земной не имела. Забористый самогон, настоянный на местных душистых травах. Но, в общем-то, мне сейчас и нужно было крепкое спиртное. Любое. Отхлебнув порядочную порцию, я почувствовал, как голова начинает тяжелеть, затуманиваться, и этот туман заполняет глубокую щель между расслоившимися сознанием и телом.
– Спасибо… – облегчённо выдохнул я, но бутыль не вернул.
Бори Чилтерн смерил меня взглядом сверху донизу.
– Оставь себе, – сказал он.
– Спасибо, – ещё раз поблагодарил я. – Моё присутствие на празднике обязательно? – кивнул в сторону веселящейся толпы раймондцев, продолжающих окатывать друг друга шампанским.
– Я уже объяснял: хотите – присоединяйтесь, хотите – нет. Как хотите.
– Тогда пойду палец лечить, – сказал я. – Может, позже присоединюсь.
– Сувенир возьмите. – Чилтерн протянул прозрачную коробочку со снятой с «удочки» двумерной звездой.
– Благодарю, – кивнул я, взял коробочку и с бутылью под мышкой нетвёрдой походкой направился к палатке.
В палатке я занялся самолечением. От мескатолина препаратов не было, но для человека мескатолин не является ядом, хотя в больших дозах оказывает галюциногенное действие. Поэтому первым делом я принял лошадиную дозу препаратов, нейтрализующих формальдегид, попавший в кровь через жабры, затем переоделся и только тогда занялся обработкой раны. Смазал омертвевшую от формалина кожу смягчающим кремом, а безымянный палец заклеил бактерицидным пластырем. Не ахти какое лечение, но никому из медиков на Раймонде показывать рану не собирался. Не хватало ещё, чтобы кто-нибудь увидел торчащий из-под обрывков кожи биочип.
Затем я таки выбрался из палатки, но к раймондцам не пошёл. Сел в шезлонг и, раскачиваясь в нём как в кресле-качалке, принялся прихлёбывать из бутыли раймондскую водку, осоловевшим взглядом окидывая окрестности. Если по-честному, то я и не мог присоединиться к раймондцам – окружающее плыло в глазах, мир тихонько колыхался, звуки становились всё глуше и глуше. Пока я окончательно не выпал из реальности.
Очнулся я поздним вечером от сильного, чистого, бередящего душу звука, который разбудил не только моё сознание, но и отозвался резонансом в каждой клеточке тела.
– За-анзу-уры-ы! – восторженно взорвалась толпа раймондцев на берегу.
Сознание наконец соединилось с телом, но зрение было по-прежнему расфокусированным. Мне казалось, что на берегу непонятно откуда собралась громадная толпа, она кишела единой массой и была больше похожа не на сборище раймондцев, а на дикий шабаш пересмешниц. При этом пересмешницы продолжали выбираться из озера и бестелесными тенями вливаться в общую бурлящую массу.
За первым кличем занзуры последовал второй, и, наконец, зазвучал их хор. Это действительно было нечто возвышенное и неземное, как хор ангелов в раю. Рассудком я прекрасно понимал, что в пении занзур очень много от психокинетического воздействия и резонансного отклика клеточной структуры организма, но противиться обвораживающей музыке высших сфер не мог. И не хотел.
То ли от чрезмерного количества формальдегида в крови, то ли от выпитой водки, то ли от галюциногенного действия мескатолина, то ли от пения занзур в голове у меня всё смешалось. Я ощущал себя то Улиссом, привязанным к мачте и соблазняемым дивным пением сирены с лицом сивиллянки по имени Нэфр’ди-эт, которая лежала навзничь на западном берегу озера Чако, а то сыном Улисса – Телемахом, узревшем творческим взором средневекового поэта-славянина «облое чудище» с выпученными глазами жабы-пересмешницы, рассыпающими искры «неощутимой пыли».
Полярное сияние трепетало по всему небосклону громадным покрывалом Пенелопы, воздух дрожал и струился, звеня райскими голосами сирен, грудь великанши, лежащей на том берегу, колыхалась, ходила ходуном в ожидании любовника, а я сидел в шезлонге, отхлёбывал водку из горлышка и бормотал великанше одно и то же, как заведённый:
– Прости, женщина, я не твой поклонник…
11
На следующее утро, договорившись с егерем, я отбыл в i-Эрмитаж на два часа раньше запланированного времени. Очень не хотелось встречаться с Броуди, так сказать, с корабля на бал. Видеть его слащавую физиономию при моём полном моральном и физическом истощении было выше всяких сил. К тому же палец воспалился, подёргивал, и раньше времени началось отторжение жабр. А учитывая вчерашние приключения, разбалансировку клеточной структуры организма под воздействием психокинетического пения занзур и жестокое похмелье, настроение у меня было упадочное. Впрочем, туристы-раймондцы и егерь в том числе с утра выглядели не лучше. Но если я хоть немного поправил здоровье тонизаторами да и биочип в какой-то степени коррелировал подавленность, то на раймондцев было жалко смотреть. Остатки шампанского, которыми они пытались взбодриться, никак не помогали.
Когда я ступил на брусчатую площадь перед i-Эрмитажем, там царила суматоха. Многие из гостей, сопровождаемые эскортом охранников, отбывали кабинами межпространственного лифта на космостанцию «Раймонда-II» для посадки в лайнер, и затеряться среди них не составляло труда. Я вызвал кибертележку, доставил экспедиционное снаряжение к себе в номер и занялся обратной процедурой замены своего спецснаряжения, использованного на озере Чако, на раймондское. Справился с этим быстро, а затем принялся не спеша упаковывать личные вещи. И когда ровно через два часа в номер вбежал излишне возбуждённый Броуди, я застёгивал последний баул.
– Господин Бугой! – возмущённо закричал Броуди с порога. – Ну как так можно! Мы приготовились к торжественной встрече, а вы, оказывается, уже два часа как здесь! Неужели нельзя было предупредить?!
– Добрый день, господин Броуди, – распрямляясь, сказал я.
– А?.. – запнулся Броуди и покраснел. – Извините, здравствуйте. Но всё-таки, как так можно? – пожурил он. – Мы вам сюрприз подготовили, а вы…
– Как прошла церемония закрытия? – будто не слыша его причитаний, спросил я.
– Церемония закрытия? О, великолепно! – Тут Броуди понял, что сморозил глупость. – Ну… В общем, неплохо. Почти так же, как открытие. Думаю, вы ничего не потеряли, зато увидели на Раймонде нечто такое, что позволено лишь особо почётным гостям планеты. Надеюсь, понравилось?
Я внутренне содрогнулся. Глаза бы мои больше не видели раймондских праздников, когда аборигены в диком экстазе возвращают себе истинное обличье.
– Понравилось, – коротко сказал я. – Особенно это, – продемонстрировал Броуди коробочку с двумерной морской звездой.
– О! – театрально закатил глаза Броуди. – Какой прекрасный сувенир! Думаю, вы надолго запомните своё путешествие по Раймонде.
Я остро глянул в глаза распорядителя выставки. В них плясали хитрые искорки, чем-то похожие на серо-белую «неощутимую пыль» озера Чако.
«Да уж, господин Броуди, запомню надолго. Навсегда», – подумал я, но вслух не сказал.
– Кстати, разрешите вам всё-таки показать наш сюрприз. Идёмте, – предложил он.
Я поморщился. Только сюрпризов мне и не хватало. По-моему, вчера их было предостаточно. Или этот сюрприз именно из вчерашнего дня – типа видеоплёнки, где я заснят в момент пребывания на родовище занзур?
– Господин Броуди, – попытался воспротивиться, – нам надо завершить некоторые формальности. Упаковать скульптуру и отправить её на таможню. Многие гости уже отбывают.
– Да-да, непременно, – затараторил Броуди, увлекая меня за рукав к выходу из номера. – Мы сейчас же этим займёмся. – Заметив, что я оглянулся, он добавил: – А за багаж не беспокойтесь, пока мы будем оформлять документы на скульптуру царицы Нэфр’ди-эт, его доставят на таможню.
Броуди повёл меня каким-то странным маршрутом, которым я раньше не ходил. За месяц пребывания в i-Эрмитаже я достаточно хорошо изучил планировку дворца, но те лестничные марши, переходы, залы, анфилады комнат, которыми мы проходили, к моему удивлению были мне не знакомы. Подозрения, что меня ведут смотреть «кино», всё более укреплялись. Эх, недооценил я егеря, видимо, он действительно наблюдал за моими действиями с восточного берега. Что ж, спасибо ему хотя бы за выстрел из парализатора…
– Куда мы идём? – наконец, не выдержав, спросил я.
– В зал с экспозицией скульптуры Нэфр’ди-эт.
По-моему, мы двигались совершенно в ином направлении, но я не стал спорить и предложил с максимальной корректностью:
– Я знаю более короткий путь.
Броуди снисходительно захихикал и, как мне показалось, не без доли сарказма.
– Вашим путём мы сейчас не пройдём. В связи с закрытием выставки во многих залах начат ремонт, к тому же по генеральному проекту мы проводим перепланировку дворца.
Я промолчал, но голове вновь раздался предупреждающий щелчок. В перепланировку дворца я никак поверить не мог. Ни при каких обстоятельствах. Сама суть раймондской цивилизации базировалась на наиболее точной имитации чего бы то ни было, начиная хотя бы с этого дворца и заканчивая обликом Homo sapiens . А тут – перепланировка i-Эрмитажа!
Мы шли ещё минут пять, и я готов был уже вспылить, как неожиданно оказался возле знакомой двустворчатой двери.
– Прошу вас! – с торжественным апломбом пригласил Броуди, распахивая створки и пропуская меня вперёд.
Чувствуя себя сбитым с толку, я ступил на порог и вошёл в зал. Однако доля предубеждённости, что за двусмысленным обещанием Броуди показать мне некий сюрприз и за путём, которым мы сюда шли, скрывается какой-то подвох, не исчезла. Зал был вроде бы тот же: те же стены, увешанные гобеленами, те же мраморные колонны, тот же расписной потолок, те же окна, тот же постамент в центре зала, на котором стоял песчаниковый бюст царицы Нэфр’ди-эт. И всё же чего-то не хватало. Но чего именно не достаёт мешало определить угнетённое состояние.
Я попытался сосредоточиться, однако ничего не получилось. И тогда я призвал на помощь биочип, легко восстановивший в памяти картинку зала, которую я на протяжении месяца ежедневно наблюдал по утрам и вечерам. Разница оказалась настолько неправдоподобной, что я обомлел. Из зала исчезли хейриты, а защитное поле вокруг экспоната было отключено.
– Где охрана? – металлическим голосом спросил я.
Броуди расхохотался.
– Сюр-приз! – протянул он.
– Где охрана?! – повысил я голос. Угнетённое состояние не располагало к шуткам и розыгрышам. Я был готов убить Броуди. Промелькнувшая было мысль, что Броуди попытается обменять видеоплёнку с моими вчерашними «подвигами» на скульптуру Нэфр’ди-эт, испарилась без следа. Это совсем глупо – владелец-то не я… Похоже, всё, что сейчас происходило, не имело никакого отношения к моим похождениям на озере Чако. Что-то я стал чересчур мнительным…
– А вы подойдите ближе и попытайтесь взять скульптуру! – по-прежнему веселясь, предложил раймондец. Рот у него был растянут до ушей, в глазах нагло перемигивались хитрые искорки.
С трудом удержавшись, чтобы не броситься на привидевшееся в Броуди «облое чудище», я сглотнул тугой ком, перекрывший горло, шагнул к постаменту и протянул руку. Рука прошла сквозь песчаниковый бюст египетской царицы как сквозь «неощутимую пыль».
– Сюр-приз! – повторился Броуди и снова заливисто расхохотался. – Мы создали голограмму скульптуры, и теперь она будет экспонироваться вместо оригинала!
– Вы не имели права… – выдохнул я.
– Почему? – хитро улыбаясь, Броуди сделал удивлённое лицо. – В пункте 6.3 нашего договора нам предоставлено право фотографировать экспонат. Мы им и воспользовались.
Взяв себя в руки, я вновь обратился к биочипу, и он восстановил в памяти текст договора. Действительно, имелся такой пункт, но он не указывал способа съёмки и был составлен настолько расплывчато, что позволял владельцу экспоната в любой момент отказать в фотографировании, и в то же время разрешал провести съёмку без согласия владельца. Естественно, что ни один владелец экспонатов, узнай, какую именно съёмку собираются провести устроители выставки, не дал бы своего согласия. Вот почему всех столь навязчиво агитировали в экскурсии по экзотическим уголкам Раймонды…
– У нас теперь есть голограммы всех экспонатов выставки! – патетично провозгласил Броуди. – Выставка закрывается, но выставка и продолжается! И будет длиться всегда!
Я внимательно посмотрел на Броуди. Почему-то казалось, что не только в голограмме дело. За одну только голограмму песчаникового бюста царицы Нэфр’ди-эт не преподносят столь дорогой подарок, как двумерный артефакт. Предупреждающие щелчки в голове превратились в сплошной треск, но на них накладывался шум крови в ушах от начавшегося отторжения жабр, и я был уже не способен здраво оценить ситуацию из-за воцарившегося в сознании бедлама.
– Ну, а теперь, когда вы знаете всё, пойдёмте оформлять документы на отправку подлинника хозяину, – сказал Броуди.
– Пойдёмте, – кивнул я. На меня вдруг навалилась усталость. Какое мне, собственно, дело до голограммы бюста Нэфр’ди-эт и того, что за этим скрывается? Я обыкновенный сопровождающий, ответственность за раритет несут охранная и страховая фирмы. Мне же сейчас предстоит работа. Небольшая, но очень тонкая. Я бы даже сказал: ювелирная.
В зале с настоящим бюстом Нэфр’ди-эт нас уже поджидали ионокцы. Процедура оформления документов на отправку экспоната владельцу ничем не отличалась от той, которую мы проделали на вилле Мальконенна, а затем при установке скульптуры в демонстрационном зале. Броуди отключил защитное поле, снял скульптуру с пьедестала и передал её ионокцам, которые тут же приступили к своим обязанностям. Параметры чуть-чуть не совпали с зафиксированными месяц назад – вместо возраста в пять тысяч триста плюс-минус тридцать четыре года, сканер ионокцев показал пять тысяч триста плюс-минус двадцать два года, – но они являлись вполне допустимыми. Эти расхождения вписывались в пределы отклонений, объясняемых иной окружающей средой, в которой находился экспонат. Ионокцы запротоколировали данные и передали скульптуру мне.
И вот тут случилось неожиданное – мой анализатор показал те же плюс-минус двадцать два года! И это при всём при том, что точность карманного хронографа ниже точности анализатора ионокцев! Нет, ничего выходящего за рамки достоверности в этом не было, однако такое совпадение показаний приборов разной степени точности вызывало удивление. В голове опять предупреждающе щёлкнуло, но на сей раз мне было не до того.
– Занесите показания в протокол, – сказал я и повернулся к Броуди, который держал подставку для скульптуры на вытянутых руках. И в момент, когда моя спина загораживала песчаниковый бюст царицы от глаз хейритов, я провёл левой рукой по её основанию. Контейнер с яйцами занзуры скользнул в углубление скульптуры и закрепился там на распорках. Ионокцы и Броуди ничего во время моей манипуляции заметить не могли, а вот глаз хейритов, фиксирующих всё происходящее с фотографической точностью, я опасался.
– Прошу вас, – галантно улыбнулся я Броуди, вставляя скульптуру в углубление поставки.
Броуди ответил не менее благожелательной улыбкой, накрыл скульптуру прозрачным колпаком и, поместив в переносной сейф, закрыл его.
– Подписываем протокол и можем отправляться на таможню, – сказал он.
12
Кажется, таможенник был тем же самым, который просвечивал сейф при моём прибытии на космостанцию «Раймонда-II». Но полной уверенности у меня не было – во-первых, как я уже говорил, все раймондцы на одно лицо, а во-вторых, любое обмундирование, и таможенная форма в том числе, идеально нивелирует индивидуальные черты.
На сей раз мой багаж проверили самым тщательным образом: одно дело – приезд на Раймонду, и совсем другое – отъезд. Туризм и торговля экзотическими животными основная составляющая часть государственного бюджета планеты, поэтому всех выезжающих досматривали без исключения. И наказание за контрабанду экзотических животных здесь весьма суровое – от двадцати лет до пожизненной каторги без права помилования.
Таможенник скрупулёзно пересмотрел все мои вещи и долго изучал сертификат, выданный на провоз раймондского артефакта, с завистью поглядывая то на меня, то на коробочку с двумерной морской звездой. Мне же было скучно – таможенный досмотр тянулся уже более получаса. Наконец личные вещи были досмотрены, и таможенник приступил к сканированию сейфа.
Ожидая услышать от него те же ахи и охи, что и месяц назад, я неожиданно увидел, как лицо таможенника, глядевшего на экран, изумлённо вытянулось. Я перевёл взгляд на экран и обмер. Сквозь полупрозрачную скульптуру Нэфр’ди-эт хорошо просматривался контейнер с тремя яйцами занзуры.
Окружающее поплыло перед глазами. Это был конец, конец всему. Сейчас меня вежливо возьмут под руки, наденут наручники… Почувствовав, что меня теребят за рукав, я обернулся лицом к таможеннику, протягивая руки для наручников.
– Ваши документы, билет, – лучезарно улыбаясь, проговорил таможенник, вкладывая бумаги мне в руки. – Счастливого пути!
– Что? – не понимая, выдавил я пересохшим горлом.
– Счастливого пути! – повторился раймондец, расплываясь в совсем уж приторной улыбке. – Надеемся, вам у нас понравилось, и вы непременно посетите Раймонду ещё!
– Да-да… Обязательно…
Я попытался изобразить на лице хотя бы подобие благодарственной улыбки и, развернувшись, механическим шагом направился по пандусу к шестому шлюзу, где был пристыкован мой отсек. При этом казалось, что спину мне сверлит взгляд таможенника, и в глазах у него пляшут всё те же хитрые искорки «облого чудища». В чём заключалась хитрость раймондцев, я никак не мог постичь.
Внезапно кто-то взял меня под локоть, я вздрогнул и остановился. Похоже, началась игра в «кошки-мышки»…
– Добрый день, господин Бугой! – услышал я радостный возглас. Передо мной стоял цветущий улыбкой, излишне возбуждённый господин Тарандовски. Искусствовед-промоутер, а на самом деле, скорее всего, агент службы безопасности. Или галактической Лиги защиты животных.
– Здравствуйте, – натянуто ответил я.
– Послушайте, Алексан, – наклонившись к моему уху, доверительно начал Тарандовски, – мне по секрету сообщили, что экскурсией в Великие пещеры и дополнительной – на Заповедные луга я обязан лично вам. Вы замолвили за меня словечко… – Он выпрямился и предложил уже нормальным голосом: – Приглашаю вас на обед в ресторан. За мой, разумеется, счёт.
«За счёт владельца экспоната, который ты сопровождаешь», – механически поправил я про себя, а вслух постарался уклониться от приглашения: – Не знаю, право… Я так плохо переношу космические путешествия… Вряд ли…
От сердца чуть отлегло, и я выдавил вымученную улыбку, которую следовало принимать за извинение.
– Господин Бугой, я вас очень прошу.
– Постараюсь, – кивнул я на прощанье и зашагал к шестому шлюзу. Даже если меня не арестуют на корабле, обедать с Тарандовски я не стану. И дело даже не в том, что в моём положении не до званых обедов. На меня производили равное негативное впечатление как люди, жадно жующие всё подряд и не соблюдающие при этом норм этикета, так и гурманы, осведомлённые во всех тонкостях застолья. И те, и другие процесс принятия пищи ставили превыше всего, и в их присутствии я чувствовал себя за столом неуютно, теряя аппетит.
Весь день до старта лайнера в Солнечную систему я не находил себе места. Неприкаянно бродил по отсеку, анализируя случившееся и пытаясь спрогнозировать ход дальнейших событий.
Версий было две. Первая, наиболее вероятная и логически обоснованная, если в деле задействованы Лига защиты животных и галактическая служба безопасности. По этой версии служба безопасности хотела взять с поличным не только исполнителя, но и заказчика. Поэтому арест должен произойти на вилле Мальконенна во время передачи контрабанды. Вторая версия была настолько абсурдной, что верилось в неё с трудом. В основу её была положена та самая хитрость «облого чудища», наличие которой накрепко въелось в моё подсознание за месяц общения с раймондцами. Хитрость, которую я так и не смог разгадать, а намётки на её смысл выходили за рамки человеческого понимания, ибо предполагаемая по второй версии афёра, затеянная раймондцами, была настолько грандиозной, что контрабанда яиц занзуры по сравнению с ней выглядела детской шалостью. Однако я не сбрасывал эту версию со счетов из-за подаренного артефакта. Если меня с самого начала подозревали в контрабанде яиц занзуры, то зачем понадобилось дарить безмерно дорогое украшение? Заполучив артефакт, я мог не пойти на контрабанду. К тому же удивительное избавление от смерти в пасти пересмешницы на озере Чако никак не вплеталось в первую версию, зато во вторую…
Чтобы как-то снять напряжение и немного привести нервную систему в порядок, я искупался в бассейне. Марсианский хирург предупреждал, что купание в чистой воде приведёт к интенсивному отторжению жабр, но именно этого я сейчас и добивался. Клин клином вышибают. Хотя избранный способ весьма дурацкий: почти аналогичным образом можно избавиться от зубной боли, вставив палец в дверной проём и сильно хлопнув дверью.
Как ни странно, но водные процедуры оказали на нервную систему благотворное действие. Однако через полчаса я почувствовал сильнейшее недомогание, и пришлось горстями глотать лекарства, прописанные марсианским хирургом на этот случай. Во что бы то ни стало ближайшие сутки я обязан провести на ногах.
Сигнал о получасовой готовности перед входом лайнера в гиперствор застал меня в тот момент, когда я стоял перед зеркалом и внимательно разглядывал своё отражение. Не знаю, то ли сказывалось нервное напряжение, то ли общее недомогание, то ли непомерная доза лекарств повлияла на психику, искажая действительность, но мне казалось, что в зрачках моих глаз пляшут те же искорки, которые я видел у раймондцев и пересмешниц. И чем дольше я вглядывался в отражение, тем больше эти искорки напоминали крупицы «неощутимой пыли».
Тяжело вздохнув, я отвернулся от зеркала, прошёл в кабинет, сел в кресло и включил обзорный экран. Уж и не помню, когда в последний раз смотрел на гиперпереход со стороны – чересчур однообразное зрелище, чтобы при каждом космическом перелёте его рассматривать. Но сейчас гиперпереход слишком многое для меня означал – он как бы отрезал меня от Раймонды навсегда. Если меня арестуют на вилле Мальконенна, то каторгу я буду отбывать не здесь.
Слева по экрану надвигалась плоскость гиперствора, справа неподвижно висел среди звёзд зелёно-бурый полумесяц Раймонды. Когда плоскость гиперствора надвинулась на пол-экрана, и начался посекундный отсчёт, я, наконец, поверил, что больше никогда в жизни не увижу Раймонды.
«Прощай, мир слащавых улыбок и неискренних аборигенов», – сказал я про себя зелёно-бурому полумесяцу, но ожидаемого облегчения не наступило.
13
Экспертная комиссия заявилась в отсек через полчаса после прибытия корабля в зону космостанции «Пояс астероидов-VI». Поскольку мой экспонат был ценнейшим на выставке, меня отправляли одним из первых. К тому же по сравнению с землянами я имел некоторое преимущество – мне не нужно было проходить таможенный досмотр. Отстыковавшись от корабля матки, отсек трансформировался в катер и домчал нас до виллы Мальконенна за полчаса.
В поместье Мальконенна начиналась ранняя осень. Прав я оказался, предполагая, что в системе жизнеобеспечения виллы запрограммированы сезонные изменения. Солнце ярко светило с безоблачного неба, но лучи его уже не обжигали; с озера тянуло прохладой. Трава поблёкла, листва на кустах поредела, кое-где начала желтеть, в воздухе витали редкие паутинки.
Я облегчённо перевёл дух. Если бы в поместье по-прежнему царила жара, не знаю, как бы я добрался до коттеджа. Мой организм окончательно пошёл вразнос: в дополнение к отторжению жабр раньше запланированного срока отказал последний биочип, и теперь боль в пальце от сорванного ногтя, как я ни старался заглушить её анальгетиками, изматывала душу. Поэтому перед выходом на причал виллы я украдкой от всех проглотил капсулу иноколина – сильнейшего наркотика, в этой дозе обеспечивавшего ясность мысли и твёрдость рук на сорок минут. Для предстоящей престидижитации это было крайне необходимо.
Тотт Мальконенн поджидал нас в том же зале, где месяц назад состоялось оформление документов на экспонирование уникальной скульптуры. Был он в концертном фраке при бабочке, манишке и старательно играл роль рафинированного аристократа. Роль давалась ему с трудом: Мальконенн был излишне бледен, речь отрывиста, пальцы дрожали, ладони при рукопожатии оказались потными. По столь нервному поведению крелофониста я понял, что он сдержал слово и всё это время не пил. Уж лучше бы выпил с час назад, чтобы раскрепоститься и выглядеть естественней.
После обмена приветствиями и любезностями, началась стандартная процедура передачи экспоната законному владельцу. Наступали минуты, которых я ждал и боялся как приговорённый к казни. Фактически, так оно и было.
Теодор Броуди открыл сейф, извлёк скульптуру египетской царицы, снял прозрачный колпак и подошёл ко мне. Я аккуратно взял древний песчаниковый бюст левой рукой за голову, вынул из подставки и подставил правую руку под основание. Разворачиваясь к ионокцам, в тот самый момент, когда скульптура оказалась вне поля зрения хейритов, я легонько нажал пальцем на торец контейнера с яйцами занзуры, распорки бесшумно защёлкнулись, и контейнер скользнул по стерильной перчатке в рукав, где находилась магнитная ловушка. На мгновение я замер, ожидая, что сейчас ко мне с наручниками подскочат хейриты, но они оставались на своих местах.
– Прошу вас, – ровным голосом сказал я, протягивая скульптуру ионокцам. Оправдывались самые худшие опасения, хотя в душе уже давно понял, что правильной является не реалистическая версия об охоте на меня как на контрабандиста, а совсем иная – изощрённая, многоходовая комбинация «облого чудища». Никто не собирался отправлять меня на каторгу, но удар по самолюбию, который я сейчас получил, отозвался во мне оскорбительной пощёчиной. Собирая коллекцию экзопарусников, я всегда был неразборчив в средствах, шёл к цели любыми путями, без тени сомнения принося в жертву что угодно и кого угодно. Сейчас я ощутил себя на месте жертвы в чужой и чуждой мне игре. В моём рукаве в магнитной ловушке находился не джокер, а шестёрка.
Всё время, пока ионокцы сканировали скульптуру, а затем комиссия подписывала акт передачи раритета владельцу, и даже во время небольшого банкета, я держался в стороне, созерцая и оценивая происходящее как бы иным, новым зрением. Хитрость «облого чудища» я почти разгадал, оставалось уточнить небольшой нюанс, чтобы окончательно утвердиться в своём мнении. Но это я мог сделать только наедине с бюстом египетской царицы XXIII века до нашей эры, хотя в истинной датировке стоящей на предметном столике скульптуры теперь сильно сомневался.
На этот раз в банкете приняли участие и хейриты – служба по охране раритета закончилась, и они могли себе позволить расслабиться. Учитывая, что более месяца они бессменно стояли на посту, не приняв внутрь ни одной калории, их участие в банкете было весьма своеобразным. Шампанское хейриты лишь пригубили, зато бутерброды с чёрной икрой, непредусмотрительно выставленные Мальконенном, уничтожали с завидной методичностью. Системе жизнеобеспечения пришлось два раза менять подносы, затем, видимо, икра закончилась, и были поданы бутерброды с балыком, которые хейриты принялись потреблять с тем же аппетитом. Вообще хейриты в пище непереборчивы, для их метаболизма всё равно, что изысканное блюдо, что заплесневелый сухарь. Странно, что Мальконенн, телохранителями которого во всех турне были именно хейриты, этого не знал и так опростоволосился, предложив деликатесы. Впрочем, Мальконенну было не до того, чтобы подсчитывать мелкие убытки. Вполуха слушая пространный рассказ Броуди о том, какой фурор произвела скульптура Нэфр’ди-эт на выставке, он ни к месту улыбался, невпопад вставлял междометия, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, и по всему чувствовалось, что сейчас его обуревает единственное желание – побыстрее спровадить гостей.
Ионокцы, как и я, индифферентно стояли чуть в сторонке, глоточками попивая шампанское и скучающими взглядами окидывая зал. Всё, что не касалось их работы, было им неинтересно.
Наконец Броуди закончил пространное повествование об успехе выставки древнего искусства Земли на Раймонде, галантно раскланялся с Мальконенном и подошёл ко мне с бокалом шампанского.
– Был очень рад знакомству с известным эстет-энтомологом, – сказал он. – Месяц, проведённый с вами в совместном общении, останется в моей памяти навсегда. Надеюсь, что вы разделяете мои чувства.
Несмотря на высокопарный слог, от былого заискивания и подобострастия в Броуди не осталось и следа. Теперь он держал себя с достоинством человека, знающего себе цену.
Я кивнул, и постарался, в соответствии с обстановкой, сделать это как можно более светски, поскольку слов у меня не было. Точнее, были, но вслух их лучше не произносить.
– Вы знаете, на досуге я просмотрел стереослайды вашей коллекции экзопарусников, – сказал Броуди. – Конечно, всё это очень далеко от интересов и увлечений раймондцев, однако, на мой взгляд, что-то от искусства в эстет-энтомологии есть. Как вы смотрите на то, чтобы выставить вашу коллекцию на Раймонде? Так сказать, в экспериментальном порядке?
– Что ж, – корректно сказал я, – присылайте официальное приглашение.
Я твёрдо знал, что никакого приглашения не получу. И Броуди знал, что я никогда не соглашусь выставить свою коллекцию на Раймонде. Но мы оба «держали лицо». Хотя, признаюсь, мне это давалось с большим трудом. Действие иноколина заканчивалось, и я стоял на ногах только благодаря громадному усилию воли.
– Мы обязательно проработаем этот вопрос в департаменте искусств, – заверил он, приподнимая бокал с шампанским.
Мы чокнулись, пригубили, затем Броуди пожал на прощание руку и покинул коттедж. Вслед за ним покинула коттедж и вся комиссия.
– Ну?! – подскочил ко мне Мальконенн, как только комиссия показалась на крыльце.
Я отмахнулся от него и без сил опустился на диван. В голове шумело, перед глазами плясали разноцветные круги, ныла рана в пальце.
– Погодите… – слабым голосом сказал я, доставая из кармана вторую капсулу иноколина. Последствия двойной дозы наркотика выражались в глубокой депрессии, но иначе я сейчас поступить не мог.
– Что? Ничего не получилось?! – в отчаянии вскрикнул Мальконенн.
– Да погодите вы… – досадливо поморщился я, глотая капсулу и запивая её шампанским. – Погодите, пока катер с комиссией не отшвартуется…
Тотт Мальконенн одарил меня яростным взглядом, но ничего не сказал. Подбежал к столику, схватил бокал и залпом опорожнил его.
– Надеюсь, теперь пить можно? – зло спросил у меня.
– Хоть залейся, – криво усмехнулся я, чувствуя, как иноколин начинает просветлять сознание.
Но Мальконенн пить не стал и нервно заметался по комнате, бросая на меня испепеляющие взгляды. В отличие от выспренней экзальтации Броуди, экзальтация Мальконенна носила агрессивный характер.
Не успела система жизнеобеспечения доложить о старте катера с экспертной комиссией на борту, как Мальконенн вновь стремительно подскочил ко мне и заорал:
– Ну!!!
– Баранки гну, – буркнул я, охладив его пыл. – Держите.
Я вынул из рукава контейнер и передал крелофонисту. Дрожащими руками Мальконенн схватил прозрачную трубку и посмотрел её на свет.
– Слушайте, Бугой, вы меня чуть до инфаркта не довели… – выдохнул он. По его лицу катились крупные капли пота. – Отличные экземпляры!
– Да, – подтвердил я. – Этим яйцам не более четырёх дней. К тому же три штуки вместо заказанных двух.
– Отлично… Не хотите посмотреть на инкубатор в пещере? Идёмте.
– Нет.
– Как хотите… Ваше дело…
Я для крелофониста уже не существовал. Он развернулся и направился к двери.
– Мальконенн! – окликнул я.
– Что? – Он остановился, невидящим взглядом посмотрел на меня как на досужую помеху.
– Ах, да! – вспомнил, наконец, кто я такой. – Возьмите. – Он вернулся и протянул мне чек. – Мы в расчёте?
Я посмотрел на сумму, обозначенную в чеке.
– Да.
– Возьмите и этот. – Он протянул мне чек, который выдал ему Броуди за демонстрацию скульптуры на Раймонде. – Так сказать, премиальные за третье яйцо.
Затем развернулся и быстрым шагом направился к выходу, не подумав попрощаться.
– Мальконенн! – крикнул я ему вслед. – Разрешите воспользоваться вашей яхтой. Мне срочно нужно в клинику!
– Берите… – отозвался он уже из-за двери.
Он ушёл, а я продолжал сидеть. Отнюдь не скаредом оказался Мальконенн, но меня это не радовало. Лучше бы наоборот, потому что я должен был ему гораздо большее. Не больше, а именно большее, так как мой долг измерялся не деньгами. Никогда меня не мучили угрызения совести, но тут вдруг в душе что-то зашевелилось.
И тогда я разозлился. Какое мне дело до судьбы уникальной скульптуры, владельцем которой являлся крелофонист Тотт Мальконенн? Кто он мне? Заказчик, с которым мы только что расстались навсегда. Миссию свою я выполнил, деньги для сафари на Сивилле заработал, причём неожиданно умопомрачительную сумму, которая делала меня финансово независимым во всех отношениях. Но на душе было тошно. Будто меня изнасиловали и сбросили с поезда жизни в канаву. Никогда от этого не отмыться, и никакие златые горы не скрасят дальнейшего существования.
Время шло, мне давно пора было уйти, чтобы как можно скорее попасть в клинику, а я всё сидел и тупо смотрел на песчаниковое изваяние древней царицы, так сильно похожей на сивиллянку. И только когда почувствовал, что действие второй дозы наркотика подходит к концу, тяжело поднялся, подошёл к скульптуре, взял её в руки и понёс к сканеру. Пришла пора расставить все точки над «i».
14
Как я ни зарекался, что моей ноги не будет в марсианской клинике межвидовой хирургии и для реабилитации выберу любую другую, пришлось изменить своему слову. Здесь я рационалист – если данное обещание входит в противоречие с поставленной целью, его надо забыть. А мой организм настолько разбалансировался, что последуй я своему зароку, на Каллисто, где находился ближайший после Марса госпиталь межвидовой хирургии, скорее всего, доставили бы мой труп.
Полгода я провёл в марсианской клинике, где подвергся весьма интенсивному лечению. На удивление, жабры отторглись нормально, не вызвав никаких проблем. Гораздо сложнее обстояло дело с биочипами, точнее, с первым. Он вышел из строя в момент управления моим организмом, из-за чего серьёзно пострадала нервная система, получив ложную команду к самораспаду, в то время как она адресовалась только биочипу. Постепенно у меня начали отниматься руки, ноги, речь, но, в конце концов, нейрохирург целитерец сотворил чудо и поставил меня на ноги. Правда, ещё год до полного выздоровления мне пришлось проходить курс реабилитации в санатории Большого Сырта, время от времени наведываясь в клинику на обследование, так что сафари на Сивилле пришлось отложить на неопределённое время. Кстати, попутно в моей крови обнаружили частички двумерной воды. Имелось с десяток предположений, каким образом они туда попали, но вот каким образом они удерживались в организме, не было даже гипотезы. Ещё один артефакт. Впрочем, присутствие частичек двумерной воды никак не отражалось на здоровье, они мне не мешали, разве что когда я глядел в зеркало и замечал искорки в своих глазах, настроение у меня портилось. С тех пор я редко смотрюсь в зеркало.
Долгое пребывание в клинике поставило крест на моей мечте о финансовой независимости. Находясь на лечении, мне некогда было заниматься продажей раймондского артефакта, и вынужденное промедление привело к печальным результатам. Примерно через полгода после моего возвращения с Раймонды эстурианский тополог Яйрусо Кортнич не только теоретически обосновал теорию перехода трёхмерных тел в двухмерность, но и осуществил этот переход на практике. Двумерные украшения стали штамповать как пуговицы, и их цена сразу опустилась до стоимости бижутерии. Так что подаренная мне раймондцами двумерная морская звезда воистину оказалась данайским даром.
Чеки от Тотта Мальконенна за лечение приходили в клинику регулярно, но с крелофонистом я больше никогда не встречался и даже не разговаривал по видеофону. А покинув Марс, вообще забыл о его существовании. Так и не знаю, получилось ли у него что-нибудь на ниве крелофонии под влиянием пения диких занзур или нет, но нигде никогда не встречал афиш, приглашающих на концерт крелофониста Тотта Мальконенна. Похоже, его идея фикс с треском провалилась, но меня это нисколько не волновало.
Зато в те редкие моменты, когда доводилось смотреть в зеркало, и я замечал в зрачках блеск крупиц «неощутимой пыли», мне вспоминался Теодор Броуди, с его иезуитски изощрённой хитростью «облого чудища». Похоже, биологи сильно ошибаются, считая каждого раймондца индивидуальной личностью. В какой-то степени это так, но до определённых пределов. Видел я аморфную массу «облого чудища» во время открытия выставки, видел шабаш раймондцев с пересмешницами на озере Чако и убеждён, что вся раймондская цивилизация на самом деле единый организм, управляемый праразумом Ухтары, сидящим в бездонной глубине озера Чако. Иначе как единым сознанием всех раймондцев не объяснишь поведение таможенника, просвечивавшего сейф с древней скульптурой. Будь он индивидуальной личностью, он непременно арестовал бы меня за контрабанду, но он ЗНАЛ, что за скульптуру я везу, и почему меня необходимо пропустить. Допущение, что в афёре с древними произведениями искусства Земли задействован большой круг лиц, не выдерживает никакой критики, поскольку в подобном случае тайное довольно быстро становится явным. Однако до сих пор в Галактическом Союзе об афёре раймондцев никто не подозревал, и даже наоборот – выставка «голографических копий» древнего искусства Земли на Раймонде удостоилась включения в каталог исторических ценностей Галактического Союза. В пользу же моей версии было и то, что ни одна личность в Галактическом Союзе не имеет таких финансовых возможностей, чтобы позволить себе создание точных хронологических копий всех произведений искусства, представленных на выставке. Это по силам только крупному государству или цивилизации, но тогда секрета акции не утаишь, разве что эта цивилизация представлена единым существом. А о том, что настоящая скульптура египетской царицы Нэфр’ди-эт продолжает экспонироваться на выставке в i-Эрмитаже, а её идеальная хронологическая имитация находится на вилле Мальконенна, знали только я и «облое чудище». Голограмма – это сказочка для отвода глаз, чтобы придать status quo существованию выставки.
То, что бюст Нэфр’ди-эт на вилле Мальконенна всего лишь искусная хронологическая имитация, я убедился, просканировав её перед тем, как навсегда покинуть поместье крелофониста. Любой материальный предмет, на который нанесена плёнка темпорального сдвига, никогда и никоим образом от него не избавится. Даже если растереть скульптуру в порошок, каждая частица при соответствующем анализе покажет темпоральное возмущение. Но когда я поставил скульптуру на сканер и ввёл в просверленную полость указательный палец, то он, как ни в чём не бывало, проявился на экране.
Но тогда моему больному сознанию померещилось, что я вижу совсем иное. «Облое чудище», сжав кулак, ехидно демонстрировало с экрана распрямлённый средний палец, двигая им снизу вверх.
КРЫЛЬЯ СУДЬБЫ
1
В космопорт «Элиотрея» я прибыл лайнером пестуанской корпорации «Space Union». Этот космопорт один из десяти крупнейших портов Млечного Пути, но на Земле мало известен, поскольку расположен на противоположном краю Галактики, а землянам для межгалактических путешествий гораздо удобнее пользоваться космопортом «Весты», находящимся неподалёку от Солнечной системы. К тому же для путешествий внутри Галактики не обязательно отправляться из космопорта – с любой космостанции, оснащённой створом гиперперехода, можно попасть практически в любую точку обжитого сектора Млечного Пути. Но только из космопорта «Элиотрея» можно добраться до Сивиллы. Дело в том, что Сивилла находится в малоизученной области межгалактического пространства с аномальными топологическими возмущениями пятого порядка, парализующими работу гиперствора. Поэтому раз в год из космопорта «Элиотрея» к Сивилле совершает рейс допотопный фотонный корабль.
Предъявив в справочном бюро билет на Сивиллу и задав простенький вопрос, когда начнётся посадка, я неожиданно получил весьма обстоятельный, пространный ответ. Доброжелательная бастургийка, меняющая свечение тела разноцветными волнами как каракатица, долго и витиевато объясняла, что фотонный корабль «Путник во мраке» неделю назад прибыл из рейса, в настоящее время находится в доках на профилактическом осмотре и дозаправке, и только завтра утром его поставят к причалу. Тогда же и начнётся посадка. Извиняясь за сложившиеся обстоятельства и рассыпаясь в любезностях, бастургийка предложила на ночь гостиничный номер для транзитных пассажиров за счёт корпорации, но я вежливо отказался. Прибыл я в порт в одиннадцатом часу ночи усреднённых суток Галактического Союза, которые короче земных почти на три часа, так что до посадки на рейс оставалось не более десяти часов. А по корабельному времени пестуанского лайнера сейчас было утро, я хорошо выспался и в отдыхе не нуждался.
Проявив максимум галантности, на которую только оказался способен, я минут пять шаркал ножкой и раскланивался как китайский болванчик, безуспешно пытаясь соревноваться со сверхвежливой бастургийкой в комплиментарности и не зная, как выпутаться из сложившейся ситуации. Куда дилетанту тягаться с профессионалкой! Уж и не рад был, что обратился к ней, а не воспользовался автоматической справкой. К счастью, в этот момент к справочному бюро, тяжело переваливаясь на коротких ногах и приволакивая хвост в условиях несколько повышенной для него гравитации, приблизился пожилой астуборцианин. И бастургийка была вынуждена выпустить меня из тенет вежливости. Зардевшись пунцово пульсирующим светом, причудливым реверансом закончила диалог и переключила внимание на нового клиента.
Предчувствуя небольшой скандал, я попытался побыстрее ретироваться – аскетические астуборциане отличались прямотой и лаконичностью в общении, и быстро теряли самообладание, когда разговор приобретал пространное направление. Ну а витиеватость речи и многословие считалось у них чуть ли не оскорблением. Однако ретироваться у меня не получилось – диалог между бастургийкой и астуборцианином оказался настолько неожиданным и скоротечным, что я не успел и шагу ступить.
– Чг нд? – приосанившись, надменно гаркнула бастургийка в лицо астуборцианину.
– Нжд спрвть нд! – пророкотал астуборцианин.
– Сртр кнц глвнг крдр нпрв, дрвн! – отрезала бастургийка сварливым тоном, и почти все транзитные пассажиры, находившиеся в зале, невольно повернули головы к справочному бюро.
Астуборцианского я не знал, транслингатора с собой не было, но вживлённые в нервную систему биочипы уловили направленность разговора, со стороны больше похожего на бранную перепалку. С прямолинейной непосредственностью представителя слаборазвитой цивилизации астуборцианин громогласно интересовался расположением туалета, поскольку отправление естественных потребностей организма не было выведено в их сообществе за рамки морально-этических норм. Что с них возьмёшь, кроме первобытнообщинной ментальности? Дети дикой природы…
– Блгдр, – нимало не смущаясь, пророкотал астуборцианин и степенно направился в указанном направлении.
Тут бастургийка заметила, что я наблюдаю за пикантной сценой, и надменно-высокомерное выражение на её лице мгновенно сменилось на умильно-слащавое. Будто маску сдёрнула. Или надела. Она было открыла рот, чтобы вновь обволочь моё сознание пеленой безмерно учтивого сладкоречия, но я развернулся и зашагал прочь. Ошибся я, приняв её за гуманоида, – так быстро перевоплощаться могла лишь виртуальная копия. Непонятно только, почему в биоэлектронную систему обслуживания космопорта Элиотрея заложены искажённые сведения о современном земном бонтоне, перед нормами которого бледнеют древние этикеты при дворах египетских фараонов, французских королей и китайских императоров? Удалённостью от Земли и звёздного сектора расселения человечества это никак не объяснялось – сведения обо всех гуманоидных расах Галактического Союза распространялись по обжитым территориям централизованно и малейшие изменения в них преследовалось по закону: одно дело – высокопарный слог общения, совсем другое – накормить гуманоида пищей иной расы. Изысканное блюдо одних для других может оказаться первостатейным ядом.
Бесцельно послонявшись по коридорам, я заглянул в пункт галактической межпространственной связи, в последний раз связался со своей виллой и поинтересовался у киберсекретаря, не поступило ли каких-нибудь новых сведений о Сивилле. С лайнера «Путник во мраке» любые переговоры с кем бы то ни было будут невозможны из-за всё тех же топологических возмущений пространства на траверсе корабля. Как я и предполагал, ничего нового секретарь не обнаружил, хотя на протяжении года самым тщательным образом занимался просеиванием баз данных информотек Галактического Союза в поисках крупиц информации о Сивилле.
Покинув пункт связи и поднимаясь по пандусу к обзорным площадкам космопорта, я неожиданно вспомнил, какой именно вопрос задал секретарю, и чертыхнулся. Все мы умны на лестнице или, говоря языком моих славянских предков, крепки задним умом. Последние полгода в информационных сетях человечества активно муссировались выводы любопытного социологического исследования туббоцильского Центра межэтнических отношений. Ажиотаж вокруг социологического исследования и неугасающий интерес к его выводам объяснялся тем, что результаты напрямую противоречили теории вероятности в самом элементарном её проявлении. Известно, что при достаточно большом количестве случайных чисел, выпавших, скажем, при игре в рулетку, отношение чётных чисел к нечётным будет стремиться к единице. То есть количество выпавших чётных чисел будет равно количеству нечетных. Пятьдесят на пятьдесят или «фифти-фифти». Ещё проще пример – игра «в орлянку». Не знаю, что подвинуло туббоцильцев не поверить «орлянке», но они исследовали около полумиллиарда вопросов, заданных по информационной сети, разделив их на две группы, условно классифицированные как «чёт» и «нечет». Группу так называемых «оптимистических» вопросов, построенных по принципу « Есть ли что-нибудь новенькое?», и группу «пессимистических» – « Нет ли чего-нибудь новенького?» Что касается «пессимистов» и «оптимистов», задававших вопросы, то здесь теория вероятности подтвердилась полностью – и тех, и других было «фифти-фифти». Но вот ответы… Восемьдесят процентов ответов на «оптимистические» вопросы были положительными, восемьдесят процентов ответов «пессимистам» – отрицательными…
Походя наблюдая за развернувшейся широкомасштабной полемикой вокруг туббоцильского социологического исследования, я посмеивался над разгоревшимся ажиотажем. В который раз глупцы от средств массовой информации пытались примерить к человечеству инопланетное платье, не замечая, что на талии оно трещит по швам, а на груди топорщится избыточными складками. Туббоцильцы были хоть и слабенькими (на подкорково-интуитивном уровне), но миелосенсориками. Поэтому предчувствие варианта ответа накладывало на формулировку вопроса свой отпечаток, а социологическое исследование, насколько понимаю, туббоцильцы проводили в своём секторе компактного проживания.
Однако посмеивался я у себя дома, сейчас же, когда вспомнил, что задал киберсекретарю вопрос: « Нет ли новой информации о Сивилле?» – испытал чувство досады. А вдруг я не прав? Велика суггестия информационных сводок…
Впервые я направлялся в экспедицию столь неподготовленным. Почти на авось. Нет, что касается экипировки, то, пожалуй, даже переусердствовал. Столько оборудования и аппаратуры никогда с собой не брал – сведения о Сивилле оказались слишком скудными, и пришлось включить в экипировку массу вещей на случай непредвиденных обстоятельств. По правде, затея была полной авантюрой, сплошь состоящей из «непредвиденных обстоятельств», чего я себе никогда не позволял даже в молодости, а после шестой экспедиции, на Ауквану, – ни в малейшей степени. После той злосчастной охоты (воспоминания о которой были столь основательно заблокированы в сознании, что даже в мыслях не допускалось путём обмена заполучить в свою коллекцию так и не добытый мной экземпляр Pediptera Auqwana , довольно часто встречающийся в обменных каталогах коллекционеров) я неукоснительно придерживался золотого правила щепетильно-доскональной подготовки экспедиций. Но вот, поди же ты, сподобился… Не знаю, что здесь сказалось: то ли расслабился в преддверии приближающейся старости (хотя ни внешне, ни внутренне этого пока не ощущал), то ли проявились славянские корни (кажется, у моих пращуров по отцовской линии был такой божок – Авось, и они его оченно уважали), то ли на моё сознание магическим образом воздействовал незаконченный рисунок прекрасного сивиллянского Papilionidae , исполненный на клочке бумаги меступянином в баре космопорта «Весты».
Позже я скрупулёзно проработал все имеющиеся сведения о необычной технике живописи, передающей движение плоскостного изображения. Оказалось, что данной техникой владеют только меступянские художники, да и то немногие. К тому же на представленных мне по информсети лучших образцах меступянской плоскостной живописи движение выглядело синхронизировано-автоматическим, вздрагивание же крыльев сивиллянского Moirai reqia , нарисованного светокарандашом на клочке бумаги, представлялось неритмичным, живым, что, по мнению меступянских искусствоведов, отобразить невозможно.
Так или иначе, но я отважился на сафари не имея почти никаких сведений о Сивилле – загадочной планете гадалок и предсказательниц, изредка появлявшихся в различных секторах Галактического Союза и с абсолютной точностью предрекавших как малозначительные события, так и глобальные. Даже приблизительно не представляя размеров экзопарусника, мне пришлось отбирать в экспедицию разнокалиберные ловчие снасти, естественно, основываясь на разумном допущении, что произвести неизгладимое впечатление на меступянина мог Papilionidae с размахом крыльев от двух-пяти сантиметров до десяти метров. В рассуждения вкрадывалась лишь одна неточность – судьба побывавших на Сивилле гуманоидов красноречиво свидетельствовала, что впечатление от экзопарусника было чересчур неизгладимым, поэтому размеры Moirai reqia могли оказаться ошеломляющими. Как, скажем, размеры единственного крыла межзвёздного парусника Parnassius diaastros , величина которого, по некоторым данным, достигала одной десятитысячной астрономической единицы. Этаким крылом можно раз и навсегда «укрыть» Землю от Солнца. Но, во-первых, полной уверенности, что такое впечатление на побывавших на Сивилле оказал именно парусник, у меня не было, а во-вторых, более крупного экземпляра я бы не смог доставить в полной сохранности на фотонном корабле «Путник во мраке». Что-что, а габаритные размеры помещений корабля я, по полученным из имформсети данным, изучил досконально.
Поднявшись на обзорную площадку, я оказался один на один с глубоким космосом. И хотя знал, что таких небольших площадок, накрытых прозрачными полусферами, на обшивке корпуса космопорта преогромное множество и на многих из них сейчас находятся посетители, величие беспредельной пустоты подавляло до такой степени, что присутствие иных живых существ где-то поблизости казалось нереальным. Были только я и Вселенная, разрезанная пополам чёрной плоскостью космопорта «Элиотрея».
В отличие от большинства космопортов Млечного Пути, космопорт «Элиотрея» находился практически вне нашей Галактики, на границе её гало, поэтому звёздное небо здесь сильно отличалось от небесных панорам других космопортов. Слева, отрезанный посередине близким горизонтом космопорта, уходил в зенит звёздно-туманный конус Млечного Пути, справа, почти неразличимым белесым, как молочные пятна, пунктиром проглядывали очертания Великого Аттрактора, а всё остальное тонуло в глубокой черноте межгалактического пространства. И где-то в этом мраке находилось невидимое отсюда невооружённым глазом солнце Сивиллы, к которому мне предстояло лететь.
Если с Земли можно наблюдать спиральные рукава Млечного Пути, то с этой точки обзора Milky Way Galaxy отнюдь не похожа на спиральную галактику, скорее, на линзовидную, если не эллиптическую. А расположенная в этой проекции над самым балджем сфероидальная клякса карликовой галактики-спутника Sagittarius dSph придавала Млечному Пути вид никак не выше типа E2, приближая его к шаровидному. Хотя на самом деле я видел картинку пятидесятитысячелетней давности – на настоящий момент реального времени Sagittarius dSph начала поглощаться нашей Галактикой. Долго свет идёт от звёзд – не верь глазам своим, глядя на небо.
Но не волновал меня ни древний, по отношению к реальному времени, вид Млечного Пути, ни ошеломляющая тайна скопления миллионов галактик Великого Аттрактора, ни завораживающий мрак межгалактического пространства. Подобно представителю африканского племени догонов, видящих с Земли невооружённым глазом звёздную систему и планеты Сириуса, я пытался разглядеть в беспросветном мраке между Млечным Путём и Великим Аттрактором неприметную звёздочку с единственной планетой, куда вела меня судьба. Тщетно. Не обладал я столь острым зрением, не было в моём роду африканцев.
И всё же на сердце было тепло. Немногие из тех, кто стремился попасть на Сивиллу, сумели побывать на планете, но в том, что именно мне посчастливится – был абсолютно уверен. Кивок сивиллянки в ресторане лайнера компании «Галактика», совершавшего гиперпереход к космостанции «Раймонда-II», дорого стоил. Вот почему я позволил себе отступить от «золотого правила» сверхтщательной подготовки к экспедиции и проделал умопомрачительный путь из конца в конец нашей Галактики. И теперь, можно сказать, до моей цели рукой подать – оставшийся путь по сравнению с преодолённым составлял настолько мизерную величину, как будто я, пройдя пешком из края в край большого города, уже стоял на пороге дома, куда меня пригласили. Осталось только постучаться в дверь.
2
Напрасно я столь пренебрежительно отнёсся к воздействию глубокого космоса на свою психику, предполагая, что меня не задевает величественная незыблемость Вселенной. Было в её мрачной беспредельности нечто гипнотическое, безвременное, как в радужном свечении крыльев млечника, и когда я покинул обзорную площадку, оказалось, что провёл наедине с Вселенной более девяти часов, в то время как мне представлялось – не более получаса. Слегка кружилась голова, после долгого стояния ноги отекли, налившись свинцовой тяжестью, и очень хотелось есть.
До посадки на лайнер «Путник во мраке» оставалось около часа, и я на ватных ногах побрёл в ближайший ресторан. В утреннее время посетителей в зале ресторана было немного, и я, усевшись за ближайший свободный столик, принялся манипулировать с заказом.
Транзитных пассажиров во время пересадки кормят бесплатно – достаточно предъявить билет. Но это имеет и свой минус – в космопортах, далёких от сектора компактного проживания расы, кормят стандартным обедом, предложенным консульской группой расы при Координационном совете Галактического Союза. Зная наперёд меню (для людей в стандартный обед входили вегетарианский овощной суп, салат из свежих огурцов, капусты, яблок и чего-то там ещё растительного, порция цыплёнка-гриль, картофельное пюре, а из напитков – кофе, минеральная вода и апельсиновый сок), я решил заказать весь комплекс, а если понадобится, то и повторить. Вложив билет в щель на подлокотнике кресла, я набрал на шифраторе галактический код человечества. Хорошо, что не успел нажать на кнопку «Подать всё», так как высветившееся в центре стола меню состояло из двадцати страниц, а перечень блюд содержал более двухсот наименований. Вот тебе и космопорт у «чёрта на куличках» по отношению к сектору расселения человечества! Похоже, люди на «Элиотрее» бывали часто и в большом количестве, хотя, проходя по многочисленным залам космопорта, я не встретил ни одного землянина. Но размышлять над этим несоответствием не хотелось, зверски хотелось есть. Глаза разбежались при виде перечня блюд, однако чувство голода не способствовало обстоятельному выбору. Тыча в меню пальцем фактически наугад, я заказал с десяток блюд, названия которых понравились с первого взгляда. Запечённый бараний бочок под чесночным соусом, утку в сметане с брусникой, салат из осьминогов, заливную осетрину с хреном, салат из ананасов и манго… Перечисленные блюда значились в меню подряд (в здешнем ресторане, как и в ресторанах большинства космопортов, далёких от Земного сектора, их не разграничивали на закуски, первое, второе, десерт), пропустил только жульен – в одной из браконьерских экспедиций своей молодости, скрываясь во время охоты в мангровых зарослях от егерей Лиги защиты возможно разумных животных, мне пришлось почти месяц питаться исключительно сырыми грибами, и с тех пор не то чтобы испытывал к ним идиосинкразию, но, по возможности, не употреблял.
Получился почти Лукуллов пир – как ни сдерживал себя во время заказа, но когда блюда стали выплывать из недр стола, то заняли всю столешницу. Виной тому оказались невнимательность и поспешность – не посмотрел в графу раскладок и не обратил внимания, что порции здесь рассчитаны почему-то не на среднестатистического землянина, а, как минимум, на Гаргантюа. К примеру, бараний «бочок» оказался размерами с телячий и весил никак не меньше десяти килограммов. Впрочем, после велеречивой комплиментарности виртуальной бастургийки из справочного бюро следовало ожидать «неувязочки» и в отношении застолья.
Сконфуженно оглядевшись, но не встретив насмешливых взглядов (вряд ли кто из посетителей ресторана знал нормы потребления землянина), я махнул рукой на приличия и приступил к трапезе. В конце концов биохимия есть биохимия – на кухне объедки будут разложены на составляющие элементы, а затем из них синтезируют какое-нибудь фосфорорганическое желе, являющееся изысканным блюдом гуманоидов магматических миров. Неизвестно ещё из чего мой обед состряпан…
Минут пять я неразборчиво поглощал пищу, стараясь побыстрее утолить чувство голода и нисколько не заботясь о том, как выгляжу со стороны.
– И да поделится всяк пищей насущной со страждущим, сирым и убогим! – внезапно услышал я рокочущий бас.
Не поднимая головы, налил в стакан минеральной воды, выпил и, ощутив, как чувство голода начало притупляться, поднял глаза.
Наконец-то я увидел на Элиотрее землянина. «Сирым и убогим страждущим» оказался не в меру тучный монах Ордена странствующих миссионеров в тёмно-бордовой рясе и с большим серебряным крестом, висящим на шее на увесистой цепи. Он стоял по ту сторону столика, клобук рясы был надвинут по брови, и из его тени меня жгли фанатичным взглядом неподвижные глаза.
Ну что за напасть такая! Давно заметил, стоит в кафе или ресторане сесть за столик, как тут же находится кто-либо, стремящийся навязать себя в собеседники. Или в сотрапезники, как этот монах.
Не проронив ни слова, я перевёл взгляд на стол, отрезал от бараньего бока кусок, перенёс на тарелку и принялся есть, теперь уже соблюдая все правила застольного этикета. Но с таким видом, будто никого рядом не было.
– Да не оскудеет рука дающего! – пророкотал монах и уселся за столик. – Как понимаю, сын мой, бараний бочок вы больше не будете?
Блюдо с бараньим боком двинулось по столешнице в его сторону.
Я исподлобья стрельнул в наглеца колким взглядом, но не добился желаемого. Монах на меня не глядел, сосредоточив внимание на блюде. Он сбросил с головы клобук, явив миру обширную блестящую лысину, извлёк из складок рясы большой нож, отрезал внушительный кусок мяса и, взяв его руками, стал жадно есть. Чем-то монах напоминал Ламме Гудзака – друга Уленшпигеля в его странствиях, – но не было на лице восседавшего напротив служителя церкви добродушия чревоугодника. Лицо было сурово и скорбно, как и полагается аскетическим монахам ордена Странствующих миссионеров, путешествующих по Вселенной в трюмах грузовых кораблей без билетов и гроша в кармане. Питаясь исключительно подаянием, они разбрелись по космостанциям и космопортам подобно синантропным насекомым, и, в принципе, были достаточно безобидны. Когда не проповедовали.
– Не стоит набиваться мне в отцы, – жёлчно бросил я. – По всем параметрам вы не подходите.
Монах отложил кусок мяса, прожевал, вытер губы тыльной стороной ладони и вперился в меня тяжёлым взглядом.
– Не богохульствуй! – назидательно воззвал он. – Все мы дети Господа нашего, а я – разверстые уста Его в этом мире.
– Подставной батюшка? – индифферентно поинтересовался я.
Глаза монаха воспылали праведным огнём.
– Еретик! – громовым басом возвестил он. – Гореть тебе в геенне огненной!
– Но-но! – повысил голос и я. – Только без эмоций, а то в два счёта из-за стола вылетишь и голодным останешься! Я – атеист, и моя вера ничем не хуже твоей. Разница между нашими верами лишь в начальных постулатах – я верю, что бога нет, а ты, монах, что он есть. Но я не собираюсь заниматься пропагандой своего мировоззрения, чего и от тебя ожидаю.
Минуту мы сверлили друг друга непримиримыми взглядами, наконец монах потупил взор и снова взялся за бараний бочок. Приземлённые потребности превысили горние амбиции. Не таким уж и фанатичным оказался монах, как мне поначалу представилось.
Некоторое время мы ели молча. Но недолго.
– А жульен не заказали? – неожиданно спросил монах.
Брови у меня удивлённо взлетели. Откуда он знает меню? Но сразу понял – откуда. Давненько монах сидит в космопорту, его рук дело и витиеватый возвышенный слог виртуального персонала в общении с землянами, и широчайший выбор блюд в ресторане, и непомерные порции. Ай да монах! Воистину, продолжатель дела Ламме Гудзака. Но как он ухитрился, не имея на руках билета, удостоверяющего личность землянина, внести столь радикальные изменения в информационную систему космопорта?
– А к грибам приличествует лёгкое вино «Бужуле» – зело борзо способствует усвоению трапезы, – продолжил монах и дал ответ на мой невысказанный вопрос: – Позвольте ваш билет, дабы раб божий мог ублажить свою ненасытную утробу, возжеланными ею яствами и питиём.
От неожиданности я чуть не протянул ему билет, но вовремя спохватился. Не собирался я афишировать цель своего путешествия.
– Пусть чрево раба божьего умерит гордыню, – со смешком парировал просьбу монаха. – Ибо сказано: умерщвляй плоть свою и потребы мирские!
Не силён я в церковно-христианской стилистике, но, кажется, получилось неплохо. Монах лишь горестно вздохнул в ответ на мою тираду, молитвенно сложил руки и тихо сказал:
– Так возрадуемся и тому, что non multa, sed multum [5] , ниспослано нам Всевышним…
И потянул к себе блюдо с уткой в сметане.
Не удивительно, что при своей комплекции с уткой он расправился быстро, причём из костей на блюде остались лишь две начисто обглоданные голени, разгрызенные в суставах. Монах удовлетворённо рыгнул, вытер руки о рясу и отчётливо произнёс:
– Барабек!
Затем уставился на меня, явно ожидая ответа. Кажется, он частично утолил голод, и теперь снова рвался в теологический бой. Всё-таки вредный служитель культа попался…
– Убпхочст! – брякнул я первое словосочетание, пришедшее в голову.
С некоторым сомнением монах окинул меня взглядом, но затем всё же кивнул. Мол, ответ принимается.
– Позвольте вопросить, что привело стопы господина Уб… п… пхочеста на край мира Господня? – пророкотал он.
Я поперхнулся минеральной водой – оказывается, монах представился и принял ответную белиберду за моё имя!
– Господин… – давя улыбку, протянул я, но понял, что произнести без ошибок второй раз неудобоваримое словосочетание не смогу, и закашлялся. – Я нахожусь здесь по строго конфиденциальному делу. А вот что здесь делает монах ордена Странствующих миссионеров, брат Барабек?
– Брат Барабек блюдёт веру Господню, остерегая души заблудших чад божьих от чар диавольских на границе Мира!
В глазах монаха вновь прорезался фанатичный блеск.
Мне стало смешно, и я откровенно улыбнулся. Смешно стало не столько от выспренней фразы монаха, как от сведений, подсказанных одним из пяти биочипов, вживлённых в нервную систему специально для экспедиции. Касались сведения этимологии имени монаха – очень метко раздавали прозвища своим собратьям Странствующие миссионеры, ухватывали самую суть. Поэтому и имя брату по вере дали из британского фольклора, высмеивавшего некоего Робина Бобина Барабека, превзошедшего в чревоугодии самого Гаргантюа, так как в застолье он отличался редкой неразборчивостью, поедая целиком скот, людей, каменные и деревянные строения, в результате чего регулярно мучался желудочным недомоганием. Короче, тот ещё был обжора.
– А живот у брата Робина Бобина при этом не болит? – поинтересовался я.
Зря сказал. Монах, потянувший было к себе салат из осьминогов, оттолкнул блюдо и ожёг меня испепеляющим взглядом. Он явно не ожидал, что кто-то догадается об истоках происхождения его имени.
– Вижу, вижу тебя – всю суть твою гнусную! – завёлся он. – Знаю, куда стопы свои направил! Чую, что будет с тобой и душой твоей бессмертной на Сивилле! Ведьмы поганые извлекут там из тебя душу, а сюда вернётся лишь тело твоё пустое. И будет оно скитаться по миру, не зная ни пристанища, ни утешения, аки Агасфер! А душа твоя навечно останется у ведьм, никогда не пройдёт чистилище и не упокоится ни в раю, ни в аду!
Я поморщился.
– Послушай-ка, брат Барабек, тебе уже сказано, что я – атеист, и в загробную жизнь не верю.
– Вот когда умрёшь, тогда узнаешь! – безапелляционно заверил он, противореча себе, только что предрекавшему моей душе вечный непокой на Сивилле. – Ultimam cogite! [6]
«Думай, не думай о последнем часе, а он всё равно наступит…» – меланхолично отметил я про себя и сказал:
– Как и большинство людей, я надеюсь дожить до глубокой старости. Но беда в том, что сознание многих стариков поражено маразмом, и в таком состоянии они и умирают. И если существует загробная жизнь, то меня не прельщает перспектива коротать в раю вечность полным маразматиком.
Барабек перестал есть, замер и тупо уставился на меня, пытаясь осмыслить сказанное.
– А с чего это ты взял, что будешь в раю маразматиком? – сварливо спросил он. Похоже, даже элементарно простенькой логики моих рассуждений он не уловил.
– Тогда в каком, по-твоему, состоянии обретается душа старика-маразматика в раю после смерти?
Напрасно я ввязался в теологический диспут с братом Барабеком. Как и у большинства монахов, христианские истины непоколебимыми глыбами покоились в его сознании, и их незыблемость обусловливалась безотчётной верой, отрицающей логический анализ. А косность мышления фанатика веры у брата Барабека была написана на лице. Поэтому и вопроса, который необходимо логически осмыслить, для него не существовало.
– В блаженном! – возвестил он. – В блаженном состоянии обретается душа праведная в кущах райских!
Я иронично скривил губы.
– Это похоже на состояние человека после поноса в лесистой местности. Основательно, видно, загажены райские кущи… Упаси меня бог от такого блаженства.
– Антихрист! – взревел монах Барабек. – Антихрист вещает устами твоими!
Меня охватило раздражение. Нашёл, кому вопросы задавать. Не часто мне приходилось сталкиваться со священнослужителями, но один достопамятный случай был – летел как-то на Каприониру челночным катером и три часа провёл в степенной беседе с соседом, оказавшимся епископом местной новореформистской церкви. Умнейший человек, искренне верующий, но и уважающий чужую точку зрения. Продискутировав три часа, мы расстались при взаимном уважении друг к другу, но, как показалось, ещё больше укрепившись каждый в своей вере. С фанатиком же дискутировать – только время терять. Впрочем, дураков и среди атеистов хватает.
– Всё хватит! – гаркнул я, встал с кресла и выдернул из идентификационной щели подлокотника билет. – Отведал блюд с антихристова стола, пора и честь знать!
Резко развернувшись, я зашагал прочь. Странно, но вслед не полетели ни обвинения в безбожии, вольнодумстве и гордыни, ни проклятия моей души на веки вечные. Ни звука не издал монах Барабек в мой адрес, и на выходе из ресторана я заинтриговано обернулся. Странствующему миссионеру было не до проклятий. Он спешно собирал со стола остатки обеда и складывал их в огромную, неизвестно откуда появившуюся суму. И правильно делал – в центре стола начало открываться жерло дезинтеграционной воронки, готовой поглотить объедки и направить их на переработку. Вера – верой, а кушать-то хочется…
3
Световое табло в зале ожидания сообщало, что фотонный корабль «Путник во мраке» уже шесть часов как пришвартован к створу и до окончания посадки остаётся чуть более часа. Обругав про себя на чём свет стоит информационную службу космопорта и виртуальную бастургийку в частности за неверные сведения, я заспешил к кораблю. «Путник во мраке» принадлежал местной компании, сменный экипаж состоял исключительно из элиотрейцев, весьма прямолинейных и беспринципных в общении гуманоидов, поэтому задерживаться не стоило – корабль мог в любой момент уйти в рейс без меня. Жди тогда следующего рейса ещё год.
Тем не менее, я направился не на пассажирский причал, а на грузовой. И правильно сделал, так как суперкарго корабля, маленький, сухонький, как скелет, элиотреец, чем-то похожий на земных богомолов, стоял возле четырёхметрового контейнерного куба и наотрез отказывал служащему космопорта в погрузке, мотивируя отказ тем, что данный контейнер в списке грузов не значится.
– Простите, суперкарго, – вежливо вклинился я в перепалку и протянул билет на рейс и багажную квитанцию. – Это мой багаж.
– Что? – изумлённо выпучил фасетчатые глаза суперкарго. Он недоверчиво взял документы тоненькой лапкой, прочитал. – Действительно, наш пассажир… То есть, задница. И что же в этом контейнере?
Изумление отнюдь не исчезло из глаз суперкарго.
– Экспедиционное снаряжение, – сухо сказал я, не зная, как реагировать на «задницу».
– Что!!? – Изумление на треугольном лице суперкарго превысило всякие границы, достигнув абсолюта. – Видел задниц на своём веку, но такую задницу… Ты уверен, что оно тебе понадобится?!
От оскорбления у меня перехватило горло, и я не нашёлся, что ответить.
– Ладно, грузи, – скомандовал суперкарго служащему космопорта и отвернулся от меня.
Тележка с контейнером поплыла к грузовому люку, и суперкарго поспешил за ней. Возле створа он остановил тележку, рванул за рычаг, и контейнер с грохотом обрушился в трюм корабля.
– Осторожнее! – запоздало крикнул я.
– Поучи мою бабушку спариваться! – огрызнулся суперкарго, шагнул в створ люка и повернулся ко мне. – Я же сказал, что снаряжение тебе не понадобится. – Люк трюма начал зарастать. – Дуй на посадку, а то без тебя улетим.
И мне ничего не оставалось, как «дунуть» на пассажирский причал. О судьбе снаряжения, в общем-то, можно было не переживать – внутри контейнера (по сути являвшегося антигравитационным плотом-трансформером, на котором я собирался охотиться на Moirai reqia , поскольку не знал, предоставят ли мне на Сивилле средства передвижения) был установлен независимый гравитационный режим, поэтому оборудование никоим образом не должно пострадать. Гораздо более неприятным представлялось обидное прозвище, данное командой корабля всем пассажирам «Путника во мраке». Хотя, возможно, с точки зрения элиотрейцев ничего обидного в прозвище не было. В их организме отсутствовал пищеварительный тракт – подобно некоторым членистоногим, элиотрейцы имели внешнее пищеварение: вводили в пищу желудочный сок, а спустя некоторое время поглощали готовый биоэнергетический субстрат. И на этом, как говорится, всё – разве что несуществующие губы салфеткой обтереть. Поэтому «задница» в человеческом понимании у них отсутствовала, и так могло называться лишь место, на котором сидят. А поскольку каждый пассажир согласно купленным билетам занимает на корабле соответствующее место, то отсюда и прозвище… Объяснение было логичным, успокаивающим уязвлённое самолюбие, но в него почему-то не верилось.
На пассажирском причале у трапа корабля меня поджидал вахтенный. Причал пустовал – рейс не считался пассажирским, поскольку раз в год доставлял на исследовательскую станцию у Сивиллы сменный персонал, оборудование и предметы жизнеобеспечения. Пассажиров, вроде меня, набиралось немного. И всё же один провожающий на причале присутствовал. За турникетом, метрах в пятидесяти от трапа, кликушествовал в теологическом угаре монах Барабек, потрясая серебряным крестом и предавая анафеме вся и всех, направлявшихся на Сивиллу.
Странно, но при виде монаха я не испытал былого раздражения. Скорее, сожаление, что столь некорректно обошёлся с ним, ибо только сейчас, видя его неподконтрольное сознанию неистовство, понял, что передо мной не фанатик веры, а душевнобольной, нуждающийся в лечении. Хотя между тем и другим разница невелика.
Я протянул билет вахтенному, он внимательно рассмотрел его и осклабился, если так можно охарактеризовать приоткрывшуюся пасть и выдвинувшиеся из неё хелицеры.
– Мы не летим на Сивиллу, – ехидно заявил он.
Я опешил.
– А куда?
– На исследовательскую станцию у Сивиллы, – осклабившись ещё больше, объяснил вахтенный.
Ох, и не любили на корабле пассажиров. И это понятно – в глазах команды все, кто стремился попасть на Сивиллу, выглядели одуревшими с жиру толстосумами (стоимость билета на рейс приближалась к астрономической), единственным желанием которых было стремление узнать на планете свою судьбу. Никчемное, с точки зрения любого здравомыслящего, желание. Моя цель была совершенно иной, но посвящать в неё я никого не собирался. Пусть лучше на протяжении всего рейса меня обзывают «задницей».
– Значит, я долечу с вами до исследовательской станции, а дальше пойду пешком! – отрезал я.
– Договорились, – весьма довольный собой, сказал вахтенный и включил прилепленный присоской к щеке микрофон. – Капитан, последняя задница прибыла на корабль!
– Наконец-то, – ответил капитан. – Стоять по местам, задраивать люки, готовиться к отходу!
Вахтенный жестом пригласил меня на корабль, вошёл следом и убрал трап. Стоя в проёме люка, он помахал рукой Барабеку, крикнул ему: – Счастливо оставаться, беззадница! – и зарастил входную перепонку.
– Ваш знакомый? – осторожно поинтересовался я, мысленно переваривая новое словосочетание – «беззадница».
– Ага! – весело ответил вахтенный. – Летал в своё время на Сивиллу, и был тогда такой же беззаботной задницей, как ты сейчас. – Он повернулся ко мне, втянул в пасть хелицеры, выпрямился, и я понял, что шутить он больше не намерен. – А теперь слушай меня внимательно. Твоя каюта номер четырнадцать прямо по коридору. Гальюн – в конце коридора, кают-компания – между ними. За время рейса всем задницам категорически запрещается выходить за пределы своего отсека! Понятно?!
Мне оставалось только кивнуть и пойти в указанном направлении. Что я и сделал.
Каюта оказалась низенькой коморкой, в которой можно было либо сидеть на миниатюрном стульчике возле встроенного в стену блока корабельной информотеки, либо лежать на узкой койке, а стоять – только на полусогнутых ногах. Что поделаешь – стеснённые габариты диктовались общей массой корабля, которую необходимо разогнать до световой скорости. Учитывая отношение команды к пассажирам, впору удавиться от таких условий, если бы полётное время составляло полгода. Но это в реальном времени пройдёт полгода, а для летящих на корабле – чуть более суток. Четырнадцать часов на разгон корабля, около часа полёта с практически световой скоростью, и четырнадцать часов на торможение. Релятивизм, давно ставший анахронизмом для перемещений в Пространстве, на этой трассе являлся неприятным, но неотъемлемым явлением. Пока. Потому что существовал ещё какой-то иной способ перемещения сквозь межгалактические сектора с аномальными топологическими возмущениями, при котором эффект релятивизма не проявлялся. Но об этом способе знали только сивиллянки.
Больше всего мне хотелось спать – сказывались бездумное девятичасовое созерцание Вселенной на обзорной площадке и послеобеденная осоловелость, – но я пересилил себя, сел на стульчик и включил экран корабельной информотеки. Поскольку она была автономной и никак не связанной с межгалактической электронной сетью из-за всё тех же топологических возмущений данного сектора Пространства, я мог почерпнуть из неё неизвестные сведения о Сивилле.
Почти ничего нового я не узнал, зато освежил раннее известные факты, так сказать, из самого достоверного источника – большинство сведений о Сивилле в галактической сети информотек имели пометку «нестрогое соответствие». Сведения о первых контактах с сивиллянками уходили в седую древность, когда Галактического Союза ещё не существовало (то есть, имели более чем полумиллиарднолетнюю историю), и в них не очень верилось, поскольку футурологические прогнозы являются неотъемлемой составляющей разума, а любые предания из этой области столь глубокой старины могли со временем интерпретироваться как угодно. Но если они всё же соответствовали действительности, то сивиллянскую цивилизацию можно было считать чуть ли не первой разумной расой Млечного Пути. Однако вплоть до настоящего времени сивиллянки не только не входили в состав Координационного совета Галактического Союза, но и не стремилась к этому. Ни сейчас, ни в обозримом будущем. Весьма странная цивилизация, представители которой неожиданно появлялись в Галактике то здесь, то там, предрекали какое-либо событие и тут же исчезали. Одно время существовало мистическое суждение, что сивиллянки являются своеобразным передаточным звеном между мифическими Строителями Млечного Пути и его обитателями, но, не имея под собой никакой реалистической почвы, это суждение вскоре благополучно сошло на нет. Предполагалось также, что звёздная система, в которой зародилась сивиллянская цивилизация, давно погибла, и сивиллянки, так и не найдя подходящей системы для новой родины (по другим толкованиям – не желая обретать новую родину) теперь странствуют по Вселенной подобно библейским пророкам, бескорыстно предсказывая будущее. Однако эта гипотеза рухнула лет пятьсот тому назад, когда сивиллянки точно указали месторасположение своей системы, построили возле неё космостанцию и разрешили всем гуманоидам посещать её. Непосредственно на планету они допускали только избранных, причём критерии отбора «счастливцев» до сих пор оставались неясными. Так, например, из ста гуманоидов, которым раз в год разрешалось побывать на станции, на Сивиллу допускалось от силы пятеро, да и то, в основном, личности, с которыми сивиллянки встречались ранее. Остальные девяносто пять, пробыв год на станции возле Сивиллы, вынуждены были возвращаться домой несолоно хлебавши. Быть может, этим и объясняется, что образовавшаяся поначалу многомиллиардная очередь гуманоидов, желавших узнать свою судьбу, сама собой рассосалась, и теперь станцию посещали лишь единицы. Нашим рейсом, например, летело всего шестнадцать пассажиров.
Расторопные и весьма рачительные элиотрейцы, на которых была возложена миссия доставки пассажиров на станцию, из всего старались извлечь выгоду. Они непомерно взвинтили цены на билеты (отчасти также и этим объяснялась малочисленность желающих узнать свою судьбу), а прибыль с туристического, если его так можно назвать, бизнеса пустили на организацию и содержание на станции научного центра по исследованию Сивиллы. И хотя исследования загадочной планеты не дали равно никаких результатов (её диск, вечно затянутый пеленой облаков, можно было наблюдать только через оптику, при этом все остальные приборы показывали полный ноль, будто на месте планеты был открытый космос, а видимый диск являлся оптической иллюзией), элиотрейцы не пали духом и переключились на исследование топологических возмущений межгалактического пространства данного сектора. Эти исследования неожиданно привели к ряду открытий, что позволило элиотрейцам запатентовать несколько способов, упрощающих процесс гиперперехода, и теперь на всех гиперстворах космостанций и космопортов стояло исключительно элиотрейское оборудование, что приносило баснословные прибыли. Наверное, будь на то их воля, элиотрейцы полностью бы оккупировали станцию у Сивиллы, не допуская туда посторонних, но сивиллянки корректно намекнули, что при таком раскладе станция прекратит своё существование, и элиотрейцы были вынуждены терпеть досужих пассажиров.
Сугубо рациональный человек, я не верил в полную бескорыстность сивиллянок, хотя вся их деятельность на протяжении миллионов лет не давала повода усомниться в этом. Что-то они брали у представителей иных цивилизаций, что-то весьма незначительное и вроде бы пустяшное на первый взгляд, иначе пропадал логический смысл контактов. По этому поводу существовала даже ничем не подтверждённая, но, тем не менее, весьма стойкая гипотеза (доведенная в бреднях брата Барабека до абсурда), что сивиллянки коллекционировали копии сознания побывавших на планете гуманоидов, подобно тому, как некоторые туристы из фотографий экзотических мест, где им удалось побывать, составляют альбомы. С точки зрения человека чрезвычайно безобидное занятие, хотя многие аборигены, даже весьма цивилизованные (особенно расы с хорошо развитыми миелосенсорными способностями), категорически запрещают фотографировать себя. И в этом есть свой глубокий смысл – оказывается любое изображение живого существа связано с оригиналом топологически-хронологическими координатами (приблизительно, как собственная тень), и, владея инструментарием изменения топологии пространства, можно оказывать влияние на индивидуума, воздействуя на его изображение. Мне лично пришлось участвовать в показательном эксперименте Аугицо Портасу, уникального миелосенсорика среди бортайцев. Заранее предупредив, что никаких патологических воздействий на личность он производить не будет, а лишь заставит позвонить реципиента по межпространственной связи, Портасу попросил у меня фотографию любого из моих друзей, взял её в руки и с минуту разглядывал лицо Раудо Гриндо. Где в тот момент находился мой приятель, я понятия не имел, что и требовалось для чистоты эксперимента. Так вот, не прошло и пары минут, как Раудо Гриндо действительно позвонил. Будучи эстет-энтомологом как и я, он находился в экспедиции на Малом Маггелановом Облаке, за шестьдесят две тысячи парсеков от места эксперимента, и звонил по совершенно нелепому поводу, интересуясь: если ему повезёт поймать два экземпляра экзопарусника Cardinalis orheomani , то не соглашусь ли я обменять одного из них на имеющийся у меня дубликат Penna maurus ? Корректно уйдя от прямого ответа (мой экзопарусник «тёмное перо» относился ко второму классу, а предлагаемый Гриндо «танцующий кардинал» – лишь к третьему), я отключился, но результаты эксперимента произвели на меня ошеломляющее впечатление. Никогда ни один эстет-энтомолог не позволял себе, выражаясь фигурально, делить шкуру неубитого медведя. Так поступали только любители, а не профессионалы. А Раудо Грандо был профессионалом до мозга костей.
Впрочем, никаких побочных эффектов во время вояжей сивиллянок по Галактике не было зарегистрировано, поэтому моё предположение о «некорректной бескорыстности» сивиллянок оставалось гипотетическим. Но и сбрасывать со счетов моё умозаключение не стоило – среди большинства посетивших Сивиллу гуманоидов наблюдались существенные психические расстройства. Из известных мне троих гуманоидов, побывавших на Сивилле, двое (гениальный художник-меступянин из бара космопорта «Весты» и граниец Пауде, присутствовавший на конгрессе эстет-энтомологов на Палангамо) пребывали в тихом ступоре осознания личной судьбы, а третий, монах Барабек, стал воинствующим фанатиком, превратившись, иронически перефразируя высказывание вахтенного, из «беззаботной задницы» в чрезвычайно «заботную беззадницу».
Возможность подобного исхода сафари настораживала, но у меня был единственный, довольно весомый, хотя и не защищавший стопроцентно, аргумент. Я летел на Сивиллу не узнавать свою судьбу, а из более прозаических, утилитарных побуждений. Свою судьбу я ковал своими руками и потому предсказывал её с весьма высокой долей вероятности. Чужие предсказания мне не нужны.
Единственной новой информацией, имевшейся в корабельной информотеке, – вернее, не новой, но кардинально уточняющей некоторые аспекты моего пребывания на Сивилле, – было не очень приятное известие о предстоящей судьбе контейнера с ловчими снастями и экспедиционным оборудованием. Прав оказался суперкарго, не придётся мне воспользоваться снаряжением и антигравитационным плотом, – сивиллянки брали на планету приглашённых гуманоидов без багажа. Эти сведения присутствовали и в межгалактической сети информотек, однако имели настолько туманный и фрагментарный характер, что я вынужден был готовиться соответствующим образом. Тем не менее, учёл вероятность и подобного развития событий. Конечно, придётся спать не раздеваясь, причём в экспедиционной амуниции, в которую заблаговременно облачился, покидая борт пестуанского межгалактического лайнера. Но мне не привыкать.
Мысль о сне появилась не случайно – глаза помимо воли начали слипаться, мозг уже не усваивал информацию. Я отключил блок информотеки, перебрался со стула на койку и мгновенно уснул. Уснул, как себе и предсказывал, в экспедиционной амуниции – и никаких сивиллянок-прорицательниц для этого «предвидения» не понадобилось.
4
Проснулся я часов через десять и по наступившей в каюте жуткой дисперсии света понял, что корабль вышел на крейсерскую скорость. Очертания каюты расплывались радужными пятнами, неприятно воздействуя на сетчатку глаз, и я зажмурился. Помогло это слабо, так как замедлившиеся фотоны продолжали бороздить глазные яблоки, поражая зрительный нерв разноцветными сполохами. Из теории я знал, что на околосветовых скоростях, когда масса стремится скачкообразно перейти в энергию, в живом организме начинаются разбалансировочные процессы, вызывающие тошноту и головокружение, но насколько это плохо, прочувствовал только на собственном опыте. Вдобавок в царившем электронно-фотонном хаосе начали барахлить вживлённые в нервную систему биочипы, доводя диссонанс в организме до полного беспредела, а осознание того, что мы летим в топологически нестабильном пространстве, трансформировало мои ощущения совсем уж в химерическое восприятие. Я чувствовал себя то скрученным как лента Мёбиуса, то завязанным как бутылка Клейна, причём мои внутренности, находясь вроде бы внутри этой бутылки, были одновременно и снаружи.
К счастью, всё это скоро закончилось – лайнер начал торможение, доплеровское смещение света в каюте исчезло, и зрение, наконец, восстановилось. Однако ощущение, что мои внутренности находятся где-то снаружи, а голова составляет единое целое с ягодицами, держалось ещё пару минут. Может быть, именно из-за этого ощущения пассажиров фотонного корабля «Путник во мраке» и называли «задницами»? Похоже, тайна прозвища пассажиров стала для меня «пунктиком», но как я ни копался в информотеке корабля, на свой «животрепещущий» вопрос так и не нашёл ответа.
Функции биочипов восстановились, и они быстро привели в порядок мироощущение. И я понял, что мокрый от пота как мышь, лежу, скрючившись, на жёсткой и узкой, подобно насесту, койке в своей каюте. Сознание очистилось, я стал рассуждать чётко и здраво.
Первым делом следовало стащить с себя амуницию и залезть под душ, но в каюте не было предусмотрено даже умывальника. Несомненно, что где-то в пассажирском отсеке находилась душевая, однако трезвый рассудок предостерёг от поспешного выполнения желания. Неизвестно, когда сивиллянки заберут меня на планету, – может быть, именно сейчас, не дожидаясь моего прилёта на космостанцию, и в таком случае я рискую оказаться на Сивилле голышом. На нормы приличия мне было плевать, но то, что окажусь там без спецснаряжения, означало полный крах долго вынашиваемого и тщательно подготовленного предприятия. Придётся преть в одежде, как на Пирене. Одно утешало – попав на Сивиллу, я буду избавлен от вынужденного табу на купание.
Единственное, что я себе позволил, это на пять минут включить биотраттовый комбинезон, чтобы он хоть на короткое время занялся переработкой кожных выделений. Большего позволить не мог – для сафари на Сивилле я заказал охотничью модель, у которой все функциональные способности включались одновременно, в том числе и мимикрия. Не хватало, чтобы излишне подозрительные элиотрейцы, увидев в коридорах корабля мимикрирующую под окружающие предметы фигуру, приняли меня за террориста.
Немного обсохнув, я отключил комбинезон, сел на койке и первым делом произвёл инвентаризацию карманов. Парализатор, миниатюрный плазменный резак, цилиндр мини-сачка с выбрасываемой сетью обездвиживающего поля, тюбик маскировочно-мимикрирующей пасты для лица и кистей рук, футляр с препараторскими инструментами, аэрозоль для первичного бальзамирования трофеев в походных условиях… Кажется, ничего не забыл, всё было при мне, в том числе и пластина развёртки антигравитационной ловушки для бережной транспортировки трофея. Теперь можно было идти на поиски умывальника.
То, что вахтенный назвал гальюном, оказалось трансформерной туалетной комнатой для любых рас. Набрав на дверном замке идентификационный код человечества, я подождал пару минут и, когда дверь распахнулась, переступил порог. Нельзя сказать, что туалетная комната выглядела как в каютах люкс комфортабельного лайнера, но в то же время вполне сносно. Зеркала, кафель, умывальник, душевая кабинка, писсуар, унитаз и даже биде. Всё располагалось на малой площади, без шумо– и светопоглощающих экранов или простых пластиковых занавесок, но, как говорится, и на том спасибо. В общем, нормальный гальюн. Пригодный для любой… гм… любого пассажира. Уж не этот ли гальюн послужил основой для прозвища? Элиотрейцам такие сооружения не нужны.
Приведя себя в порядок, я почувствовал, что пора позавтракать, хотя по корабельным часам был поздний вечер. Однако перестаиваться по времени я решил на космостанции у Сивиллы – учитывая эффект релятивизма, трудно ожидать, что по прибытии суточное время на станции совпадёт с корабельным. Оставалось надеяться, что кормят здесь не по расписанию, и кают-компания будет открыта.
Против ожидания, кают-компания в столь поздний час не пустовала – не я один жил не по корабельному времени. За длинным столом сидело трое (а точнее – четверо): по центру расположился дигурианин, единый в двух лицах бицефал; у левого торца стола – элиотреец в форме корабельной команды; был здесь и ещё кто-то у правого торца, однако он сидел за светопоглощающим экраном, из-за которого доносились весьма непристойные звуки, несовместимые по человеческим нормам с застольем. Впрочем, то, что «вкушали» остальные, тоже могло отбить аппетит даже у непритязательного Homo, мало знакомого с кухней и обычаями иных рас. Головы дигурианина бойко склёвывали с блюда какую-то копошащуюся массу, похожую на спагетти, но, несомненно, живую. При этом головы весело пересвистывались между собой после каждого клевка, словно похваляясь друг перед другом – какую, мол, жирную «спагеттину» каждая из них сейчас проглотила. Элиотреец пока не приступил к трапезе, занимаясь внешним пищеварением. На тарелке перед ним лежал желтоватый, чем-то напоминающий дыню, сморщенный кокон и мелко подрагивал от бурлящего внутри желудочного сока, введённого туда элиотрейцем.
Заинтриговано косясь на элиотрейца (что в пассажирской кают-компании понадобилось члену команды корабля?), я подошёл к кухонному комбайну и набрал на дешифраторе код человечества. Высветилось меню, но мои ожидания, что побывавший здесь монах Барабек так же разнообразил блюда, как и в космопорту, не оправдались. Пришлось довольствоваться стандартным обедом Homo с непременным цыплёнком-гриль. В ожидании выполнения заказа, я вновь бросил взгляд на элиотрейца, и только тогда обратил внимание на шеврон на рукаве форменной куртки. Стюарт-толмач, основная обязанность которого давать разъяснения пассажирам по всем интересующим вопросам. Всё-таки не совсем команда отгородилась от пассажиров, сохранились на корабле кое-какие цивилизованные нормы в сфере обслуживания.
Получив поднос с заказом, я на мгновенье задержался у окошка выдачи, оглядывая кают-компанию и выбирая место, где удобнее всего расположиться и отгородиться от всех светопоглощающим экраном, как внезапно понял, какой случай выпал мне со стюард-толмачом. Вряд ли он мог рассказать что-либо новое о Сивилле, но оскорбительную тайну прозвища пассажиров корабля из него можно попытаться выудить.
Пройдя вдоль стола, я поставил поднос на столешницу и сел рядом со стюардом.
– Надеюсь, не будете возражать, – тоном, не допускающим отказа, сказал я. В конце концов, не одному же мне оказываться в неловкой ситуации, когда к столику подсаживаются непрошеные сотрапезники.
Стюарт недоброжелательно покосился на цыплёнка-гриль, но промолчал.
– Приятного аппетита! – пожелал я, отрезал ножом кусок цыплёнка, подцепил вилкой и отправил в рот. Синтетическая курятина оказалась мягкой, рыхлой – кухонный блок корабля определённо нуждался в перенастройке, – но вполне съедобной.
Стюарта передёрнуло, но он опять промолчал. Мой способ потребления пищи явно не доставлял ему удовольствия, однако он терпел моё присутствие. Без сомнения, астронавт он бывалый – ещё и не такие способы предваряющих метаболизм операций повидал на своём веку при исполнении служебных обязанностей, – но привыкнуть к ним так и не смог. В любой расе встречаются индивидуумы, из которых природную брезгливость ничем не вытравишь.
Почувствовав явное нежелание стюарда вести застольную беседу, я решил побыстрее перейти к сути дела. Проглотил мясо, запил апельсиновым соком и сказал:
– Позвольте поинтересоваться, какой смысл вы вкладываете в слово «задница», когда так называете пассажиров?
Фасетки глаз стюарда смотрели во все стороны, но мне почему-то казалось, что основное внимание элиотрейца было сосредоточено на моём кадыке. При этом на его лице читалось плохо скрываемое отвращение.
– Вы кто? – наконец хриплым голосом спросил стюард.
– Я? Пассажир. Или, как вы здесь величаете, задница.
– Да нет, – поморщился стюард, – я спрашиваю о вашей расе.
– А это ещё зачем?
– Этимология прозвища не для всех рас адекватна, поскольку конкретное смысловое понятие имеет под собой фольклорную основу.
– То есть, называя пассажиров задницами, вы подразумеваете вовсе не седалищное место?
– Именно так, хотя для некоторых рас эти понятия совпадают.
– Понятно, – кивнул я. Как я и предполагал, версия о занимаемых пассажирами местах на корабле рассыпалась в прах. – Я – человек.
Стюарт достал из-под стола плоский блок лингвистического адаптёра, защёлкал на нём клавишами.
– Ваш идентификационный номер, пожалуйста, – попросил он, глядя одновременно и в световое окошко адаптёра, и вокруг, но главным образом по-прежнему продолжая брезгливо созерцать мой кадык.
Я назвал.
Он ввёл идентификационный номер человечества в адаптёр, световое окошко мигнуло и высветило заключение.
– Пять минут на обработку информации и адаптацию легенды под фольклор вашей расы, – пробурчал стюард.
– Я подожду.
Фасетки в глазах стюарда синхронно мигнули, будто переключая внимание, он отодвинул адаптёр в сторону и протянул субтильную лапку к своей тарелке. Желтоватый кокон на тарелке перестал подрагивать, морщины на нём разгладились, поверхность тускло заблестела.
– Тогда, с вашего позволения, я отужинаю, – сказал он.
Я хотел пожелать «На здоровье», но вышло: – На здоров… в’э… – так как в конце фразы непроизвольно икнул, увидев, как из пасти элиотрейца выпрыгнул тонкий, белесо-слюнявый хоботок и, вонзившись в кокон, завибрировал.
Поспешно отведя глаза, я пододвинул к себе поднос, чтобы продолжить обед, но не смог. Чмокающий, с присвистом, звук, издаваемый элиотрейцем при высасывании кокона, отбивал аппетит. Демонстративно заткнуть уши я не мог, поэтому взял стакан с соком и начал сосредоточено пить мелкими глотками – давно убедился, что при этом значительно снижается слышимость. Кадык у меня задвигался, и в ту же секунду неблагозвучное чмоканье с кашляющим всхлипом прервалось. Как для человеческого уха не существует глухой зоны слышимости, так и у фасеточных глаз элиотрейцев отсутствует «мёртвый» угол поля зрения. Имея круговой обзор, элиотрейцы и понятия не имеют, что такое отвести взгляд.
Я мельком глянул на элиотрейца, и мне стало его жаль. Фасеточные глаза стюард-толмача затянулись поволокой дурноты. Незавидная у него должность – весь рейс сидеть в кают-компании, против воли созерцая подготовительные к метаболизму процессы представителей иных рас и не имея права не то, что уйти, но даже создать вокруг себя светозащитный экран.
– Адаптация притчи закончена, – проговорил он севшим голосом. – Читать?
– Да.
Стюарт пару раз глубоко вздохнул, подёрнутые пеленой фасетки глаз чуть просветлели. Он пододвинул к себе адаптёр и начал читать, протяжно и заунывно:
– «Жил-был мальчик. Он ничем не отличался от своих сверстников, за исключением…»
Волосы на голове у меня зашевелились. Знал я цену иносказательных выражений других рас, переведенных адаптёром в фольклорном ключе. Иногда толкование одного слова превращалось в бесконечную сагу, выловить из которой рациональное зерно не представлялось возможным.
– Стоп! – оборвал я речитатив стюарда. – А короче можно?
– Можно, – согласился он. – Задница.
– Что – задница?
– Задница есть задница, – терпеливо разъяснил стюард. – Вы просили коротко, я вам и говорю.
Действительно, куда уж короче…
– Тогда что такое беззадница? – нашёлся я.
– Беззадница это беззадница, – терпеливо разъяснил стюард. Толмач он был настолько великолепный, что хотелось плеваться.
– В чём же разница между задницей и беззадницей?
– Беззадница есть конечная стадия задницы.
Я тяжело вздохнул и повёл плечами. Это я давно понял из разъяснений вахтенного. Все пассажиры, летящие на Сивиллу, – задницы, а побывавшие там – беззадницы.
– Ладно, – безнадёжно махнул рукой. – Читай…
И, подпёрши щёку ладонью, приготовился слушать как минимум часа три. Но чем-чем, а временем я сейчас располагал.
– «…того, – точно с прерванного места продолжил стюард, – что на месте пупка, у мальчика была металлическая гаечка. Из-за этой гаечки мальчик очень страдал, так как сверстники жестоко насмехались над ним, и никто не хотел дружить. Мальчик плакал, спрашивал родителей, почему он такой, но никто не мог дать вразумительного ответа, зачем на месте пупка у него металлическая гаечка…»
«Вот и со мной так… – отстранённо пронеслось в голове. Бесцветный, замедленный речитатив стюарда убаюкивал. – Никто не даёт прямого ответа, почему нас на корабле называют задницами. Может, в этой неопределённости и зарыта смысловая концепция?»
«…Мальчик рос, но насмешки не прекращались, и он всё настойчивей требовал от родителей объяснений. Наконец отец не выдержал назойливых требований и послал его…»
«Куда послал? – встрепенулось было наполовину усыплённое сознание, но тут же успокоилось. Для придания фольклорного колорита адаптёр, не вникая в тонкости, часто использовал широко распространённые идиомы, отчего пространное толкование иногда оказывалось прошитым, как белыми нитками, двусмысленными фразами.
«…И пошёл мальчик бродить по свету. Но никто, к кому бы он ни обращался, не мог ответить, зачем у него вместо пупка гаечка. Долго ли коротко бродил мальчик по свету, но наконец забрёл в тридевятое царство, тридесятое государство и очутился в дремучем лесу перед финским домиком на костяных ногах. В этом домике жила добрая бабушка с куриной ногой, она то и посоветовала мальчику направиться за тридевять земель, где в поднебесной стране на краю Ойкумены в пещере высочайшей в мире горы живёт мудрец, который всё на свете знает…»
«Господи, – вяло пронеслось в голове, – на какой свалке подобрали этот адаптёр? Дичайшая этно-литературная смесь…» Однако разбирать завал из фольклорных остатков разных эпох и этносов Земли не стал. В конце концов, если ничего не пойму из невразумительной притчи, подключу к анализу биочипы, они лучше разберутся и, может быть, выудят рациональное начало.
«…Три посоха истёр, семь железных башмаков стоптал мальчик, пока добрался до края света. Глядит, и вправду, стоит там высокая гора, а в ней – пещера. Вошёл мальчик в пещеру и видит, что посреди неё на величественном троне восседает белобородый старец.
– О, великий мудрец! – обратился к нему мальчик. – Говорят, ты знаешь всё на свете. Так поведай же мне, бедолаге, зачем у меня вместо пупка гаечка?!
Рассмеялся мудрец на такие слова и молвил громовым голосом:
– А ты возьми и открути её!
Подивился мальчик безмерным познаниям старца и такому премудрому совету, оголил живот и открутил гаечку. Задница у него и отпала…»
Приготовившись к многочасовому слушанию, я впал в транс, никак не ожидая, что предполагаемая сага окажется притчей и будет длиться всего несколько минут. Даже не знаю, что вывело меня из дремотно-созерцательного состояния – то ли то, что стюард замолчал, то ли впервые услышанное в притче слово, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор.
Я встрепенулся и недоумённо уставился на стюарда.
– Это… всё?
– Всё, – степенно кивнул стюард.
– Повтори-ка, пожалуйста, концовку.
– Пожалуйста. «Задница у него и отпала…»
Наверное, в голове что-то заклинило, и я ровным счётом ничего не понимал. Может быть, потому, что привычные для человеческого уха саги и притчи не имели столь парадоксально оборванного конца. Чего-то явно не хватало. Морали, что ли?
– Это точно всё? – растерянно переспросил я.
– Точно всё, – кивнул стюард. – Правда, есть примечание, но, как мне кажется, оно чрезвычайно алогично, и вряд ли может быть вами понято. Это примечание дано для элиотрейцев и имеет весьма отвлечённый и иносказательный характер.
– Прочитай, – не согласился я.
Он пожал плечами и прочитал:
– «Примечание: не ищи приключений на свою задницу». Как видите, абсолютно бессмысленный набор слов.
Кажется, у меня отвисла челюсть. Я обескуражено уставился на элиотрейца, а затем зашёлся неудержимым, до икоты, хохотом.
– Да уж… – вытирая слёзы, с трудом выдавил. – Действительно… Бессмыслица…
Стюарт, похоже, уловил издёвку.
– У вас ко мне больше нет вопросов? – холодно осведомился он.
– Нет, нет…
И тогда я увидел, как могут преображаться субтильные с виду элиотрейцы. Он долго терпел меня, выполняя обязанности судового толмача и стараясь не переступить рамки профессиональной учтивости обслуживающего персонала, но теперь, когда мои вопросы исчерпались, имел все основания считать себя освобождённым от должностных норм поведения. Элиотреец медленно выпрямился за столом и аккуратно прижал к впалой груди лапки с выставленными вперёд острыми коготками, отчего стал ещё больше похож на земного богомола. Богомола перед атакой.
– Тогда пошёл отсюда вон вместе со своими не переваренными объедками! – гаркнул стюард. – Дай спокойно пообедать, чтобы меня не мутило!
Было бы неправдой сказать, что меня будто ветром сдуло из-за стола. Тем не менее, прихватив поднос, удалился в другой угол кают-компании весьма поспешно, всё ещё содрогаясь от хохота. Здесь я сел, отгородился светозащитным экраном, и смог, наконец, закончить завтрак. Ел, впрочем, очень аккуратно, чтобы не подавиться, так как временами на меня вновь накатывали волны безотчётного смеха. Хотя, если здраво рассудить, над кем смеялся? Задница-то я…
5
Со стороны космостанция была похожа на крупноячеистую паучью сеть, свободно плавающую в пространстве на периферии звёздной системы, состоящей всего из одной звезды и одной планеты – вопреки принятой терминологии станция вовсе не являлась спутником Сивиллы, а была искусственным сателлитом её светила. На перекрестьях коммуникационных перемычек капельками росы в лучах далёкого солнца поблёскивали индивидуальные модули, причём если одна половина станции с жёсткими фермами лифтовых туннелей была похожа на стационарную модель кристаллической решётки сложного по строению минерала, то вторая половина, связанная лишь пружинящими связевыми перемычками, то сокращаясь, то растягиваясь, медленными волнами колебалась в пространстве. В первой половине космостанции, образующей единый комплекс, находился исследовательский центр элиотрейцев, вторая половина, разрознённая на обособленные модули, предназначалась для гостей Сивиллы, и, насколько я знал, обе половины между собой не сообщались. Доступ гостям на территорию исследовательского центра был закрыт. В общем-то, гости Сивиллы и между собой редко общались – та цель, ради которой они сюда прибывали, не располагала к откровению и дружественным контактам. Судьба – сугубо личное дело каждого, и даже более тонкое, чем интимные отношения.
И к лучшему. Моё дело, ради которого сюда прибыл, трудно охарактеризовать интимным, но в то же время не менее сугубо личное. К тому же общение с гуманоидами, чьи интересы зациклены на одиозно-никчемном с моей точки зрения желании, вряд ли доставит мне удовольствие. Интересоваться своей судьбой может лишь мягкотелый, безвольный субъект, а я таких презираю. В этом я солидарен с мнением команды фотонного корабля, хотя и сам выглядел в её глазах не меньшей «задницей».
«Путник во мраке» медленно приблизился к станции и завис метрах в пятидесяти от её плоскости. С элиотрейской половины станции к кораблю выдвинулся гофрированный раструб переходного туннеля, состыковался с носовым отсеком, и там в активном режиме началась смена персонала исследовательского центра. Эвакуация «старых» гостей и высадка «новых» визитёров происходила несколько иначе. Индивидуально. Поймав гравитационным захватом жилой модуль, его подтягивали к кораблю, состыковывали, забирали из него «гостя», пересаживали туда вновь прибывшего, а затем модуль выпускали из гравитационной ловушки. И пока отпущенный модуль медленно втягивался сокращающимися коммуникационными перемычками в общую сеть космостанции, гравитационным захватом вылавливали следующий жилой модуль. В общем, шла рутинная процедура погрузки-выгрузки транспортного корабля.
Когда подошла моя очередь переселяться на станцию, за мной пришёл суперкарго. Смерив меня с головы до ног придирчивым взглядом, что было довольно странно при круговом обзоре фасеточных глаз, он явно остался недоволен мои видом, но ничего не сказал, а лишь предложил следовать за собой.
Модуль станции, на котором в одиночестве предстояло провести год, если сивиллянки почему-то не захотят забрать меня на планету, уже пристыковали к причальной палубе, но переходный створ не открывали.
Выведя меня на причальную палубу, суперкарго подошёл к стоящей у стены тележке с моим контейнером.
– Ручная кладь есть? – поинтересовался он.
– Всё своё ношу с собой.
Суперкарго хмыкнул, но прозвучало это как хрюканье.
– И это тоже? – язвительно заметил он, кивнув в сторону контейнера.
Я не стал огрызаться и промолчал. Уже понял, что с задиристыми элиотрейцами лучше не вступать в словесную перепалку. Себе дороже будет.
– Так что, грузить контейнер на модуль, или передумал? – спросил суперкарго.
– Грузить.
– Иного и не ожидал, – презрительно фыркнул суперкарго. – Что можно ожидать от задницы? Посмотрю на тебя, когда будешь возвращаться…
Я снова благоразумно промолчал. А что говорить? Если не сумасшедшими, то идиотами пассажиров здесь точно считали.
– Сейчас я открою переходный туннель, – сказал суперкарго, – он разделён переборкой на два прохода. Пойдёшь по правому, а по левому выйдет задница, которая уже отбыла свой срок. Думаю, у тебя нет желания с ней встречаться.
Фраза «отбыла срок» прозвучала чисто по-тюремному, будто суперкарго направлял меня в каземат.
Я неопределённо пожал плечами. Особого желания встречаться с «узником» не испытывал, но и не видится тоже. Кто он мне, отбывающий гость планеты Сивилла, если, конечно, ему удалось там «погостить»? Никто. Так, незнакомый встречный на жизненном пути. Один из миллионов в безликой толпе.
– Пока, задница! – попрощался со мной элиотреец и открыл створ переходного туннеля. – Желаю тебе так и не попасть на Сивиллу! Сам потом благодарить будешь.
Я криво усмехнулся, ничего не сказал и шагнул в правый проход туннеля.
– Здорово, задница! – донёсся сзади голос суперкарго, приветствовавшего моего предшественника на модуле.
– Да, задница, задница! – сварливо согласился обитатель модуля. – Ещё та задница!
Визгливый голос показался знакомым, я приостановился и обернулся. Над суперкарго, как слон над букашкой, нависал человекоподобный гауробец и, отчаянно жестикулируя, орал:
– Только огромных размеров задница может позволить себе выбросить кучу денег, год как в тюрьме проторчать на станции и так и не дождаться приглашения на Сивиллу!
И вдруг я узнал гауробца. Передо мной, так сказать, собственной персоной, исходил праведным гневом профессор эстетической энтомологии Могоуши. А он каким образом здесь оказался? Тоже прослышал о загадочном экзопаруснике Сивиллы? Сердце у меня ёкнуло – с профессором мы были давними недругами, заочно соревнуясь значимостью своих коллекций. Пока я его опережал и по количеству уникальных экземпляров, и по качеству – я то лично добывал свои экземпляры в экспедициях, а профессор всё больше скупал у трапперов, имеющих смутное представление о правильной мумификации добытых трофеев. Однако в этот раз профессор отважился на собственную экспедицию. И…
И впустую! С души у меня словно камень упал, и я злорадно расхохотался во весь голос.
Могоуши осёкся на полуслове, замер, а затем медленно повернулся в мою сторону. Несколько мгновений он всматривался в меня, пока, наконец, не узнал. Лицо его перекосилось, губы задрожали. Могоуши попытался выкрикнуть что-то нелицеприятное в мой адрес, но ничего не получилось – от неожиданной встречи перехватило горло. Тогда он в сердцах махнул рукой и стремглав побежал с палубы прочь. Будто в моём лице узрел сатану, явившегося из преисподней на кликушество монаха Барабека.
Я перестал смеяться и посмотрел в глаза несколько ошарашенному суперкарго. В бесчисленных фасетках его глаз отражались сотни моих копий. Видел элиотреец многое, но такой концерт, похоже, впервые.
– И как тебе благодарность? – спросил я.
– Какая благодарность?
– За напутствие, так и не попасть на Сивиллу, – кивнул я в сторону, куда убежал профессор Могоуши.
Впервые бойкий на язык элиотреец не нашёлся, что ответить.
И тогда я развернулся и зашагал по туннелю к модулю. Навстречу неотвратимой Судьбе, как думали сейчас суперкарго и вся команда фотонного корабля «Путник во мраке». Я же просто направлялся на охоту. Но какую!
Хлама после себя профессор оставил предостаточно. Поняв к концу пребывания на станции, что на Сивиллу его никто приглашать не собирается, махнул рукой на приличия и опустился до крайности – даже отключил блок санитарии модуля. Обрывки фольги, пластиковые упаковки синтет-пищи, одноразовые стаканчики, тарелки, вилки и ложки, грязное бельё, скомканные бумажки валялись по всей территории. Хорошо, что не додумался отключить блок регенерации воздуха, иначе от вони разложившихся остатков пищи можно было задохнуться. Поневоле напрашивался вывод, что Могоуши знал, кто именно будет квартировать на модуле после него. Однако, вспомнив выражение лица профессора на причальной палубе «Путника во мраке», я отмёл это предположение как абсурдное. Зная обо мне, он бы устроил пакость похлеще. Скорее всего, полное одиночество и пришедшее под конец понимание, что честолюбивым замыслам не суждено осуществиться, крайне негативно сказались на самочувствии непомерно себялюбивого профессора. Даже трудно представить, что случилось бы с его неуравновешенной психикой, побывай он на Сивилле. Возможно, судьба профессора Могоуши сложилась бы гораздо хуже судьбы монаха Барабека, хотя чем именно хуже я представить не мог. С моей точки зрения судьба монаха и без того крайность.
Попытка задействовать блок санитарии ни к чему не привела, и я обратился к системе жизнеобеспечения модуля, чтобы узнать причину. Поломка оказалась пустяковой – по сообщению системы жизнеобеспечения около месяца тому назад Могоуши в припадке беспочвенной ярости запустил в блок увесистым томом Каталога частных коллекций экзопарусников (как подозреваю, не совсем беспочвенной, а в порыве ревности, рассматривая именно мою коллекцию) и повредил сенсоры качественного анализа мусора. Предложение о ремонте он игнорировал, и с тех пор вёл себя не адекватно нормам и правилам поведения на космической станции, балансируя на грани допустимого пренебрежения, за рамками которого управление модулем полностью переходит к системе жизнеобеспечения, и она приступает к принудительному лечению гостя.
«Жаль, что не спятил», – подумал я, прекрасно понимая, что до того, чтобы окончательно выжить из ума, Могоуши далеко. Даже перед собой он рисовался, в крайней степени эгоцентризма доходя до абсурда: как маразматик на склоне лет создавал вокруг себя неприемлемые условия существования – вот, мол, никто меня не ценит с моими выдающимися способностями, – хотя здесь, кроме него самого, оценить столь неподобающее отношение к «гению» было некому. К сожалению, дальше подобных эксцентричных выходок дело не двигалось, а многие бы вздохнули с облегчением, узнай, что профессор по-настоящему лишился рассудка. Я – в первую очередь.
На починку сенсоров ушло около пяти минут, зато на уборку система жизнеобеспечения затратила более четырёх часов и это притом, что я отдал категорический приказ не отсортировать личные вещи бывшего обитателя модуля от мусора, а всё отправлять в утилизатор. Если мне понадобится, к примеру, тот же Каталог частных коллекций экзопарусников в материальном, а не виртуальном исполнении, закажу его воспроизвести снова, а этот, к которому прикасался профессор Могоуши, брать в руки не желал. Я хотел лишь одного, но глобально, – чтобы не то, что вещей, но и духа Могоуши на модуле не ощущалось. Надеюсь, что только в этом страстном желании я чем-то походил на профессора.
Пока шла уборка, я подсел к пульту управления и включил внешний обзор. Плоскость космической станции располагалась перпендикулярно плоскости эклиптики звёздной системы, и хотя половину неба заслоняла тень фотонного корабля, он не закрывал звезду, видимую отсюда маленьким, размером с булавочную головку, солнышком, освещавшим станцию тусклым сумеречным светом. Чуть в стороне от звезды едва различимым невооружённым глазом серпиком просматривалась Сивилла. При виде этого серпика на душе оттаяло, и все мои недавние заботы, в том числе и антипатия к профессору Могоуши, отошли на второй план. Пальцы сами собой забегали по клавиатуре пульта, и серп Сивиллы начал увеличиваться, пока не заполнил весь экран.Освещаемая солнцем сторона планеты была затянута густой белой облачностью, сплошь испещрённой спиральными бороздами вихревых потоков, будто на поверхности свирепствовали ураганы. При этом почему-то казалось, что и полный мрак на теневой стороне за линией терминатора тоже закручен вихревыми потоками. Планета не имела ни следов переменного биополя, свидетельствующих о наличии жизни, ни повышенного фона радиоизлучения, сопутствующего высокоразвитой технологической цивилизации. Тем не менее, не смотря на столь «агрессивный» внешний вид, никаких бурь, по свидетельству побывавших на Сивилле гостей, на поверхности не наблюдалось. Наоборот, почти все отзывалось о планете, как о сейсмически устойчивой, экологически благоустроенной, со стабильно-спокойной атмосферой, причём большинство приглашённых видели над головой безоблачное небо. Мнемоскопирование сознания некоторых гостей подтвердило их слова, из чего и был сделан вывод, что визуально наблюдаемая с космической станции планета представляет собой наведенную оптическую иллюзию, скрывающую настоящий облик Сивиллы. Выдвигаемые предположения о причинах, побудивших сивиллянок быть столь скрытными, не достигали даже уровня гипотез, поскольку не подтверждались мало-мальски достоверными фактами. Пожалуй, лишь одно предположение в какой-то степени приближалось к гипотетическим, но и оно было весьма шатким, поскольку технологии сивиллянок по преодолению пространства и времени оставалась для всех цивилизаций Галактического Союза тайной за семью печатями. Именно на тайне беспрепятственного перемещения без использования технологических средств в любом, в том числе и топологически нестабильном пространстве, а также идеально точных предсказаниях и пророчествах, свидетельствующих о возможности перемещения против вектора времени, зиждилось гипотетическое предположение, согласно которому время на поверхности планеты и время в её тропосфере разграничивалось многомиллионнолетним темпоральным сдвигом. Однако зачем это понадобилось сивиллянкам, гипотетическое предположение ответа не давало (мне было по душе полушутливое частное мнение одного из известнейших планетологов коллотопянина Эудина Криптрими, высказавшегося в том ключе, что сивиллянкам, как и всем цивилизованным гуманоидам, не нравятся, когда подглядывают в окна их дома). Вместе с тем это предположение не выдерживало никакой критики, поскольку в таком случае сканирование параметров планеты с космической станции показало бы и её массу, и спектральный анализ атмосферы, и в том числе темпоральные возмущения… Но все приборы показывали на месте видимого диска Сивиллы такой же глубокий вакуум, как и в окружающем космосе.
Попытка заслать к Сивилле автоматические зонды окончилась полным крахом. Двигаясь по направлению к планете, они уже в десяти тысячах километров от космической станции прекращали отзываться на команды и передавать какую-либо информацию, а, достигнув Сивиллы, сгорали в атмосфере, что подтверждалось визуально, но не регистрировалось никакими датчиками. То же самое, что и с автоматическими зондами, случилось и с двумя управляемыми элиотрейцами-добровольцами исследовательскими модулями, после чего и последовал известный ультиматум сивиллянок, требующий прекращения бессмысленных попыток несанкционированного посещения их планеты, так как в противном случае космическая станция будет ликвидирована.
Ценность этой информации для моего предприятия была нулевой, хотя я никогда не пренебрегал никакими, даже мифологическими, сведениями о месте намеченной экспедиции. Иногда бесполезная на первый взгляд информация оказывалась весьма кстати в экстремальных условиях. Ну что, например, мне могла дать информация об излишней наэлектризованности атмосферы Дауриты, на безводных плоскогорьях которой я охотился за экзопарусником экстра-класса радужником непарнокрылым? Казалось бы, ничего, кроме необходимости экипироваться в комбинезон из антистатической ткани. Но когда в результате землетрясения мой базовый лагерь оказался погребённым под гранитными глыбами обрушившегося в ущелье камнепада, мне удалось из обломков аппаратуры соорудить простенький атмосферный конденсатор статического электричества и с его помощью добывать воду из кристаллогидратных известняков, что помогло избежать смерти от обезвоживания и дождаться спасательной группы. Поэтому о том, лишние или не лишние сведения я накапливал, можно было судить только после окончания экспедиции. Обычно процент «лишней» информации после окончания охоты достигал девяноста процентов, но я никогда не жалел о потерянном времени на её сбор. В редких случаях, как на Даурите, эта работа окупалась сторицей.
Что касается Сивиллы, то здесь было гораздо больше вопросов, чем информации, и я, независимо от полученного приглашения, никогда бы не отважился на сафари, не имея твёрдой уверенности, подтверждённой неопровержимыми фактами, что это «спокойная и благоустроенная» планета.
Пожалуй, самым неясным и интригующим был вопрос о том, что же из себя представляют сивиллянки как раса? Почему они похожи именно на людей, почему показываются исключительно женщины, и никто никогда не видел мужчин? Косвенный ответ на все эти вопросы я получил совершенно с неожиданной стороны, но вовсе не из предоставленной на мой запрос документации Галактической службы безопасности, хотя документация тоже имела к этому отношение (несмотря на грозное название, ГСБ не является строго режимным учреждением, и более половины собираемой ею информации хотя и не подлежит широкому оглашению, не несёт на себе гриф секретности, поэтому некоторые документы и предоставляются частным лицам для ознакомления). Ответ я получил от сотрудника Галактической службы безопасности Аугицо Портасу, и был он настолько обескураживающим, что повлёк за собой лавину ещё более острых вопросов, ответов на которые не существовало.
Просматривая в кабинете Портасу распечатку конфиденциальных материалов о Сивилле, я наткнулся на копию иллюстрированного журнала Дейноциуры, где рядом со стереоснимком сивиллянки были размещены прекрасно выполненные карикатуры, изображающие сивиллянок с лицами дейноциурцев: с выпуклыми фосфоресцирующими глазами и загнутыми клювами. Фыркнув, я обратил внимание Портасу на эти карикатуры, но, странное дело, бортаец меня не поддержал.
– А вы уверены, что со стереоснимков на вас смотрит именно человеческое лицо? – серьёзно спросил он, глядя мне в глаза.
– А какое же ещё? – осторожно удивился я, ощущая себя в глупом положении.
Вот тогда-то бортаец и объяснил мне, что моментальные снимки живых существ связаны с оригиналом топологически-хронологическими координатами, поскольку являются его реальным отражением в конкретной точке пространства и времени. И если оригинал обладает абсолютными психокинетическими способностями, то на его фотографии любой гуманоид будет видеть себе подобного, причём в обличье, отвечающем самым высоким эстетическим критериям его сообщества.
Я не поверил, и тогда, собственно, Портасу и продемонстрировал свои уникальные мнемосенсорные способности, проведя эксперимент с фотографией Раудо Гриндо, произведший на меня ошеломляющее и одновременно гнетущее впечатление. Было в этом эксперименте нечто жуткое, атавистически пугающее, отчего в сознании непроизвольно проецировались призрачные фигуры средневековых ведьм и колдунов, прокалывающих иглами восковые фигурки своих врагов.
И сейчас, глядя на диск Сивиллы с гигантскими спиралями ужасающих ураганов в её атмосфере, я неожиданно подумал, что эта «негостеприимная» панорама в глазах иных гуманоидов может выглядеть совсем по-другому. Например, кроваво-красными светящимися разводами на белоснежном облачном покрывале тропосферы, означающими глобальный разгул вулканической деятельности на поверхности планеты. В общем, «в соответствии с эстетическими нормами конкретной цивилизации…»
Я отключил экран и отвернулся от пульта. Система жизнеобеспечения уже закончила уборку, и тогда за дело принялся я, полностью модифицировав внутренние помещения под планировку своей виллы в системе Друянова. И не только потому, что предыдущая планировка соответствовала запросам профессора Могоуши (чего, естественно, я стерпеть не мог), но и потому, что жить здесь предстояло долго, а в таком случае лучше проводить время в привычной обстановке. Конечно, габариты у модуля далеко не те, но кабинет, столовую, спальню, душевую и санузел я воспроизвёл почти в том же виде, что и у себя на вилле. Большего, надеюсь, мне не понадобится.
Проснувшись на следующее утро, я долго не вставал с постели. Лёжа на спине в полной амуниции, я отрешённо смотрел в потолок, и было лень повернуться, чтобы в левый бок перестал давить лежащий в кармане куртки блок электронной записной книжки, служившей своеобразным экспедиционным журналом. Знал, стоит мне поменять положение, как из другого кармана в другой бок упрётся ещё какой-нибудь прибор из минимально необходимого снаряжения. Так я и спал всю ночь, ворочаясь с боку на бок как на крупной гальке, но вынимать что-нибудь из карманов опасался, поскольку не знал, каким именно образом сивиллянки заберут меня отсюда.
О переходе гостей с космической станции на Сивиллу ходило несколько противоречивых версий, но, скорее всего, все они были равноправны и имели реальное воплощение, поскольку основывались на свидетельствах непосредственных участников, хотя документальными видеосъёмками не подтверждались – время отсутствия на станции приглашённых гостей, по своей продолжительности доходящее иногда до года, вчистую исчезало из памяти системы жизнеобеспечения модулей. Принцип переброски гостей со станции на Сивиллу основывался на мгновенном телекинезе (физическую сущность которого не раскрыла ещё ни одна цивилизация Галактического Союза), а способ приглашения варьировался между двумя крайностями: когда сивиллянки появлялись на модуле, вели долгие разговоры с предполагаемым визитёром и лишь потом переправляли его на планету, и когда такая переброска осуществлялся без каких-либо предварительных переговоров, неожиданно и почти спорадически. Как по мне, так лучше бы моя переброска на Сивиллу осуществлялась по первой «крайности» – надеюсь, удалось бы уговорить сивиллянок переправить и мой багаж. Но готовым нужно быть ко всему…
Наконец я встал, умылся и прошёл в столовую, где заказал лёгкий завтрак. Гренки с джемом и какао, хотя благодаря стараниям побывавшего на станции монаха Барабека меню на кухне было столь обширным, что могло удовлетворить любого гурмана и сибарита. Меланхолично жуя гренки и прихлёбывая какао, я пронаблюдал на панорамном экране, как от станции медленно отходит фотонный корабль «Путник во мраке», унося домой профессора Могоуши. Волей-неволей мне приходилось встречаться с профессором на симпозиумах эстет-энтомологов, хотя при этом оба старались не замечать друг друга и избегать прямых контактов, однако то, что мы вот так вот, носом к носу, столкнулись здесь, было из ряда вон выходящим событием. Какие, порой, немыслимые зигзаги выписывает наша судьба…
При слове «судьба», промелькнувшем в голове, я словно очнулся и как бы новым взглядом окинул окружающую обстановку. Воссозданная по меркам моей виллы столовая показалась чужой, и иная, чем в окрестностях системы Друянова, звёздная панорама ещё больше подчёркивала, что я вовсе не дома. Знание, что отсюда невозможно связаться с кем бы то ни было, начало оформляться в почти материальное осознание полной изоляции от привычного мира на целый год (известны случаи, когда гостей забирали на Сивиллу только под конец их самовольного заточения на модуле станции, и такая перспектива меня не устраивала). Не проведя на модуле и суток, я уже начинал понимать профессора Могоуши – от вынужденного безделья можно и с ума сойти. Гнетущая пелена никогда ранее не испытываемой клаустрофобии сдавила сердце, начала обволакивать сознание. Сопротивляясь чисто животному атавистическому чувству, я попытался взять себя в руки. Насильно запихнул в рот последний гренок, допил какао и встал из-за стола. Чтобы не позволить меланхолии овладеть сознанием, нужно найти какое-то дело. Рукам или голове – без разницы. Ещё не зная, какое это будет дело, для рук или для головы, но твёрдо уверовав, что обязательно его найду, я направился в кабинет, открыл дверь и шагнул через порог.6
Мир осени и грусти – именно такой предстала передо мной Сивилла. Со всех сторон до самого горизонта простиралась равнина с пологими невысокими холмами, покрытая ровным ковром стелющейся оранжево-красной травы. С блекло-зеленоватого без единого облачка неба светило неяркое солнце, в тёплом влажном воздухе ощущался запах прели и увядания. Кое-где в низинах замерли призрачные дымки неподвижного тумана – здесь не было ни ветерка и ни единого звука, как будто животный мир Сивиллы в осеннюю пору погружался в спячку, либо давным-давно вымер, либо его здесь никогда не было. Полное спокойствие и умиротворённость пейзажа демонстративно подчёркивали, что на этой планете ни с кем ничего случиться не может.
Все, кому довелось посетить планету, отмечали её тектоническую стабильность и экосферную благоустроенность, хотя каждый попадал в отличные от других условия, словно гостей размещали по разным климатическим зонам. Однако со времён открытия Сивиллы для посещения «климатических зон» насчитывалось столько, что хватило бы на сотню-другую планет, а одна просто не могла вместить.
Как я ни готовился к переходу со станции на планету, это событие произошло неожиданно и вопреки желаемому сценарию. Прав оказался суперкарго фотонного корабля «Путник во мраке», никто не собирался переправлять на Сивиллу моё снаряжение…
От резкой смены обстановки у меня закружилась голова, и я сел на траву, пытаясь как можно быстрее прийти в себя, чтобы собраться с мыслями. В теле ощущалась необычная лёгкость, словно я попал на планету с меньшей гравитацией, но в то же время краешком сознания понимал, что это не так. Головокружение быстро прошло, сменившись ясностью и чёткостью мышления, будто я помолодел лет на двадцать. Если прав монах Барабек, и загробный мир существует, то я хотел бы, чтоб моя душа оказалась там именно в таком состоянии.
Ощущение лёгкости в теле не исчезало, я машинально похлопал себя по карманам и обмер. Они были пусты – всё минимально необходимое снаряжение для ловли Moirai reqia исчезло без следа. А это означало полный крах экспедиции. Конечно, оставалась призрачная надежда поймать экзопарусника голыми руками (дважды на Сивилле ещё никому не удалось побывать), хотя ценность такого экспоната, не смотря на его уникальность, будет мизерной.
Странное дело, но осознание фиаско экспедиции было почему-то на втором плане, на первом по-прежнему оставалось тревожное чувство лёгкости тела. Причина крылась не в меньшей гравитации и не в пустых карманах – что-то произошло внутри меня: в организме, в сознании, – и от этого было не по себе. Внезапно я понял, что произошло – с головы вместе с введёнными в мозг электродами исчезла экранирующая сетка, а из тела все пять биочипов, внедрённых в нервную систему специально для экспедиции. Ни один из них не реагировал на моё тревожное состояние, ни один не отзывался на запросы – растворились в неизвестности так же бесследно и мгновенно, как снаряжение из карманов. Будто их и не было. И ещё я почувствовал, как в глубине сознания, на самом дне памяти исчезла некогда наглухо установленная переборка, и что-то тягостное и скорбное из моего далёкого прошлого, от которого я, казалось, навсегда отгородился, забыл о нём, запретил себе вспоминать, плескалось теперь тёмной жутью, готовой в любой момент возродиться.
Стараясь отвлечься, чтобы не позволить тёмной жути воспоминаний выплеснуться в сознание, я попытался настроиться на уравновешенный ход мыслей, и, кажется, мне это удалось. Что-что, а железную волю и выдержку я в себе воспитал. Без этих качеств в экспедициях делать нечего – порой только они позволяют выжить и достичь цели.
Спокойно и взвешенно проанализировав ситуацию холодным рассудком, я пришёл к выводу, что сивиллянки при моей переброске удалили из тела всё, что не присуще мне как биологическому виду. Иного объяснения я не видел – другое дело, зачем? Либо эти, с позволения сказать, протезы, не поддаются совместному с живым организмом телекинезу, либо сивиллянки преследуют какие-то свои, только им известные цели. Чтобы убедиться в своей правоте, я сел по-турецки, стащил с правой ступни бригомейскую кроссовку и внимательно осмотрел, а затем ощупал лодыжку. Косметический шрам исчез без следа, а на месте искусственного шарнира находился вполне нормальный костный сустав.
Увидев метаморфозу со стопой, я испытал нечто вроде сожаления. Сустав мне раздробили железные челюсти браконьерского капкана на Элиобере, где я охотился за экзопарусником Limbus subtilis , местный хирург, оперируя в полевых условиях, вставил искусственный шарнир, и уже через неделю я смог нормально ходить, а через две – бегать, ничем не уступая другим участникам экспедиции (тогда я ещё участвовал в многолюдных сафари, но уже давно рыщу по Галактике как волк-одиночка…). Позже, в реабилитационном центре восстановительной хирургии на Каллиопе, мне предложили регенерировать сустав, однако я наотрез отказался, так как процедура регенерации и последующее привыкание к выращенному суставу занимали около двух лет, а искусственный ничем не уступал естественному.
Замена сустава вроде бы подтверждала версию о невозможности моего совместного с протезами телекинеза, однако в неё никак не вписывались перенесенные одежда и обувь, а в противовес им – исчезновение снаряжения из карманов. На вторую же версию можно было списать всё, так как цели и задачи сивиллянок были по-прежнему неясны. И вряд ли когда-нибудь разъяснятся.
Так и не придя ни к какому выводу, я неторопливо обулся. Трава подо мной была излишне хрупкой, но не вялой, листья и стебли сочными, налитыми. Нет, отнюдь не осень царила на Сивилле. Цвет травы и запах прели невольно наводили на подобный вывод, но на основе земных стереотипов о чужом мире судить нельзя. Знать бы ещё, не пытаются ли сивиллянки судить обо мне по своим меркам? Как бы не оказаться, согласно пророчеству монаха Барабека, «жуком на булавке» в их коллекции…
«Про волка разговор, и он тут как тут» – кажется, так гласит славянская поговорка. Не успел я подумать о сивиллянках, как одна из них сконденсировалась из воздуха метрах в семи от меня. В солнечно-жёлтом балахоне, скрывающем фигуру и руки, с лицом мадонны, она зависла в нескольких сантиметрах над травой и посмотрела мне в глаза долгим понимающим взглядом. Будто знала обо мне всё и всё заранее прощала.
«Если бы такую встретил на Земле – женился», – попробовал съёрничать про себя, чтобы как-то воспротивиться её чарам. Но, кажется, чары всё же меня достали. Отнюдь не показалось ёрничанье забавным – чем дольше смотрел в глаза сивиллянки, тем более правдоподобной представлялась фраза.
– Здравствуй, Бугой, – тихо сказала сивиллянка, не открывая улыбчивого рта. Ни одна мышца не дрогнула на её лице, только показалось, что проникновенный взгляд пыхнул голубым светом и перевернул мне душу.
– Здравствуй… – сказал я, сцепивши зубы и пытаясь усилием воли противиться её парапсихологическому воздействию. В какой-то степени это удалось, и слово «богиня» так и не сорвалось с губ.
Мне показалось, что она пытается ненавязчиво проникнуть в моё сознание, и я, сконцентрировав волю, напрягся из последних сил, чтобы не допустить в свои мысли никого постороннего. Будь по-прежнему на голове экранирующая сетка, я бы легко с этим справился, сейчас же приходилось напрягаться до потемнения в глазах. И вряд ли бы что получилось, но неожиданно давление на мозг исчезло, и я понял, что попытка овладения мои сознанием отменяется. И почему-то был уверен, что больше никогда не повторится.
– Вот и осуществилось одно из твоих желаний – ты на Сивилле, – сказала сивиллянка. – Ты доволен?
– Нет, – твёрдо сказал я, вытирая испарину со лба. Нелегко далась борьба за свободу сознания. Но этого мне было мало – не для того сюда прибыл, чтобы заниматься мыслеборьбой.
– Почему?
Вопрос прозвучал задушевно, участливо, но я понимал, что неискренне. Знала она всё: что было, что есть и что будет. Видела прорицательница наперёд предстоящий диалог. Однако я не знал будущего и отступать не собирался.
– Потому, что со мной нет ловчего снаряжения. Помоги доставить сюда контейнер.
– Он тебе не понадобится, – возразила она, точь-в-точь повторяя слова суперкарго фотонного корабля. – Ты без него найдёшь здесь то, что ищешь. То, ради чего ты сюда прилетел.
– Экзопарусника? Как же я его поймаю без ловчих снастей?
– А ты уверен, что ищешь именно его?
Она снова не открыла рта, и тогда я впервые подумал, что сивиллянка свободно читает мои мысли и уже давно обосновалась в моём мозгу. Впечатление состоявшейся мыслеборьбы и моей победы, скорее всего, было самообманом, чтобы успокоить бунтующее сознание.
– В своих желаниях и стремлениях я конкретен, – жёстко отрубил я.
Но сивиллянка лишь загадочно усмехнулась.
– Не всё так просто, как тебе кажется, – прозвучал в голове её голос. – Хочешь узнать свою судьбу?
А вот этот вопрос разозлил меня до крайней степени. Прорицательница, чёрт тебя побери! Не надо путать меня с идиотами, которые прилетают на Сивиллу ради столь никчемного желания.
«Если ты умеешь читать мои мысли, то ты знаешь, чего я хочу», – зло подумал я.
– Знаю, – сказал голос. – Это ты не знаешь.
– Хотеть, но не знать, чего хочешь, удел душевнобольных, – отрезал я.
– Смотря что понимать под душевной болью, – загадочно переиначила она.
Я не нашёлся, что ответить. Диалог пошёл по пути, который был мне крайне неинтересен.
И тогда сивиллянка меня отпустила.
– Ладно, – сказала она. – Ты ещё не готов к пониманию. Ты прилетел сюда в экспедицию? Так иди, ищи Moirai reqia – царицу своей судьбы.
В этот раз она переиначила название экзопарусника, зачем-то акцентировав его на моей личной судьбе, и тут же растаяла в воздухе, будто её и не было, а только привиделась. А я продолжал сидеть на багряной, псевдоосенней траве, глупо таращась на то место, где только что видел сивиллянку. Гостеприимный народ, нечего сказать!
Откуда-то налетел порыв лёгкого ветра, веером прошёлся по траве, по моим волосам. И я чуть не вскрикнул от неожиданного ощущения. Наверное, подобную гиперосмию испытывают люди, впервые начисто выбрившие голову. Мои же ощущения после удаления сетки психозащиты были значительно острее. Создавалось впечатление, что я лишился не только экранирующей сетки, или волос, как бритоголовый, но также скальпа и свода черепа, и теперь оголённый мозг пульсировал на открытом воздухе. Осторожно, боясь оказаться правым, я потрогал пальцами голову. Нет, всё в порядке: череп, кожа, волосы – всё на месте, однако неприятное ощущение оголённости мозга продолжалось, и его пульсация толчками крови отдавалась в висках и глазных яблоках, доводя до слепоты.
Ходить на модуле космической станции в кепи я не догадался, но выход из создавшейся ситуации нашёл, натянув на голову капюшон куртки. Тонкая ткань обтянула голову, и создалось впечатление, что на место трепанации черепа наложили заплату. Тем не менее, почувствовал облегчение, пульсация в висках уменьшилась, давление крови на глазные яблоки начало спадать, возвращая зрение.
– И в каком же направлении мне прикажете идти? – оглядываясь по сторонам, задал я в пустоту риторический вопрос. Со всех сторон меня окружал единообразно ржавый пейзаж волнистой низменности.
«Осмотрись внимательней, и сам поймёшь», – неожиданно пришёл ответ прямо в сознание.
Я встрепенулся, но сивиллянки рядом не увидел. Не существовало для неё расстояний в разговоре со мной. Однако я в таком ключе вести диалог не хотел. Неприятно ощущать себя подопытной крысой в лабиринте, которую направляют к выходу, похлопывая тросточкой по бокам.
Поднявшись на ноги, я ещё раз огляделся по сторонам, затем запрокинул голову и посмотрел на неяркое солнце. За время разговора с сивиллянкой солнце продвинулось по небу, и я легко определил, где восток, а где запад. Наконец-то появились хоть какие-то ориентиры в этом мире.
Свет солнца не резал глаза, как на Земле, поэтому мне и удалось разглядеть вокруг его диска странное гало. Пять маленьких солнышек медленно вращалось вокруг светила. Я задержал взгляд, пытаясь получше рассмотреть странное оптическое явление, как вдруг заметил, что гало, продолжая вращаться по часовой стрелке, смещается к западу. Край гало пересёк солнечный диск, и вращающийся круг из пяти ярко-жёлтых точек, словно оторвавшись от своего источника, выплыл на чистое небо.
Сердце обмерло в предчувствии. Я зажмурился, наклонил голову, помассировал веки, а затем снова посмотрел на небо. Даже не обладая орлиным взором, я распознал в смещающихся к западу пяти солнечных точках хоровод Moirai reqia . Вроде бы они кружили очень высоко, чуть ли не на границе тропосферы, однако могли оказаться и значительно ниже – не зная их истинных размеров, легко ошибиться в перспективе. Но в том, что это именно хоровод удивительных экзопарусников, я не сомневался. Рисунок гениального меступянина на клочке бумаги навсегда отпечатался в памяти, и вращающиеся по кругу далёкие золотистые пятнышки повторяли его контуры один к одному в пяти экземплярах.
С трудом оторвав взгляд от плывущих по небу экзопарусников, я внимательно осмотрел небосклон и к своему удовольствию обнаружил ещё несколько таких хороводов. Какая-то система в их расположении на небе отсутствовала, но все они медленно плыли на запад, и направление движения сходилось клином в одну точку на горизонте.
«Вот и определилось направление пути», – подумал я и, не раздумывая, зашагал на запад. Только в этот раз обычной уверенности, что непременно добуду желанный экземпляр, у меня не было. Была лишь призрачная надежда.
7
Размеренным шагом я шёл по равнине уже четвёртый час, но пейзаж вокруг не менялся. Сочные стебли хрустели под ногами, раздавливаясь в тёмно-кровавую кашицу, и на густом ковре стелющейся травы оставались чёткие следы. Если бы не их ровная цепочка за спиной, уходящая за горизонт, можно было предположить, что я топчусь на месте. Те же пологие холмы, та же багряная трава, тот же запах прелой листвы, те же, плывущие высоко в небе на запад, медленные хороводы экзопарусников Сивиллы. Отнюдь не редким, оказывается, был здесь этот вид, хотя никто из эстет-энтомологов о нём ни сном, ни духом не знал. Впрочем, никто толком и о самой планете ничего не знал.
Никогда раньше я не охотился за экзопарусником на планете с высокоразвитой цивилизацией. Обычно это происходило либо в необитаемых мирах с дикой природой, либо на планетах, где цивилизация не достигла техногенного уровня и разнообразие биологических видов не было раздавлено железной пятой тотальной урбанизации. Таково уж свойство разума – отсталые в развитии народы восхищаются закованными в металл и бетон планетами-мегаполисами, а народы этих самых мегаполисов с ностальгической грустью устремляются в необитаемые миры, чтобы насладиться там дикой природой. Где собирают гербарии или, как я, коллекции экзопарусников.
Бедность биологических видов Сивиллы свидетельствовала, что развитие цивилизации здесь не миновало техногенный этап, однако происходило это в такие архаичные времена, отделённые от настоящего рядом геологических эпох, что от искусственных сооружений и следа не осталось. Разница в развитии цивилизаций Галактического Союза и сивиллянок была столь велика, что не поддавалась осмыслению. Невозможно представить желания и чаяния существ, достигших уровня психокинетического владения пространством, временем и материей, поэтому я, шагая по хрустящей под ногами багряной траве, ощущал себя муравьём на равнине под бдительным оком экспериментатора. Когда приобретение материальных благ становится для представителей сверхцивилизации столь же простым и обыденным действием, как дышать воздухом, эти самые материальные блага перестают интересовать. Жалкими и никчемными с высот развитой цивилизации кажутся потуги муравья, поэтому моя ментальность вызывает у сивиллянок такую же улыбку, как у меня напыщенная самодостаточность астуборцианина возле справочного бюро космопорта «Элиотрея». Вполне возможно, что мои стремления и желания в глазах сивиллянок ничуть не выше уровня естественных потребностей организма, и они потакают им с теми же снисходительностью и умилением, с которыми человек подкармливает чаек на берегу моря, голубей на площади города, или бездомных кошек и собак в подворотне. Пожалуй, я был не прав, когда пытался разглядеть за бескорыстием сивиллянок что-то ещё, кроме самого бескорыстия. Стремление чему-то научить, передать свои знания – всегда бескорыстно, хотя, зачастую, и вовлекается в сферу финансовых операций. Корысть присутствует только в дрессировке…
Солнце всё более склонялось к горизонту, и по моим расчётам до наступления ночи оставалось не более двух часов. От однообразного пейзажа и монотонной размеренной ходьбы восприятие окружающего притупилось, и я увидел криницу с чистой водой, когда чуть не ступил в неё ногой. В общем, и не мудрено не заметить – бортик небольшой, около метра в диаметре криницы выступал из травы всего на пару сантиметров и был сплетён из стеблей всё той же багряно-ржавой растительности. Мгновение я недоумённо смотрел на воду, и только затем понял, что хочу пить. Причём давно.
Опустившись на колени, я осторожно потрогал бортик криницы, но плетение из хрупких стеблей оказалось необычно прочным, и тогда я опёрся об него ладонями, наклонился и стал пить. Вода была чистой, холодной, с едва ощутимым запахом прели. За те несколько часов, которые я пробыл на Сивилле, запах настолько въелся в сознание, что невольно вызывал в душе осеннее меланхолическое настроение. Даже желание поймать Moirai reqia поблекло как увядающая листва, утратив первостепенность и притягательность. Разбудил запах осени генетическую память поколений, и пелена безотчётной грусти окутала сердце.
Утолив жажду, я сел на траву возле криницы и усилием воли попытался вернуть утраченное настроение. Но не получилось – над всем довлело понимание краха экспедиции из-за отсутствия ловчих снастей. И даже если мне повезёт поймать экзопарусника голыми руками, вряд ли сивиллянки перебросят трофей вместе со мной на космическую станцию. Исчезновение «посторонних предметов» из карманов и тела говорило об этом более чем красноречиво. Оставалось одно – увидеть экзопарусника вблизи, внимательно рассмотреть со всех сторон в различных ракурсах, чтобы, вернувшись домой, провести мнемоскопирование мозга и создать виртуальную копию Moirai reqia . Не ахти какая «добыча», но тоже раритет, поскольку изображение таинственного экзопарусника Сивиллы не приводилось ни в одном официальном документе. О нём не было даже упоминания – ходили только слухи…
Чтобы отвлечься от невесёлой перспективы, я принялся рассматривать бортик криницы. Переплетение застывших до каменной твёрдости стеблей было неплотным, но вода в просветы не просачивалась. Знакомый эффект: аборигены Пирены ещё и не то умели – достаточно вспомнить глиняные чаши Тхэна, непоколебимо висевшие над костром, опираясь на хрупкие тоненькие прутики. Чтобы окончательно убедиться в своей правоте, я попытался расшатать край плетёной чаши – вначале лёгкими движениями, затем не стесняясь в применении силы. Бесполезно. Чтобы деформировать травяное плетение, подвергшееся психокинетическому цементированию, нужен был мощный гравитационный удар. Либо отмена психокинетического воздействия.
Сорвав в стороне оранжево-красную травинку, я рассмотрел её на свет. Хрупкий стебелёк был настолько перенасыщен влагой, что просвечивал на солнце как стеклянный. Несомненно, что основным компонентом фотосинтеза этого растения являлся хлорофилл d – именно он обусловливает красный цвет, хрупкость структуры и водянистость. Но почему небо на Сивилле зеленоватое? Кислород придаёт атмосфере голубой цвет, а из всех газов, обеспечивающих атмосфере зелёный, есть только один – хлор. Но будь в воздухе Сивиллы хлор, я бы не сидел сейчас на траве и не решал эту загадку – уже первые несколько вдохов привели бы к летальному исходу.
Я раздражённо отбросил травинку – нашёл, чем голову забивать! – и попытался встать, чтобы продолжить путь. Но тут же охнув, снова сел. Я натёр ноги! Это было настолько неожиданно, что некоторое время я в полном недоумении рассматривал бригомейские кроссовки. Натереть в них ноги невозможно ни при каких обстоятельствах! Разве что на Сивилле…
Второй раз разувшись, я уже не рассматривал ступню, а внимательно изучил внутреннюю поверхность кроссовки, ощупал её, вытащил стельку. Так и есть, псевдоживая санитарно-гигиеническая структура кроссовки умерла, и оставшаяся оболочка теперь ничем не отличалась от обыкновенной обуви. В нехорошем предчувствии я отшвырнул кроссовку, лихорадочно дёрнул молнию на куртке, расстегнул и попытался активировать биотраттовый комбинезон. Никакой реакции не последовало. Утратил биотратт свои санитарно-гигиенические и мимикрирующие свойства точно так же, как и кроссовки. Не знаю почему, но очень уж хотели сивиллянки, чтобы я предстал перед ними в чём мать родила. Фигурально говоря, конечно. Однако в одежде и обуви, утратившими функциональные особенности, я чувствовал себя приблизительно так, как чувствовал бы себя, скажем, кардинал Ришелье, появившись на приёме у короля с фиговым листком вместо мантии. Каждому уровню цивилизации свои одёжки…
Словно ощутив моё смятение, тёмная масса в глубине сознания колыхнулась, и я до крови закусил губу, чтобы не позволить ей подняться на поверхность. Почему-то представлялось, если это давнее, заблокированное некогда воспоминание всплывёт, то последствия будут аналогичны последствиям деяния Великого Ухтары на Раймонде. Только не вода озера Чако обратится в пыль, а моё сознание.
Чувствуя сквозь острую боль, как кровь медленно сбегает по подбородку, я обулся и встал на ноги. Твёрдое решение идти далее, вернуло душевное равновесие и позволило расцепить зубы. Самое главное – постоянно нагружать мозг работой, чтобы не возникали сомнения в бесполезности моей затеи. Праздность ума бередит душу и вызывает ненужные воспоминания.
Наклонившись над криницей, я смыл кровь, ополоснул лицо. Что-то с криницей было не так. Но не в чистой воде было дело, и не в плетёном бортике, зацементированном психокинетическим воздействием. Не так было с самим её существованием. Я отчётливо помнил, что почувствовал жажду лишь тогда, когда наткнулся на криницу. Значит, либо подсознательное желание напиться привело меня к воде, либо… Либо кто-то, предугадав желание, соорудил криницу на моём пути. Что ж, этого следовало ожидать, поскольку вероятность того, что жаждущий в пустыне случайно набредёт на колодец, чрезвычайно мала. Весьма благоустроенная планета, хотя лучше бы здесь природа была дикой, и при мне находились ловчие снасти… Интересно, а когда я захочу есть, передо мной раскинется молочная река с кисельными берегами? Или трава заколосится бифштексами?
Я оглянулся и увидел на рыже-багряной равнине ровную, как по линейке, цепочку своих следов, уходящую за горизонт пунктиром будто запёкшейся в кровь раздавленной травы. Ещё одно подтверждение, что отнюдь не подсознание привело меня сюда – в поисках воды я бы петлял по равнине. И ещё об одном сказали следы – на Сивилле не было крупных животных, в противном случае трава эволюционно приспособилась бы к такому воздействию – на земном лугу за мной в лучшем случае остался бы след примятой травы, но никак не раздавленной. Впрочем, не только крупных, но и мелких животных и даже насекомых я здесь пока не видел. Кроме плывущих высоко в небе экзопарусников.
В преддверие сумерек небо позеленело, и я уже не видел парящих надо мной хороводов Moirai reqia . Лишь кое-где на западе виднелись у самого горизонта еле заметные точки. Где-то там, вероятно, находилось их гнездовье, родовище, место ночлега или что-то в этом роде. И мой путь лежал именно туда.
Первые шаги дались с трудом, но затем я расходился и почти не обращал внимания на растёртые ноги. «А всё-таки любопытно, – думал я, чтобы чем-то занять голову, – почему кислородосодержащая атмосфера имеет на Сивилле зелёный цвет?» Мне дважды довелось побывать на планетах с хлорной атмосферой и видеть сквозь гипербласт гермошлема зелёное небо. Но то была иная зелень, грязно-серая, не имеющая ничего общего с изумрудно-прозрачной зеленью сивиллянской атмосферы. Исключение представляло небо Трапсидоры, земноподобной планеты с кислородосодержащей атмосферой. Но там цвет неба обусловливался живущими в стратосфере оранжевыми бактериями, отчего небо приобретало люминофорную мутновато-зеленоватую окраску и долго светилось в ночи после захода солнца. Таких же небес, как на Сивилле, мне видеть не доводилось. Возможно, на цвет неба оказывал влияние гипотетический темпоральный сдвиг на границе тропосферы – не случайно же из космоса Сивилла выглядела планетой со сплошной густой облачностью, в то время как наблюдатель с её поверхности не видел над головой ни одного облачка. Однако об этом можно только гадать. Гипотетическими артефактами, как и наличием бога, можно объяснить что угодно.
Закат на Сивилле представлял собой необычное, но отнюдь не феерическое зрелище. Чем ниже солнце опускалось к горизонту, тем сильнее, вопреки законам оптики, оно слепило глаза, наливаясь оранжевым светом. В то же время небосклон всё сильнее окрашивался густой зеленью, но ни одна звёздочка не проявлялась на нём. Вечерней зари я так и не увидел. Казалось, солнце и небо существуют отдельно друг от друга, и солнечные лучи не рассеиваются, будто атмосфера здесь отсутствовала. Солнечный диск коснулся горизонта, начал скрываться за ним, и когда над обрезом земли остался лишь краешек светила, его свет превратился в ослепительный плоский луч, отделяющий багряную равнину от ставшего почти чёрным неба.
Непроизвольно зажмурившись, я остановился. А когда снова открыл глаза, меня окружала сплошная темень. До этого я как-то не задумывался о ночлеге, но сейчас вдруг понял, что ночевать придётся посреди равнины и спать не на голой земле, а ещё хуже – в мокрой каше раздавленных растений. И если на любой другой планете ночлег на голой земле в активированном биотраттовом комбинезоне был для меня само собой разумеющимся делом, то здесь я оказался в положении первобытного человека, застигнутого ночью посреди равнины без каких-либо средств жизнеобеспечения. Хорошо ещё, что ткань комбинезона сохранила водонепроницаемость и нулевую адгезию – в отличие от биохимических свойств, чисто физические не исчезли, – но утешало это мало. Мёртвый биотратт не поддерживает внутри комбинезона оптимальную температуру, и к утру я точно замёрзну. Значит, оставалось одно – продолжать двигаться в потёмках, ориентируясь по звёздам. Спать буду днём.
Я запрокинул голову, но звёзд на небе так и не увидел. Полная чернота. И только через пару минут, когда зрение адаптировалось, я различил в зените несколько белесых туманных пятнышек. Великий Аттрактор… Не повезло мне – Млечный Путь раскинулся на небе противоположного полушария, а здесь царствовал межгалактический мрак. И не одной звезды, расположенной вне гало нашей Галактики, не было в этом секторе на многие сотни парсеков. Только сейчас я со всей остротой осознал, что нахожусь на самом краю обитаемого мира. Возможно, на самой древней планете с самой древней цивилизацией Milky Way Galaxy, представители которой со снисходительным удивлением многомудрых, уставших от жизни старцев рассматривают меня со стороны как диковинную букашку.
Опустив взгляд, я с изумлением увидел, что вся равнина начала светиться призрачным багряным светом. Тускло, не освещая ничего вокруг себя, тлела каждая травинка, и только мой след с раздавленными стеблями полыхал ярким пунцовым пунктиром. Свечение равнины колебалось, трепетало волнами холодного призрачного огня, но я не ощущал ни малейшего дуновения. Не было ветра на этой планете, полная атмосферная статичность, а то, что я испытал после разговора с сивиллянкой, оказалось прозаическим схлопыванием воздуха при её межпространственном исчезновении. Возможно, колебание свечения объяснялось атавистической памятью травы о некогда гулявшем над равниной ветре, а возможно – побочным эффектом её метаболизма, но мне, честно говоря, было всё равно. Благодаря светящемуся пунктиру своих следов, я видел, в каком направлении следовало идти. Правда, теперь придётся часто оглядываться, чтобы не сбиться с пути, но и на том спасибо.
Однако, пройдя несколько шагов, я понял, что оглядываться не нужно. Далеко-далеко впереди замигал огонёк. Нормальный огонёк обычного света с полным спектром, а не призрачный поляризованный свет биолюминесценции. Будто кто-то специально зажёг для меня в ночи маяк. Не удивлюсь, если так на самом деле и окажется.
8
Примерно через час я заметил, что огонёк начал расти. Он уже не мигал, то исчезая, то появляясь, как далёкий маячок, а горел неровным светом, будто жгли костёр. Вряд ли он указывал на гнездовье Moirai reqia , слишком простым оказалось бы тогда моё путешествие даже для такой благоустроенной планеты. Скорее всего, у маячка меня ждал ужин и тёплый ночлег – я уже основательно устал и проголодался, а после появления на моём пути криницы следовало ожидать продолжения «чудес». Во всяком случае, я на это надеялся.
Огонёк всё рос и рос, пока я окончательно не убедился, что это действительно костёр. Хотя как можно разжечь костёр на равнине, где, кроме водянистой багряной травы, ничего не росло, было загадкой. Однако весьма несущественной. Какое мне дело, из чего сложен костёр? Главное, он есть, и ночлег у огня даже без спальника меня вполне устраивал. В некоторых экспедициях условия были гораздо хуже.
Я подходил всё ближе и уже видел суетящиеся у огня тени, как внезапно вокруг что-то изменилось. Беззвучный хлопок содрогнул окружающее, и я застыл на месте как вкопанный. Костёр по-прежнему горел метрах в ста впереди, по-прежнему царила ночь, но это было абсолютно иное место. Как по мановению волшебной палочки исчезла люминесцирующая трава, а вместе с ней исчез и нагоняющий тоску запах осенней прели. Под ногами было твёрдое каменистое плато без каких-либо признаков растительности, прохладный влажный воздух сменился на сухой, жаркий и душный, и появились звуки. Воздух звенел от шуршания, скрипа и верещания ночных насекомых. Но самое главное – над головой раскинулось величественное звёздное небо, и что-то в расположении созвездий показалось знакомым. Впрочем, на своём веку я перевидал такое количество разнообразных звёздных сфер над головой, что мог и ошибаться.
По всей вероятности, сивиллянки переместили меня в одну из своих многочисленных «климатических зон» на Сивилле. Отступив шаг назад, можно было проверить, не окажусь ли снова на багряно-светящейся равнине с глухим монолитом беззвёздного небосклона, но я не стал экспериментировать. Путешествие, навязанное сивиллянками против моей воли, шло по их правилам, и я ничего не мог с этим поделать. Следовало быстрее закончить их «игру», чтобы начать свою. Если мне, конечно, предоставят такую возможность. К тому же свет костра манил к себе, обещая ужин и отдых.
Я шагнул вперёд и тут же скорчился от боли. Ходить по каменистому грунту растёртыми неудобной обувью ногами оказалось гораздо сложнее, чем по мягкому ковру багряной травы. Мне вдруг вспомнились разбитые в кровь стопы пиренита Тхэна, когда его телом завладел млечник. Мёртвому пирениту тогда было всё равно, но я то пока живой…
Стиснув зубы, я медленно, в раскорячку, направился к костру, и чем ближе подходил, тем сильнее меня охватывала тревога. Привидевшиеся ранее чьи-то тени исчезли, и рядом с костром никого не было, но отнюдь не случайно припомнились ноги Тхэна, а звёздное небо показалось знакомым. Над костром, опираясь на воткнутые в землю тоненькие прутики, висела глиняная чаша, а чуть в стороне лежала перевёрнутая вверх дном утлая лодка Колдуна хакусинов.
«Что это сивиллянки надумали?» – пронеслось в голове. Такой поворот событий меня абсолютно не устраивал. Никто не имел права копаться в моей голове и, тем более, реализовывать воспоминания.
Вокруг, куда доставал свет костра, не было ни одной живой души. В глиняной чаше активно бурлило, я принюхался и по запаху определил, что варятся многоножки Пирены. Или омары. В общем, кто-то из ракообразных, но вернее всего первое. Что ж, от такого ужина я не откажусь, даже если варево, по рецепту Тхэна, несолоно.
Я проковылял к лодке, сел на неё и принялся разуваться. Больше, чем есть, хотелось снять обувь и опустить ноги в холодную воду. Но где её возьмёшь? Криница с чистой водой осталась где-то в иной «климатической зоне» Сивиллы, и сюда её вряд ли кто перенесёт.
Слева дохнул порыв тёплого ветра и принёс запах воды и гниющих водорослей. Нунхэн, Великая река Пирены, как и в реальном путешествии текла где-то рядом. Я криво усмехнулся. Опреснителя у меня с собой не было, поэтому ни за какие блага в мире не стал бы опускать покрытые волдырями ступни в речную воду, перенасыщенную солями. Это всё равно, что сунуть ноги в костёр. Если не хуже.
Глубоко вздохнув, я поставил босые ноги пятками на землю и пошевелил пальцами. Снова дохнул ветерок и принёс натёртым ступням облегчение. Почти блаженство.
И в этот момент из глубины ночи донёсся раздирающий душу рёв пиренского голого тигра.
«Это ещё что?!» – встрепенулся я. Судя по запаху, исходившему из чаши над костром, реализация моих воспоминаний была материально овеществлённой. И если по части ужина она меня устраивала, то в отношении пиренского тигра… Никому не пожелаю встретиться с пиренским голым тигром один на один без парализатора в руке.
Рёв раздался ближе, и я окаменел, сидя на перевёрнутой лодке. Вот тебе и благоустроенная планета…
– Сахим кушать будет? – внезапно услышал я. По ту сторону костра стоял Тхэн и улыбался до самых ушей, будто был страшно рад нашей встрече. Будто никогда не умирал.
С минуту я демонстративно рассматривал фигуру Тхэна. Воссоздали его сивиллянки со скрупулёзной точностью, без малейшего изъяна, таким, каким я его встретил в селении хакусинов, и оставалось надеяться, что о жизни своего тела после смерти сознания он ничего не знал.
– Так сахим будет кушать? – повторил вопрос Тхэн. – Я на двоих готовил.
– Отгони тигра, – сказал я, вспомнив, как просто и незатейливо он это делал во время реального путешествия.
Тхэн кивнул и махнул возле лица ладонью, будто прогонял муху. Приближающиеся раскаты рёва пиренского тигра сбавили обертоны и начали удаляться.
– Так как, давать сахиму многоножку? Вкусная…
– Давай.
Хакусин опустил руку в бурлящую в чаше воду, извлёк большую многоножку и протянул мне.
– Кушайте, сахим.
– Положи на лодку, – сказал я, не прикасаясь к многоножке. От сваренного ракообразного и руки Тхэна валил пар. В реальном путешествии я чуть не обварился, когда беспечно взял угощение.
Тхэн положил многоножку на лодку слева от меня, затем достал из чаши ещё одну, сел на землю и принялся есть. Как всегда вместе с панцирем и внутренностями.
Я подождал, пока многоножка немного остынет, и стал освобождать её от панциря. И когда осторожно, чтобы не зацепить прокушенную губу, положил на язык первый кусочек, давно забытый вкус воскресил события на Пирене с такой яркостью, словно я всё ещё находился где-то в среднем течении Нунхэн и до окончания экспедиции оставалось много дней и километров пути. Особенно ярко вспомнились первые часы пребывания на Пирене, гостевая комната, куда поместил меня консул, полчища насекомых, которых по неосторожности вывел из дневной диапаузы, тёмное пиво из холодильника… Странно, почему во время экспедиции, когда ел многоножек, никогда не думал о пиве, а сейчас захотелось? Причём захотелось так сильно и страстно, что засосало под ложечкой.
– Здравствуйте, Бугой! – радостно сказал Мбуле Ниобе, выступая из темноты и протягивая мне банку пива. – Теперь-то, надеюсь, вы не откажетесь погостить у меня?
Несмотря на потёртые шорты и пробковый шлем на голове, пигмей был очень похож на Тхэна. А радушие и гостеприимство ещё более роднили его с аборигенами. Не случайно говорится: с кем поведёшься… А консул безвыездно прожил на Пирене около двенадцати лет.
Я молча взял банку пива, открыл и сделал большой глоток. Край банки зацепил прокушенную губу, и ожидаемого удовольствия я не получил. Не знаю, что там за интермедию разыгрывали сивиллянки, но я вступать в разговор с консулом не собирался. Делая вид, что его вообще здесь нет, я продолжил неторопливо есть многоножку, отделяя мясо от панциря и запивая пивом. Чересчур «близко к тексту» поставили интермедию сивиллянки – в те времена, когда я был на Пирене, мне действительно нравилось тёмное пиво, но со временем стал предпочитать светлое.
Консул уселся на лодку рядом с наполовину очищенной многоножкой и завёл свой бесконечный монолог о житье-бытье на Пирене. Однако я старался пропускать слова мимо ушей и принципиально не смотрел в его сторону. Опять переборщили со сценарием сивиллянки – ничего нового Ниобе не говорил, повторяя, как заёзженная пластинка, монолог при встрече у челночного катера. Всё то же самое об этнографических подробностях и геологических особенностях бассейна реки Нунхэн.
Наверное, сивиллянки уловили мою иронию, потому что консул вдруг запнулся на полуслове, помолчал, затем обиженно спросил:
– Вы меня не слушаете, Бугой?
И опять я никак не отреагировал. Не существовало его для меня, и я хотел, чтобы сивиллянки это поняли. К чему мне эти воспоминания? Пройденный этап, о котором я ничуть не сожалею, но и вспоминать не желаю.
– Конечно, что со мной разговаривать, – с горечью сказал Ниобе. – Вы закончили охоту, поймали своего мотылька… А меня давно уж нет – ваш друг, Геориди, меня вместе с птерокаром в пыль…
Полыхнула беззвучная вспышка, и лишь тогда я посмотрел на место, где сидел консул. Консул Галактического Союза на Пирене пигмей Мбуле Ниобе исчез, и только мелкий пепел сыпался на землю.
«К чему эти нравоучительные сентенции?» – обратился про себя к сивиллянкам. Досадливо поморщившись, сдул пепел с хвостового сегмента многоножки, очистил от панциря, положил в рот и запил глотком пива. Что может быть лучше пива с инопланетными креветками после утомительного пешего перехода?
– Сахим, дать ещё многоножку? – предложил Тхэн. В отличие от меня он, похоже, не видел появившегося, а затем исчезнувшего во вспышке Мбуле Ниобе и не слышал его монолог. В разных плоскостях пространства существовали Тхэн с консулом, и единственной точкой пересечения этих пространств был я.
– Положи сюда, – постучал я ладонью по днищу лодки справа от себя, куда пепел Мбуле Ниобе не просыпался.
Тхэн принёс вторую многоножку, вернулся к костру и снова сел на землю.
– А навар пить будете? – спросил он.
– У меня пиво. – Я показал Тхэну банку и вдруг вспомнил, что делал проводник с чашей, когда мы заканчивали ужинать. – Только костёр не гаси! – поспешно добавил. Ночевать без спальника на голой земле всё-таки приятней у костра, чем в полной темноте.
– Хорошо, сахим, – кивнул Тхэн, снял с огня чашу и с наслаждением напился крутого кипятка. Затем поставил чашу перед собой, и она тут же упала на землю комком грязи.
Я отхлебнул из банки пива, запрокинул голову и посмотрел на звёзды. Когда-то, глядя на ночное пиренское небо, я думал о млечнике, просчитывая его вероятные шаги. Если сивиллянок, судя по примеру с консулом, интересуют только моральные аспекты моей жизни, то вряд ли мне устроят встречу с ним. Тогда с кем? С Колдуном хакусинов?
– Сахим, что у вас с ногами? – обеспокоено спросил Тхэн, уставившись на мои стопы с растопыренными пальцами.
– Натёр… – безразлично пожал я плечами, и тогда меня вновь озарило – вспомнил, как хакусин за ночь залечивал потёртости хитина на долгоносах от вьючных ремней. – Подлечить сможешь?
– Смогу, сахим! – обрадовался Тхэн, с готовностью подскочил ко мне, но затем нерешительно затоптался на месте. – Сахим запретил прикасаться к себе…
– Теперь разрешаю.
Тхэн опустился на колени, бережно прикоснулся к правой ступне. Будто разряд статического электричества соскользнул с его пальцев, и я отдёрнул ногу, во все глаза уставившись на хакусина. Только сейчас я понял, что наш разговор проходил без транслингатора!
– Сахим, вам больно? – участливо спросил Тхэн.
Я молча смотрел ему в глаза, анализируя ситуацию. В реальности я разговаривал с Тхэном без транслингатора, только когда в его теле обосновался млечник. Значит… Ничего это не значит. Проделки сивиллянок. Если бы ко мне прикоснулся млечник, меня бы уже не было.
– Щекотно… – нашёлся я и, преодолевая опасливое предубеждение, вытянул ногу. – Лечи.
И рассмеялся. Причём отнюдь не деланно, а искренне. И в мыслях не мог представить, что некогда обречённый мною на заклание, как жертвенная овца, абориген оживёт, но вместо попытки отомстить, встанет передо мной на колени. Как перед богом, в чьей власти даровать жизнь и отнимать её. И, если нужно, возвращать.
Хакусин огладил ладонями одну ступню, вторую, потом обмазал их тонким слоем глины распавшейся чаши.
– К утру всё заживёт, – пообещал он, потирая ладони. Затем хлопнул ими, и глина мелкой пылью осыпалась с кистей рук. Умей я так, мне бы никогда не понадобился биотраттовый комбинезон. В нынешней ситуации это ох как бы пригодилось!
Тхэн протянул руку к кроссовкам, взял их, повертел перед глазами, недовольно цокнул языком.
– Как в них можно ходить?
– А ты попробуй, – без тени улыбки предложил я. Один раз тело хакусина уже ходило в бригомейских кроссовках. Причём именно в этой паре.
Тхэн посмотрел на свои ноги, затем снова на кроссовки.
– Нет… – покачал головой. – Мне не надо.
Он тщательно ощупал кроссовки со всех сторон, даже изнутри, и аккуратно поставил их у лодки.
– Больше сахим ноги не натрёт, – сказал. – Мягкие… Но лучше ходить босиком.
Он встал с колен подбросил в костёр сушняка, а затем неподвижно застыл, вглядываясь в темноту.
«Интересно, – подумал я, – будет он сегодня ночью «переговариваться» с Колдуном? Или Колдун сам придёт к огню – лодка его здесь…»
Но я не угадал сценарий сивиллянок.
– Пойду, посмотрю долгоносов, – сказал Тхэн и растворился в ночи.
Я съел вторую многоножку, допил пиво и бросил банку в костёр. Тонкая, металлокарбоновая жесть вначале покоробилась, а затем медленно распалась от температуры как и положено экологически безвредной упаковке.
Глина на ногах обсохла, но не затвердела, странным образом оставаясь эластичной, словно превратилась в носки. Подошвы ступней слегка пощипывало, и это ощущение было очень знакомым. Когда в марсианской клинике межвидовой хирургии мне регенерировали ноготь безымянного пальца на левой руке, я чувствовал аналогичное покалывание.
Выпитое пиво истомой разносилось кровью по всему телу, глаза начали слипаться.
«Пора укладываться спать», – решил я и принялся выбирать место, где удобнее расположиться на ночлег. Ночи на Пирене жаркие и душные, поэтому возле костра ложиться не следовало. Переворачивать лодку и спать в ней тоже не имело смысла – тёплый грунт не остывал до утра, и хотя был твёрдым, зато ровным, в отличие от ребристого днища лодки. Лучше всего расположиться у её борта на земле: с одной стороны светит костёр, с другой от темноты отделяет перевёрнутая лодка. Давно заметил, что спать у костра, когда со спины на тебя смотрит мрак чужой планеты, не очень комфортно, даже если прекрасно понимаешь, что никто тебя здесь не тронет. Атавистический страх неподконтролен сознанию, поэтому свет со всех сторон создаёт иллюзию защищённости, и подсознание, стерегущее покой спящего, не бередит сон кошмарами.
«Кстати, а почему я до сих пор не видел ни одного насекомого? – вяло подумалось. – На настоящей Пирене в ночную пору они кишмя кишели, а здесь от них остался лишь звуковой фон…» Впрочем, я тут же вспомнил, как Тхэн запретил мне пользоваться репеллентами и обезопасил от ночного нашествия насекомых парадоксальным способом. Вероятно, так он поступил и сейчас, очертив прутиком квадрат вокруг костра и лодки.
Я уже собирался лечь, как увидел возвращавшегося к костру Тхэна. Обычно он передвигался бесшумно, с присущей аборигенам мягкой грацией, но сейчас шёл будто пьяный, шаркая ногами по земле и раскачиваясь из стороны в сторону. Мою сонливость будто ветром сдуло.
Тхэн подошёл к костру и замер в неестественной угловатой позе, уставившись на огонь. Затем медленно-медленно повернул ко мне голову.
– Здравствуйте, эстет-энтомолог Алексан Бугой, – проговорил он бесцветным голосом. – Узнали?
– Узнал, – ответил я, и по спине пробежали мурашки. На ногах у Тхэна были бригомейские кроссовки. Точно такие же, как стоявшие у борта перевёрнутой лодки. А точнее, не такие, а те же, только из другого среза времени.
– На вас нет сетки психозащиты мозга. Боитесь?
– Нет. Уже нет. Чего тебя бояться? Ты лишь фантом моей памяти, хоть сейчас и облачён в плоть и кровь.
Мозг работал быстро и чётко. Ничего со мной на Сивилле произойти не могло, это я уяснил давно. Но методика постановки эксперимента надо мной мне не нравилась.
– Напрасно… – протянул млечник. – Напрасно не боитесь. – Не отходя от реалий десятилетней давности, он по-прежнему величал меня на «вы». Млечник помолчал, покачиваясь, затем сказал: – Я сяду.
Его колени начали медленно сгибаться, но вдруг подкосились, и тело рухнуло на землю. С минуту млечник тяжело барахтался в пыли, затем всё-таки сел, потянув под себя колени и охватив их руками. Кожа на левой голени лопнула, из-под обрывков выглядывала белая кость. Насчёт «плоти и крови» я оказался прав только частично. Крови в этом теле уже давно не было. Свернулась.
Внезапно лицо мертвеца задёргалось, губы раздвинулись, и послышались странные кашляющие звуки. Млечник смеялся. Вот уж никогда бы не подумал, что он умеет это делать! Страх, ярость – это мне довелось наблюдать в его поведении воочию, но вот смех…
– И что смешного ты увидел? – индифферентно спросил я.
Кашляющие звуки оборвались.
– Положение, в котором вы сейчас находитесь, – сказал он, и в его тоне проскользнули нотки торжества. Ещё одно ранее не замеченное мною проявление чувств млечника. Хотя в реальной ситуации на Пирене, когда млечник ощущал себя загнанным в клетку, трудно было ожидать от него смеха и, тем более, торжества.
– Думаешь, если на моей голове нет сетки психозащиты, то ты легко можешь овладеть моим сознанием?
Я старался говорить спокойно, однако по спине бегали мурашки. Хотелось верить, что сивиллянки в своём овеществлённом эксперименте не допустят абсолютного натурализма, но опасения всё же имелись.
– Что вы! – снисходительно пожурил меня млечник. – Здесь находится только калька моего сознания, неспособная на энергетическую атаку и захват вашей нервной системы. Поговорить с вами могу, а вот скушать – увы…
Словно камень отлёг с сердца. «Скушанным» быть не хотелось.
– В таком случае смеяться над ситуацией надо мне, а не тебе! – съязвил я.
Млечник снова растянул губы.
– Вы в этом так уверены?
На этот раз я промолчал. Пусть говорит, послушаю и сделаю свои выводы. Если сивиллянки предполагали, что из-за трагической судьбы консула меня должны мучить угрызения совести, тогда что, по их мнению, я должен испытывать к судьбе млечника, ставшего экспонатом моей коллекции?
– А смеюсь я потому, – не дождавшись ответа, начал млечник, – что сейчас вы находитесь в том же положении, в котором был я десять лет назад на Пирене.
Я упорно молчал.
– Для моей поимки вы использовали одно из основных качеств моей натуры – чувство самосохранения. Вы оказались совершенно правы, я охотился в первую очередь на тех, кто в какой-то степени приближался к разгадке тайны моего существования. Туманно намекнув, что вам кое-что известно обо мне, вы заманили меня на Пирену. – Млечник сделал паузу, а затем медленно, с расстановкой, явно подражая моей интонации во время реального разговора на Пирене, произнёс: – А как по – вашему, на какую наживку можно поймать эстет-энтомолога?
«На уникальный эстет-вид Papilionidae », – ответил я про себя, и вселенский холод начал обволакивать сознание.
– Ты хочешь сказать, – одними губами сказал я, – что ты и сивиллянки – одна цивиллизация?
– Зачем же так… – закашлял смехом млечник. – Вселенная многообразна, и ничего общего между мной и сивиллянками нет. Гораздо больше общего у сивиллянок с вами. И вы, и они – коллекционеры. Только они коллекционируют уникальные с их точки зрения личности гуманоидов, и поэтому известный всей Галактике эстет-энтомолог Алексан Бугой уже сутки как помещён в их коллекцию и пришпилен булавкой к чёрному бархату. А лично вы… Вы всего лишь его копия, которая вернётся в свой мир и будет влачить там жалкое существование вместо настоящего Алексана Бугоя.
– Почему – жалкое?
– Потому, что уникальным качеством личности для сивиллянок является целеустремлённость индивидуума. Именно на неё они охотятся, и именно её не могут воссоздать в копии, поскольку их цивилизация давно утратила это качество.
На такие заявления не отвечают. Их обдумывают. Что я и стал делать. Действительно, моё желание поймать Moirai reqia потускнело и отодвинулось на второй план из-за отсутствия ловчих снастей. Но оно отнюдь не исчезло, я по-прежнему хотел иметь в своей коллекции уникального экзопарусника. Явно лукавил млечник, пытаясь доказать, что я, как копия, напрочь потерял целеустремлённость. Ну а что касается дилеммы – копия я или оригинал Алексана Бугоя… Сообщение, что я всего лишь копия, вначале шокировало. Косвенным подтверждением моей искусственной аутентичности биологическому оригиналу вроде являлось исчезновение из организма биочипов, экранирующей сетки с введёнными в мозг электродами, восстановление костного сустава стопы, снятие блокады с участка памяти… Однако при здравом рассуждении я пришёл к выводу, что для меня, вот такого вот, нет никакой разницы, копия я, или нет. Если всё это не мстительная выдумка млечника или психологический тест сивиллянок, и мой оригинал, по образному выражению млечника, действительно «пришпилен булавкой к чёрному бархату», то это его проблемы, а не мои. Я не миелосенсорик, поэтому к своим фотографиям, даже если они представлены в виде идеальных материальных копий в единстве тела и сознания, отношусь прагматически. Пусть себе существуют, лишь бы не пытались конфликтовать со мной и не стремились занять моё место. Ибо я и только я есть настоящий оригинал эстет-энтомолога Алексана Бугоя, и никогда, ни при каких обстоятельствах не соглашусь занять место копии, даже если в действительности ею и являюсь.
Костёр догорал. Млечник в теле Тхэна сидел неподвижно, но из-за неверных бликов угасающего огня казалось, что мёртвое лицо хакусина гримасничает. Я встал, подошёл к костру, подбросил сухих веток. Огонь присел, затрещали, задымили ветки, затем вспыхнули ярким пламенем.
И только тогда я повернулся лицом к млечнику и заглянул в чёрные, не отражающие бликов света, глаза. От их гипнотической пустоты и неподвижности мысли смешались, и тёмная масса разблокированного воспоминания содрогнулась на дне сознания, пытаясь выплеснуться. Огромного усилия воли стоило противостоять гипнозу пустых глаз и утихомирить память, но взгляда я не отвёл.
– У тебя ко мне всё? – ровным голосом спросил я.
– А вам этого мало?
В голосе млечника мне почудилось удивление. Я отвернулся и возвратился к перевёрнутой лодке.
– В таком случае я буду спать, – сказал я, укладываясь на землю вдоль борта. – Не мешай мне больше пустопорожней болтовнёй.
Под голову я подложил кроссовки, мимоходом отметив, что после манипуляций Тхэна они действительно стали мягкими. Затем повернулся спиной к огню и смежил веки. Не боялся я подставлять спину млечнику, и мне было всё равно, исчез он, как Мбуле Ниобе, или продолжает сидеть, сверля меня взглядом. Я хотел спать, и ещё я страстно хотел, чтобы среди ночи меня не вздумал будить Колдун хакусинов. Только с ним я ещё не общался на виртуально-овеществлённом участке Пирены. Много вопросов имел когда-то ко мне Колдун хакусинов, но мне-то о чём с ним разговаривать?
9
Проснулся я от сырости и первых лучей солнца. Спросонья попытался протереть глаза и неожиданно почувствовал, что тру веки мокрыми и липкими костяшками. Сон сняло как рукой, я широко распахнул глаза и увидел, что кисти рук в крови.
Порывисто сев, я обнаружил, что опять нахожусь на Сивилле, и на руках у меня вовсе не кровь, а сок багряной травы. Ворочаясь во сне и давя хрупкие стебли, я основательно вывозился в соке. Даже волосы на голове слиплись.
Над равниной тонким покрывалом слался низкий густой туман, серебрившийся в лучах только что взошедшего солнца, и от этого казалось, что я сижу не на земле, а как боженька парю над облаками в горних вершинах. Со стороны посмотреть – добрый такой боженька с руками чуть не по локоть в крови.
Единственным напоминанием, что Пирена мне ночью не приснилась, были банка пива и сваренная большая многоножка, лежащие передо мной на траве. Завтрак. Впрочем, кроме завтрака, было и ещё одно напоминание. Не очень приятное на вид. Глина, которой Тхэн обмазал мне стопы, пропиталась багряным соком, и теперь на ноги нельзя было смотреть без содрогания. Любой хирург по их виду сразу бы определил газовую гангрену и назначил экстренную ампутацию.
Завтрак мне предоставили, зато о том, чтобы я смог умыться, сивиллянки не позаботились. Возможно, общение между собой у них проходит на одорантно-тактильном уровне, как у общественных насекомых и некоторых цивилизаций, входящих в Галактический Союз. Мне не приходилось встречаться с представителями этих цивилизаций, но, по слухам, умывание для них равносильно отрезанию языка – смывая с себя одорантный слой, они полностью лишались речи. Хотя, наверное, такое заключение весьма далеко от истины – наиболее вероятно, что сивиллянки устраивали мне очередной тест. Только на ЧТО в этот раз?
Даже руки вытереть было нечем – мёртвый биотратт комбинезона и материал куртки обладали абсолютным несмачиванием. Сколько ни вози по ним мокрыми руками, ни молекулы воды не впитают. Дожидаться же, пока солнце рассеет туман, и руки обсохнут, было глупо. Пришлось завтракать «руками в крови».
В этот раз я не стал очищать многоножку от панциря, а, стараясь не запачкать мясо, надеюсь нетоксичным, соком багряной травы, аккуратно разломил сваренное членистоногое по сегментам, чтобы потом, не мудрствуя, высасывать из сегментов содержимое. Затем открыл банку пива. Пиво оказалось светлым, что меня немножко развеселило. Исправляют потихоньку сивиллянки свои ошибки, может быть, дождусь и того, что в будущем буду просыпаться рядом с криницей.
Покончив с завтраком, я занялся ногами – нарвал травы и обтёр со ступней глину. Как и ожидалось, лечение Тхэна дало поразительные результаты – ни следа волдырей и потёртостей я не обнаружил. И всё же ставшие удивительно мягкими кроссовки натянул на мокрые от сока ноги с некоторым опасением. Заверениям Тхэна, что теперь в кроссовках невозможно натереть ноги, я верил, однако не знал, как на них подействует липкий сок. Может, он содержит дубильные вещества, и кроссовки вновь превратятся в жёсткие кандалы? Гадай, не гадай, всё проверится на практике.
Наконец я встал и огляделся. Туман, укрывавший равнину плотной пеленой, не достигал колен, и я почувствовал себя этаким вольтерьянским Микромегасом, голова которого находилась в стратосфере, а ноги утопали в густой облачности тропосферы. К своему удивлению я не обнаружил в небе ни одного хоровода Moirai reqia . Странно. Если на западе находится их родовище или гнездовье, то, по аналогии с птицами, утром они должны разлетаться из гнёзд, – однако ничего подобного не наблюдалось. Разве что, уверовав в иллюзию своего безмерного гигантизма, представить, что хороводы сивиллянских экзопарусников проплывают над равниной ниже кромки облачности. То есть на уровне моих щиколоток.
Шутка часто выручает в сложных ситуациях. Вот и сейчас я иронизировал, подшучивая над собой, но на душе было неспокойно. Впервые я попал с ситуацию, когда надо мной проводили эксперимент. Причём неизвестно какой и зачем. К тому же сам дал на него согласие, не представляя, чем рискую, но надеясь, что получу взамен желаемое. Как бы мне, в соответствие с притчей элиотрейцев, не оказаться на месте мальчика с открученной гаечкой, потому что эксперимент сивиллянок очень похож на поиски клапана, перекрывающего доступ к моей психике. Вчера ночью они зондировали мой мозг, тестируя сознание, и пока, надеюсь, не добились ожидаемого результата. Однако это была только пристрелка, и я предчувствовал, что следующий «выстрел» будет «в яблочко». Предчувствия меня никогда не подводили, но если во время охоты, зачастую, – к счастью, то теперь, однозначно, – к сожалению.
И, к сожалению, иного пути, как идти на запад, у меня не было. Как нет его у крысы в лабиринте – либо она бежит туда, куда хочет экспериментатор, либо сдыхает с голоду. Я ещё раз посмотрел на чистое-чистое зелёное небо, повернулся спиной к солнцу и пошёл размеренным шагом по хрустящей траве.
Когда солнце поднялось выше и туман рассеялся, я увидел, что местность начала меняться. Равнина стала более холмистой, и хотя склоны холмов всё ещё сохраняли пологость, перепады высот уже достигали метров двадцати. В низинах остались клочки не растаявшего тумана, вполне возможно, скрывавшего открытую воду, но я ни разу не позволил себе спуститься и проверить. Путь мой стал извилист, так как я старался идти склонами холмов, чтобы для обзора открывалась как можно более широкая панорама. Не знаю почему, но мне казалось, что новый эксперимент над моей психикой будет поставлен в уединённом месте, а более уединённого, чем в низинах между холмами, здесь не было. И хотя я понимал, что очередного эксперимента не избежать, как мог оттягивал его начало.
Наконец-то появились деревья, а то я уж было подумал, что в данной «климатической зоне» Сивиллы ничего, кроме травы, не растёт. Такие же багряные, как и трава, невысокие, не более трёх метров, с гладкими полупрозрачными стволами и широкими листьями, они вначале встречались по одному, затем всё чаще и гуще, хотя никогда не росли рядом друг с другом, и между аккуратными, будто остриженными под конус, кронами всегда оставался широкий просвет. Их рощи очень напоминали искусственные лесонасаждения, что и не удивительно при столь однообразно унылой благоустроенности планеты. Будь по-прежнему в моём теле биочипы, я бы постарался с их помощью определить таксономическую группу, к которой относилась растительность Сивиллы, что позволило бы обосновать вероятностные рамки биогеоценоза планеты и на его основе построить несколько гипотез о возможных местах расселения и гнездовья экзопарусника. Но в данной ситуации я был лишён такой возможности, и оставалось только одно – шагать на запад без особой уверенности, что направление, «предложенное» сивиллянками, приведёт меня к гнездовью Moirai reqia .
Как ни были разрежены рощи деревьев, всё же они сильно сузили обзор, поэтому появившихся в небе экзопарусников я заметил только к полудню. К тому же летели они не с запада, как ожидалось, а медленно надвигались с востока у меня за спиной. Как и вчера. Идеальные круги стаек из пяти особей противоречили основам эволюции жизни во Вселенной – любые стаи любых животных передвигаются гуськом, клином, иногда бесформенной массой, однако всегда впереди находится вожак – сильнейшая и умнейшая особь, своим наличием удостоверяющая, что естественный отбор, как основа эволюции биологических видов, продолжается. Равнозначность же положения особей Moirai reqia в стайках говорило о том, что эволюция этого вида в лучшем случае остановилась. Может быть, и не только этого вида, а всей биосферы Сивиллы. Похоже, ощущение осени, царящей на планете, вызывали не только багряный цвет растительности и запах прели, но и сама биоэнергетика экосферы. От полного безветрия, статичности пейзажа, пропитанного запахом увядания, веяло безразличием всего живого к продолжению существования и тихим умиранием. Древняя природа планеты как бы замерла в ожидании конца, покорившись своей судьбе.
Мне не было никакого дела до старческой немощи Сивиллы и её обитателей. Смерть – сугубо индивидуальное явление, и посторонним в него лучше не вмешиваться. Когда приходит пора, можно только сопереживать, если нет своих забот. У меня такая забота появилась. Сегодняшнее направление полёта экзопарусников Сивиллы подвергало сильному сомнению вероятность, что где-то на западе находится их гнездовье. Как вчера, так и сегодня, экзопарусники летели строго с востока на запад, словно сопровождали солнце и никогда не опускались на землю, всё время находясь на дневной стороне планеты. Правда, для того чтобы за сутки обогнуть Сивиллу, они должны быть гигантских размеров и лететь со скоростью звука в верхних слоях стратосферы, но, поскольку я не знал их истинных параметров, это предположение имело право на существование.
И без того не радужное настроение совсем упало, и я невольно замедлил шаг. Как Тхэн и обещал, умягчённые кроссовки не тёрли ноги, зато потеряли водоотталкивающие свойства, насквозь пропитались соком травы, и теперь внутри при каждом шаге хлюпало и чавкало. Я так расстроился своим выводам, что не сразу заметил необычное поведение одной из стаек экзопарусников. И только когда рядом с этой стайкой проплыла другая, понял в чём дело и остановился, внимательно вглядываясь в небо. Эта стайка, в отличие от остальных, не плыла на запад, а крутила медленную карусель на одном месте, и точка, над которой она висела, находилась за ближайшим холмом точно по моему курсу. И ещё одна особенность была у стайки – вместо пяти особей в ней было четыре, но они не образовывали квадрат, а по-прежнему сохраняли вид равнобедренной пентаграммы с пустующей вершиной одного угла.
Вот, обмерло сердце, вот оно то, ради чего я сюда шёл. Вряд ли за холмом было гнездо экзопарусников, да это для меня и не имело никакого значения. Я был уверен почти на сто процентов, что на земле за холмом находился один из Moirai reqia .
Холм оказался самым высоким из ранее встреченных и с более крутым склоном, так что взбираться по нему пришлось почти на четвереньках из-за скользкой травы. Уже возле вершины я услышал за холмом равномерный гул. Первые звуки на Сивилле, исключая хруст багряной травы под ногами.
Взобравшись на вершину, я поднялся с четверенек и распрямил спину. Передо мной, зажатая со всех сторон холмами, предстала узкая долина со змеящейся по ней неширокой речушкой. Вытекала речушка из озерца у подножья холма, а равномерный гул исходил от водопада, срывавшегося в озерцо под моими ногами.
От вида воды у меня пересохло в горле, а тело, как по команде, начало зудеть от пота и липкого сока. Но радость от одного тут же сменилась глухим разочарованием от другого – нигде я не увидел особи Moirai reqia . Зато на противоположном берегу озерца стояла сивиллянка и смотрела на меня снизу вверх.
Тоскливо заныло сердце. Обманулся я в своих ожиданиях. Не встреча с экзопарусником ожидала меня в долине, а новый психологический тест сивиллянок. Я глянул в небо – четыре экзопарусника крутили разорванный круг точно над озером, и мне стало не по себе от вида пустого места в хороводе, где должен находиться пятый экзопарусник. Отдельные фрагменты воспоминаний о млечнике и заклятия монаха Барабека переплелись странным образом и оформились в предположение, дикое по своей сущности для моей атеистической натуры. В средние века млечника, покидавшего тело человека с разрушенной нервной системой, принимали за душу, отлетающую в рай. Наложенное на эту легенду кликушество Барабека отводило моей «бессмертной душе» пустующее место в хороводе экзопарусников Сивиллы – стоит мне спуститься к озеру, окунуться в воду, и душа воспарит в небо особью Moirai reqia …
Тёмное воспоминание в глубине сознания колыхнулось, мистически притягиваемое неполным кругом экзопарусников Сивиллы, как роса Луной, и мне стоило громадных усилий совладать с собой, чтобы вернуть душевное равновесие и трезвость мыслей. Не дождётесь от меня психического срыва!
С этой стороны склон холма был ещё круче, и я не спустился, а скатился к водопаду по траве как со снежной горки. Здесь я помыл руки, умылся, затем напился ледяной воды, всё время ощущая на себе взгляд сивиллянки, но и не думая обращать на неё внимание. Мне нужен был экзопарусник, а от сивиллянок – ничего. Они же хотели что-то от меня, значит, пусть и обращаются ко мне, а не я к ним.
Искупаться в переохлаждённой воде водопада я не рискнул и отошёл по берегу озерца туда, откуда брала своё начало речушка. Сивиллянка стояла на противоположном берегу как раз напротив, но я на неё по-прежнему не глядел. Будто её не было. Неторопливо раздевшись, потрогал ногой воду. Нагретая солнцем, здесь она была значительно теплее, но в то же время сохраняла кристальную прозрачность – несмотря на рябь на поверхности от водопада, каменистое дно у берега хорошо просматривалось. Глубокое озерцо, в которое хотелось нырнуть без оглядки.
Всё же я не выдержал и посмотрел на сивиллянку, как бы спрашивая, что они собираются со мной делать в этот раз? Но сивиллянка молчала. Смотрела на меня добрым, всепонимающим взглядом и улыбалась. Как с иконы. С таким выражением грустного умиротворения на лице смотрят на проказничающих детей и с таким же точно выражением провожают в последний путь до могилы. Всепрощение мадонны было написано на лице сивиллянки, но я его не просил. Не нуждался в прощении грехов, потому что никогда не отождествлял свои даже самые жёсткие поступки с грехом. Это удел слабых. Не способен на поступок – не совершай его, чтобы потом не каяться.
Закутанная в жёлто-солнечный хитон сивиллянка стояла неподвижно, а её отражение играло на мелких волнах разноцветными бликами, будто зеркальное эго раскинуло руки и хитон полоскался на неощутимом ветру.
Я скользнул взглядом по её отражению, и сердце у меня остановилось. Под водой, скрываемый от взгляда отражением сивиллянки и рябью озера, трепетал великолепный экземпляр экзопарусника Сивиллы с трёхметровым размахом крыльев!
Кажется, я удивился – более простой охоты в моей жизни ещё не было, – но эта мысль промелькнула где-то на задворках сознания и тут же исчезла. Предстояла отнюдь не лёгкая ловля экзопарусника голыми руками и под водой, а сивиллянки, естественно, ничем не помогут.
– Ты уверен, что не хочешь узнать свою судьбу? – внезапно спросила сивиллянка с того берега.
Вопрос прозвучал настолько неожиданно и не к месту, что я, занёсший уже ногу, чтобы тихо ступить в воду, вздрогнул и неуклюже замахал руками, балансируя на берегу и стараясь не свалиться в озеро с шумом и плеском. Прощай тогда охота…
– Слушай, не мешай, – сквозь зубы прошипел я, чтобы не спугнуть плещущегося под водой экзопарусника. – Сколько тебе можно повторять, что свою судьбу я творю сам? Собственными руками. Как прошлую, так и будущую. И так будет всегда.
Я аккуратно вошёл в воду и, раскинув для равновесия руки, сделал шаг, второй. Глубина у берега была большой, и я погрузился по грудь. Экзопарусник тотчас исчез из поля зрения, и я на всякий случай выждал пару минут – вдруг он заметил меня и выпорхнет из-под воды? Подобное поведение экзопарусников, одинаково вольготно чувствующих себя как в воздушной, так и водной средах, встречалось впервые, но тем ценнее будет экспонат. Если, конечно, я его поймаю.
– А ты уверен, что прожил именно свою судьбу? – тихо-тихо спросила сивиллянка. В голосе её было столько горечи, словно она жалела меня. Жалела мою пропащую и неприкаянную душу. Почти как монах Барабек, только с абсолютно противоположными эмоциями.
Но я не принял ни её жалости, ни всепрощения. Какое мне до этого дело, когда под водой ждала мечта последних лет – таинственный экзопарусник Сивиллы Moirai reqia . Он – моя судьба, и я сделаю всё от меня зависящее, чтобы претворить её в жизнь. Сосредоточившись на предстоящей охоте, я мягко оттолкнулся от дна ногами и бесшумно нырнул.
И в тот самый момент, когда голова оказалась под водой, дремавшее на дне памяти забытое воспоминание выплеснулось в сознание тёмным всепоглощающим мраком.
10
– Руку! Руку давай! – кричала Тана, раскачиваясь на серой бахроме дыхательных корней гигантских мангров.
Хватая ртом воздух, я вынырнул из солёной, как рапа, мутной воды, попытался схватить протянутую руку, но не достал и снова погрузился под воду, если так можно назвать коричневую жижу, насыщенную танином и взвесью гумуса.
Вынырнув второй раз, я понял, что до руки Таны мне не дотянуться, и схватился за мёртвую, высохшую лиану, палкой свисающую к воде.
– Не трогайте бандачу! – запоздало заорал Кванч.
Лиана треснула, разломилась, на голову посыпалась труха и какие-то насекомые, а я снова погрузился в воду. Но всё же, благодаря лиане, удалось продвинуться немного вперёд, и когда я вынырнул в третий раз, то дотянулся до руки Таны. Кванч перепрыгнул с гнутого ходульного корня на вертикальный корень-насос, прилепился к нему пальцевыми присосками и схватил за левую руку. Вдвоём они подтянули меня поближе, подхватили под мышки и выдернули из зловонного болота на нижний ярус мангровых дебрей.
– Где ногокрыл?! – яростно отплёвываясь, заорал я на Кванча.
Кадык на тонкой шее зеленокожего проводника дёрнулся, Кванч виновато моргнул, и большие выпуклые глаза втянулись в глазницы, превратившись в щелочки.
– Ушёл… – как плетью махнул Кванч тоненькой ручкой куда-то влево.
Из дебрей гигантских мангров доносился треск ветвей, ломаемых удаляющимся ногокрылом-отчимом, и его затихающее взрёвывание. Вовремя на моём пути оказалось болото, иначе ногокрыл просто-напросто раздавил бы меня своей тушей.
– Ещё одна такая выходка, – процедил я, испепеляя взглядом проводника, – и утоплю в болоте!
– Да, бвана Алексан, – смиренно мигнул Кванч, не проявляя никаких эмоций. Утопить земноводного аборигена мне вряд ли бы удалось.
– Камень на шею привяжу, и пойдёшь ко дну, как миленький! – уточнил я, и тут же понял, что сморозил очередную глупость. Острова гигантских мангров на Аукване представляли собой сложный растительный конгломерат, где и песчинки не найдёшь, не говоря уже о камне. А минеральное дно, к которому крепились опорные корни гигантских мангров, находилось в сотне метров от поверхности океана Аукваны.
– Либо, что проще, пристрелю, – понизив тон, пообещал я, чтобы хоть как-то выпутаться из глупой ситуации.
– Алек… – придушенно прошептала Тана у меня за спиной, и я резко повернулся.
Бледная как мел Тана смотрела поверх меня широко раскрытыми глазами, и в них плескался страх. И я тут же ощутил, что волосы на голове шевелятся. Но не от страха – кто-то копошился в них.
– Что там? – с опаской спросил я, не рискуя притронутся к голове руками. Слишком много ядовитой живности водилось в дебрях гигантских мангров на Аукване.
– А… Акартыши…
И только тогда страх сжал сердце.
– Аммиак! Быстро!..
Не отрывая взгляда от моей головы, Тана зашарила дрожащими руками по портупее, нащупала баллончик с аммиаком и вырвала его из карманчика.
– Брызгай!
Я наклонил голову и зажмурился. Вонючая струя ударила в темя, едкая жидкость обожгла кожу, струйками стекая на лицо.
– Хватит! – остановил я и глубоко вдохнул.
Лучше бы я застрелился, чем вдыхать, согласно инструкции, пары аммиака. Этот радикальный метод предохранял от заражения лишь на пять процентов… Огнём обожгло носоглотку, лёгкие, рассудок помутился, и я, кашляя, судорожно выгибаясь, повалился на переплетение корней мангров.
Я потерял сознание, но ненадолго. Очнулся лёжа на том же месте, только голова покоилась на коленях сидящей Таны. Она вытирала мне лицо, волосы влажным платком и, как заведённая, повторяла одно и то же:
– Лучше бы я… Лучше бы меня…
Боль и отчаяние в её голосе, искреннее желание самопожертвования шли из глубины души, от самого сердца, но мне до этого не было никакого дела. Не на неё, а на меня из трухлявой лианы посыпались акартыши, и поменять нас местами не мог никто и ничто. Не признавал я сослагательного склонения, и все эти «абы да кабы» ничего, кроме раздражения, у меня не вызывали.
Кванч торопливо расстёгивал на мне комбинезон, одновременно освобождая от пояса и портупеи. Аборигены Аукваны не знакомы с одеждой, поэтому получалось у него весьма неуклюже.
Я приподнял голову.
– Ты что делаешь? – спросил проводника, с трудом соображая. Обожжённое аммиаком горло саднило, тело было ватным, чужим, мысли ворочались тяжело, как жернова.
Кванч прекратил расстёгивать комбинезон и виновато заморгал.
– Так акартыши… – пролепетал он.
Откуда-то из глубины заторможенного сознания медленно выплыла информация об этих насекомых. Для животного мира Аукваны они не представляли никакой опасности, но вот для людей… Хитиновая пыль панцирей, натирающаяся у взрослых особей между сочлениями, обладала прогрессирующей паразитивно-регенеративной функцией, обусловленной высокой биохимической активностью свободных радикалов. Попадая на повреждённые участки кожи или слизистые оболочки, она легко внедрялась в клеточную структуру организма человека и, изменяя биоэнергетические потенциалы, начинала строительство клеток хитина из «подручного материала». Перерождение клеток происходило с невиданной скоростью и получило мрачное название: скоротечная саркома Аукваны. За три-четыре дня живой человек превращался в хитиновую мумию, и единственным средством, способным нейтрализовать свободные радикалы хитиновый пыли, был аммиак. Но только в том случае, если пыль ещё не проникла в поры кожи…
Я оттолкнул Кванча, сел и начал самостоятельно расстёгивать комбинезон непослушными пальцами. На случай прямого контакта с акартышами инструкция настоятельно рекомендовала избавиться от одежды и принять душ из слабого раствора аммиака.
Тана протянула руку, чтобы помочь, но я отстранился.
– Хватит одного заражённого, – сказал, еле ворочая непослушным языком. Происходящее воспринималось заторможено и отстранённо, как будто сознание наблюдало за телом со стороны и с трудом управляло им. – Организуйте лучше душ…
Пока я раздевался, Кванч вырубил трёхметровых отрезок полой лианы, проткнул толстую стенку корня-насоса и вставил в дырку конец импровизированного шланга. Из другого конца толчками забила пресная вода.
– Мы готовы!
– Сейчас… – пробормотал я, снимая ботинки с самоцепляющимися подошвами, в которых можно ходить даже по потолку, и выбираясь из маскировочного комбинезона. Ногой отодвинул одежду и обувь в сторону и поднялся. Меня шатнуло, но я всё же удержался на ногах.
– Начинайте, – вяло скомандовал, рефлекторно зажмуриваясь. Слизистую носоглотки обожгло настолько, что вряд ли когда смогу различать запахи, но это, как говорится, полбеды – попадание аммиака на сетчатку грозило полной слепотой.
Кванч направил на меня струю опреснённой манграми воды, а Тана начала распылять в неё из баллончика аммиак. Холодный душ в жарком пекле тропиков Аукваны сам по себе приятная вещь, к тому же, учитывая моё состояние, помогал прийти в себя. Так бы и стоял. Вечно.
– Хватит аммиака, – наконец сказал я, – обмывайте чистой водой!
Поворачиваясь под струёй, промыл глаза, основательно прополоскал носоглотку, и попытался откашляться. В лёгких сипело, хрипело, обожжённая трахея вызывала ощущение вставленной в горло жёсткой трубки, и ничего у меня не получалось.
Внезапно Кванч отвёл шланг в сторону и поднял вверх тонкую длинную руку.
– Тихо! – предостерегающе шикнул он и застыл, прислушиваясь. Только он мог различить в какофонии птичьих голосов мангрового леса посторонние звуки. – Егеря летят… Уходим! Быстро!
Он выдернул полую лиану из отверстия в насосном корне, залепил дырку древесным варом и юркнул в заросли нижнего яруса мангров.
– За мной!
С трудом соображая, зачем нужно бежать, я замешкался, и Тана подтолкнула меня в спину. И только тогда я устремился вслед за Кванчем, больше доверяя стадному инстинкту, чем заторможенному сознанию. Бег босиком по осклизлым корневищам гигантских мангров давался с трудом, ноги то и дело разъезжались, меня мотало из стороны в сторону, и если бы не Тана, поддерживавшая под руку, я либо сорвался бы между корней в болото, либо переломал ноги.
Сзади с шипением ухнуло, в спину ударила жаркая волна, и лишь тогда я понял, в чём заключалась опасность. Егеря Лиги защиты возможно разумных животных не церемонились с браконьерами, на период появления птенцов ногокрыла ставя всех трапперов вне закона и устраивая на них беспрецедентную охоту как на хищных зверей. Не интересовало егерей, что я охотился не на птенцов, а на взрослого ногокрыла-имаго, – они вначале стреляли, а затем разбирались в кого. Если от траппера после плазменного удара что-нибудь оставалось.
– Погоди… Погоди… – задыхаясь от бега, попросила Тана. – Да остановись же!
Из последних сил она дёрнула меня за руку, и я, с трудом удержавшись на ногах, остановился.
– Сейчас… Сейчас… – Тана лихорадочно зашарила по карманам. – Надо накидку… Они тебя на тепловом сканере видят…
Она выдернула из кармана пакет, разорвала его и набросила на меня саморасправляющуюся пелерину, экранирующую инфракрасное излучение. Накидка тут же начала облегать тело, и пока её структура ещё находилась в аморфном состоянии, Тана быстро провёла рукой по моему лицу, освобождая от ткани глаза и рот. Будто нос ребёнку вытерла.
– Чего застряли?! – заорал Кванч, выныривая перед нами из зарослей. – Быстро за мной!
Он схватил меня за руку и увлёк в заросли. И не успели мы сделать нескольких шагов, как то место, на котором только что стояли, превратилось в огненный столб.
Около часа мы с максимально возможной скоростью петляли по мангровым зарослям, чтобы высадившиеся с птерокара егеря не смогли взять след. Ведущий нас Кванч то и дело растворялся в рябящей в глазах ржаво-зелёной кипени сельвы, затем возникал из зарослей то слева, то справа, менял направление, затаскивал нас на средний ярус леса, где приходилось прыгать с ветки на ветку, вёл мелководными болотами и всё время поторапливал.
От суматошного бега я уже окончательно ничего не соображал. Не всё ли равно, от чего погибнуть – от скоротечной саркомы Аукваны или от плазменного луча? Последнее даже предпочтительнее – мучиться не буду…
Как мы оказались в схроне – убежище, сплетённом из лиан между нижним ярусом мангровых зарослей и болотом, – не помню. Понял вдруг, что стою на дне громадной раскачивающейся корзины, вокруг темно, душно, и бежать никуда не надо. Сердце бешено колотилось, лёгкие, работая как мехи, хрипели.
– Ложись, ложись в гамак… – суетилась вокруг меня Тана.
Я упал в гамак, потерянным взглядом обвёл схрон и увидел, как Кванч сноровисто «зашивает» лианами входной лаз. Таких схронов в переплетении ходульных корней гигантских мангров Аукваны у каждого проводника браконьеров имелось не менее двух десятков, и были они настолько хорошо замаскированы, что егеря считали большой удачей, когда случайно их обнаруживали.
– Тише, тише… Успокаивайся… – шептала Тана.
Она присела рядом с гамаком и гладила меня по груди, по рукам. А я всё никак не мог отдышаться. В груди угрожающе клекотало, я задыхался, обожжённые аммиаком лёгкие отказывались принимать кислород. И вдруг жёсткая трубка, в которую превратилась трахея, сломалась внутри со стеклянным хрустом. Я отчаянно закашлялся, и из горла полетели сгустки алой крови…
Очнулся я под вечер. Дышалось легко и спокойно, ничего у меня не болело, и лишь непомерная слабость напоминала о том, что произошло. Силы нашлись только на то, чтобы с огромным трудом приоткрыть чугунные веки.
Тана и Кванч сидели на чурбаках и собирали из блоков походный диагност. Такого лица у Таны я ещё не видел – отрешённое, скорбное, с потухшими глазами. Зрачки смотрели в одну точку, и она, похоже, не видела, что делают руки. Кванч, заглядывая в инструкцию, то и дело подправлял её действия. По щекам Таны катились слёзы, а губы что-то непрерывно, как молитву, шептали. Кажется, всё то же: «Лучше бы я… Лучше бы меня…»
В этот раз её слова не вызвали у меня никакого отторжения. Апатия царила в душе, и было всё равно, кто что думает и делает в мире, в котором мне осталось находиться три дня. Я пребывал по одну сторону бытия, они – по другую, и ничего нас уже не связывало. Страх смерти отсутствовал – было лишь невыносимо жаль, что меня в этом мире не будет, и всё, чему в нём суждено случиться, будет происходить без меня.
Мысли текли вяло и равнодушно, по привычке анализируя создавшуюся ситуацию. Наверное, старики точно так вспоминают прожитые дни, без эмоций прокручивая в памяти «кино» своей жизни и не имея никакого желания что-либо изменить в «сценарии». Нет, не вспоминалась мне вся моя жизнь, а лишь последние месяцы – подготовка к экспедиции и дни, проведённые на Аукване. Скорее всего, эти воспоминания были вызваны к жизни горечью понимания, что экспедиция на Ауквану будет последней. И единственной, которую мне не удалось завершить. Не суждено мне дожить до глубокой старости, дабы, сидя в кресле-качалке, обозревать коллекцию экзопарусников и с тихой улыбкой вспоминать перипетии, происходившие при ловле какого-либо экземпляра коллекции. Не будет у меня тихой спокойной старости. Ничего не будет. C’est la vie, c’est la mort… [7]
Pediptera Auqwana vulgaris – ногокрыл Аукваны обыкновенный, не считался среди эстет-энтомологов уникальным видом. И в то же время у маститых коллекционеров если и имелись экземпляры ногокрыла, они не экспонировались. Выставляли на показ ногокрылов только начинающие коллекционеры, так как на рынке экзотических животных невозможно приобрести неповреждённый экземпляр. Объяснялось это тем, что Ауквана была закрыта для охоты из-за хищнического разграбления биологических видов с уникальными фармакологическими показателями. К таким видам относился и ногокрыл, но не в стадии ногокрыла-имаго, представлявшего интерес исключительно для эстет-энтомологов, а в стадии новорожденного ногокрыла-птенца, мясо которого обладало поистине чудотворным плацентарным эффектом, способствующим омоложению клеток. Несмотря на объявление Аукваны галактическим заповедником, браконьерство здесь процветало, и от него не спасала егерская служба, специально созданная Лигой защиты возможно разумных животных. Даже драконовские меры, вводимые на период появления в гнёздах птенцов, – уничтожение егерями без суда и следствия застигнутых на месте преступления трапперов – не могли полностью искоренить браконьерство. Очень многим в Галактике хотелось помолодеть и жить дольше.
В отличие от земных насекомых жизненный цикл Pediptera Auqwana vulgaris был несколько сложнее (два закукливания в начальной и конечной стадиях, а также гиперметаморфоз личинки) и делился на пять стадий: яйцо – птенец – личинка (ногокрыл-отчим) – личинка (старец-одиночка) – имаго. Раз в год, перед сезоном слоистых туманов, из отложенных старцем-одиночкой яиц вылуплялись птенцы, биологический смысл существования которых не совсем ясен, поскольку они ничем не питались и существовали как особи на протяжении всего шести дней, ревностно оберегаемые ногокрылами-отчимами. По истечении шести суток птенцы закукливались, и через месяц из первичных коконов выходили ногокрылы-отчимы, чья длина на этот момент не превышала пяти сантиметров. Вопреки названию, личиночная стадия имела очень коротенькие бескрылые ножки, на которых ногокрыл отправлялся на поиски гнезда с отложенными старцем-одиночкой яйцами. За время путешествия, а затем охраны гнезда ногокрыл-отчим, подобно земным гусеницам усиленно питался растительной пищей и вырастал до пятнадцати метров в длину, достигая массы десяти тонн. Но на период, когда птенцы вылуплялись из яиц, он прекращал питаться, становился агрессивным, усиленно охраняя птенцов, чьё появление на свет привлекало к себе как многочисленных естественных хищников Аукваны, так и галактических браконьеров. За это время ногокрыл-отчим терял до половины своей массы и к моменту закукливания птенцов превращался в худое дряблое существо, за что и получил название старца-одиночки. В таком виде он существовал ещё год, медленно пробираясь сквозь чащу гигантских мангров и выискивая укромное место для гнездования. Где-то за месяц до сезона слоистых туманов старец-одиночка закукливался, и вторичная куколка раскрывалась спустя ровно сутки после того, как все птенцы закукливались в первичные куколки. При этом во время последнего метаморфоза ногокрыла стволы гигантских мангров вокруг куколки раздвигались, образуя небольшую полянку, просвет над которой между деревьями напоминал круглый колодец в стометровой многоярусной системе островной сельвы Аукваны. Приблизительно девять из десяти раскрывшихся вторичных коконов содержали кладки яиц, а из десятой куколки появлялась краса и гордость мангровых зарослей – Pediptera Auqwana . По своему строению ногокрыл напоминал раскрытый зонтик трёхметрового диаметра необычайно яркой расцветки, а название своё получил из-за метаморфизованных сочлений хитинового панциря, превратившихся в спицеобразные распорки крыльев и очень напоминающих тонкие ножки насекомых. По аналогии с большинством земных бабочек-однодневок пищеварительный тракт у ногокрыла отсутствовал, и единственным смыслом его существования являлось оплодотворение отложенных яиц. Чуть покачивая крыльями, ногокрыл медленно взлетал над мангровыми зарослями, выискивал круглые прогалины в сплошном лиственном пологе верхнего яруса сельвы, опускался туда и надолго зависал над кладкой яиц. Псевдочешуйки, пыльцой опадая с крыльев, медленно осыпалась на кладку, оплодотворяя яйца и одновременно превращая разложившиеся останки ногокрыла-старца в голубоватую жижу, обладающую сильнейшим анабиозным действием и прекрасно защищающую яйца на период созревания. Около суток ногокрыл парил над одной кладкой, затем направлялся на поиски следующей. С оплодотворением каждой кладки крылья ногокрыла всё более блекли и после пятнадцатой-восемнадцатой кладки становились совсем прозрачными. Тогда ногокрыл погибал. Некоторые, не найдя более шести-семи кладок, тоже погибали, и вот этих-то особей егеря и экспортировали на рынок.
Сведения о Pediptera Auqwana я почерпнул из Большого энтомологического словаря Аукваны, иллюстрированного прекрасными стереокадрами, отснятыми специальной экспедицией Центра Биологической классификации при Галактическом Союзе под бдительным наблюдением егерей Лиги защиты возможно разумных животных. Меня мало интересовало, что поведенческие функции ногокрыла носят исключительно описательный характер, и нигде не даётся объяснения многоступенчатой стадии развития. Пусть этим вопросом занимаются рядовые энтомологи. Зато стереокадр ногокрыла-имаго, заснятого в момент появления из кокона и расправляющего твердеющие на воздухе крылья с режущей глаз сочной расцветкой, произвёл на меня неизгладимое впечатление. Такой экземпляр экзопарусника просто необходимо иметь в коллекции, если ты считаешь себя эстет-энтомологом.
Как ни странно, с субсидированием экспедиции на Ауквану получилось неожиданно просто. Финансовую сторону экспедиции и фрахтовку челночного катера, который должен был ожидать окончания экспедиции на орбите планеты для контрабандного вывоза ногокрыла, взяла на себя Тана. Честно говоря, я не ожидал такого продолжения нашей связи. Тана была красивой, эффектной женщиной, с которой мы познакомились на выставке моей коллекции и какое-то время провели вместе. Но, обычно, на этом с моей стороны всё и заканчивалось. Женщины всегда были для меня только сексуальным придатком. И не более. Однако на этот раз прозаического окончания связи не случилось, но отнюдь не потому, что я изменил своему кредо. Были в моей жизни случаи, когда женщины пытались перевести наши чисто сексуальные отношения в нечто большее, но как только с их стороны начинали проявляться капризы и требования, я уходил. Без сожаления. С Таной получилось по иному. Она ничего от меня не требовала – я был для неё непререкаемым авторитетом, она во всём меня поддерживала, словно являлась не только сексуальным придатком, но и моим эго. Что, в общем-то, при её эффектной внешности, относительной финансовой независимости и достаточно трезвом уме (вопреки сложившемуся мнению, что все красавицы – глупышки) было для меня несколько странно. Это тешило самолюбие, но отнюдь не меняло моих жизненных позиций. Пока это меня устраивало, я не спешил разрывать отношения.
Как и большинство трапперов, промышляющих охотой на птенцов ногокрыла, мы инкогнито высадились на Аукване за полтора месяца до объявления Лигой защиты возможно разумных животных блокады заповедных островов гигантских мангров. Парадоксально, но труднее всего оказалось найти проводника, хотя чуть ли ни каждый десятый абориген занимался контрабандной охотой на птенцов ногокрыла. Но когда они узнавали о цели экспедиции, то отказывались наотрез. И вовсе не потому, что охота на ногокрыла-имаго была для них табу – они совершенно не понимали, зачем нам нужен именно ногокрыл, когда все пришельцы охотятся исключительно на птенцов. В конце концов нам удалось нанять одного аборигена за тройную цену, но, похоже, он нам всё равно не поверил, считая, что мы зачем-то хитрим и однозначно будем охотиться на птенцов.
Из-за вынужденной задержки отбыли мы на острова гигантских мангров за три недели до сезона слоистых туманов, когда все водные пути и тропинки на подступах в сельву начали усиленно контролироваться егерями. Поэтому вместо суток пришлось затратить четверо, но, к счастью, удалось незамеченными миновать все контрольные посты. Проводник попался опытный и добросовестный, выполнял свои функции выше всяких похвал, тем не менее, я то и дело натыкался на его скептический взгляд. Категорически не верил Кванч в цель нашей экспедиции, хоть ты его убей. Каждое утро он сообщал, что поблизости находится гнездо с яйцами ногокрыла, однако я пропускал его информацию мимо ушей и требовал поисков вторичных коконов. Кванч с видимым неудовольствием подчинялся, а затем с неприкрытым скепсисом наблюдал, как я сканирую вторичные коконы. За две недели мы обследовали восемнадцать коконов, но во всех них формировались яйца, и ни один не предвещал появление на свет красы и гордости мангровой сельвы планеты – Pediptera Auqwana .
Я начал нервничать и подозревать, что Кванч водит меня за нос, специально подсовывая коконы с яйцами, и пару раз на повышенных тонах высказал проводнику свои претензии. Но Кванч только недоумённо пожимал узенькими плечиками, разводил в стороны непомерно длинные тонкие руки, растягивал губы в извиняющейся улыбке, вдвигал и выдвигал глаза. Я ему не верил. В масляно-преданных глазах играло лукавство себе на уме аборигена. Мол, знаю, на что ты охотишься, – не проведёшь на мякине!
Однако когда из яиц начали вылупляться птенцы, а я по-прежнему требовал от него поиска вторичных коконов, скепсис и лукавство в глазах Кванча сменилось откровенным изумлением, перешедшим в открытое непонимание, а затем нежелание продолжать экспедицию. Только моё твёрдое слово и выплата на месте половины обещанного вознаграждения, – суммы, превышающей обычный заработок проводника у галактических контрабандистов птенцов, – несколько поколебали его уверенность в своей сермяжной правоте и заставили продолжить поиски вторичных коконов. Тем не менее, каждое утро он со всё возрастающей тревогой в голосе сообщал об очередном гнезде с птенцами, обнаруженном им во время ночной разведки, и мой неизменный отказ забрать птенцов встречал чуть ли не в штыки. Будь Кванч человеком, я бы сказал, что он находится на грани психического срыва, и, возможно, повёлся с ним деликатнее. Но я не придал этому значения. И поплатился.
Сегодня утром Кванч не стал говорить, что рядом где-то находится гнездо с птенцами, а на вопрос, нашёл ли он очередной вторичный кокон, бросил лаконичное «да» и повёл меня в чащу. Я было подумал, что проводник наконец-то поверил в мою цель, но глубоко ошибся. С удвоенной осторожностью пробираясь сквозь чащу и заставив меня делать то же самое, Кванч вывел меня к гнезду с птенцами.
При виде в двух шагах от себя гнезда с птенцами я обомлел, но, переведя взгляд на довольное лицо проводника, лучащееся счастьем оттого, что он наконец-то выполнил свою миссию, не сдержался и выругался. Совсем забыв, что гнёздо птенцов охраняется не в меру агрессивным ногокрылом-отчимом… Спасло меня от судьбы быть раздавленным многотонной тушей ногокрыла-отчима болото, если можно считать спасением замену смертного приговора через раздавливание на смертную казнь через заражение инфекцией.
Ничего теперь нельзя было изменить. И самое обидное заключалось в том, что винить кого-либо в происшедшем не имело смысла. Сам виноват, что необдуманно последовал за Кванчем, а затем выругался у гнезда ногокрыла…
Кажется, я застонал от бессилия и униженного состояния, потому что Тана встрепенулась и посмотрела в мою сторону.
– Алек… – Она вскочила с чурбака, стремительно скользнула к гамаку и наклонилась надо мной. – Ты проснулся? Как себя чувствуешь?
Голос у Таны дрожал, и меня передёрнуло. Сам не умел жалеть, и, тем более, не терпел жалости по отношению к себе. Унизительное чувство.
– Нормально… – с трудом разлепив губы, прошептал. – Слабость только…
– Это мы сейчас… Погоди…
Тана засуетилась, открыла аптечку, извлекла шприц-тюбик с тонизатором, уколола в руку. Мурашки побежали по коже, меня содрогнуло, по лицу градом покатился пот. Слабость таяла на глазах.
– Я хотела вызвать катер… – Лицо Таны скуксилось. – Погрузить тебя в криогенную камеру и доставить в ближайший медицинский центр. Но… Но…
Только отчаяние могло подвинуть её на такое решение. Да, при анабиозе скоротечная саркома Аукваны замедлялась, и, возможно, в Центре межвидовой хирургии путём корректировки биоэнергетических потенциалов клеточной структуры удалось бы спасти мне жизнь. Но в сложившихся обстоятельствах это было неосуществимо. Мешало ненавистное сослагательное склонение.
– Не глупи, – тихо сказал я крепнущим голосом. – Никого ты вызвать не сможешь. Егеря установили частотно-волновую блокаду Аукваны, через которую не пробьётся ни один сигнал.
Тана быстро заморгала, лицо перекосилось, и она отвернулась. Плечи у неё мелко дрожали. Надежда, что я подскажу решение, рухнула.
– Готово, бвана Тана, – сказал Кванч, вставая с чурбака.
– Ты собрал диагност? – встрепенулась Тана. – Молодец…
Сомнительная похвала. Собрать походный диагност мог и ребёнок – его блоки сцеплялись в единственно возможном порядке.
Тана подошла к панели диагноста, защёлкала клавишами.
– Сейчас мы тебя проверим… Может быть, и не заразился… – сказала она, не смея смотреть на меня. Будто я не знал о своём диагнозе, и взгляд мог его выдать.
– К чему? – пожал я плечами. – И так всё ясно.
Слабость исчезла, её место заняла апатия. Ничего в этом мире для меня уже не имело значения. К чему все эти анализы, мельтешение, лишние телодвижения? «Не тратьте, кум, напрасно силы, идите ко дну», – иронично советовали мои славянские предки по поводу бесполезных действий. Только сейчас я понял глубокий смысл поговорки и не увидел в ней иронии. Всё-таки кусочек загадочной славянской души был и во мне.
Тана извлекла из ниши датчик-паучок, попыталась активировать его, но ничего не получилось.
– Подключи поводок, – отстранённо посоветовал я. – Дистанционно в блокированном районе ничего работать не будет.
Несмотря ни на что, какая-то часть моего сознания ещё пыталась контактировать с миром живых. Но это ненадолго. Максимум трое суток.
Тана подключила поводок к датчику-паучку и поставила его мне на грудь. С минуту электронный анализатор стоял, поводя по сторонам лапками-сенсорами, затем принялся бегать по телу, изредка приостанавливаясь для замеров. От прикосновений лапок было щекотно, но не смешно. Не выношу щекотки, но сейчас это чувство словно атрофировалось.
– Кушать хочешь? – спросила Тана, чтобы отвлечь и себя, и меня от гнетущих мыслей. Бегать «паучку» предстояло долго. Около часа.
От слова «кушать» сквозило ненавистной жалостью, но сознание отметило это равнодушно, где-то на периферии. Чувства зациклились сами на себя и не желали откликаться на чужое сочувствие из-за разделявшей нас черты. Только сугубо рациональное восприятие связывало меня с действительностью.
Я подумал. Есть не хотелось. Умирать тоже. Что-то во мне ещё держалось за этот мир и не хотело уходить из него вопреки сложившимся реалиям.
– А что ты можешь предложить? – неожиданно вырвалось.
Тана растерялась.
– Как – что? Грибы…
Поскольку экспедиция была браконьерской, и снаряжение мы могли нести только на себе, пришлось ограничиться крайне необходимым, учитывая при сборах чуть ли не каждый грамм веса. Поэтому, предварительно разузнав, что мангровые заросли Аукваны изобилуют съедобными грибами, являющимися основной пищей аборигенов, продовольствия мы не взяли.
– Не хочу, – поморщился я. Грибами мы питались уже месяц, и если первое время – с удовольствием, то последнее – через силу. Не приспособлен цивилизованный человек к однообразной пище, кусок не лез в горло.
– Слушай, у нас же есть НЗ! – излишне эмоционально воскликнула Тана. – Сублимированный апельсиновый сок и шоколад. Будешь?
– Нет, – снова поморщился я. Зачем вообще спросил о еде? Ничего мне не хотелось.
Возможно, Тана приняла мой отказ за каприз умирающего, но на самом деле всё было не так. Мои мысли и желания пошли вразброд, потеряв логическую связь.
– Я всё-таки разведу сок, – не согласилась Тана. Места она себе не находила, нервно двигая руками и не сводя глаз с бегающего по мне «паучка».
– Как хочешь… – безразличным выдохом вырвалось из меня. Будто и не я сказал.
И в это мгновение многоногий датчик диагноста застыл на моём животе и замигал зелёными глазками-индикаторами. Ошибся я, предположив, что Тана будет проводить всестороннюю диагностику – она запрограммировала аппарат на экспресс-анализ.
Забыв обо всём, Тана бросилась к диагносту, щёлкнула клавишей, и аппарат выстрелил тонкую ленту распечатки. Схватив ленту, Тана пробежала по данным глазами раз, второй, мотнула головой, словно ничего не понимая, и принялась в третий раз медленно перечитывать, беззвучно шевеля губами.
Сердце у меня ухнуло. Всё-таки тлела во мне надежда…
Внезапно Тана уронила ленту и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. А затем её лицо перекосилось, и она громко, страшно зарыдала, сотрясаясь всем телом.
– Зачем… – досадливо скривился я. И без её истерики было тошно.
– Ал… л-лек… – заикаясь сквозь рыдания, хрипя горловыми звуками из-за непослушных губ, со стоном выдавила Тана. – Т-ты… Ты… з-з… з-здо… здоров…
– Что?!
Это было как удар грома. Страстно, до боли в сердце, захотелось жить, но я не захотел поверить в блеснувший лучик надежды. В таком состоянии Тана могла принять желаемое за действительное.– Дай статусграмму! – затребовал я распечатку.
И только когда собственными глазами убедился, что меня не обманывают, во мне будто что-то перевернулось. Мир встал вверх тормашками, а роковая черта, отделявшая меня от мира живых, лопнула, как струна, с оглушительным звоном.
Дальнейшее я воспринимал смутно. В голове продолжало звенеть, и мысли никак не могли упорядочиться. Сознание и тело воссоединились, но абсолютно не работали – я был похож на заводную куклу, которая двигалась и говорила исключительно автоматически.
Тана, не столько не веря показаниям диагноста, сколько самой себе, перепрограммировала его на всесторонний анализ и провела повторную диагностику, но на мою эйфорию это никак не сказалось. Экспресс-анализ достаточно грубый метод, но будь в моём теле хоть одна клетка с нарушенным биоэнергетическим потенциалом, она была бы обнаружена. Поэтому всесторонняя диагностика могла выявить во мне всё, что угодно, хоть целый букет заболеваний, но не скоротечную саркому Аукваны. Иные же болезни можно излечить.
Пока шла повторная диагностика, я вдруг страстно захотел есть и заказал грибного супчика. Тана сварила его на мини-печи, и я выхлебал супчик с превеликим удовольствием, хотя вкуса не ощутил. Окончательный диагноз я воспринял как должное, а Тана опять расплакалась, но теперь без истерики, счастливыми слезами. По-моему, она меня любила по-настоящему, и это оказалось для меня открытием. Этого чувства я не понимал – для меня в отношениях между мужчиной и женщиной существовал только секс.
Затем мы пили разведенный в опреснённой манграми воде сублимированный апельсиновый сок из неприкосновенного запаса, ели шоколад… Потом выгнали из схрона Кванча, и любили друг друга. Любили яростно и неистово, словно в последний раз…
Эйфория, застилавшая разум, схлынула только глубокой ночью, когда Тана, вымученная, спала на моём плече, а я, лёжа в гамаке и обнимая её хрупкое тело, никак не мог смежить веки. Ни пылинки сна не было в глазах. Эйфория ушла, уступив место спокойной радости неожиданного избавления от смертельной опасности. Всего пять процентов было на моей стороне, и они, как это изредка бывает в рулетке, выпали на мою долю. Какое это всё-таки сладкое чувство – знать, что ты живёшь и, главное, будешь жить.
Плетёные из лиан стены схрона слабо светились в темноте, и за их пределами продолжал жить активной ночной жизнью заповедник гигантских мангров Аукваны. Шелестела листва, на все лады стрекотали ночные насекомые, в болоте что-то стонало и плюхалось, изредка ухала аукванская сова. От её уханья, наполовину состоящего из инфразвука, обмирало сердце, в глазах темнело, и всё живое на некоторое время обездвиживалось. Но затем ночная какофония возобновлялась. Первыми несмело подавали голос скрежетцы, затем подключались перекваки, и вот уже ночной хор голосов живой природы вновь звенел во всю мощь. И не было для меня музыки слаще.
Под эту музыку жизни я и уснул.
Утром я чувствовал себя хорошо, но на задворках сознания угнездилось тревожное ощущение, что сегодня обязательно случится что-то скверное. Психологически моё состояние объяснялось остаточными явлениями вчерашних коллизий, но от понимания этого на душе легче не становилось.
Тана проснулась позже и выглядела совершенно разбитой. Лицо у неё осунулось, под глазами набрякли мешки – вчерашний стресс отразился на ней в гораздо большей степени, чем на мне. Как будто её слова: «Лучше бы я… Лучше бы меня…» – мистическим образом перенесли психологические перегрузки с меня на неё.
Дожидаясь возвращения Кванча из ночной разведки, мы позавтракали сырыми грибами. Но если вчера вечером я выхлебал грибной супчик с удовольствием, то сегодня давился, силком пропихивая в горло куски. Надоели грибы до чёртиков. Тана тоже ела через силу, морщилась.
– Живот болит, – пожаловалась она, запивая завтрак чаем из листьев тонкоствольного мангра.
Я промолчал, но встретил это известие с неудовольствием. Женщины в экспедициях – всегда обуза, и как Тана не клялась, что с ней проблем не будет, я знал – рано или поздно биологические отличия женского организма от мужского проявятся и могут серьёзным образом осложнить охоту. Впрочем, на данный момент у меня появилась иная забота – подыскать замену оставленным вчера у болота одежде и обуви.
Сменная одежда нашлась, а вот с обувью оказалось хуже. Никоим образом я не мог предвидеть, что ботинки с самоцепляющимися подошвами – идеальную обувь для ходьбы по скользким корням манграм – придётся бросить. Хорошо, Тана догадалась взять мне обыкновенные кроссовки, иначе пришлось бы продолжать охоту босиком. Что ж, на будущее наука.
Обувая кроссовки, я представил, как буду оскальзываться на каждом шагу, и поклялся впредь в экспедиции брать две пары спецобуви. И никогда не изменять этому правилу.
Наконец вернулся Кванч. Он прошмыгнул в лаз и замер у входа с мрачным видом.
– Что, опять к гнезду поведёшь? – сквозь зубы процедил я. Настроение портилось с каждым мгновением. – Смотри у меня… – Я демонстративно похлопал ладонью по кобуре с парализатором.
– Уходить, бвана Алексан, надо, – сказал Кванч. – Вчера егеря нашли остатки вашей одежды и теперь собираются прочёсывать местность.
Я не стал интересоваться, какая сорока принесла на хвосте эти известия. У аборигенов свои информационные каналы, по мнению ряда исследователей напрямую связанные с общим энергополем биосферы, в чём я имел возможность не раз убедиться – например, Кванч мог по запаху щепки определить внешний вид того, кто к ней прикасался. Именно поэтому я не верил, что он не знает, в каком вторичном коконе ногокрыла зреют яйца, а в каком – ногокрыл-имаго. Но сейчас Кванч мог получить сведения и более прозаическим способом, повстречав в сельве одного из проводников контрабандистов.
Так или иначе, но ситуация выглядела серьёзной. Не став задавать лишних вопросов, я встал с чурбака, развернул над полом трёхмерную карту и подозвал Кванча.
– Куда предлагаешь перебазироваться?
Кванч минуту вглядывался в карту, затем ткнул длинным пальцем в рыжее пятно на северо-востоке.
– Сюда, бвана Алексан.
Брови у меня взлетели сами собой, и я недоверчиво уставился на Кванча.
– Полгода назад здесь был пожар… – протянул с сомнением.
– Да, бвана. – Глаза Кванча втянулись в глазницы, затем снова выпучились. – Лучшего места не найти. После пожара тут не осталось гнёзд, поэтому егеря участок не контролируют. Зато сюда двинулось много старцев-одиночек.
Я немного подумал. Что ж, в словах проводника был резон. Знай заранее, поиски вторичного кокона с ногокрылом-имаго следовало начинать отсюда. И никаких бы «казусов» тогда не случилось.
– У тебя там схрон есть?
– Да, бвана.
– Собираемся, быстро! – бросил я Тане, которая, скорчившись, лежала гамаке.
Ни слова не сказав, она поднялась и, сгорбившись, принялась укладывать рюкзаки. Лицо её было серым, движения медленными, осторожными – видимо, боль была сильной. Но она не жаловалась.
Шесть часов мы пробирались сквозь дебри к месту новой «дислокации». Вопреки моим опасениям, сцепление подошв кроссовок с естественным древесным настилом первого яруса мангровых зарослей оказалось достаточно сносным, и обувь скользила лишь на отмерших корнях с отслоившейся корой. Различить же под ногами белые, будто полированные, мёртвые корни не составляло особого труда. Пару раз оскользнувшись, я приноровился и теперь шагал почти как по земле.
С места мы снялись вовремя, потому что, пройдя километра два, услышали за спиной беспорядочные выстрелы, а затем уханье фотонной бомбарды. Видимо, кроме нас, в этом районе промышляла группа контрабандистов, которая попала под прочёсывание сельвы, и теперь её расстреливали и с земли, и с воздуха. О такой ситуации можно было только мечтать – барражирующие в свободном поиске над сельвой птерокары егерей отвлекались на боевые действия, и мы могли спокойно, почти не маскируясь, передвигаться.
Но чем дальше мы уходили, тем больше меня начинало беспокоить состояние Таны. Она не жаловалась, старалась поспевать за мной, но на глазах теряла силы. В который раз я убеждался, что женщин можно брать на пикник, но ни в коем случае в экспедицию. Наше счастье, что егеря вели бой с группой контрабандистов, а не шли по нашим следам.
Три раза мы были вынуждены делать краткосрочные привалы, и я перегрузил часть снаряжения из рюкзака Таны в свой. Заставить нести Кванча рюкзак я не мог – конституция аборигенов, не имеющих скелета, не позволяла им переносить тяжести.
Лишний вес согнул меня в три погибели, и я практически ничего не видел вокруг, сосредоточив всё внимание на том, чтобы нести груз и не поскользнуться. Поэтому, когда мы наконец добрались до схрона, у меня хватило сил лишь сбросить с плеч рюкзак и в изнеможении сесть на чурбак.
Тана без сил рухнула в гамак.
– Я немножко полежу, ладно? – с просительными нотками в голосе прошептала она.
Я ничего не ответил, но твёрдо решил, что больше никогда не позволю ни одной женщине влезать в мои дела. Даже если из-за этого будет отказано в субсидировании экспедиции.
Отдышавшись и немного придя в себя, я огляделся. Все схроны контрабандистов похожи друг на друга – плетёная из лиан овальная корзина длиной шесть и высотой в два метра; три гамака, четыре чурбака. И всё. О существовании за пределами схрона цивилизации свидетельствовала лишь тонкая паутина экранирующей сети, натянутая под потолком, чтобы егеря не могли просканировать обитателей биолокатором.
Надо было поесть, чтобы восстановить силы, но Кванч куда-то исчез, и некого было послать за грибами. Однако, вспомнив, как запасливая Тана упаковывала в пакет остатки завтрака, я расшнуровал её рюкзак и достал два небольших сморщенных гриба.
– Есть будешь? – спросил я.
– Нет… Не хочется… Слабость сильная…
– Слабость? – переспросил я. – Это дело поправимое.
Отложив в сторону грибы, я раскрыл аптечку, взял шприц-тюбик с тонизатором, но, повертев его в руках, вернул на место. Что-то вроде жалости шевельнулось во мне. А может, и не жалости, а элементарной целесообразности. Мне нужен бодрый, здоровый, хорошо отдохнувший член экспедиции, а не человек, загруженный тонизаторами, который может сломаться в самый неподходящий момент. И в данное время я мог позволить Тане проспать до утра, чтобы восстановить силы. Так что альтруизмом в моих действиях и не пахло.
Покопавшись в аптечке, я нашёл шприц-тюбик со снотворным и подошёл к гамаку.
– Сейчас всё будет в порядке, – сказал Тане, массируя ей в руку.
Я не успел выдавить весь шприц-тюбик, как она закрыла глаза и уснула. И тогда я словно впервые увидел, насколько ей досталось: лицо осунулось, кожа посерела и стала дряблой, как у крайне измождённого человека. Одним переутомлением такое недомогание не объяснишь.
Выдернув иглу, я не выбросил пустой шприц-тюбик, а долго в задумчивости стоял, уставившись на острое жало. Наконец, тяжело вздохнув, завернул шприц в стерильную обёртку и вернулся к своему рюкзаку. Поглядывая на спящую Тану, распаковал рюкзак и принялся собирать диагност. В отличие от Кванча с Таной, собиравших диагност около часа, я управился за несколько минут, опустил использованный шприц-тюбик в приёмную кювету и запустил анализатор. Микрочастичек тканей на игле достаточно для полного анализа состояния организма.
Пока шёл анализ, я перекусил. Сорванные вчера, и ещё сегодня утром относительно свежие, грибы к этому времени успели постареть и на вкус напоминали резину, упругую и плохо жующуюся. Но выбирать не приходилось. Появится Кванч, отправлю его за свежими.
Доесть я не успел – диагност справился со своей задачей неожиданно быстро и замигал индикаторами. Такое могло произойти, если обнаружен очаг заболевания. Неприятный холодок пробежал по спине, пальцы почему-то онемели. Сбывались утренние опасения…
С усилием проглотив непрожёванный кусок, я размял пальцы, мрачно поглядывая на диагност. Иногда лучше не знать, что уготовила судьба. Я перевёл взгляд на Тану. Скукожившись в гамаке, она спала глубоким сном безмерно уставшего человека. Правая рука была прижата к животу, словно пытаясь утихомирить боль, левая свободно свешивалась через край гамака.
Нет, решил я, не буду делать распечатку. Выведу результаты анализа на дисплей. Если заболевание серьёзное, то о нём буду знать только я.
Предчувствие не обмануло – результаты оказались неутешительными. Настолько, что хуже некуда. Скоротечная саркома Аукваны. Не знаю почему, но, считывая информацию с дисплея, я был спокоен и рассудителен, и не испытывал никаких эмоций. То ли они вдруг умерли во мне, то ли известие оказалось настолько ошеломляющим, что выморозило душу. Хотя, если честно, подспудно ожидал такого результата. Сугубо рациональный человек, рассудком я не верил в мистику, но где-то в подсознании, почти на генетическим уровне, угнездилась многовековая вера моих предков в колдовские чары, и эта вера пыталась сейчас управлять мною, выхолостив все чувства.
«Лучше бы я… Лучше бы меня…» – как заклинание шептала вчера Тана, и её отчаянное желание самопожертвования сбылось. Принять это положение за истину я не мог, но и реалистического объяснения, почему заразилась она, а не я, не находил. Потому и пребывал в сумеречном безразличии и бесчувственном спокойствии. В жизни всё можно изменить. Кроме смерти.
Снова между нами протянулась роковая черта, но теперь я оставался в мире живых, а Тана уходила. И если вчера роковая черта была зыбкой и призрачной, основанной на домыслах, то теперь её жёсткую непоколебимость подтверждал анализатор диагноста.
Машинально, как робот, я провёл анализ своей крови, и диагност ничего не показал. Заразиться можно только хитиновой пылью акартышей, так как стоило ей активироваться в чужой клеточной структуре, перерождение клеток локализовалось отдельно взятым организмом, и скоротечная саркома Аукваны не передавалась никак. Ни кровью, ни плазмой, и ни чем иным.
Алогичность ситуации ввергла меня в тупое недоумение. Такого просто не могло быть! По всем канонам эпидемиологии заразиться мог я, могли заразиться мы оба, но она одна – НИКОИМ ОБРАЗОМ!
Когда я закончил медицинские тесты, то неожиданно обнаружил, что мне нечем себя занять. Ничего не хотелось делать, в душе образовался вакуум, и даже мыслей никаких не было. Как не было никаких чувств. Серым и постылым выглядел мир, который воспринимался сознанием рефлекторно, будто я был биоэлектронной машиной. Никак не ожидал, что по эту сторону роковой черты между жизнью смертью не менее тяжело находиться, чем по другую. C’est la vie, c’est la mort…
Вывел меня из тупого оцепенения приход Квача. Он проскользнул в лаз, повесил на стену сеточку со свежими грибами, затем тронул меня на плечо.
– Бвана Алексан, я нашёл кокон с ногокрылом, – сказал он.
Я медленно повернул к нему голову, и мне показалось, что где-то в районе шейных позвонков включились и выключились сервомоторчики.
– Где? – глухо спросил. Ощущал я себя как бесчувственный андроид, запрограммированный исключительно на поимку экзопарусника. Ни радости, что наконец-то кокон обнаружен, ни сожаления, насколько это не вовремя, я не испытал. Мною двигала только одно – установка, что ногокрыла нужно поймать.
– Здесь, почти рядом.
Я встал с чурбака, и мне снова показалось, что суставы распрямляются сервомоторчиками, и тело двигается строго по осям трёхмерных координат, избегая векторного направления.
– Показывай, – произнесли губы в соответствие с заложенной программой.
Мы выбрались из схрона, и только теперь я смог рассмотреть местность, куда нас привёл Кванч – пока добирались сюда, из-за непомерной ноши всё внимание сосредоточивалось на том, куда поставить ногу, чтобы не поскользнуться.
Быстрорастущие гигантские мангры Аукваны скрыли следы пожара полугодичной давности, но всё равно местность разительно отличалась от ставшего привычным вида старой сельвы, где царили вечный полумрак и влажность, на голову непрерывно сыпалась морось конденсата, а из-за густой листвы далее пяти метров ничего нельзя разглядеть. Молодая поросль кое-где вымахала под двадцать метров, но только-только начинала ветвиться, поэтому уникальная многоярусность аукванской сельвы здесь отсутствовала, и лучи солнца, быть может, впервые освещали переплетение корней сохранившегося нижнего яруса. Местами молодая сельва просматривалась метров на сто из-за громадных проплешин болот, и над этими проплешинами, белесо искрясь в лучах вечернего солнца, висели длинные тонкие дымчатые нити – предвестницы сезона знаменитых слоистых туманов.
– Сюда, бвана, – подхватил меня под локоть Кванч, увлекая по направлению к небольшой лужайке метрах в тридцати от входа в схрон.
Механически передвигая ноги, я пошёл. Кокон лежал посреди лужайки, и был не обычной, шаровидной, формы, а конусообразной, закрученной в спираль, к тому же цвет у кокона оказался не молочно-белый, а белый с палевым оттенком. Одного вида кокона было достаточно, чтобы поверить Кванчу. Но я всё же достал из кармана карандаш полевого анализатора и просканировал кокон. Внутри кокона находился полностью сформировавшийся ногокрыл-имаго. Его тело чуть подрагивало от бившегося сердца, и пульсации передавались на поверхность кокона.
И опять ни радости, ни удовлетворения я не испытал. Постоял, посмотрел на вздрагивающий кокон, затем развернулся и деревянной походкой направился к схрону.
– Что-то не так, бвана? – недоумённо спросил Кванч, догоняя меня. – Через два дня он вылупится…
Я ничего не ответил. Принял информацию к сведению и только.
Тана проснулась. Стандартная доза снотворного оказалась бессильной против злокачественной перестройки организма. Лёжа в гамаке, Тана широко раскрытыми глазами смотрела на собранный диагност.
– Привет, – сказал я, выбираясь из лаза. – Отдохнула? Как себя чувствуешь? Лучше?
Она перевела взгляд на меня и долго, словно не узнавая, смотрела неподвижным взглядом.
– Я умру? – неожиданно спросила она, и губы у неё дрогнули.
– Это ещё что за выдумки? – сказал я, но искреннего возмущения не получилось. Фраза прозвучала сдавленно и бесцветно. Тоже мне, конспиратор! Распечатку не стал делать, а разобрать диагност не догадался.
Тана отвела глаза в сторону и уставилась в стену расширенными зрачками.
Кванч, вошедший следом за мной, стоял, переминаясь с ноги на ногу. Абориген понял всё сразу – в отличие от диагноста ему достаточно было одного взгляда.
– Я… Я пойду, бвана? – неуверенно пробормотал он.
– Да, – сказал я. – Да, сходи на разведку.
И Кванч выскочил из схрона с проворностью ящерицы. Было у аборигенов что-то общее с пресмыкающимися.
– Я умру… – утвердительно проговорила Тана. Глаза у неё заблестели, она всхлипнула.
– Да что ты заладила… – поморщился я, и в этот раз получилось более достоверно. – У тебя сильнейшее переутомление плюс нервный срыв. Пару дней отлежишься, и будет всё в порядке. Кушать хочешь? Кванч свежих грибов нарвал.
– Нет. Не хочу, – сказала она ровным голосом. Нотки плаксивости исчезли, но она мне не верила. – Подойди ко мне. Сядь рядом.
Я поднял с пола чурбак, перенёс к гамаку, поставил, сел.
– Дай руку.
Она взяла мою ладонь левой рукой и крепко, насколько могла, сжала. Крепкого пожатия не получилось – ладонь у неё была горячая и слабая.
– Когда я буду умирать, – сказала она, глядя мне в глаза, – ты не отпускай мою руку. Держи. И я никуда не уйду…
Все мои силы ушли на то, чтобы выдержать её взгляд и не отвести глаза в сторону, и я ничего не смог ответить.
– Я тебя любила, – сказала она. – Любила больше жизни. Для меня ничего в этом мире, кроме тебя, не было. А ты меня никогда не любил…
– Ну что ты… – опять независимо от меня проговорили губы. – Я тебя тоже люблю. Всё у нас будет хорошо.
Она первая отвела взгляд, поморщилась от боли, растирая правой ладонью низ живота.
– Что там у меня? Твёрдое… Вырвать бы его с корнями…
– Болит? – спросил я мёртвым голосом.
Она кивнула.
– Сейчас сделаю обезболивающее.
Я аккуратно высвободил руку, встал и, подойдя к аптечке, начал перебирать препараты. «Чем я заслужил её любовь?» – билась в замороженном сознании мысль. Не понимал я этого чувства и ответа не находил.
Приготовив коктейль из лошадиной дозы снотворного и обезболивающего, я ввёл ей в руку, и Тана почти сразу уснула. А я принялся бездумно колесить по схрону, не находя себе места. Сам не знаю почему – никаких чувств в душе не было. Полная опустошённость.Ночь, следующий день, и следующую ночь я пребывал в каком-то сумеречном мироощущении. Спать не спал, но и бодрствовать не бодрствовал. Впал в пограничное состояние между сном и явью, передвигаясь и действуя как сомнамбула. Настолько всё перекосилось, что я не смог вести ежедневные записи и начал совершать нелогичные, парадоксальные поступки. Прекрасно понимая, что в условиях частотно-волновой блокады Аукваны мне не удастся связаться с челночным катером, я, тем не менее, активировал передатчик, вынес его из схрона, где нормальной работе мешала экранирующая сеть, и каждый час пытался выйти на связь. То, что передатчик могут засечь егеря, меня не волновало – я, как и Тана, видел единственный шанс спасения её жизни в том, чтобы погрузить тело в криогенную камеру и доставить в ближайший медицинский центр. Шанс был мизерный, но он был – Кванч сообщил, что птенцы ногокрыла начали закукливаться, а это означало, что браконьерской охоте пришёл конец, и егеря не сегодня-завтра снимут частотно-волновую блокаду.
Несмотря на то, что действие снотворного закончилось, Тана в сознание не приходила. Странно, но боль не мучила её, и она умирала тихо и спокойно. И только утром третьего дня, я увидел, что боль возобновилась. Не открывая глаз, Тана зашевелилась в гамаке, лицо её перекосилось, она закашлялась, и изо рта вытекла струйка крови.
Понимая, что это всё, я сел рядом, взял её ладонь в свою, и тихонько сжал. Она не ответила, но задышала часто-часто, напрягаясь всем телом. Потом тело ослабло, и ритм дыхания начал утихомириваться.
Кванч всё утро метался между мной и передатчиком. Вначале он сообщал, что никто не отвечает, затем, видя, что мне не до него, перестал говорить, лишь раз в полчаса появлялся в схроне, с минуту виновато переминался с ноги на ногу и вновь уходил к передатчику.
Тана лежала навзничь, дышала тихо, как во сне, но всё реже и реже. Ладонь её становилась всё холоднее, и чем больше она остывала, тем сильнее я сжимал её, выполняя последнюю волю.
И в этот момент в схрон угрём проскользнул Кванч и закричал:
– Бвана, есть связь! Капитан вас вызывает!
Я растерянно перевёл взгляд с Таны на Кванча.
– Быстрее, бвана, он хочет с вами говорить!
Прекрасно понимая, что ничто уже не поможет, я осторожно отпустил руку Таны, встал с чурбака и направился к выходу.
Когда я надел наушники, мне показалось, что капитан челночной шлюпки тараторит на запредельной скорости.
– Забирайте нас, – сказал я, не предприняв малейшей попытки разобраться в его тарабарщине.
– Сейчас опасно! – снова затараторил, возражая, капитан. – Егеря всё ещё контролируют воздушное пространство над мангровыми островами!
– Забирайте, – бесцветно повторился я и отключил связь. Затем включил маячок с узконаправленным пеленгом для посадки катера и снова полез в схрон.
Отсутствовал я всего какую-то минуту, но именно в это время Тана умерла. Она лежала всё в той же позе на спине, только голова чуть склонилась влево, и веки приоткрылись. Зрачки сузились, и теперь из-под век на меня смотрели половинки голубых глаз, а не чёрные дыры полных боли расширенных зрачков, которые смотрели на меня позавчера. Она успокоилась… Навсегда.
Кванч сидел на чурбаке и смотрел на неё во все глаза. Быть может, впервые видел мёртвого человека. Я опустошённо опустился рядом на соседний чурбак и тоже стал смотреть на Тану. Ничего другого мне не оставалось до прибытия катера.
И тогда Тана начала говорить. Вопреки логике смерти задвигались нижняя челюсть и губы, но слов не было слышно – она не дышала.
Кванч повернул ко мне голову.
– Она жива?
– Тело уже умерло, – отстранённо сказал я, – но сознание ещё живёт. Продолжается злокачественная перестройка клеточной структуры, и биотоки этого процесса поддерживают работу мозга.
– Страшно… – прошептал Кванч.
Я ничего не сказал. Не было мне страшно, не было больно. Было безмерно тоскливо.
Губы Таны продолжали беззвучно двигаться – наверное, она нас слышала и хотела, чтобы я ей ответил. Но что я ей мог сказать? Что?!
Тана всё говорила и говорила, и была в её беззвучном монологе какая-то закономерность, будто она повторяла одну и ту же фразу, пытаясь донести её до меня. Я не умею читать по губам, но кажется, начал улавливать смысл.
«Зачем ты отпустил мою руку? – слышался безмолвный укор. – Я бы никуда не ушла…»
Не выдержав этой пытки, я встал, выбрался из схрона, прошёл несколько шагов и остановился у кромки болота, не зная, что делать дальше.
Сельва Аукваны жила своей жизнью, и ей не было никакого дела, что кто-то умер. Над болотом, свиваясь между собой, распростёрлись горизонтальные жгуты слоистого тумана, в чаще кто-то ухал, во всю верещали скрежетцы. А над полянкой, к которой позавчера меня водил Кванч, висел в воздухе ногокрыл-имаго. Вылупился он совсем недавно, так как трёхметровые крылья не успели полностью расправиться, чтобы вознести экзопарусника над верхним ярусом гигантских мангров Аукваны. Около часа ему висеть над разорванным коконом, пока крылья не окрепнут и чешуйки не заиграют на солнце цветами радуги.
Самое время для охоты – именно ради этого мгновения я и прибыл на Ауквану. Но неожиданно я понял, что никогда в жизни в моей коллекции не будет Pediptera Auqwana . Не верил я ни загробный мир, ни в перевоплощение душ, но символическое совпадение момента смерти Таны и рождения экзопарусника навсегда перечеркнуло желание поймать ногокрыла, потому что в его образе предо мной предстала умершая и возродившаяся душа Таны. Прекрасная и лучезарная, которую я не смог оценить по достоинству, пока она была жива.
Мир завертелся перед глазами каруселью, и мне показалось, что я падаю в зловонное болото. Лечу вниз головой и никак не могу долететь…11
Вынырнув на поверхность озерца, я двумя гребками доплыл до берега, выбрался из воды и сел. Безмерная тоска заполонила душу. Двадцать лет назад мне блокировали память об экспедиции на Ауквану, и вот теперь здесь, на Сивилле, блокаду сняли. Без моего согласия. Смешно, когда тебе рассказывают байку о мальчике с гаечкой вместо пупка, но когда эта гаечка оказывается у тебя, и её кто-то откручивает – отнюдь не до смеха…
Солнце всё сильнее склонялось к западу, шумел водопад, по поверхности озера бежали мелкие волны. Но для меня время остановилось. Я бездумно сидел берегу, уставившись пустым взглядом на воду. Не было в глубине озера никакого экзопарусника – иллюзию создавало расплывшееся на поверхности отражение сивиллянки.
Стоявшая на противоположном берегу сивиллянка молчала, но мне почему-то казалось, что она хочет, чтобы я поднял взгляд и посмотрел на неё. Но я этого не хотел. Я вообще ничего не хотел.
И всё же, когда солнце опустилось совсем низко к горизонту, и тень от соседнего холма стала подбираться к моим ногам, я медленно-медленно перевёл взгляд с воды на сивиллянку.
И вздрогнул. У сивиллянки было лицо Таны. Оно всегда было таким, но только сейчас, когда память об экспедиции на Ауквану восстановилась, я понял, почему оно казалось знакомым. Как ни крепко было заперто воспоминание, но запечатлённый в подсознании образ Таны психокинетически переносился на сивиллянок, и я видел их в одном и только одном обличье.
– Вот ты и нашёл то, что искал, – сказала сивиллянка с грустной улыбкой.
Она была права. Я нашёл то, что искал, хотя сам не знал цели своих поисков. Теперь я уже ничего не хотел. Свою настоящую жизнь я прожил двадцать лет назад, и всё, что было потом, – суета и шелуха. Скучными и никчемными представлялись былые мечты и желания, а жизнь, потраченная на коллекционирование экзопарусников Вселенной, выглядела пустой. И от понимания этого на душе становилось тоскливо и одиноко. Никогда мне не будет покоя в этом мире. На всю оставшуюся жизнь.
– Зачем вам всё это нужно? – спросил я.
– Нам? Это нужно не нам, а вам. Каждый разумный должен знать, кто он такой в жизни и что из себя представляет. Это свойство разума. К сожалению, в Галактике больше цивилизаций, чем разумных…
Всё-таки я оказался прав – была у сивиллянок цель, но смысл этой цели лежал за пределами моего миропонимания, и я не желал его принимать, как примитивные приматы не желают понимать действия экспериментаторов, проводящих на них исследования по развитию интеллекта.
– Прощай, – сказала сивиллянка. Хитон затрепетал, будто она хотела высвободить из-под него руки, но вместо этого вдруг распахнулся, и я увидел, что никакой это ни хитон, а громадные крылья Moirai reqia . Сивиллянка кивнула на прощанье, крылья встрепенулись, и прекрасный экзопарусник Сивиллы начал медленно подниматься в небо.
И снова, как двадцать лет назад, когда я увидел только что вылупившегося из кокона ногокрыла, мне показалось, что не экзопарусник взмывает в небо, а улетает душа Таны, унося на крыльях мою судьбу и оставляя взамен свою жизнь.
Хоровод экзопарусников Сивиллы, висевший надо мной, восстановился и медленно уплыл на запад, постепенно село солнце, над равниной воцарила беззвёздная ночь, а я, как зачарованный, продолжал неподвижно сидеть на берегу, устремив взгляд туда, где в бездонной черноте глубокого космоса скрывался ТОТ, кого не было, но который, по мнению многих, сотворил мир; ТОТ, кто выполнил желание Таны, подарив мне жизнь в обмен на её смерть. Ненависть к НЕМУ клокотала в груди, и мне волком хотелось выть.
Примечания
1
искусство вечно, жизнь коротка ( лат. ). В данном контексте: «…на тему вечности искусства».
2
Боюсь данайцев, приносящих дары ( лат. ).
3
«Записки о галльской войне» ( лат. ).
4
букв.: направлением (почтой) в Рим ( лат. ).
5
не многое, но (которого) много ( лат. ).
6
Думай о последнем часе! ( лат. ).
7
Такова жизнь, такова смерть ( франц. ).

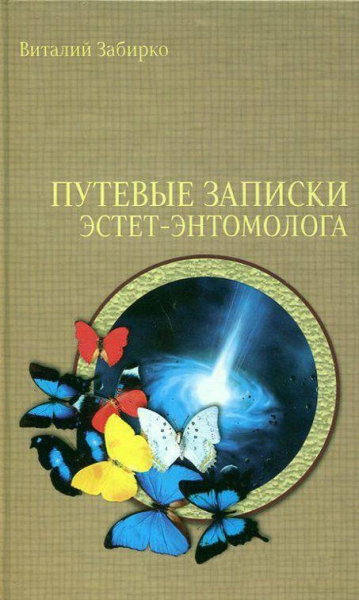

Комментарии к книге «Путевые записки эстет-энтомолога», Виталий Сергеевич Забирко
Всего 0 комментариев