Планета Харис
Посвящается светлой памяти космонавта Юрия Гагарина, доброго, веселого и мужественного, приземлившегося из космоса на моей родной Саратовской Земле
1 ПРИШЛА ЕЩЕ РАЗ
Есть только эхо, только эстафета Отосланного к вечности гонца.
П. АнтокольскийСолнце пригревало все сильнее; ласковое и щедрое, оно гладило по щеке и будило: проснись же, тебя ждет долгий радостный день. Столько приятных хлопот — канун праздника!
Кузнечик стрекотал в пахучей траве, над самым ухом, а где-то далеко самозабвенно куковала кукушка. Озорной ветер рвал платье — тоже будил.
Рената открыла глаза и улыбнулась Миру. Вот я и проснулась, как хорошо! Как я счастлива, что живу в этом чудесном Мире. И Мир, наверно, радуется, что я живу в нем.
Девушка вдруг увидела кузнечика и с любопытством стала его разглядывать. Он так хорошо замаскировался под цвет травы, что увидеть его было не так-то легко. Тельце у него было вытянутое, как стебелек. Длинные, узкие, прозрачные надкрылья словно прилипшая к стебельку паутинка.
Кузнечик принимал солнечную ванну: лениво лежа на боку, он блаженно подставлял тело солнечным лучам. Стрекотал, значит, не он. Этот еще нежился. Он перевернулся на другой бок, и Рената рассмеялась.
— Голенастый, длинноусый, прямокрылый ты дикарь! — шутливо пропела ему Рената. Вспугнутый «дикарь» шевельнул щетиновидными, длиннее тела, антеннами и быстро-быстро пополз всеми шестью ногами. Рената хотела погладить его. Тогда перепуганный насмерть кузнечик, оттолкнувшись, быстро распрямил ноги и был таков — упрыгнул. А тот, другой, что пел, необнаруженный, на минутку примолк, видно, прислушивался, а потом застрекотал снова.
Окончательно проснувшись, Рената с живостью поднялась на ноги. До самого синего горизонта колыхалась на ветру по косогору густая спелая рожь.
До чего же хороши хлеба! А отец еще боялся за урожай, писал, что хлеба в колхозе нынешний год плохи, а озимые померзли, и пришлось их пересеивать на яровые.
Дорога, совсем безлюдная, желтела на солнце внизу косогора, повторяя все изгибы Волги, а затем скрывалась в тени дубовой рощицы. До Рождественского оставалось не более полутора километров.
Немного удивляясь себе — неужели уж так захотелось спать почти возле дома, — Рената подняла свой рюкзак, довольно тяжелый, перекинула потертые ремни через плечи и стала спускаться к дороге.
Все же она была озадачена тем, что совсем не помнила, когда это она взобралась на косогор поспать. И какой странный сон снился ей сейчас… какой-то туманный фиолетовый шар, чьи-то огромные выпуклые глаза, плотное облако, опутавшее ее, ощущение ужаса от чьих-то слабых, щекочущих прикосновений. Приснится же такое?! Начиталась Уэллса. Отец ждет от нее телеграмму, чтоб встретить на станции, а она уже здесь, раньше, чем предполагалось.
Рената ускорила шаги. Ей не терпелось попасть домой, увидеть отца, сельского учителя, которого она не видела с марта. Тогда она все же выбралась домой денька на три, чтоб испечь отцу на масленицу блинов, которые он очень любил.
Ренате было чем порадовать отца. Она блестяще выдержала выпускные экзамены в сельскохозяйственной академии, уже не Петровской, а Тимирязевской, и получила звание агронома.
Ее статью в «Трудах по прикладной ботанике» заметил сам Николай Иванович Вавилов и написал ей такое хорошее, доброе письмо, что у нее дух захватило.
Вавилов организовывал в Ленинграде Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур — научный центр мирового масштаба. Под Ленинградом, на Кавказе, Кубани, в Воронеже ученым передаются опытные станции — тысячи десятин отличной земли, где можно развернуть селекционную, генетическую, интродукционную работу. И Вавилов предлагал ей, девчонке только что со студенческой скамьи, работать вместе с ним. И все только потому, что он нашел ее статью «столь серьезной, глубокой и эрудированной».
«Я долго не мог поверить, что такая статья написана студенткой, — писал он ей. — Если вы не растеряете своей веры в науку, в людей, в свое призвание, вы станете крупным ученым. Я верю в вас!»
А профессор Прянишников, любимой ученицей которого она была, оставлял ее при кафедре земледелия.
Однако Рената отказалась от всех блестящих предложений. Ее интересовало лишь одно: самое принципиальное переустройство русского земледелия на основах науки. И она хотела быть там, где развернется битва за науку земледелия, — в деревне… А раз в деревне, то в родном Рождественском. Скрепя сердце академик отпустил ее.
Рената шла по дороге и читала наизусть свое последнее стихотворение. Она писала стихи, и это была ее дорогая тайна.
И запахи Земли, и рои почек клейких, И город, затопленный синевой… Студенты с книжками… на парковой скамейке Зубрят к экзаменам среди зеленых хвои. Фиалки на углах, гудки такси блестящих. Воркуют голуби под крышею крутой. И гроздья пышные шаров летящих — пунцовый, желтый, красный, голубой. И чей-то смех, игра детей на тротуаре, И рокот самолета в небесах. И сводки радио вслед за мажором арий. И улиц караван плывет на парусах. А там, где у реки, от пут освобожденной, Ремонтных мастерских и труб ревущих строй, Там в доках солнечных, в лесах нагроможденных Теснятся корабли и словно рвутся в бой. Апрель… и дни летят, Как жаворонки к солнцу…Дубовая роща встретила ее прохладой и тенью — рукотворная дубрава, созданная отцом и его учениками. Под ногами шуршали опавшие листья. Рената перестала декламировать и замедлила шаг. Потом и совсем остановилась в недоумении. Стало очень тихо, только где-то рядом невидимый ручеек журчал в ложбине. Но… здесь должен быть глубокий, заросший осинником, бурьяном и крапивой овраг. Оврага не было. А дубы почему-то были старые, чуть ли не столетние.
В марте, когда она приезжала на побывку домой, деревья стояли совсем тонкие. А теперь эти слабенькие дубки превратились в мощные дубы.
Что-то было не так… Озадаченная девушка провела рукой по серой шероховатой коре. Кора была теплая на ощупь, живая. Стройные мощные стволы, словно колонны, поднимались ввысь, густые раскидистые кроны заслоняли небо.
— Это не наши дубки, — в раздумье произнесла Рената и пошла, все ускоряя и ускоряя шаг.
Она вздохнула с облегчением, выйдя из заколдованной рощи. Опять пошли ржаные поля.
«Как пустынна дорога, — подумала Рената, — куда все подевались? Время жатвы, а никого нет в поле».
Рената обрадовалась, увидев на ржаном поле работающую машину, — она двигалась без помощи трактора. Самоходный комбайн? Не похоже. Красивая машина! Среди золотистой ржи она словно гигантская птица с одним крылом. Нет, на птицу она похожа лишь издалека. Солнце сверкало и искрилось на стекле и стали. И еще какой-то металл, матовый, зеленоватый. Или это не металл…
К непонятной машине направлялись один за другим новые, как с конвейера, грузовики — тоже какие-то странные — и отходили, груженные до краев зерном. Рената, улыбаясь, подошла ближе. Ей хотелось рассмотреть это чудо техники, окруженное облаком пыли и половы.
Машина шла на невиданной скорости. Едва успевали подходить грузовики — один за одним, через равные короткие интервалы — и забирать чистое провеянное зерно и пахучую солому. То зерно, то солому…
Окутанная кружащейся в воздухе половой, пышущая теплом машина прошла почти бесшумно мимо девушки. Мотовило захватывало и пригибало колосья, серебристые ножи хедера врезались со свистом в стебли, откусывая их под самый корень.
Но… за штурвалом никого не было. Машина работала сама, без человека. Рената попятилась. Мимо нее прошелестел, не касаясь земли, груженный зерном странной вытянутой формы «грузовик». В его кабине тоже никого не было.
«Я сплю, — поняла Рената, — опять странный, непонятный сон. Может, я еще в вагоне поезда и сплю? А может, заснула у дороги под кустами шиповника и еще не проснулась».
Но Рената знала, что она не спит. Она вдруг стремительно нагнулась и сорвала пучок колосьев. Каждый из них был тяжел л тучен — не бывает в природе таких огромных колосьев.
А жатва продолжалась вокруг нее — безлюдная, нереальная, стремительная, как полет.
Пыль, треск, обжигающее солнце, запах хлебов, никнущие тяжелые колосья, призрачные машины, золотое зерно. И на всем поле, от горизонта до горизонта, ни одного человека — только эти машины.
Рената бежала по дороге и кричала.
Рождественское, как всегда, предстало неожиданно, едва она поднялась на пологую гору Иванову могилу.
Девушка остановилась перевести дыхание. Голубоватые уступы Приволжской возвышенности поднимались к облакам, словно гигантские ступени. Ветер качал кустарники и травы. Рената пристально разглядывала родное село. Вместо привычных тесовых сереньких и соломенных грязно-желтых крыш какие-то совсем другие — даже не шиферные, а гладкие, блестящие, красивые, желтые, синие, зеленые крыши, окруженные купами деревьев. Сплошные сады и парки. Нет, это не Рождественское. Там в последние годы сады пропали, а парков отродясь не было. Но ведь сегодня утром она сошла на станции Коростыли, что в трех километрах от Рождественского, а на станции все было по-прежнему. К тому же она встретила соседку тетю Анюту, которая ехала в город забитого бычка продавать, и она сказала, что отец ждет телеграмму. Что же это? Чувствуя, что ноги у нее стали словно ватные, Рената сделала над собой колоссальное усилие и мужественно пошла навстречу непонятному.
Возле речонки Лесовки, впадающей в Волгу, играли дети, и Рената несколько успокоилась.
— Какое это село? — спросила она, вглядываясь в незнакомых ребят.
— Рождественское! — хором ответили ребята. Они тоже с любопытством разглядывали Ренату. И когда она, уходя, оглянулась, они все смотрели ей вслед молча, недоверчиво и как-то удивленно.
«Вдруг нашего дома не будет, — подумала Рената, опять ускоряя шаг. — И, о господи, отца не будет?!.»
Задыхаясь, чуть не плача, блуждала Рената по улицам — совсем другие дома, и в них другие люди, чужие и незнакомые и на крестьян-то не похожие, дачники, что ли? Они же все городские.
Мимо Ренаты прошло уже несколько человек, но она не решилась спросить их. Они с отцом жили при школе. Старая, еще земская, школа, двухэтажная, из красного кирпича, с красноватой черепичной крышей… А во дворе сарай под такой же черепичной крышей. Куда же делся этот дом и как могло так измениться село? Потрясенная, близкая к отчаянию, искала Рената свой дом, где она родилась и выросла, но его нигде не было. Все дома другие, и жили там совсем не знавшие ее люди.
И все-таки дом был! Его так перестроили и перекрасили, что сразу не узнать. Но Рената нашла и узнала. Это был он — дом ее детства. И сарай тот самый, и груша-дичок, на которую она так часто залезала. Дерево стало еще выше, еще толще. Рената стояла у порога раскрытой двери и боялась войти. Сердце бешено колотилось.
Ее заметили, и навстречу ей вышел загорелый, светлоглазый мальчуган с русыми, выгоревшими на солнце волосами.
— Вам, наверно, маму? — спросил он вежливо. Он хотел сказать, что мамы нет дома, но, заметив, что незнакомая девушка расстроена и даже напугана чем-то, мальчик радушно пригласил ее войти.
Рената вошла и села — у нее подкашивались ноги. Рюкзак она сняла и опустила рядом на пол, покрытый какими-то гладкими, зеленоватыми плитами.
В этой самой комнате у Петровых была столовая. Посредине стоял круглый стол, покрытый белой скатертью. Вдоль стен — застекленные шкафы с книгами, старомодный диван, обитый заново, глубокое кресло, в котором любил отдыхать Михаил Михайлович, пока дочка читала ему вслух стихи Тютчева, Фета или Есенина. В углу на столике стоял граммофон, похожий на огромный синий цветок вьюна. А в простенке между окон стояло трюмо. На стенах в солидных багетах висели репродукции с картин Левитана и Николая Рериха. И одни подлинник — гордость старого учителя — пейзаж Коровина. И еще — портрет матери, выполненный акварелью одним заезжим художником.
Ничего этого не было. Совсем другие вещи — другого облика, а вместо граммофона в углу стоял на ножках лакированный ящик с матовым экраном непонятного назначения. Вместо стульев были маленькие разноцветные кресла, очень мягкие и упругие.
Пол застилал пушистый лиловый с серым ковер. На стене ни одной картины, только портрет молодого человека (в странном одеянии) с лицом красивым и добрым и с той же характерной черточкой между носом и губой, как у мальчугана, стоявшего возле Ренаты.
— Это твой брат? — кивнула она на портрет.
— Я его младший брат, — с гордостью подтвердил мальчик, и, вдруг поняв, что до гостьи «не доходит», кто на портрете, он с наигранной простотой пояснил: — Это ведь Кирилл Мальшет. — И опять мальчик почувствовал, что гостья не поняла. — Тот самый Мальшет, космонавт, который сейчас на Луне, — пояснил он, все более удивляясь.
— На Луне… — слабо усмехнулась Рената, — это хорошо, что ты такой фантазер.
— Как фантазер?! — вскричал мальчик. — Он работает в Лунной обсерватории в заливе Радуг, но разве вы об этом не слышали?
— Нет, мальчик, — неуверенно произнесла Рената.
— Но об этом весь Мир знает. Как странно… А меня зовут Юрой. В честь Юрия Гагарина.
— А кто такой Гагарин?
Мальчик широко раскрыл глаза, озадаченный сверх меры.
— Тот самый Гагарин… Первый космонавт. Вы не знаете, кто такой Гагарин? Откуда же вы приехали… разве есть такой уголок…
Юра подошел ближе и смотрел на нее, все более и более удивляясь. Какая-то странная! И одета не так, как все… Какое короткое платье, как у маленькой, чтоб не падала.
— Откуда вы? — повторил он настойчиво.
— Из Москвы. Я приехала домой, к отцу. Мы живем… жили вот в этом самом доме. Но я не могу ничего узнать. Если это — Рождественское, то где мой отец?
— Кто ваш отец, я всех здесь знаю?! У Ренаты задрожали губы.
— Он директор Рождественской семилетней школы — Михаил Михайлович Петров. Где он? Ты его знаешь?
— Я… не могу… его знать, — задохнувшись, ответил Юра. — Но я о нем слышал. От дедушки. Это дедушкин учитель. Дедушка помнил его всю жизнь. Вы дочь… У него была только одна дочь… Ох!..
— Я его единственная дочь.
— Значит, вы… Рената!
— Да, конечно.
Рената стремительно поднялась.
— Где же папа? И как это все понять? — Что с тобой? Мальчик пятился назад. Он заметно побледнел. Даже губы побледнели. Очень он испугался, но одновременно был в полном восторге.
— Значит, вы все-таки пришли! — произнес он торжественно и ликующе. — Вот дедушка обрадуется. Он всегда мне говорил: «Если бы Рената пришла еще раз, все было бы по-другому. Уж теперь я не дал бы ее обидеть. Эх, кабы человек мог прийти еще раз! Начать все снова, чтоб можно было вести себя с ним иначе. Чтоб попросить у него прощения». Вот вы и пришли!
— Я ничего не понимаю, — жалобно проговорила Рената, изо всех сил сдерживая подступающие слезы. — А кто твой дедушка?
— Николай Протасович Симонов. Вы ведь знаете его.
— Нет, Юра.
— Но вы дружили в детстве. Вы же вместе учились в школе… пока вы не уехали в Москву, а он пошел на курсы трактористов.
Юра взял ее за руку и крепко по-мальчишески сжал.
— Вы пришли. Он вас дождался. Вы встретитесь… Не старайтесь понять сейчас. Я вам все объясню потом, когда вы успокоитесь.
Юрий мельком взглянул в окно. Лицо его стало напряженным. Вдоль канала быстро и энергично шагала высокая худощавая женщина в коричневом строгом платье.
— Идет мама. Не говорите ей, пожалуйста, что вы из тридцать второго года. Она никогда не поверит, что вы пришли еще раз.
— Что же я ей скажу?
— Тогда молчите.
Женщина вошла в дом. У нее было сухое властное лицо, гладко причесанные прямые черные волосы. Такие прически носили и сто лет назад. Женщина вопросительно взглянула на Ренату.
— Вы ко мне?
— Нет, мама, она ищет дедушку, — быстро вмешался Юра, — я сейчас провожу ее.
— Дедушку?
— Пойдемте же! — Юра торопливо поднял рюкзак.
— Спасибо. — Рената кивнула этой холодной неприветливой женщине и направилась за мальчуганом, но та остановила ее.
— Я директор школы, Наталья Николаевна Симонова. Николай Протасович мой отец. Зачем он вам?
— Я никого здесь не знаю, кроме него, — грустно пояснила Рената.
— Простите, ваше имя?
— Рената Михайловна Петрова.
— Пошли же! — взволнованно заторопил Юра. Мать с подозрением взглянула на сынишку.
— Юра, проводи и сейчас же домой! — крикнула она ему вдогонку и, удивляясь, призадумалась. Бывают же такие совпадения: тезка и однофамилица сразу… «Но почему же так похожа? Эта фотография, что висит у отца над столом… гм!»
Девушка и мальчик шли протоптанной тропинкой вдоль канала. Солнце уже перешло зенит. Оглушительно трещали цикады. Из разросшихся кустов жимолости шарахались, когда они подходили, синички и горихвостки. Где-то деловито и привычно стучал дятел. Самозабвенно куковала кукушка. В небе собирались огромные кучевые облака, тень от них медленно скользила по земле.
День как день.
Они прошли мимо насосной станции, полускрытой высокими грушами; через другой канал, параллельный первому, через мостик.
— Та Рената… Она уже умерла?
— Давно. Меня еще на свете не было. Она прожила на свете тридцать девять лет. Дедушка рассказывал, что ее не очень любили…
— За что? За что ее не любили?
— За то, что она была на них непохожа.
— Разве можно за это…
— Она смела быть непохожей, это некоторых раздражает, — мудро, как взрослый, ответил мальчик.
Они подошли к большому саду. За низкой изгородью качались на ветру липы, ивы, клены, акация, яблони. Яблоки уже зрели и падали.
— Это — пасека, — пояснил Юра, — дедушка уже не механизатор. Он перешел на пасеку, когда привезли новую установку… Ну, стали управлять на расстоянии сельскими машинами.
— Я видела.
— Тогда дедушка ушел работать на пчельник. Меду сколько угодно и синтетического, но большинство, знаете, предпочитают все же натуральный, как и мясо, как и яйца. Вы посидите здесь… только, пожалуйста, подождите. Вы не исчезнете? Посидите, а я его подготовлю. Он ведь старенький и может испугаться. Ладно?
— Я подожду. Куда же я уйду?
Мальчик торопливо ушел, а Рената села на землю у самой воды. Лесовка. теперь стала многоводной. А может, это один из каналов искусственного орошения. Везде шлюзы и шлюзы, а в них шумит вода. Сейчас она увидит Николая, с которым вместе бегали в школу и который уже состарился. Наверное, совсем древний старик. А отца она уже не увидит никогда. Самое тяжелое, что она никогда не увидит отца. Но почему с ней случилось такое и как это объяснить? Ведь должно же быть какое-то объяснение?
Она ушла в свои мысли. Потом подняла голову и поспешно вскочила. Перед ней стоял крепкий высокий старик, гладко выбритый, в рубашке с короткими рукавами, обнажившими мускулистые, смуглые руки.
Синие, еще яркие глаза смотрели на нее с восторгом и ужасом. По выдубленным временем щекам вдруг покатились крупные слезы.
— Это ты, Реночка, — проговорил он хрипло — у него сильно перехватило горло, — ты пришла еще раз!
— Вот здесь ты жила до своего последнего дня — в этой самой комнате. Заходи и живи снова, ты у себя дома, Реночка.
Чисто и строго было в белой квадратной комнатке. Старый письменный стол (отцовский!), узкая койка, накрытая новым зеленым одеялом, стеллаж с книгами во всю стену, до самого потолка, набитый рукописями комод. На стене портрет отца, пейзажи Левитана и Коровина, те самые, знакомые с детства. Два низких окна открыты в сад.
— Все осталось, как при тебе, — торжественно заверил Николай Протасович, — только вот одеяло заменил да занавески на окнах — прежние-то истлели. Я все сохранил: твои книги, письма, дневники, рабочие планы, незаконченные научные труды, ненапечатанные стихи. Всю жизнь ты писала стихи. Это было твоей радостью. Иногда посылала их в столичные журналы. Только стихи каждый раз возвращали тебе обратно.
— Я так и не стала поэтом? — спросила Рената, покраснев.
— Ты родилась поэтом. И поэтом умерла. Но ведь одного таланта мало. Поэзия, видать, требует, чтоб ей отдавали себя целиком. Ты же отдала себя целиком Рожественскому, а поэзии только крохи. Я присяду. И ты садись. У стола, как сидела, бывало. Сядь, сядь, а я посмотрю на тебя.
Рената послушно села у стола.
— Костя Танаисов! — воскликнула Она, беря в руки фотографию в рамке. Добродушно усмехаясь, смотрел на нее (так взрослый смотрит на ребенка) мужчина в шинели. — Добрый, — заметила Рената задумчиво.
— Добрый и есть. Он был твоим мужем и погиб на войне, накануне победы.
— Неужели…
— Что? Была война. Долгая, страшная. Об этом много написано. Потом прочтешь. Я тоже был на войне, но вернулся живым.
Рената долго смотрела на фотографию, потом осторожно поставила ее на прежнее место.
— Был у тебя и сын, которого ты назвала Михаилом. Он умер трех лет. Фотографии ребенка в столе. Спрятаны. Наверно, убрала, чтоб не слабеть. Я перебрался сюда после того, как тебя не стало, — выпросил эту квартиру себе. Тогда и от семьи ушел. Моя жена была среди тех, кто не любил тебя. Не брезговала и клеветой. И когда тебя не стало, я от нее ушел… Я стал другим. Я стал таким, каким ты всегда хотела меня видеть.
— Вы любили ее — ту Ренату?
— Зови меня на «ты», как прежде. Высокой и чистой любовью я ее любил. Как женщину — никогда не забывался, — не смел. На своей-то Катерине я женился вроде по любви. Троих детей она мне родила. Бегали они ко мне сюда ежедневно, хоть мать запрещала. Ненавидела она меня лютой ненавистью. Больше всего за то, что поступил непонятно. Добро бы, к живой ушел… Рената была без малейшей фальшивинки. Олицетворением совести она была, сама чистота и правда. Ты должна была прийти еще раз!..
А уж как тебе мешали! Трудной тогда была доля агронома. И в деревне было не легко. Но ты никогда не озлоблялась. Только вздохнешь, бывало.
О трудностях я уже потом узнал, когда дневники твои прочел. Ты сразу-то не читай свои дневники. Когда-нибудь потом прочтешь и поплачешь.
И никому не говори, что ты та самая Рената и есть. Кроме меня да Юрки, никто не поверит.
— Но как же мы узнаем?
— Вернется мой внук Кирилл с Луны… Он большой ученый. Даром что молод. Врач-космонавт, психолог, генетик. Башковитый парень и душевный. Ему мы все и расскажем. Уж он разберется, что к чему.
— Теперь… в 2009 году… уже коммунизм? — взволнованно спросила девушка.
— Я думаю, мы лишь на подступах к нему, — просто ответил Симонов. — Материальную базу мы, можно сказать, почти создали, но в духовном отношении еще отстаем. Еще не царство истины. Добро еще борется со злом…
Ведь в чем сущность коммунизма? Разве в материальном изобилии, высокой технике? Все это было еще в прошлом веке, хоть в той же Швеции, но коммунизмом там и не пахло. Нет, сущность коммунизма в том, что это единственное общество, при котором возможен полный расцвет личности. Не одной или нескольких, а каждой личности. Вот эта каждая личность — и есть проблема номер один у нас.
Каждый может переехать жить в любой город. В деревне живут лишь те, кто страстно любит природу и сельский труд и не может жить в городе. По новой конституции каждый имеет право на любимый труд.
Началась эпоха Всепланетного Объединения на основе доброй воли и совести.
Покончили навечно с войнами — разоружились… после одного перепуга, когда запросто могла погибнуть цивилизация. Один шизофреник получил власть над кнопкой. Да ты и об открытии атомной энергии не знаешь… что было у человечества ядерное оружие.
— Сегодня утром я была в 1932 году, — кротко напомнила девушка.
— Уже многие государства имеют социалистический строй. Луну и Марс осваиваем сообща, как в свое время Антарктиду. Ученые работают дружно, политики иногда ссорятся, язвят друг дружку. Бог знает когда был Гитлер, а яд фашизма, хоть и разбавленный, живет еще в душах иных заправил: скучают по насилию.
— Гитлер? — переспросила Рената устало.
— Завтра расскажу, не к ночи будь помянуто. Симонов поднялся.
— Пойду в сад, выкурю перед сном свою трубочку. Покойной ночи, Реночка! Я рад, что ты пришла еще раз. Тогда ты пришла слишком рано, теперь в самый раз.
Он ушел.
Рената прикрыла за ним дверь и долго стояла посреди комнаты. Затем подошла к окну.
Она испытала облегчение, оставшись одна: надо было разобраться в услышанном.
Из сада тянуло сыростью, запахом трав и цветов. Яркая, бронзовая Луна озаряла темные деревья, зеленые газоны с кустами роз, очертания ульев на лужайке.
Между ульев ходил состарившийся Николай, куря трубку. Его внук Кирилл работает на Луне…
XXI век, и человечество осваивает Луну и планеты. Сбылась-таки мечта Циолковского. Бедный, глухой, непризнанный, осмеянный царизмом гений. Если бы он был признан раньше, сколько бы он совершил!
Она не спросила еще о своих учителях. Не спросила, как жил и что создал Горький, Леонов, Мейерхольд. Ей еще так много предстоит узнать и понять.
Рената вздохнула и, взяв свой рюкзак, высыпала содержимое его на постель.
Среди белья, платьев и тетрадей с записями лекций она нашла маленький томик Грина «Алые паруса», издание Френкеля 1923 года. На первом листе было написано: «Дорогой мечтательнице Ренате Петровой. Да сбудутся все твои мечты так же чудесно, как мечты Ассоль…» и четкая подпись: Константин Танаисов.
Рената бережно положила книгу на стол и, подумав, стала искать такую же…
Книга лежала в верхнем ящике письменного стола, аккуратно завернутая в пожелтевшую бумагу.
С трепетом развернула Рената книгу и прочла ту же самую надпись.
2 ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ РЕНАТЫ
У каждого — свои тайный личный мир, Есть в мире этом самый лучший миг, Есть в мире этом самый страшный час, Но это все неведомо для нас. Уходят люди… Их не возвратить, Их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять От этой невозвратности кричать… Е. ЕвтушенкоВторой месяц гостила Рената у старого Симонова. Он устроил ее к себе помощницей на пасеку. Его помощник как раз уехал путешествовать в Африку в составе энтомологической экспедиции.
Пережив в памятный день возвращения в Рождественское нечто вроде шока, Рената еще не пришла в себя. Жизнерадостность ее была как бы пригашена, она всего боялась, особенно новых людей, которые казались ей непонятными и чужими.
Угнетала ее и необходимость скрывать происшедшее (кто бы поверил ей?). Поэтому пасека была для нее и пристанищем и убежищем.
Однако она ясно отдавала себе отчет, что найдет ли она объяснение происшедшему или не найдет, но жить надо, и, следовательно, надо найти себе место в новой жизни. А для этого нужно было понять Время, в котором она очутилась, и людей, живущих в это Время.
Рената с жадностью прочитывала газеты и журналы, смотрела телевизор — и всесоюзные передачи, и других континентов, с вниманием слушала Симонова и Юру, рылась в сельской библиотеке, где оказалось немало прекрасных книг. Современность казалась ей более понятной, но чего она совершенно не могла понять — это годы ее отсутствия, жизнь Ренаты. Объяснения Николая не удовлетворяли ее, ей казалось, что он по старости что-то путает.
Не могла она понять, как в XX столетии при столь высоком развитии культуры мир мог целых двенадцать лет терпеть Гитлера, позволить ему делать то, что он делал.
Николай Протасович рассказывал ей про свою жизнь, а она смотрела ему в лицо напряженно, ища в увядших чертах сходство с прежним Николаем — пылким, взбалмошным, настойчивым. Он был как былинный богатырь. Ему непременно нужно было дать урожай в десять раз больше, чем дают другие. Пусть все знают, на что способен Николай Симонов. Глаза у него были необыкновенно яркие, синие, но как мог изменяться их цвет — она видела их и серыми, и зеленоватыми, и темными, почти черными. Он отслужил на флоте и вернулся в родное село с самыми честолюбивыми мечтами относительно своего Рождественского. У парней он был коноводом. Бывший боцман стал механиком и бригадиром тракторной бригады.
А Ренату он любил и очень болезненно пережил ее категорический отказ стать его женой. Для Ренаты это было в прошлом году, когда она приезжала на каникулы. Для Симонова это было почти восемьдесят лет назад.
По просьбе Ренаты Симонов много рассказывал ей об отце, щадя ее, смягчая события. Всего пять лет и прожила с отцом Рената после окончания академии. Но он успел выдать ее замуж и понянчить внука Мишку. Не везло Ренате. Потеряла отца, муж погиб на войне, умер ребенок.
Рената с жгучим интересом перечитывала дневники, письма, стихи, оставшиеся от первой жизни, — свидетельства самой Ренаты.
Трудной была ее жизнь — тридцатые, сороковые годы. А конец — преждевременным и случайным, трагическим в своей нелепости.
Рената замерзла в метель в дубовой роще, которую посадил ее отец.
Рано утром того дня позвонила ей из райцентра знакомая продавщица книжного магазина. И сообщила, что пришли книги в большом выборе…
Весь день Рената рвалась в Коростыли, но — неотложные дела, к тому же ни одной попутной машины. Автобусы тогда еще в Рождественское не ходили. Впоследствии председатель колхоза, оправдываясь, говорил, что «Петрова могла бы попросить лошадь». Но это была явная ложь. Лгать Рената не умела, а скажи она председателю, что ей нужна лошадь для того, чтобы съездить в книжный магазин, никто бы ей эту лошадь не дал. Не говоря уже о том, что отношения с председателем колхоза у нее были самые плохие, какие только можно представить: она его беспощадно критиковала, он — ущемлял где только мог.
Летом агроном Петрова ездила по полям на стареньком мотоцикле. В тот роковой день он был, как на грех, в починке. К вечеру Рената села на проходящую мимо Рождественского из чужого района машину и успела-таки за час до закрытия в магазин.
Мела поземка, было очень темно, темные мохнатые тучи тянулись над полями так низко, что, казалось, рукой можно достать.
Книги стоили того, как на подбор, ее любимые авторы. Рената отобрала десятка полтора книг, продавщица старательно их упаковала, и счастливая Рената пошла домой… пешком.
Поземка разошлась в метель. Ренату нашли уже на другой день, полузанесенную снегом. Она сидела, словно отдыхая у края дороги, на коленях пачка книг, на лице застыла слабая полуулыбка. Присела, видно, отдохнуть, задумалась и задремала.
В Рождественском были потрясены. Сразу припомнилось все, что она сделала для односельчан, как многие ее не любили за смелость и принципиальность, как не понимали, смеялись над ее «чудачествами». Один из учителей в речи над могилой сказал: «Маленький Дон Кихот из села Рождественского». И разрыдался откровенно при всех. Плакали многие, и старые и молодые.
— Конечно, она была чудачкой, — задумчиво рассказывал Симонов. — Хоть случай с поросенком Чокало.
Год был тяжелый, недород. И Ренате подарили в день ее рождения поросенка, чтоб она его выкормила и заколола на мясо и сало. А Реночка полюбила этого поросенка. И самое удивительное, что и поросенок очень привязался к ней. Бегал за ней, как собачонка, откликался на кличку Чокало.
О том, чтоб его зарезать, не было и речи. Все село потешалось от души. Когда Чокало подрос и прокормить его становилось все труднее и труднее, Рената увезла его в Саратов, где как раз проходили гастроли Дурова, пришла к нему в цирк и подарила поросенка. Чокало оказался очень способным цирковым артистом.
Кроме кошки Золушки и пса Тиля, у нее животных и не было, а на выделенном ей приусадебном участке она вместо картошки да капусты выводила цветы редкостной красоты, которые у нее воровали и продавали в городе по рублю штука. Но если кто останавливался, чтоб полюбоваться бескорыстно, Рената сейчас же предлагала семена или отводки. Некоторые брали, чтоб посадить в палисаднике под окнами. А теперь все Рождественское тонет в цветах. Если бы только она видела! Ты посмотри, хоть теперь!
Приходя поздно вечером с разнарядки, измотанная до крайности, Рената писала в своем дневнике: «…и все-таки я чего-то добилась! Когда я приехала, люди ничего не знали. Не знали даже, как вносить удобрение, даже лущение стерни не применяли. Махнули рукой на сорняки. Поля — настоящий живой гербарий.
Как было страшно, когда осот созревал. Словно метелица мела над зелеными полями — миллиарды белых пушинок с семенами, несущими запустение. А теперь и осота нет, и на полях хлеба, а не сорняки. Курсы полеводов, что я веду каждую зиму, сослужили свою службу».
«…Опять вызывали в райком: все анонимные письма. Кому-то я мешаю жить. Опять приехала комиссия.
Новый секретарь райкома Лосев относится ко мне очень добро. Удивляется, почему я редко обращаюсь к нему за помощью.
Я только улыбалась.
— Привыкли?! — ужаснулся он.
— Гневаюсь по другому поводу, к чему привыкнуть не имею права. Ведь я воспитанник Тимирязевской академии.
— Понимаю, — кивнул он рано поседевшей головой. — Это ваша гордость и источник сил.
Лосев проводил меня до лестницы.
— Будем делать, что можем, — серьезно сказал он, пожимая мне руку. — А ведь я знал вашего покойного мужа… Мы были в одном подразделении. Он действительно погиб как герой».
В дневнике о муже было совсем мало. Ведь это не был дневник событий — Рената была слишком занята и заносила в дневник главным образом мысли. В апреле 1945 года была скупая запись: «Сегодня ровно месяц, как я получила похоронную. Думала, не переживу. Глубоко виноватой я чувствую себя перед ним. Не могла любить его, как он того заслуживал.
И кого любила — образ, созданный моим воображением. Ведь и видела его и говорила с ним всего-то четыре раза, но для меня было достаточно, что он где-то живет, работает, путешествует, что его ценят и любят в России.
Но он погиб трагически, еще раньше мужа».
Рената покраснела и отодвинула дневник. «Я его видела только раз… Его давно нет».
О ребенке записей было больше. И как он впервые улыбнулся, и впервые стал на ножки, первый раз упал и горько плакал от боли. Дитя человеческое!!!
А потом скорбная и короткая запись: «Мой сын умер. От дифтерита…
Когда Мишеньке сделали прививку, глаза у него прояснились, он схватил меня за руку: мама, пойдем гулять?
И умер. Слишком поздно. Врач встала передо мной на колени и не могла вымолвить ни слова. Она сама мать».
«…Какое беспросветное одиночество! Сначала ушел отец, потом муж, а теперь и сын… Я так устала от всего, что порой хочется умереть. Но когда я подумаю, что пришлют на мое место кого-нибудь вроде нашего зоотехника…
Даже если и не вроде него, не алкоголика. Рождественскому нужны такие, как я. Это я знаю твердо. И не только потому, что земле нужен научный подход, а я агроном высокой квалификации. Дело в другом… более важном».
«…Интеллигент на селе — это боец. Горький называл интеллигенцию ломовой лошадью истории. До чего верно!»
В дневнике было много вырванных и уничтоженных страниц. О чем там писала Рената? А потом шло раздумье о Времени. К этому Рената возвращается неоднократно. На полях тетради почему-то начертана формула Эйнштейна Е = тс2. Формулу эту Рената нашла и на полях многих книг, как будто хозяйка их чертила машинально.
С чем она ее связывала?
«…Что же такое — Время? Что такое Человек? Зависит ли он от времени или сам создает его?
Английский историк Вальтер Ман писал: «Всегда презирают свое собственное время, каждый век предпочитает предшествующий». Неправда! Ведь прогрессивно мыслящие люди никогда не смотрят назад, только вперед.
Как жаль, что я пришла так рано…
«Конечно, лучше и легче прийти на готовенькое. А кто-то бы за тебя все делал?»
«…Будущее создается тобой, но не для тебя, потому что в этом будущем тебе уже не жить, — вот закономерность.
Надо делать то, что должно, творить
Завтра, пока хватит душевных сил».
«…О люди будущего, поймете ли вы нас?»
Рената медленно завернула дневник и положила его в дальний угол письменного стола. Откуда ей знать, может, придет еще одна Рената Петрова, пусть и та прочтет.
Потом она перечитала стихи. Одно стихотворение попадалось Ренате особенно часто. Оно было многократно переписано. Оно было во многих конвертах со штемпелем Москвы и Ленинграда, даже Киева. Видимо, Рената не раз посылала его в журналы, но его неуклонно возвращали автору. В одном так и не отправленном письме она писала: «Сегодня мне опять вернули стихи. Наверно, я графоман. Надо взять себя в руки и больше не писать стихов. Раз они никому не нужны. Только отнимать у себя время, а работы — край непочатый. Но моя беда в том, что я не могу не писать».
Рената недоверчиво отнеслась к этому стихотворению (непризнанному, ненапечатанному), но ее тронула искренность, сквозившая в каждой строке. Она переписала стихотворение в свою записную книжку.
НА ОБЛАЧНОМ БЕРЕГУ
Александру Грину
Забытый городок. Весь в зарослях ореха. Бегущие холмы и старый тихий дом, Здесь каждый вздох повторит смутно эхо, И листья осенью шуршали под окном. Одна гравюра в комнате пустынной — Портрет Эдгара По, И яркий лунный свет. Здесь умирал в печали неизбывной мечтатель, нищий и поэт. Жизнь, полная невзгод, обид и муки. Одна мечта ему безмерно дорога. Никем не слышимые впитывал он звуки, Незримые он видел берега. И расцвели невиданные склоны. К ним алые скользили паруса. Могучие соленые циклоны. Тропические яркие леса. Там чистая Ассоль, как он, мечтать умела И чуда ждать, Как завтрашний ждут день. И песнь о счастии навстречу ей гремела, И звали паруса под радостную тень…Странно, но это стихотворение почему-то вернуло ей мужество. Рената надела новое платье, сшитое по моде начала века, и, путаясь в длинной юбке, впервые без страха вышла одна на улицу.
Она хотела узнать новое Рождественское, прежде чем покинуть его навсегда.
Что ж, теперь в Рождественском было все, чего хотела Рената для родного села: культура, наука, красота. А люди отличались интеллигентностью, были простодушны в общении, приветливы и добры.
Рената познакомилась с очень славной пожилой парой — супругами Яковлевыми.
Растениеводы и генетики, они, как личных врагов, ненавидели темные силы природы — эрозию, засуху, суховеи.
Растениеводы теперь получали щедрые, запрограммированные урожаи. Но и этого им было мало, они переходили как раз на новейший метод оптимального программирования фотосинтезом. Супруги с удовольствием показывали Ренате лабораторные схемы, графики, диаграммы.
Александр Бонифатьевич вел энергетическую часть эксперимента, жена — биологическую. Они точно знали ежедневный прирост органического вещества на полях. Ренату очень заинтересовали электронные приборы, передающие самые слабые сигналы от хлорофилла, так что человек мог тотчас подоспеть на помощь растению. Через электронные микродатчики хлорофилл своевременно подавал на пульт управления необходимый сигнал и даже сам «прослеживал», как выполнялась его «команда». Такие приборы, расставленные на полях, автоматически определяли температуру, влажность почвы и выдавали команду на оптимальные сроки боронования, культивации, сева. Электрические культиваторы поражали сорняки электрической искрой насквозь — стебель и корень. Сорняков уже не было.
Тронутые наивным восхищением девушки и ее понятливостью, супруги предложили Ренате место лаборанта.
Рената от души поблагодарила, но решительно отказалась.
— Я уезжаю жить в Москву, — сказала она.
— Обаятельная девушка, но какая-то странная, — решили между собой супруги, когда Рената ушла.
Узнав о ее намерении, старый Симонов был очень огорчен и взволнован.
— Но как же… одна в Москве. Что ты там будешь делать? Это не Рождественское. Я думал, ты останешься здесь.
— Зачем? Ты не беспокойся за меня. Не пропаду. Я буду жить, как мечтала Рената, если бы не ставила выше мечты долг. А у меня нет никаких «долгов». Я свободна.
— Но ведь Рената — это ты и есть, — быстро возразил Николай Протасович.
— Да, она это я, но совсем в других обстоятельствах. Кто знает, в чем теперь мой долг, — заметила Рената печально.
Накануне отъезда пришел Юра и принес Ренате в подарок небольшой портрет брата-космонавта, который он сам переснял для нее, а также фотографию свою и деда.
Они втроем поужинали, а потом долго сидели в саду и разговаривали. Юра сказал, что, пожалуй, Рената благоразумно поступает, уезжая в Москву. Его маме удалось что-то подслушать, когда она заходила к дедушке, и она сочла Ренату психически больной, а заодно и свекра, и даже хотела вызвать к ним врача-психиатра. Юра еле отговорил ее, сославшись на то, что Рената уезжает.
— Пусть бы попробовала! — буркнул Симонов. — Чертова баба, пусть ко мне больше не ходит. Так ей и передай.
Рената узнала от Николая Протасовича историю Андрея — отца Кирилла и Юрия. Его женитьба на девушке красивой, но сухой, рассудочной, властной была ошибкой, которая ему дорого обошлась. В тридцатые годы это еще называлось: не сошлись характерами, в девяностые — психологическая несовместимость. Яростные вспышки Андрея, презрительное молчание Наташи, недели, а потом и месяцы враждебного молчания обоих. В таких случаях обычно расходятся.
Однако, зная, что Наташа болезненно самолюбива и будет уязвлена жалостью знакомых, Андрей не стал расторгать брак, а уехал работать на строительство плавучего города в Тихом океане. Жил он один. Раз или два в год прилетал в отпуск повидаться с отцом и детьми, а иногда они ездили к нему. Андрей не думал о новом браке, весь ушел в работу, захватившую его. Старшая дочь Николая Протасовича погибла при освоении Антарктиды. Младшая работала в научном центре в Новосибирске.
В этот последний вечер Симонов рассказал Ренате о внуке Кирилле.
Кирилл рос здоровым, но впечатлительным и ранимым мальчуганом. Он глубоко был привязан к отцу, и разлад между родителями очень его угнетал. Он не мог переносить, когда мать плохо отзывалась об отце.
Космонавтом он решил стать лет четырнадцати и, будучи равнодушен к технике, пошел учиться в медицинский. Как в свое время среднюю школу, так и медицинский институт он окончил за вдвое меньший срок. Теперь, несмотря на молодость, он был уже известным специалистом по космической медицине, психологии и биологии.
С дедом его связывала крепкая дружба и понимание. Он и на Луне его не забывал: слал письма, радиограммы, беседовал с ним по видеофону, когда имелась возможность.
По возвращении с Луны Кирилл собирался на отдых в Рождественское. Симонов огорчился, что Рената уедет к этому времени.
— Я встречусь с ним в Москве и попрошу у него совета… Если он такой большой ученый, его, наверное, заинтересует моя история… Если он мне поверит, — грустно закончила Рената. Она была в этот вечер грустной и задумчивой. Но ей было хорошо с Николаем Протасовичем и Юрой — они ей верили.
Когда Юра уходил, Рената вдруг попросила его проводить ее утром, пораньше, на кладбище.
— Хорошо… я приду, — с запинкой пообещал Юра. Он сразу понял.
Утром рано мальчик и девушка пошли на кладбище. Оно буйно поросло кустарниками и деревьями, начинавшими уже желтеть. Уже чувствовалось, что осень подходит, она недалеко. Не спрашивая, Юра провел ее узкой мокрой тропкой — ночью пролился дождь — на могилу Ренаты.
В узкой чугунной ограде были похоронены Рената и ее ребенок. У Ренаты невольно похолодело под ложечкой, когда она прочла надпись на камне: «Рената Михайловна Петрова. 39 лет. Мир стал лучше от того, что она в нем жила».
Рената уцепилась за влажную холодную ограду. Белые, беспокойные облака плыли совсем низко, цепляясь за верхушки кленов, опускаясь туманом на траву и могилы.
Солнце то скрывалось, то появлялось, и все вокруг то темнело, уходя в сумрачную тень, то вдруг озарялось желтовато-молочным светом, и птицы начинали громко петь.
— Все туманно, — растерянно сказала Рената. — Она знала, для чего именно живет, а я не знаю. Жить просто для себя так же неинтересно, как готовить праздничный стол для себя одной.
Юра взял ее за руку. На носу его выступили капельки пота. Он заметно побледнел.
— Вам выпало такое счастье прожить еще одну жизнь, неужели вы не рады?
Рената могла бы сказать, что для нее это лишь одна жизнь, но она только слабо улыбнулась. Они ушли.
Прощаясь с Николаем Симоновым, Рената спросила:
— Ты веришь, что я та самая Рената из юности?
— Верю, — просто подтвердил старик.
— Но как это может быть?
— Не знаю. Я ведь не ученый. Вот вернется с Луны Кирилл, он как раз космонавт.
— Почему как раз?
— Разве я так сказал? Не знаю. Он настоящий ученый. Это дело науки, разобраться отчего и откуда. Ты напишешь свой адрес, и он тебя найдет. Напиши нам поскорее, а то мы с Юрой будем слишком тревожиться.
— Боишься, что я растаю, как снегурочка? — Рената поцеловала Николая Протасовича. Он неожиданно для себя всхлипнул и смущенно отвернулся.
— Мы еще увидимся! — сказала взволнованно Рената.
Дед и внук проводили Ренату автобусом на аэродром, еще раз простились с ней и долго стояли, держась за руки, когда и самолет давно уже скрылся за облаками. Потом медленно пошли пешком домой через мостик, через дубовую рощу, мимо кустов шиповника, где агроном Рената Петрова проснулась от крепкого сна и улыбнулась Миру.
А Рената сидела съежившись в самолете странной конструкции среди чужих непонятных людей, смотрела в окно на блистающие внизу белоснежные облака и думала.
Думала о том, как будет жить среди этих людей… Найдет ли свое место в другом веке? Встретится ли с космонавтом Кириллом Мальшетом?
И снова, уже привычная, как боль при хронической болезни, мысль: как это с ней могло случиться? Где она была все эти годы? Каким образом очутилась на обочине дороги у села Рождественское?
3 ЗАЛИВ РАДУГИ
Среди звезд нас ждет Неизвестное.
Ст. ЛемС Кириллом происходило что-то странное. Именно с ним одним, хотя в обсерватории их было пятеро — советские ученые и американский астрофизик Уилки Уолт.
Кирилл твердил себе, что должен разобраться в этом по свежим следам. Это было очень важно. Но Кирилл не знал, а его товарищи знали, однако почему-то не желали обсуждать с ним эту тему.
Уилки… тот с некоторых пор определенно его боялся. Ни за что не оставался с Кириллом наедине. Перестал играть с ним в шахматы. Все же Уилки был славный парень и по-прежнему расположен к Кириллу. А вот Харитон Чугунов так возненавидел Кирилла, что даже не в силах скрыть свою неприязнь.
За что? Что случилось? Он не причинил никому никакого зла. Правда, они с Харитоном никогда и не симпатизировали друг другу — слишком разные люди. При назначении даже вставал вопрос об их психологической несовместимости. Но Харитон не возражал, когда Кирилла Мальшета включили-таки в состав экспедиции, и до сих пор относился к нему лояльно.
Харитон был начальником их группы. Ученые в этой обсерватории на Луне сменяли друг друга каждые полгода, если кто-либо не выражал настойчивого желания оставаться на второй срок, чтоб закончить интересующие его наблюдения. Тогда могли разрешить остаться, если врачебная комиссия не возражала.
Как раз Харитон, кибернетик Яков Шалый, астрофизик Виктория Дружникова и Кирилл остались на второй срок. Это было тяжеловато, но научный материал стоил того. Обычно штат обсерватории шестнадцать человек, однако получилось так, что временно в обсерватории осталось всего пятеро. Пополнение должно было явиться после Дня Всепланетного Объединения.
Вчера Кирилл случайно оказался свидетелем стычки между Харитоном и Яшей, его другом со студенческой скамьи. Стычка произошла из-за него, Кирилла. Кирилл вошел в кают-компанию, когда Яша, в нарушение всякой субординации, тряс начальника группы изо всей силы. Сгоряча они не сразу заметили Кирилла.
— Я не дам Кирюшку в обиду! — приглушенно твердил Яша. Тогда Харитон сказал очень странную вещь… совершенно необъяснимые слова:
— Но ведь это не человек, а фантом.
— Тише, черт тебя побери! Этот «фантом» ест, спит и работает, как все мы. Он знает и помнит наше с ним детство. Он — Кирилл! Понятно?!
— Но… ты же знаешь.
— Знаю. Ну и что?
— Как что? Разве это можно объяснить?
— У тебя всегда так: не понимаю, значит, этого не может быть. Но Кирилл Мальшет — существует, и тебе придется с этим примириться. И ты не смеешь игнорировать его так открыто.
— Его нет! — твердо отчеканил Харитон.
— Он здесь, с нами.
— Нечто вроде массовой галлюцинации.
— Как не совестно!
В это время друзья увидели Кирилла и растерянно умолкли. Харитон резко повернулся и вышел, далеко обходя Кирилла. Тяжелое квадратное лицо Чугунова пылало. Он был растерян и подавлен. Вся его плотная и подтянутая фигура в темном комбинезоне выражала неуверенность и даже испуг. А ведь в мужестве ему не откажешь!
— Яша, что здесь происходит? — напрямик спросил Кирилл. Его друг ласково и смущенно потрепал его по плечу.
— Не знаю, Кир. Мы никто ничего не знаем.
— Но это касается меня. Объясни, в чем дело!
— Я очень прошу тебя — ты ведь всегда мне верил, — не допытывайся.
— Почему?
— Поверь мне и на этот раз. Я не могу сказать. Может, когда-нибудь потом, на Земле. Не думай об этом, живи, как жил. На Харитона не обращай внимания, знаешь, какой он… Заканчивай свою работу.
Яша тяжело вздохнул и против воли как-то странно посмотрел на друга. Кирилл так побледнел, что щекам стало холодно, а губы немного онемели.
— Яков! Яшка! Ради нашей дружбы… объясни, прошу тебя, как товарища.
Лицо кибернетика скривилось. Он чуть не заплакал от жалости, и Кирилл понял, что именно из-за жалости он не скажет ничего.
Но что же это за правда, если он предпочитает терзать товарища, оставляя в неведении!
Вечером (для удобства работы и отдыха на Луне соблюдали двадцатичетырехчасовой график) Кирилл дождался, когда Вика пройдет из кают-компании к себе, и вошел к ней с твердым намерением добиться правды.
Вика должна сказать! Вика только взглянула ему в лицо и сразу поняла, чего он от нее хочет. В глазах ее мелькнул страх, но это ощущение непроизвольного страха вызвало в ней досаду на самое себя. Она решительно подошла к нему вплотную и, поднявшись на цыпочки, хотела по-дружески поцеловать его, но Кирилл легонько отстранил ее.
— Жалости мне не надо. Что произошло со мной? Вика огорченно отвела глаза.
— Кирилл, прошу тебя, не спрашивай!
— Нельзя же так, вы — друзья… ученые мы или обыватели?
Кирилл гневно отошел от девушки.
— Что-то произошло со мной, о чем я даже не догадываюсь. Что-то, видимо, плохое. Вы все молчите. Сговорились! Разве это по-товарищески? Ведь я же этого не прощу!
— Кирилл! — жалобно воскликнула Вика.
— Я — врач, специалист по космической медицине, — бурно продолжал Кирилл, — я биофизик и генетик, привык мыслить научно. Но вы не даете мне возможности разобраться, понять. Честно ли это? И какое вы имеете право, что я, ребенок? Вика, родная, мы сядем сейчас рядом, и ты расскажешь мне все спокойно и здраво.
Кирилл сел на узкий диван (ночью он выдвигался, превращаясь в широкую, удобную постель) возле откидного пластикового столика. За толстым выпуклым стеклом большого круглого иллюминатора холодно серебрился в свете Земли характерный лунный ландшафт, видимый с высоты. Полуокружность залива Радуги, где раскинулся космодром, в обрамлении причудливых, изъеденных солнцем и холодом скал.
Вика продолжала в задумчивости стоять посреди кабины — худенькая, стройная, в длинном, до тонких щиколоток, черном платье.
Несмотря на трудности работы и переутомление, девушка строго следила за собой. Единственная уступка, какую она допустила, была в том, что Вика остригла густые косы, которые на Земле укладывала в высокую прическу. Теперь прямые русые волосы едва достигали плеч. Последние дни Вика была удручена и подавлена, как и все, — нет, больше других. Серые глаза, смотревшие так открыто и весело, теперь словно потускнели, веки были красны. Что она, плакала, что ли, оставаясь одна?
— Вика, сядь рядом со мной! — попросил Кирилл. Вика вздрогнула и послушно села рядом, не поднимая ресниц. Щеки ее залил румянец, она показалась Кириллу совсем девочкой, но румянец сменился бледностью, губы задрожали.
Кирилл вдруг увидел ее в строгом костюме в актовом зале Ломоносовского университета, когда она защищала диссертацию на степень кандидата наук. Темой диссертации была кривизна пространства. Речь шла о промере кривизны пространства измерением суммы углов гигантских треугольников. Вопрос излагался очень широко и обстоятельно, смело затрагивая области, еще не решенные наукой. Эрудиция Виктории Дружниковой привела тогда в восторг даже самых брюзгливых и требовательных профессоров.
Несмотря на молодость, ей была единогласно присуждена докторская. Были приняты во внимание другие ее труды, широко известные и у нас и за рубежом.
— Неужели и ты мне ничего не скажешь? — горько произнес Кирилл. Вика закрыла рукой глаза.
— Не могу, — прошептала она в отчаянии. — Сейчас не могу… Там… на Земле скажу.
— Но я должен знать здесь. Теперь. Вика! Это связано с фиолетовым шаром?
— А был ли он, фиолетовый шар?
— Ты же видела!
— Но, кроме нас, никто его не видел. А мы перед тем смотрели на взошедшую Землю, такую яркую.
— Ты хочешь сказать… Но что-то все же случилось со мной за те несколько часов, что выпали из моего сознания?
— Четыре дня, Кирилл. Ты появился через четыре дня. Кирилл ошарашенно уставился на Вику. Она закусила губы.
— Но ведь этого не может быть? В скафандре давно бы кончился воздух… Ведь запас воздуха на двадцать шесть часов?
— Если бы только это!
— Что же еще?
Вика стремительно встала, так что взметнулись волосы, и подошла к иллюминатору. Кирилл подошел к ней.
— Я считаю, что ты прав, требуя правды, — четко сказала Вика. — Мы должны все сообща в этом разобраться. Я поговорю с Харитоном Васильевичем, с товарищами. Завтра утром ты все узнаешь. А пока постарайся припомнить все, что можешь, чем больше ты вспомнишь сам, тем лучше. Произошло необъяснимое, понимаешь?
— Со мной?
— Именно с тобой. Иди к себе, Кирилл. Отдохни и подумай. И не сердись на нас всех. Завтра ты поймешь, почему мы не решились тебе сказать. Это нелегко.
Вика подняла его руку — она была тяжелая, но теплая — и прижалась к ней щекой, Кирилл молча смотрел на ее склоненную голову.
Гнетущая тишина царила в обсерватории, только урчали легонько компрессоры, накачивая воздух. И что-то щелкало, гудело в вентиляционных трубах.
Нестерпимая тоска охватила Кирилла, он ощущал ее почти физически, как тяжелый груз. Ощущение одиночества и тоски.
Он знал, что Вика его любит. В обсерватории все это знали и немного сердились на Кирилла за то, что он заставляет женщину страдать.
Если Кирилл и любил кого, то лишь Вику. Он и сам не знал, почему еще не сделал ни шага в направлении этой любви. Что-то его сковывало. Может, пример отца? Ведь он, в сущности, совсем мало знал Викторию Дружникову. Это с Яшей Вика дружила с детства. В изголовье ее кровати висел небольшой, выполненный акварелью, портрет прекрасной, немолодой уже женщины, с огромными, ничего не выражающими глазами. Казалось, эти зеленовато-голубые, как морская вода над глубиной, подчеркнутые длинными темными ресницами глаза не имели никакого отношения к этому тонкому, страстному лицу.
Слепая мать Вики. Талантливый художник очень хорошо схватил выражение трагической отрешенности невидящих мертвых глаз.
А портрет отца Вики, известного океанолога Дружникова, висел отдельно над письменным столом. Это была просто отличная фотография, под стеклом.
Вика вопросительно посмотрела на Кирилла. У нее были глаза матери, но они видели. Они были живые и добрые.
— Кирилл, — сказала Вика после небольшого колебания. — Я люблю тебя. Ты это знал? Почему ты молчишь? Если я тебе понадоблюсь когда-нибудь, только позови, и я приду. Где бы я ни была, я все брошу и приду к тебе. — Вика подождала, не скажет ли он хоть слово, но Кирилл молчал. И она продолжала: — Я рада, что ты есть, что мы не потеряли тебя! А теперь иди, Кирилл. Иди же!!!
Еще мгновение, и она бы расплакалась. Кирилл поцеловал ее в щеку и вышел.
Растерянный, он медленно шел узким коридором, опоясывающим наподобие полого кольца всю обсерваторию. Некоторое время он думал о Вике. Почему она любит именно его? За что? Такая девушка! Красивая, способная, умная, славная. Но плохо его дело, если при ее гордости и сдержанности она первая объясняется в любви, не надеясь на взаимность.
Жалость — вот что говорило в ней. Такая жгучая жалость, что по сравнению с ней не имели никакого значения ни гордость, ни женское достоинство. Значит, Вика знала, что в ближайшее время ему понадобится любовь и сочувствие, и щедро, от всего сердца, предлагала и то и другое. Вика! Она сказала: «Иди и подумай. Может, что-нибудь вспомнишь».
Он должен вспомнить, что же произошло за те несколько часов?
Неужели четыре дня? Полный провал в памяти. А что-то произошло. Непонятное. Как могло хватить воздуха на четыре дня, если кислородно-воздушной смеси в баллоне всего на двадцать шесть часов?
Все было хорошо. Но они уже за две недели до этого события, видели фиолетовый шар.
Явственно видел лишь он один. Вике и Уилки показалось, что мелькнуло что-то, похожее на огромный шар, прозрачный, синевато-фиолетового цвета. Скорее, тень шара.
Надо было разобраться во всем этом, Харитон не пожелал. Он с самого начала был уверен, что это все иллюзии, вполне закономерные в космосе.
Лишь один Кирилл воспринял шар как реальность. А то, что не все его видели, объяснялось просто: шар пронесся так быстро… Что-то мелькнуло, слилось и растаяло, прежде чем они рассмотрели.
Кирилл зашел в свою кабину и присел на койку, но тотчас ощущение тоски усилилось и стало почти нестерпимым. Он бросился обратно в коридор. Потоптавшись на месте, почти машинально направился в астрономическую башню. Там сейчас дежурил Уилки.
Мимо космонавта по коридору, тяжело и мерно ступая, прошел робот Вакула. Он сказал: «Добрый вечер, Кирилл». Кирилл не ответил — не до него. Но затем остановился и почему-то долго смотрел вслед роботу… Герметически замкнутое помещение обсерватории было почти целиком заключено в скалистом массиве мыса Лапласа. Из-под защиты скал вышла лишь мощная цилиндрической формы башня, где размещались гигантский телескоп, снабженный автоматическим устройством для передачи изображения на Землю, пульт управления и электроузел. Кирилл поднялся в лифте.
Уилки был в башне один. Он не работал. Сидел задумавшись, держа в руках лист бумаги. Занавеси на иллюминаторах были задернуты. Там за стеной в черной бездне безмолвно бушевало яростное косматое Солнце.
— Сейчас разговаривал со своими ребятами… — медленно сказал Уилки (он подразумевал американскую базу у самого терминатора). — Они тоже видели фиолетовый шар.
Кирилл вцепился в край пульта.
— Тот же шар?
— Видимо, тот же или такой же. Вот копия донесения на Землю. Не волнуйся так. Садись.
Кирилл сел и взял протянутый ему лист бумаги.
«…Огромный светящийся предмет. На первый взгляд этот предмет напоминал шар, немногим больше Земли в полноземлие, лилового, почти фиолетового, цвета. Но потом обрисовалась форма трапеции. Отблески тела были похожи на отблески при сварочных работах. Его верхняя часть представляла собой сплошной, сплющенный темно-фиолетовый диск, опоясанный широкой светящейся лентой. Тело находилось на высоте свыше двадцати километров от поверхности Луны. Через три-четыре минуты оно исчезло».
— Ты видел его таким, док? — спросил Уилки, как-то странно разглядывая Кирилла.
Из дневника космонавта Мальшета
…Земля сияла, как второе Солнце, хотя это был лишь отраженный свет. Зыбкое ощущение нереальности, будто я видел причудливый фантастический сон, охватило меня, но быстро прошло, оставив ликующее сознание исполнившейся мечты.
Я взглянул на своих товарищей, они с восторгом смотрели на Землю. Одно чувство владело нами в тот час: восхищение родной планетой и гордость за человечество. А вообще-то мы были очень разные люди — совершенно разные, — и радовались мы по-разному.
Этот час мне никогда не забыть, потому что именно тогда я первый раз. увидел фиолетовый шар.
Я не разглядел его так четко, как американские ученые. Сначала он вообще блеснул мне, как светящееся пятно, потом как яркое сияние, но прежде чем я успел вскрикнуть, оно приняло форму шара. Тогда я закричал: «Что это? Смотрите! Шар!» Харитон сказал, что ничего нет. Яша переспросил: «Где, где?» Вика и Уилки заявили, что они тоже что-то видели… вроде «лучистого облака». Харитон рассердился:
— Облако на Луне! Договорились — ничего не скажешь! Когда мы обсуждали потом в кают-компании это происшествие,
Харитон даже ушел. А на другой день он попросил не заносить это в дневник. Он не верил с самого начала.
— Я видел его таким второй раз, — ответил Кирилл, смотря на американца. Уилки отвел глаза.
— С меня хватит, — сказал Кирилл, — завтра мы соберемся все вместе, и вам придется сказать мне все.
— Ты прав, — сказал Уилки, облегченно вздохнув, — мы должны обсудить это все сообща и с тобой вместе. А сейчас, прости, мне надо работать.
— Работай. Я уйду.
В эту очень короткую и страшную ночь я даже не пытался лечь. Все равно не уснуть. Я бродил один по обсерватории — все давно спали, даже астрономы, и — в какой раз — пытался разобраться в том, что же произошло.
…Мы работали рядом, Харитон и я, изредка переговариваясь. По инструкции категорически запрещалось выходить в одиночку: мало ли что может случиться.
Почти весь состав обсерватории отбыл на Землю, потому я и помогал Харитону. В глубоких трещинах, куда не проникал солнечный свет, сотрудники нашей обсерватории обнаружили огромные скопления серы, брома, селена, сурьмы, мышьяка, ртути, свинца, цинка, соединений хлора.
На первых этапах освоения Луны эти продукты вулканизма имели особенное значение, как источник минерального сырья. Поэтому можно понять нетерпение Харитона. Приятный или неприятный он человек, но он прежде всего исследователь Луны, крупнейший селенолог мира. А в тот раз давно обработанная трещина преподнесла сюрприз: истечение газов.
Харитон спускался со своими пробирками в расселину.
Я страховал его. У свинцово-серой стены залива Радуги невиданное нагромождение самых причудливых скал и воронок кратеров. Мы работали часа четыре. Потом я помог Харитону уложить в специальный мешок его пробы.
Прежде чем направиться домой — давно было пора обедать, — мы немного постояли, отдыхая.
Северная часть дуги залива Радуги оканчивается мысом Лапласа, высота которого две тысячи семьсот метров. Прекрасный наблюдательный пункт! На этом горном массиве находится кратер Бианчини. Я там был однажды, вскоре после прибытия на Луну. Когда с края этого кратера смотришь на юг, взору открывается необъятный, тревожащий душу угрюмый простор. На расстоянии сотни километров — кратеры Леверрье и Геликон, Море Холода — затопленная лавой низина, протяженностью не менее двух с половиной тысяч километров. Огибая весь северный околополярный район Луны, Море Холода соединяется на востоке с Озерами Снов и Смерти. Там нет направленных хребтов, лишь хаотические нагромождения острых вершин, бездонных трещин, зловещих темных ущелий, куда никогда не проникает солнце, — воистину царство мрака и смерти. Там еще не ступала нога исследователя.
И вот тогда мне вдруг показалось, что к кратеру Бианчини движется светящееся пятно, постепенно переходящее в яркое фиолетово-красное сияние. Пока я в него всматривался, оно исчезло. Поэтому я ничего не сказал о нем Харитону. Не хотелось получить новую порцию язвительных насмешек.
Харитон уже пошел, осторожно ступая среди глыб, камней, обломков метеоритов, темнеющих на красновато-бурой почве. Я несколько раз оглянулся, но светящегося пятна уже не было.
Пробираться среди острых камней было довольно трудно, и я немного отстал — шагов на десять.
— Не отставай, Кирилл, — сказал Харитон, не оглядываясь, — нас уже ждут к обеду.
Это последнее, что я слышал от него в тот час.
…Я почему-то сидел, а Харитона уже не было. Я позвал его — нет ответа. Я встал и огляделся-вокруг никого нет. Почему-то я понял, что прошло сколько-то времени. Я стоял неподалеку от обсерватории, хотя до нее было еще километра два хода.
Я совершенно не помнил, как я прошел эти два километра. Я огляделся снова, ища Харитона. С минуту-другую стоял в недоумении, не зная, искать ли его или позвать на поиски товарищей. От нахлынувшей слабости я пошатнулся, кружилась голова, поташнивало и лихорадило. От голода, что ли, с недоумением подумал я. Что-то было не так. Я опять оглянулся. Солнце! Солнца уже не было, только на зубчатых вершинах скал еще полыхали ослепительно белые отсветы. Залив Радуги уже затоплял мрак.
Солнце заходило, а до его захода оставалось еще около ста часов! Несмотря на антитермические слои скафандра, мне было холодно. Холод и мрак догоняли меня. Я включил фонарик на шлеме и бросился бежать. В этот час я совсем не ощущал той легкости, которую обычно испытываешь на Луне. Ноги мои отяжелели, меня охватил страх. Но я уже находился на дорожках обсерватории. Ослепительно горел на фоне мрака стальной купол башни — там в вышине еще был день. Под защитой скалистой громады светились уютно и ласково панорамные окна кают-компании. У окна кто-то стоял, кажется, Яша. Меня увидели. Какая суматоха поднялась при моем возвращении… как будто они меня не ждали, не искали.
Шлюзовую камеру можно открыть снаружи нажатием кнопки. В полном изнеможении я нажал кнопку и стоял, пошатываясь, пока створы герметической двери раздвинутся; я ввалился в шлюзовую камеру.
Когда я уже поднимался по лестнице в обсерваторию, я услышал отчаянный крик Уилки: «Не впускайте его!»
Что он, с ума сошел?
Я, как был в скафандре, вошел в кают-компанию.
— Помогите снять… — попросил я. Напрягая последние силы, чтобы не упасть, я стоял в тяжелом скафандре посреди кают-компании, а мои друзья и коллеги, бледнея, в ужасе смотрели на меня. Почему?
Первая бросилась ко мне Вика. Она плакала и смеялась, руки ее так дрожали, что она не могла ничего сделать. Яша подошел и помог мне снять скафандр. Все было странным и необъяснимым — и то, почему я очутился один, и то, что перескочило солнце, и то, что меня не ждали (как это только могло быть?!), и этот явный страх, и вопль американца: «Не впускайте его!»
Мне было очень плохо, все же прежде чем лечь, я заставил себя поесть, считая, что мне плохо от голода.
Я сидел за столом и жадно ел. Робот Вакула принес мне горячего бульона (только робот и встретил меня как всегда) и жареного кролика. Я ел, а мои товарищи стояли и, потрясенные, смотрели, как я ел.
— Вакула, отведи меня в мою комнату, — сказал я, поужинав, обидевшись на всех, даже на Вику.
Я оперся на железную руку, медленно дошел до своей кабины и лег. Уснул я сразу.
Утром проспал, был еще очень слаб, но все же оделся и пошел в ординаторскую. Только одна Вика пришла на ежедневный утренний осмотр. В обед я сделал им замечание. Тогда они стали приходить как всегда… Впрочем, они и раньше не очень-то любили эти утренние врачебные манипуляции.
Но почему они отдалились от меня? Почему они были такие растерянные и подавленные?
Я — врач-космонавт, и в мою обязанность входит не только оказание медицинской помощи в случае болезни, но главным образом (народ на Луне здоровый) изучение функционального состояния центральной нервной системы и работоспособности каждого в условиях уменьшенной силы тяжести. Программа медико-биологических обследований очень обширна: электрокардиограммы, сейсмокардиограммы (колебания грудной клетки), электрические потенциалы, возникающие при движении глаз, биотоки головного мозга, частота пульса и дыхания, анализы проб крови и выдыхаемого воздуха и многое другое.
Какие поразительные сдвиги я обнаружил при первом же посещении членов экипажа после моего возвращения. Сдвиги даже в морфологической картине крови, в водно-солевом обмене. Приди они в таком состоянии на комиссию, ни одного из них не допустил бы на Луну. Для меня, как врача, несомненно: они все до одного пережили нервный криз. Потрясение. Завтра я потребую от них правды. Но я уже не верил, что получу эту правду сполна. К тому же я не мог больше ждать. Терзания мои достигли предела.
И вот, когда, снедаемый нетерпением, я метался по обсерватории, я натолкнулся на Вакулу.
Роботу не требуется сон. Было бы электричество, чтоб зарядиться. Днем он готовил пищу, мыл посуду, иногда помогал и в работе, а ночью убирал помещения обсерватории.
В полчетвертого ночи (по земному времени) я увидел его в оранжерее. Вакула рыхлил землю у помидоров. Плоды уже начинали краснеть, скоро созреют.
— До-брой но-чи, — сказал Вакула, — по-че-му вы не спи-те?
Я стоял и как завороженный смотрел на робота. Его сконструировали на Земле специально для Лунной обсерватории. Одним из его создателей, был мой друг Яков Шалый, кибернетик. Уже здесь, на Луне, он «доводил» робота. Конструкторы отнюдь не задавались целью сделать робота красавцем или хоть похожим на человека. Он был внешне похож на увеличенную до двух метров детскую игрушку.
Я запер дверь, чтобы нам не помешали. Сердце лихорадочно билось.
— Вакула, оставь помидоры и поговори со мной, — приказал я. Робот выпрямился.
— Да-вай по-го-во-рим. Я перевел дыхание.
— Вакула, ты помнишь, что произошло десятого сентября?
— Пом-ню.
— Когда Харитон возвратился к обеду один…
— Лю-ди не обе-да-ли. Они на-де-ли ска-фанд-ры и по-шли ис-кать Ки-рил-ла.
— Долго ли искали?
— Трид-цать ча-сов. По-ка наш-ли.
— Нашли? Где?
— У вхо-да на ба-зу. Ки-рил-ла у-бил ос-ко-лок ме-тео-рита. Головокружение прошло. Я глубоко вздохнул. Губы пересохли, язык тоже.
— Вакула, что ты говоришь?
— Ки-рил-ла у-бил ос-ко-лок ме-тео-ри-та.
— Вот как? Где же его тело?
— Те-ло по-хо-ро-ни-ли во-з-ле радио-те-леско-па.
— Вакула, кто я?…
— Ки-рилл Андре-евич Мальшет.
— Но ведь он похоронен.
— Да.
— Как же это возможно?
— Не знаю, мо-жет быть, его по-чи-ни-ли?
Я хохотал до слез. Это была самая настоящая истерика. После этого мне оставалось лишь прописать себе бром, что я и сделал.
Я пошел в лабораторию и до самого завтрака делал себе анализы. Все было в норме, если не считать повышенного нервного возбуждения.
Теперь мне было понятно поведение товарищей. Как ни странно, я успокоился. Суеверным я отнюдь не был.
4 ЭТОГО НЕ БЫЛО, ПОТОМУ ЧТО НЕ МОГЛО БЫТЬ
Не дошла к вам
Лет так за сто
Весть, что прав был
Галилеи,
Но
Плечами вы пожали.
Мол, отрекся
Галилей.
Отмечать
Вы продолжали
Птоломея
Юбилей
Леонид МартыновУтром я потребовал серьезного и обстоятельного обсуждения того, что произошло со мной. Вика, Яша и Уилки меня поддержали. Харитон хмуро согласился.
— В двенадцать у меня в кабинете, — сказал он. Когда все направились по своим лабораториям, он позвал меня.
— Кирилл, зайди ко мне. Необходимо поговорить.
— О чем?
— Разговор конфиденциальный.
— В двенадцать часов и поговорим.
Харитон посмотрел вслед уходящим сотрудникам. Мы только что позавтракали. В коридоре слышались мерные шаги Вакулы, он шел убирать со стола.
— Нам нужно поговорить до двенадцати, — сердито прошептал Харитон.
— Если о том, что со мной случилось, то лишь со всеми вместе.
— Но там будет этот Уилки.
— Ну и что?
— Ты хочешь, чтоб это попало в газеты? Он ведь там у себя не будет молчать!
— Улки крупный ученый, а не трепач. И кстати, встреча с инакопланетной цивилизацией касается всего человечества. Я сам дам объяснение в газеты.
Харитон сжал кулаки. Широкое лицо его побагровело, под скулами заходили желваки.
— Ты хочешь, чтоб в зарубежных газетах появилось подробное описание того, как русский космонавт спятил, не выдержав встречи с космосом? Тебе это будет приятно?
— До двенадцати, — коротко бросил я и вышел, подавив гнев. В двенадцать мы, все пятеро, собрались в кабинете начальника обсерватории. Я молча положил на стол пачку анализов.
— Что это? — сухо спросил Харитон.
— Это анализы — моя кровь и прочее. Прошу приобщить к протоколу.
Я сел поудобнее в кресло. Вика, стоя у иллюминатора, смотрела на меня. Яша и Уилки сидели на диване и тоже смотрели на меня.
— Ты… знаешь? — спросил Харитон.
— Да. Хотя желал бы кое-каких подробностей.
— Кто тебе сказал?
— Вакула.
У Харитона опять заходили желваки. Он чертыхнулся.
— Он же обладает памятью! — пробормотал Харитон. Вика села возле меня.
— Только, пожалуйста, не жалейте меня! — обратился я к товарищам. — Как видите, — я показал на анализы, — я вполне здоров и крепок. Почему вы мне сразу не сказали? Боялись за мою психику?
— Да, Кирилл, — подтвердила Вика.
— Слабонервным в космосе делать нечего. А сейчас я попрошу каждого рассказать все, что он знает по этому странному делу.
— Давайте вспомним все с самого начала, — волнуясь, предложила Вика.
— Нам необходимо принять решение, — сурово сказал Харитон. Он сидел за своим массивным столом, словно обыкновенный директор в обыкновенном кабинете на Земле. За ним в широком панорамном окне холодно мерцали в свете Земли острые лунные пики и кратеры. О, как не вписывался Харитон в этот лунный ландшафт!
— Расскажи, Кирилл, еще раз, — мягко попросил Яша.
Он сын капитана дальнего плавания Фомы Шалого и сам похож на моряка. Высокий, широкоплечий, смуглое лицо с чуть выдающейся вперед челюстью, яркие серые глаза, черные жесткие волосы, резко очерченный рот. Мужественный, добрый, отзывчивый, но очень скрытный. Он кибернетик по призванию. Выдающийся кибернетик.
Уилки Уолт с жгучим любопытством смотрел на меня. Обычно мысли его неотрывны от работы. Сыграет партию в шахматы и уже рвется к своим приборам.
Я сидел в очень мягком демилоновом кресле с широкими подлокотниками, оно меня раздражало, и я пересел на стул. Не теряя времени, я коротко пересказал им еще раз: о фиолетовом шаре, как я очутился один возле входа на территорию базы… Но на этот раз я рассказал и то, что сам до этого считал лишь сновидением…
Смутное ощущение страха и бессилия. Невозможность шевельнуться, как будто я был парализован. Странные существа, склонившиеся надо мною. Похожие на людей. Но с огромными фасетчатыми глазами и прозрачными крыльями…
— Ты все это видел во сне, — небрежно бросил Харитон.
— Может быть, — согласился я, — но как ты объяснишь то, что меня разнесло на куски при первом моем возвращении в обсерваторию. След метеорита я видел… воронка еще там.
— А кто видел, как тебя «разнесло» на куски? — грубовато спросил Харитон.
— Ты видел и Вика, — напомнил Яша.
— Я ничего не видел. А Вике показалось. — Он смотрел перед собой, избегая встречаться с кем-либо взглядом.
— Но… — Вика пристально посмотрела на селенолога.
— Мы же видели, Харитон. Я и ты! Кирилл шел к обсерватории… Я закричала от радости, ты бросился навстречу ему. Когда вдруг падение метеорита… Ослепительная вспышка. Взрыв. Мы даже были несколько контужены… Впрочем, больше не падением метеорита, а тем, что на наших глазах погиб Кирилл…
— Мы ничего не видели, — твердо возразил Харитон.
— Вы говорили другое, — вмешался Уилки. — Когда вы вернулись в обсерваторию, поддерживая мисс Викторию — ей было плохо, — Якоб бросился к вам с вопросом, что с ней… И вы сказали Якобу, что случилась беда, — погиб Кирилл. Мы не ложились спать всю ночь. То сидели все вместе в кают-компании… мисс Виктория плакала… то выходили — одни мужчины — и пытались разыскать останки Кирилла.
— Вот именно, но никаких «останков» не было, — буркнул Харитон.
— Прямое попадание метеорита, — упрямо возразил американец, — мы почти и не надеялись найти останки нашего доктора. Поэтому и «похороны» были скорее символическими.
— На похоронах как раз настоял Харитон, — мрачно заметил Яша.
— Так вот, товарищи, — твердо заявил Харитон, — я ничего такого не видел. Я поверил Вике, которая утверждала, что видела идущего Кирилла, и даже закричала с радости.
Единственное, что наблюдал я, это — падение метеорита и вспышку. Откуда я мог знать, что Вике гибель Кирилла просто-напросто померещилась? Это, как вы теперь видите, и не мог быть он, так как он явился живой и невредимый через четверо суток после предполагаемой гибели.
— Как ты объясняешь, что хватило кислорода? — спросил я в упор.
— Да, кислорода было на двадцать шесть часов, а Кирилл дышал им, выходит, девяносто восемь, — добавил Яша.
— Не знаю, — мрачно произнес Харитон, — этого я сам не могу понять. Но не могу же я поверить…
— Почему? — тихо спросила Вика.
— Этого не может быть.
Наступило молчание, такое глубокое, что слышно было дыхание каждого из нас.
— Как это объясните вы? — обратился ко мне Уилки. Я промолчал, собираясь с мыслями. За меня ответил Яша:
— Столь долго ожидаемая встреча с иной цивилизацией. Опять наступило долгое молчание. Харитон первым нарушил его.
— Кажется, твой дядя писатель-фантаст? А мой отец был просто хозяйственник… Неудавшийся ученый. Мать — лесовод.
Вика сделала резкое движение.
— Но Кирилл, хоть и смутно, помнит какие-то существа… или ты ему не веришь?
— При чем здесь не верю! Нарушение психики.
— Может, ты собираешься доказывать, что Кирилл сумасшедший?
Вика не сводила с Харитона взгляда. Он отвел глаза.
— Не обязательно сумасшедший. Кирилл мог бы объяснить вам, как врач-космонавт, что иллюзии сами по себе еще не являются признаком психического заболевания. Иллюзии возникают и у здоровых людей, особенно когда что-то мешает отчетливому восприятию зрительных и слуховых образов.
Разве у некоторых космонавтов при испытаниях на нервно-психическую устойчивость в сурдокамере не появлялось странное и непонятное ощущение присутствия кого-то вот здесь, рядом или сзади за креслом. И даже явные галлюцинации. Когда человек один, когда он утомлен, рассеян, у него бывает состояние ожидания или страха.
Кирилл отстал от меня и заблудился среди кратеров. Человек не машина, не робот, он может утомиться, испугаться, затосковать.
— Даже электронное устройство может устать, — задумчиво сказала Вика.
— Да. Огромное нервное напряжение, когда собственные ощущения вызывают сомнения. Чувства, возникающие при встрече с новыми явлениями, могут оказаться ошибочными. Эмоции отражают мир своеобразно. Наступает сужение сознания. Человек измучен и выбился из сил — мозг получает искаженную информацию.
Кирилл на Луне второй срок. Тяжелая работа в условиях уменьшенной гравитации. Вокруг мгновенно убивающий вакуум, смертельное дыхание излучений. Оторванность от Земли, сенсорный голод, тишина и одиночество… Малейшее упущение обернется трагедией. А отсутствие магнитного поля? Ведь мы до сих пор не знаем, не сказывается ли его отсутствие на физиологических и психических функциях человека. Кирилл как раз всем этим и занимается, как врач-космонавт. По существу, мы еще не знаем, готов ли человек к длительному общению с космосом — его тело, его мозг, его психика. Но это дело нашей жизни — изучать космос, дело, которое мы любим и без которого не можем жить. И вот теперь представьте, что скажут там, на Земле. Нас же всех отправят в санаторий… в лучшем случае. А кто будет упорствовать — и в психиатрическую лечебницу. И конечно, нас спишут на Землю и никогда больше — слышите, никогда! — не пустят в космос. Даже на орбитальную станцию! А мы же космонавты!!! Ты сам, Кирилл, мечтал о Марсе. Вика и Уилки… астрономы. Где еще они получат такие идеальные условия для наблюдений? Яша — кибернетик, специалист по космической аппаратуре. — А я — селенолог. Моя специальность — Луна! И на Луну меня больше не пустят… Только заикнись мы о зеленых человечках с фасеточными глазами.
Неужели это все не ясно тебе, Кирилл? — Харитон вытянул носовой платок и вытер вспотевший лоб и короткую шею, хотя в обсерватории было холодновато, как всегда в лунные ночи. Он с надеждой смотрел на меня.
— Я — ученый, — сказал я просто, — кислороду было на двадцать шесть часов, а я дышал им девяносто восемь. Я видел фиолетовый шар. Я отсутствовал четыре дня. Где я был? Я должен понять, что это все значит.
— Не было никакого фиолетового шара, — устало возразил Харитон. Уилки положил перед ним радиограмму с американской базы, ту, что он показывал мне ночью. Харитон прочел и пожал плечами. Лицо его омрачилось.
Яша взял радиограмму и, прочтя, передал Вике.
— Что ты теперь скажешь? — спросил я. Харитон зло усмехнулся.
— Начитались фантастики, им уже лет сто «летающие блюдца» мерещатся.
Харитон решительно поднялся из-за стола, давая понять, что обсуждение закончено.
— Что касается Кирилла… я, как начальник экспедиции, считаю, что по состоянию здоровья он должен быть отозван на Землю. Сегодня же я отошлю рапорт.
— Это нечестно, Харитон! — гневно воскликнула Вика.
— Сотрудники обсерватории передадут свое объяснение, — сказал Яша и направился к двери, не взглянув на Харитона.
— Завтра у всех выходной день! — крикнул вдогонку Харитон. — По случаю Дня Всепланетного Объединения будет разговор с родственниками.
Мы вышли вслед за Яшей. Молча… Итак, на первой инстанции бой был проигран.
Вечером мы собрались в библиотеке — все, кроме Харитона, который сердился на нас, — и составили свою докладную в космический центр.
Яша тут же пошел и передал ее на Землю.
Покончив с делом, мы долго сидели и разговаривали, как-то особенно сблизившись, когда единодушно «сожгли корабли».
Уилки сказал:
— Кирилл, я не могу понять одного… если Вика видела, что ты погиб от метеорита… прости!
— Я спокоен.
— Так вот, тогда это погиб твой двойник? Кто он был?
— Не знаю. Луну необходимо обследовать очень тщательно. И в самом срочном порядке. Ту сторону Луны. Ведь если там укрываются эти существа… то у них тоже должна быть какая-нибудь «база». Укрытие.
— Я говорил с нашими ребятами, — сказал Уилки. — Они как раз собираются это сделать. Пожалуй, я сам недели на две прерву свою работу здесь и вместе с пилотами займусь поисками.
— Вы думаете… — начала Вика и нерешительно умолкла. Но астроном ее понял.
— Фиолетовый шар — это реальность установленная, поскольку его видели с двух баз. Я считаю, что это инопланетные существа, которые предпочитают до поры до времени наблюдать, слушать. Но они еще покажутся… всем Харитонам мира.
Уилки задумчиво взглянул на меня.
— Мне, друзья, не дает покоя мысль о двойнике Кирилла. Мисс Виктория, вы хорошо его разглядели тогда?
— Конечно хорошо! Он тоже увидел нас и поднял руку в знак приветствия. Я даже успела заметить, что Кирилл шел устало, как будто силы его были на исходе. Я закричала от радости и бросилась навстречу ему, но Харитон перегнал меня. Он отчетливо его видел… а теперь лжет! И вдруг метеор! Я никогда не забуду этого ужаса. — Вика побледнела при одном воспоминании.
— Кирилл — здесь, Вика! — напомнил ей Яша. Я взглянул на друга. Меня поразила непонятная интонация, с которой он это сказал. Как будто ему было больно.
— Значит, погиб Кирилл, — уточнил Уилки, — либо его двойник? И здесь с нами сидит либо Кирилл, либо его двойник.
— Это — Кирилл, — сказал Яша уверенно, — теперь я уже знаю, что Кирилл.
— Кирилл! — как эхо, повторила Вика. Они оба, хотя и радовались моему возвращению, довольно долго сомневались.
— Дело в том, — продолжал серьезно американец, — что я однажды видел своего двойника… То есть он не был мною, астрофизиком Уилки Уолтом, он был Уилки Саути, артистом и мимом, но он как две капли воды похож на меня — или я на него.
— И тоже — Уилки? Удивительно! — прошептала Вика.
— Расскажи, — заинтересовался я.
— Расскажу… — обещал Уилки, — но сначала… что было странным. Если бы просто два Уилки. Ведь я тоже артист. Самой большой радостью для меня со школьных лет были любительские спектакли, концерты. Самодеятельность, по-вашему. И я не раз выступал на университетских вечерах как мим. Выступал, будучи студентом, бакалавром наук, выступал и когда стал доктором наук, профессором. И поверьте, с большим успехом.
Декан факультета не раз шутил, что если я разлюблю астрономию, то у меня есть запасная профессия.
А Уилки Саути… он был мим. Этим он зарабатывал свой хлеб насущный. Но всю свою жизнь он до страсти увлекался астрономией.
— Расскажите с самого начала все подряд, — прервала его Вика.
— Я расскажу, но… может быть, сначала показать вам, к а-
к и м я увидел своего двойника?
— У вас есть фотографии? — спросил Яша.
— Нет. Я просто исполню несколько сценок… если вы расположены смотреть?
Мы заверили, что расположены.
— Тогда я минут на десять скроюсь в своей кабине, — сказал Уилки, поднимаясь, — а вы идите в кают-компанию.
Несколько огорошенные, мы перешли в кают-компанию. Там сидел Харитон и читал — в углу, возле светильника. Сегодня никому не работалось.
Яша нажал кнопку, и большой стол опустился вниз, после чего пол медленно сомкнулся. Мы заняли места в креслах. Харитон с удивлением взглянул на нас. Вика сочла необходимым пояснить:
— Канун праздника… Уилки покажет свое мастерство мима. Он, оказывается, не только поет!
Харитон угрюмо промолчал. Кажется, он раскаивался, что отослал рапорт. Как практический человек, он понимал, что отозван буду не я один. Отныне вряд ли кому разрешат оставаться на Луне на второй срок. Яша невольно вздохнул. До чего же не праздничное было у всех настроение.
Вошел Уилки в черном шелковом трико и гриме клоуна: мрачное набеленное лицо. В руках он держал несколько пластинок. Яша поспешил включить электрофон.
— Это Стравинский… «Петрушка», — пояснил Уилки. — Готовился выступить перед вами на праздник, но захотелось сегодня. Кстати, несколько поднимем настроение. Итак: «Петрушка» в исполнении клоуна и мима Уилки…
Едва Уилки начал свой номер, как мы невольно переглянулись: какой талантливый мим пропадал в этом астрономе.
Ну, музыку Стравинского все знают, но если бы видели этого Петрушку!
Кукла, игрушка, которой управляют руки кукольника. Нет своей воли, нет свободы движения. Короткие сценки для ярмарок, быстро сменяющие одна другую, — наивные, смешные, примитивные. И вот сквозь незамысловатую игру начинает просвечивать нечто совсем иное — свое — свои чувства, свои ощущения, не зависящие от кукольника, возникающие вопреки ему. Если это кукла, то почему в ней столько человеческих страстей… как она вырывается из рук кукольника. Но ведь это же человек, превращенный в куклу!
Уилки был прекрасен — худое, удивительно выразительное тело в черном трико с круглым белым воротником рассказывало, жаловалось, протестовало. Рот расплылся в нарисованной улыбке, темные брови застыли в трагическом изломе. Он сразу и плакал, и смеялся, и бунтовал.
Полное слияние души и тела!
Трепещущий, беззащитный человек восстал против своего мучителя. Уилки застыл, перегнувшись пополам, — рассерженный кукольник сломал игрушку.
Мы все вскочили, очарованные, восторгались, перебивая друг друга. Даже суховатый Харитон поднялся и высказал несколько одобрительных слов. Вакула спокойно стоял у двери, он вошел еще раньше и тоже смотрел Петрушку. Интересно, бывает ли роботу скучно? Вакуле нравится быть вместе с нами.
Улыбающийся, довольный Уилки попросил нас сесть и исполнил еще несколько номеров. В заключение, хотя он и устал, Уилки еще раз, по нашим просьбам, повторил «Петрушку».
— Вы же большой артист! — воскликнула покоренная его искусством Вика.
— Это мое хобби, — пояснил астроном, пожав плечами. После «Петрушки» не хотелось уже смотреть ничего. Уилки принес бутылку шампанского, и мы ее распили. Уилки уже не пошел переодеваться — так и сидел в черном трико с белым воротником. Только причесал взлохмаченные волосы и стер с лица белила.
— Как раз «Петрушку» я заимствовал, — признался он, — от своего двойника.
— Мы ждали истории, — напомнил я.
— Да. Я должен вам ее рассказать. Не уходите, Харитон.
— Я не ухожу. Что это еще за «двойник»? — нахмурился Харитон.
— Если бы я знал! — Уилки вздохнул. Лицо его омрачилось. — Жизнь моя очень благополучна, — начал он как-то даже удивленно. — Я всегда имел возможность заниматься только тем, к чему лежит моя душа. Родители мои — люди богатые. Отец — судовладелец в штате Мэн, мать — дочь банкира. Я рос единственным ребенком. И мне ни в чем не отказывали. Влечение к науке проявилось у меня очень рано. Мне было десять лет, когда мне подарили телескоп, которому позавидовала вся школа, начиная с директора. Ребята любили приходить ко мне, наблюдать небо. Я давал объяснения в пределах популярной литературы по астрономии. Два раза я пожелал перешагнуть через класс, мне тотчас наняли репетиторов. В Калифорнийском университете, где я был младше всех, меня очень любили. Должно быть, потому, что по натуре я общителен, любопытен к жизни. Увлекаюсь яхтами и лыжами. Пишу маслом и акварелью. Как-то получил первый приз за карнавальный костюм. На студенческих вечерах выступал как клоун и мим, а иногда с песенками, которые сам же сочинял.
Но я всегда умел организовать свое время, как это у вас по-русски говорится: делу время — потехе час. Коллеги говорят обо мне: одаренный американский мальчишка, который никогда не станет взрослым. Может, это и так, но в тридцать четыре года я уже профессор, астрофизик.
У меня замечательная жена, хорошие дети, верные друзья. И, насколько мне известно, нет врагов. Никогда я не жаловался на здоровье, не испытывал финансовых затруднений.
Я — счастливчик! Даже когда я захотел поработать на Луне…
— И то вам удалось, — вставила Вика, усмехнувшись.
— Да. Мне и это удалось. И все же однажды в жизни мое душевное равновесие было нарушено… И кажется, навсегда.
Уилки замолчал. Мы в ожидании смотрели на него.
— Простите, я пойду переоденусь, — вдруг поднялся он.
— Но вы доскажете? — нетерпеливо спросил я.
— Да, конечно. — Астрофизик ушел.
— Он красив, правда? — заметила Вика. Мы охотно согласились, что он красив и вообще славный человек.
— И большой ученый, — добавила Вика. — Его работы имеют мировое значение. Он открыл несколько планет — у летящей звезды Бернарде, кроме того, Уолт выдающийся специалист по фотографической астрономии.
— Типичный буржуазный ученый! — буркнул Харитон. — По-моему, он даже в бога верует. К тому же сын миллионера. К его услугам было все. Родился с серебряной ложкой во рту.
— Он католик. Но сотрудничать с ним приятно, — сказала вполголоса Вика.
Вернулся Уилки, пожалел, что нельзя закурить, и сел возле Вики.
— Я люблю Сан-Франциско, — продолжал Уилки, — люблю бродить пешком по его разбегающимся, оглушительно шумным красочным улицам.
Однажды апрельским вечером я забрался в какие-то трущобы. Пахло морем и отбросами… Мне захотелось выпить, и скоро я нашел портовый кабачок. Посетители его были всех цветов кожи, в большинстве матросы, портовые рабочие, механики и наладчики с ближайших автоматических заводов, бродяги по призванию, молодые люди из «строптивых» и легкомысленные девицы, ищущие приключений.
Я сел за столик — едва нашел свободный — и спросил себе, виски. В кабачке было шумно и дымно. На пустой сцене задумчиво перебирал клавиши пианист, но его никто не слушал.
И вдруг стало тихо. Пианист встал и объявил: Уилки Саути, клоун и мим. Все с ожиданием обратились к сцене. Раздались аплодисменты.
Имя — мое, я невольно отметил это. И вот выходит на сцену этот Уилки, в черном трико с белым воротником, без грима, только волосы припудрены.
Разумом я не сразу понял, почему у меня замерло сердце, задрожали руки так, что я расплескал свое виски.
Но в следующие минуты я уже видел: мой двойник! Как бы я сам, только исхудавший, с огромными печальными глазами, трагическим изломом выразительного рта, дергавшейся щекой.
Вот тогда он начал своего «Петрушку». Это была выразительность, граничащая с гениальностью. Ему было место лишь на большой сцене, но я сразу понял, что ему мешало продвинуться. Тик. Он пробегал по лицу, как судорога, захватывая плечо, руки, тело. Петрушке это даже шло, усиливался зловещий рисунок роли, но в других номерах тик явно мешал.
Посетителям кабачка было плевать на тик — они любили своего мима. Как они аплодировали с сияющими глазами, довольные, словно дети, подбодряли его возгласами вроде: «Валяй, Уилки», «Покажи им», «Отлично, астроном!»
Я вздрогнул. За мой столик уже давно подсели два негра в запачканных комбинезонах — видно, зашли прямо с работы. Они громко хлопали в ладоши и тоже подбодряли мима.
— Почему его называют астрономом? — спросил я у негров. Они рассмеялись добродушно.
— А у него винтики не все в порядке, у нашего Уилки. Чуть не весь заработок просаживает на книги по астрономии. Телескоп у него есть, право слово! Он на чердаке живет в этом самом доме, там удобно небо разглядывать. Вам понравилось, как он исполняет? Бо-ль-шой арт…
На этом у парня отвисла челюсть. «Ты что?…» — начал было другой, но взглянул на меня, и лицо его словно окостенело.
— Черт побери! — пробормотал он. — Откуда вы взялись?
— Кажется, мы с ним очень похожи, — растерянно заметил я.
— Похожи?! Да вы с ним как один человек! Только вы, сэр, малость поухоженней, и подергиваний этих нет. Ну и ну! Чудеса, да и только.
— Вы, может, его брат? — нерешительно спросил другой.
— Я впервые в жизни его вижу! — взволнованно ответил я. — Как бы мне с ним поговорить?
— Конечно, вам надо познакомиться, — решили парни. Они тоже разволновались.
— Подождем, когда Уилки Саути освободится.
Когда мим уже уходил, мы его догнали. Негр тронул его за плечо.
— Уилки! Вот этот господин к вам. Вы только взгляните на него.
Негр отступил в сторону. Мим внимательно взглянул на меня и заметно побледнел.
— Уилки! — воскликнул он потрясенно. — Я всегда знал, что когда-нибудь мы встретимся.
— Откуда вы меня знаете? — изумился я, но он уже овладел собой.
— Я не знаю вас. Это меня зовут Уилки. Вы хотели со мной поговорить? Я как раз освободился. Может, поднимемся ко мне?
Я молча последовал за ним, раздумывая, откуда он меня знает и почему счел нужным скрыть это.
Мы поднялись на ветхом скрипучем лифте до верхнего этажа (дом был старый, прошлого века) и еще одолели, лесенку, ведущую на мансарду.
Мим занимал просторную угловую комнату со скошенным потолком. Зимой здесь, наверно, было холодно, а летом слишком жарко. Я сел у чердачного окна и с любопытством огляделся. Хозяин этой убогой комнаты любил чистоту и книги. Пол был выдраен, как палуба у придирчивого боцмана. Занавески выстираны и отглажены. Постель застлана свежим покрывалом. На книгах — их было очень много, стеллажи во все стены — ни пылинки. На столе, застланном листом ватмана, лежала бумага с какими-то математическими расчетами… Рядом лежала раскрытая готовальня, линейка. Глобус Луны. Карта звездного неба. Старенький телескоп… У меня вдруг больно сжало горло.
Я понял, что этот незнакомый мне человек, с которым я встретился так случайно и мог бы не встретиться никогда, как бы представлял мое второе «я». Только жизнь отнюдь не баловала его. Наоборот. Похоже, что жизнь била его смертным боем.
Между тем Уилки Саути поставил на круглый стол бутылку вина, разложил незамысловатую закуску. Принес из кухоньки горячий черный кофе в кофейнике. Налил вино в два бокала.
— Садитесь, — кивнул он на стол, — выпьем за нашу встречу, коль уж она состоялась.
Я присел к столу, мы чокнулись, я отхлебнул из бокала. Он ел, я разглядывал его.
— Какое странное сходство, — сказал я наконец.
— Бывает, — неохотно протянул мим.
— Вы увлекаетесь астрономией?
— Да, очень. Любитель. Самоучка. Однако мои заметки иногда печатают в «Астрономическом вестнике». Как-то даже удалось открыть кое-что на небе, чего не заметили профессиональные астрономы.
— Астрономией увлекаетесь с детства?
— С десяти примерно лет, но у меня никогда не было возможности окончить колледж.
В ту ночь мы с ним проговорили до утра. Уилки рассказал мне свою жизнь. Он был сыном цирковых артистов. Семья музыкальных эксцентриков. С родителями выступали все дети начиная с двухлетнего возраста. Детей было шестеро.
Третьеразрядные цирки, скудная зарплата, кочевая жизнь, семейные неурядицы родителей, отсутствие детства. Рано возникшая страсть к науке и полная невозможность ее удовлетворить. Смерть отца от рака легких, еще большая нужда. Семья эксцентриков распалась. Мать уже работала в цирке билетершей. Дети устраивались, как могли и умели. Жизнь разбросала их в разные стороны, и они потеряли друг друга из вида. Мать умерла лет шесть назад. Только Уилки был при ней до конца. Уилки остался один.
— Расскажите о себе, — попросил он, — о своем детстве, — к вам хорошо относились… родители?
— Я же единственный сын. Конечно хорошо.
Я рассказал о себе. Он слушал жадно, не сводя с меня глаз.
Потом Уилки Саути ознакомил меня со своими работами по астрономии. Он был бы способнейшим ученым, учись он в свое время! Я сказал ему об этом. Он промолчал. Почему-то разговор перешел на политику. Надо сказать, я совсем к ней равнодушен. Все это политиканство не по мне. Но Уилки Саути политика задевала за живое, а мне было интересно все, что касалось его. Он оживился, разрумянился, глаза его заблестели, он стал еще больше похож на меня, каким я вижу себя в зеркале.
По натуре я отнюдь не спорщик, тем более я не мог бы спорить с этим человеком, перед которым я, сам не зная почему, чувствовал себя виноватым. Но мне показалось, что он слишком мрачно смотрит на действительность, и я напомнил ему, как многого добилась Америка за последние два десятилетия.
Уилки Саути усмехнулся.
— За последние десятилетия люди доброй воли добились в глобальном масштабе немалого: покончили с войнами, со шпионажем, утрясли кое-как расовый вопрос. Но ведь у нас в Америке плодами прогресса завладела горстка монополистов. Высшая каста, черт бы ее побрал!
— Какая каста?! — вскричал я, пораженный.
— Вот-вот, астрофизик Уолт даже никогда не задумывался об этом. Ведь у нас, видите ли, не принято говорить о физическом подавлении, репрессиях и тому подобном. Мы не какие-нибудь фашисты, а наш идеал — умеренность и посредственность, с ней меньше хлопот.
И ведь как хитро: народ в большинстве своем даже не осознает своего порабощения — духовного порабощения, что самое страшное. Манипуляция людьми, внушение им надлежащего образа мыслей и поведения. Цивилизация кондиционированного сознания! Подавление духовной самостоятельности. Стандартизация людей, превращение их в жизнерадостных роботов, поглощающих духовные суррогаты. Пока они жуют резинку и глазеют на увеличенный во всю стену телевизионный экран, им вкладывают в мозги что положено. А обработка детей!
— Детей! Какая обработка?
— Обыкновенная, Уилки. Когда на уроках гипнопедии им под предлогом помощи при запоминании таблицы умножения или алгебраических формул на самом деле внушают шаблоны мышления и поведения. А твои дети, Уилки, разве освобождены от часа гипнопедии?
— Перестань!!!
— Хорошо, перестану. Насчет детей ты уже додумался, сам вижу. — Уилки налил себе черный кофе.
— А если человек не желает поддаваться массовой идеологической и моральной обработке, — продолжал он громко, — если человек не хочет конформизма, если он борется против стандартизации человечества? О, тогда поможет наука. Техника чтения мыслей на расстоянии. Кое-кому уже мало подслушивания разговора на расстоянии, им подавай подслушивание мыслей, чтоб сразу выявить смеющих думать по-своему.
— На разве…
— Да, Уилки. Эта дьявольская выдумка уже вводится в действие. Ты что, газет не читаешь? Ведь по этому поводу была огромнейшая демонстрация в Вашингтоне.
— Уилки… ты коммунист? — спросил я нерешительно.
— Коммунист, — просто ответил он.
Так мы разговаривали, пока не взошло солнце. Он пошел меня проводить. Редкие прохожие — те, кто еще не лег или уже встал, — с интересом оглядывали нас. Я увидел свободное такси и подозвал его. Мы простились сердечно, как братья.
— Можно, я к вам еще зайду? — спросил я. Он кивнул головою. Мы вдруг обнялись. Мне очень хотелось пригласить его к себе, но я побоялся, что он откажется. В следующий раз приглашу, решил я.
Но следующего раза не было. На другой день мне пришлось неожиданно вылететь в Лондон на симпозиум по вопросу радиоконтакта с внеземными цивилизациями, на котором присутствовали астрономы, физики, математики, кибернетики. Когда я вернулся, Уилки в Сан-Франциско уже не было. Он исчез.
— Исчез?
— Да. Я зашел в тот кабачок в первый же день по возвращении. Уилки уже не было. Хозяин кабачка был очень расстроен. Или он не хотел мне сказать, или он действительно ничего не знал… Он только сказал, что в комнате Уилки пока все осталось как было, но управляющий хочет сдать комнату и не знает, куда деть такую кипу книг и бумаг.
Может, еще Уилки Саути вернется? Я договорился, что буду платить за его комнату, пусть там останется все как при Уилки, до самого его возвращения. Деньги я уплатил за год вперед, ключ оставил хозяину.
Вскоре я получил это назначение на Луну, о чем давно мечтал…
— Неужели вы не попробовали отыскать Саути? — задал Яша вопрос, который собирался задать я. Астрофизик расстроенно поморгал глазами.
— Я обратился в полицию, там сказали, что, по их сведениям, Уилки Саути выехал по заданию своей партии. Тогда мне это показалось похожим на правду… но сейчас я стал тревожиться.
— А вы не обращались в коммунистическую партию, — спросила Вика, — они-то знают, посылали ли его куда-нибудь.
— Нет, я не догадался… — Уилки Уолт задумался.
Уилки с самого раннего детства стремился только к науке. Политикой не интересовался, ведь ему не мешали заниматься наукой.
Соединенные Штаты остались почти единственной страной, не принявшей социализм. Но и свою капиталистическую сущность его правительству приходилось маскировать в самые лучезарные одежды демократии. Такие люди, как Уилки Саути, это понимали и разоблачали скрываемую Истину порой ценой собственной жизни.
5 СЕ ТВОРЮ ВСЕ НОВОЕ
Что есть время?
Блаженный АвгустинЯ вам говорю о будущей жизни.
Э. ЦиолковскийОн сидел прямо на земле, в порыжелом костюме, развязанном галстуке; шляпу он где-то потерял, и длинные, начавшие седеть черные волосы растрепались, борода всклокочена. Всю ночь он в отчаянии бродил по городу, уходил в поля, а потом, видно, обессилел и уснул, присев.
Какие-то причудливые сны еще клубились в его сознании, но он уже проснулся и, кряхтя, поднялся с земли. От реки тянуло сыростью, ночь была холодная, и он продрог до костей. Надо идти домой. Жена ведь беспокоится. Уже светает. А где же его велосипед, неужели потерял? Человек медленно пошел вдоль Оки.
Пустота и страх на душе, а мысли заняты лишь одним — теорией, которая никому не нужна.
Но ведь будет же когда-нибудь нужна! Просто он опередил свое время — лет на триста, на пятьсот. Оттого он так беспредельно одинок. Не с кем поговорить о самом заветном.
И это вечное замалчивание его трудов, будто их и нет на свете. Полное непризнание. Впору выйти на площадь, поклониться на все четыре стороны и кричать: «Да выслушайте же меня! Я вам говорю о звездах! Как добраться до звезд».
Разве не писал он в Академию наук: «Я буду благодарен за самую малую помощь, оказанную мне Академией. Не пренебрегайте этой моей смирённой просьбой, ибо одна мысль, что я не один, дает мне нравственные силы немедленно приняться за подготовительные работы и с божьей помощью окончить их…»
Птицеподобная летательная машина. Аэродинамические опыты. Постоянные мысли о космосе. Нельзя ли использовать энергию Земли? Его работу «Тяготение как источник Мировой энергии» замолчали, как и другие его работы.
У них чины и звания, авторитет и известность, что он для них? Чудаковатый учитель из провинции, самоучка в науке, глухой и жалкий. Конечно, он жалок: эта унизительная нужда, постоянное недоедание, грызущее чувство вины перед женой и детьми. Он не мог даже внести членского взноса в кружок любителей физики и астрономии… пришлось выйти. Опять остался один.
Сколько бы он сделал, будь у него хоть мало-мальски сносные условия для работы.
Он-то знал, во имя чего жил и работал!
…Какой странный, какой дикий сон ему сейчас приснился. Что же, может, где-либо в космосе и живут такие существа. В своем очерке «Свободное пространство» он писал: «Нет ничего невозможного в предположении, что эти пространства населены крайне странными для нас существами».
Марситы? Бесконечности времен рождают непонятные друг другу Миры. Далекие, прекрасные, загадочные Миры.
Полет к звездам… неужели он один на всей Земле мечтает об этом? Никто не хочет разобраться в его идеях. Атомные электрические ракеты! Но их час пробьет. Квантовый генератор света… Квантовый двигатель… Еще не испытанный, не построенный.
Он знает, что интуиция его безошибочна. О, грядущие поколения, может, хоть вы оцените мой труд? И помянете добрым словом того, кто был не признан, одинок и гоним при жизни?
Он лишь скромный ученый XIX века, но его мысли неоднократно крали, и даже на других континентах. И никто не встал на защиту его авторских прав.
Уже всходило солнце — он еще не подозревал какого дня, — одна за другой просыпались птицы, ветер шумел в липах. Он шел домой, ничего не слыша, не замечая, погруженный в горькие мысли.
Как он написал в газету… Он помнит эти слова почти наизусть, потому что воистину они написаны кровью сердца: «Я не работал никогда над тем, чтобы усовершенствовать способы ведения войны. Это противно моему христианскому духу. Работая над реактивными приборами, я имел мирные и высокие цели: завоевать Вселенную для блага человечества, завоевать пространство и энергию, испускаемую Солнцем. Но что же вы, мудрецы, любители истины и блага, не поддержали меня? Почему не разобраны, не проверены мои работы, почему не обратили, наконец, на них внимания? Орудия разрушения вас занимают, а орудия блага нет.
Когда это кончится, пренебрежение мыслью, пренебрежение великим? Если я не прав в этом великом, докажите мне, а если я прав, то почему не слушаете меня… Акулы распоряжаются и преподносят что и как хотят: вместо исследования неба — боевые снаряды, вместо истины — убийство».
Он подошел к своему дому — небольшому домику с мезонином — и хотел постучать, но дом был заперт. Дом выглядел необитаемым. Он был… свежевыкрашен? На нем была мемориальная доска… В свете взошедшего солнца ярко блеснули буквы: дом-музей…
«Боже, я еще сплю?» Это был дом-музей его имени.
В этот день — 10 июля 2009 года — многие заметили растерянного, выбившегося из сил пожилого бородатого человека в немыслимо старомодном сюртуке. Он едва держался на ногах, но все куда-то шел. Впрочем, он иногда поворачивал и шел обратно. Черные глаза его выражали полную растерянность.
Группа молодых людей — они возвращались с завода электронной аппаратуры — остановила его.
— Отец, вам плохо?
— Может, вы больны… или беда?
— Не можем ли мы помочь вам? — сочувственно обратились они к нему. Вопросы пришлось повторить: незнакомец был глуховат.
— Помочь мне? Можете. Спасибо. Я еле держусь на ногах. Мне необходимо где-то отдохнуть… Я голоден. У меня нет ни денег, ни знакомых.
Один из рабочих хотел разъяснить, как пройти в бесплатную столовую. Имелись и бесплатные гостиницы. Надо было проехать на метро до… Но его товарищ, длинноногий, рыжеволосый, веснушчатый юноша, резко остановил его.
— Он не доедет, он же скоро упадет! Идемте к нам ночевать, у нас есть… свободная комната. Это неподалеку. Вы дойдете.
Простившись с приятелями, молодой человек — по имени Дан Боцманов — повел незнакомца к себе.
Дан жил вдвоем с матерью в висячих домах. Огромные многоярусные кварталы покоились на железобетонных устоях, в которых размещались лифты, лестницы, коммуникации.
Они поднялись на скоростном лифте, прошли немного мостом — далеко внизу зеленели луга, ради сохранения которых и были подняты дома вверх, — опять поднялись на лифте и очутились в пятикомнатной квартире, очень чистой и уютной. Шелковистые обои стен, прозрачные гардины, мебель и пол были выдержаны в мягких акварельных тонах.
Их встретила заплаканная моложавая женщина с грустными карими глазами и густыми светло-каштановыми косами, уложенными вокруг головы. Одета она была небрежно — зеленый халатик, застегнутый не на все пуговицы. Она с удивлением взглянула на сына с его странным гостем.
— Мама, потом объясню, — вполголоса сказал Дан, — этот человек едва держится на ногах. Он нуждается в друзьях. Пусть переночует в папиной комнате. Он голоден и, кажется, не спал.
Мать кивнула.
— Так ему надо прежде всего поесть! Идите в столовую. Дан показал гостю, где вымыть руки, и провел его в столовую, с видом на Оку. Мать поспешно ставила третий прибор. Усаживая гостя, Дан решил представиться:
— Меня зовут Даниель, покороче» Дан, а маму — Поплия Михайловна. Очень редкое имя, правда? Простите, а ваше имя?
Гость тяжело опустился на стул и промолчал. Дан не решился повторить вопрос. Поплия Михайловна с приветливой улыбкой поставила перед пришельцем суп. Он сумрачно стал есть. Съел все, что ему подали. Выпил стакан крепкого чая. Ему стало легче. Он горячо поблагодарил радушных хозяев, потом долго молчал. Мать и сын убрали со стола и сели рядышком на низком диване. Чувствовалось, что они очень дружны.
— Не знаю, как мне быть, — растерянно обратился к ним гость, — со мной произошла очень странная история. Совершенно невероятная… Этого не может быть, понимаете? Я сам не верю. Мне все кажется — это сон и я вот-вот проснусь. Однако если мне не поверят, я почувствую себя оскорбленным… Мне будет больно.
— Так не рассказывайте, пока все не прояснится, — добродушно посоветовала Поплия Михайловна.
— Я даже не могу назвать свое имя… Это вызовет недоумение, вопросы… У меня голова кружится.
— Вы не волнуйтесь. Сейчас мы приготовим вам постель, и вы ляжете. А насчет имени… если вам по каким-либо причинам не хочется его называть, так и не называйте. Придумайте какое хотите.
— Тогда зовите меня… гм! Ну хотя бы Игнатий Константинович… Иванов. Пусть так. Если я не проснусь, то Ивановым и останусь. Тогда мне надо будет подыскать себе работу. Как это у вас делается?
— А кто вы по профессии?
— Ученый… физика, астрономия, космическая связь. Всю жизнь я этим занимался. Но… видимо, в этой ситуации… отстал. Необходимо несколько месяцев, чтоб войти в курс. А пока… любая работа. Я к тому же, сударыня, глух.
— На какой почве глухота? — спросила погромче Поплия Михайловна, отметив этот невероятный архаизм: сударыня.
— Еще в девять лет после скарлатины.
— Можно сделать протезы… совсем незаметно будет. А может, понадобится операция… Разве вы не обращались к врачам?
— Очень давно.
— Последнее десятилетие принесло огромные успехи в этой области. Я завтра свезу вас к врачу, и вам помогут. Я сама врач. Невропатолог и психолог. Но временно не работаю. Не могу. У меня… большое горе. Погиб мой муж.
— Мама! — Дан обнял мать. — Не надо, только не плачь!
— Я не плачу, Дани. Мой муж был космический сварщик, механик. Погиб при освоении Марса. Эта планета трудно поддается освоению… Вам плохо?
Игнатий Константинович поднялся со стула, губы его дрожали. Что его так потрясло?
— Идемте, я вас отведу в комнату отца, — мягко сказал Дан. — Вам надо уснуть.
— Разве я усну? Боже мой!
— Уснете, мама принесет вам успокаивающее.
Утром Игнатий Константинович проснулся свежим и успокоенным. Поскорее оделся. «Сон продолжается», — подумал он, осматривая непривычной конструкции мебель, матовую облицовку стен, непонятно из какого материала. Он подошел к окну. Необозримые дали — непривычно огромный горизонт — река, рощи, луга, причудливые постройки… Он взглянул на календарь. Прошло более ста лет!.. Значит, его признали. Признали при жизни… Дело не в этом. Освоение Марса, Луны. Мечты его сбылись. Но нет ни жены, ни детей. И сам он похоронен 19 сентября 1935 года… Видеть дату своей смерти? Кому же можно об этом рассказать?
Все-таки умер победителем. Но почему же он здесь, каким образом? Ах! Не все ли равно! Главное в том, что ему дано увидеть Будущее. Может, за его страдания.
Он вышел из комнаты, собранный и энергичный, сгорая от нетерпения увидеть, чего достиг этот Мир. Дана уже не было дома, ушел на завод, где он проходил студенческую практику. Поплия Михайловна накрывала на стол. Она внимательно оглядела незнакомца и, кажется, осталась довольна его видом.
Наливая после завтрака чай, Поплия Михайловна сказала раздельно и громко, чтоб он расслышал:
— Я не знаю, откуда вы, и не хочу спрашивать, пока вы не найдете нужным рассказать. Но, насколько я поняла, вы не знаете наших порядков, самой обычной техники. Вы… словно выходец из другого времени. Вы не можете пока жить один. Так вот, Игнатий Константинович, вы нам не мешаете нисколько. Поживите у нас, пока освоитесь. Все равно кабинет мужа пуст…
— Я так благодарен вам, Поплия Михайловна! Но… я же должен зарабатывать себе на хлеб насущный. Где мне лучше найти работу?
— Хлеб у нас бесплатный. Есть бесплатные столовые. За деньги у нас лишь предметы роскоши, импортные фрукты, вино. А то, чем вы собираетесь заняться — войти в курс наук, — это ведь тоже работа, и очень нелегкая. Иногда ученые меняют по каким-либо мотивам свою специальность, запираются на некоторое время в библиотеке, лаборатории, чтоб «войти в курс», как вы говорите. Общество это очень одобряет.
— Почему?
— Самые поразительные открытия были на стыках наук. А когда вам понадобится, вы имеете право поработать в лаборатории.
— Даже я… неизвестно кто и откуда.
— Неважно. Любой человек имеет право на место в лаборатории, приборы, если он чувствует, что может что-то дать науке, человечеству.
— Каждый? Простите, а коли он бездарен?
— Случается, что кто-либо переоценивает свои способности, — общество дает ему возможность убедиться в этом. Самостоятельная работа быстро это выявляет. Тогда ему помогут найти свое истинное призвание. Но обычно у нас работают коллективом. Директора проходят по конкурсу — любой может предложить свою кандидатуру, — решает тайное голосование. У нас никого нельзя навязать насильно. Вы еще разберетесь во всем этом. А теперь — пойдем в клинику.
Поплия Михайловна по-матерински улыбнулась и поднялась из-за стола. У нее были очень добрые и какие-то беззащитные глаза.
— В клинику? — неуверенно переспросил Игнатий Константинович.
— Вам же мешает глухота? Значит, надо от нее избавиться.
…Мир был полон звуков. Плескалась вода в реке, кричали птицы, носясь над черными гнездами, шуршали последние листья, шумел ветер. Потрескивала галька под ногами, смеялся ребенок, откуда-то доносилась тихая песня, гудки пароходов, лай собак, чириканье воробьев, отдаленный гул самолета. По движущимся тротуарам барабанил дождь, вскипая пузырьками, — милые голоса Земли, Слышать их было счастье. Если бы услышать голос Варварушки! Если бы она только знала, что с ним произошло.
Ему предложили операцию. Он согласился. Совсем не было больно. Лишь потом, немножко. Теперь бы он мог беседовать с друзьями, не заставляя их напрягать голосовые связки, с детьми… С Варварушкой. Больше всего он тосковал по жене.
Отвлечься помогала жизнь — новая, непонятная, быстротечная, деловито-радостная. Понемногу он знакомился с ней, тут же забывая о том, что узнал, чему мельком удивился или обрадовался. Его целиком захватила наука. Физика ушла так далеко вперед, породила столько самостоятельных дисциплин, о которых он и мечтать не мог, хотя смутно их провидел. Астрономия, — теперь уже и нейтринная астрономия, — пугала, жгла воображение. Сверхновые звезды, умирающие звезды, звезды второго поколения, звездные населения, нейтронные звезды. Фотоны большой энергии, антивещество, разбегающиеся галактики. Сталкивающиеся, взрывающиеся голубые галактики. Квазизвездные источники, радиоизлучения — квазары, удаленные от нас на миллиарды световых лет, обладающие неслыханной и невообразимой светимостью. Отголоски Большого Взрыва. За последнюю четверть века люди узнали о Вселенной больше, чем за всю историю человечества.
И со всем этим ему предстояло ознакомиться — и как можно скорее, — сжигало нетерпение знать.
Комната завалена книгами. На стеллажах, столах, стульях, прямо на полу. Фундаментальный труд по ракетной технике, курс общей физики Ландау, теоретические труды Эйнштейна, Нильса Бора, Петра Капицы, Николая Козырева. Книги и статьи современного гениального астрофизика Уилки Уолта, создателя темпоральной физики. Очень интересная, хотя написанная в основном языком формул, книга астрофизиков Марка Русанова и Николая Черкасова «Физическое свойство времени». Увидеться бы с ними и поговорить!!! Но он еще не готов к этому разговору.
Горы журналов со статьями: проблемы, дискуссии, гипотезы.
Далеко за полночь. В раскрытую фрамугу вливается морозный воздух. На ярко освещенном пластмассовом столе карта Луны. Оба полушария!.. Всю жизнь он ломал себе голову над тем, как выглядит Луна с той стороны. И вот — Море Москвы, горы, кратеры.
Кратер Циолковский — еще недавно действовавший вулкан. На его наружных склонах застыли потоки лавы. Побывать бы на Луне… на Марсе, прежде чем умереть. Может, он еще и добьется этого, раз уж очутился здесь? Надо работать, скорее работать. Но в работе ли одной дело? Тревоги современного человека, его вопросы, мечты и радости — что он знает о них? Что у него общего с ними? Тоска по звездам? Что даст он им? Может ли он что-то им дать? Не он ли скорбел, что опередил свое время? Чудо перенесло его к ним.
Так что же именно он принесет им? Себя самого — свои чувства, мысли, идеи, свое «я». Каждый человек незаменим и нужен, особенно тот, кто имеет что сказать — свое! Тайный, непостижимый, неповторимый мир личности — высший дар людям.
Игнатий Константинович снова склонился над книгой Русанова и Черкасова. Смелые создатели ее тоже, видимо, далеко опередили свое время. Из журналов и газетных подшивок Игнатий Константинович уже знал, что труд этот до сих пор не всеми понят, при оценке его возникали весьма бурные разногласия. Соавторы, начиная с загадки асимметрии (ньютоновская механика приписывала природе полную симметрию, тогда как на самом деле природа обнаруживает явную и по-своему закономерную асимметрию), переходили к вопросу, который задавали еще Блаженный Августин, а до него Аристотель и Платон: «Что есть время?»
Превращение времени в энергию, конкретная, выраженная в точных формулах связь между временем и энергией.
Время как энергетический резервуар? Игнатий Константинович сам много и упорно думал о времени в связи с распространенной тогда теорией тепловой смерти Мира, энтропии.
Игнатий Константинович противопоставил этой зловещей теории идею вечной юности Вселенной — рождение новых галактик на смену угасающим. Годы неустанных мучительных размышлений, когда физика еще не давала данных для подкрепления идеи фактами. Только физика XX столетия — качественно иная — могла породить эту безумную — дерзкую книгу. И все же… перечитывая некоторые главы, Иванов (пусть будет Иванов, раз он того пожелал) понял, что и сейчас, в XXI веке, наука все еще не имела полностью этих данных. Изумительная теория эта находилась еще в первоначальной стадии своего развития, еще ждала тех, кто завершит ее.
Ночь текла, будто ее выливали из синего кувшина.
Итак, скорость потока времени имеет знак плюс или минус, и знак этот меняется при изменении направления счета времени. Время способно высвобождать заключенную в нем энергию. Выходит, что в самой подоснове времени хранится неограниченный резерв энергии?
Вот что ждало своего открывателя: закон движения в искривленном Пространстве Времени. Вся суть, видимо, заключалась в тесной связи между односторонним ходом времени (односторонним ли?) и асимметрией левого и правого…
Зависимость между временем и энергией… Но ведь зависимость энергии с временем не может быть односторонней… Значит, при каких-то условиях (каких?) возможен и обратный переход энергии во время?
Познание энергии времени — вот что откроет человечеству силу, способную осуществить полет к звездам… быть может, мгновенный!!! Должен же быть способ управления временем, способ извлечения из него энергии — по желанию человека.
Ночь текла, как расплавленная лава, сжигая часы на своем пути. Еще один рассвет. За окном бесшумно падает легкий и пушистый снег. Ока затянута синеватым льдом. Как быстро льется время!
Игнатий Константинович стоял у окна и смотрел, как в лиловатом рассвете падали крупные хлопья снега. Он совсем забыл, что надо бы поспать, что силы его небеспредельны. А когда он берег себя?
Странные, страшные мысли будоражили его. Конечно, если может взрываться материя, вещество, то почему не может взрываться пространство и время?
Непреложный закон теории относительности гласит: ни одно тело с ненулевой массой не может достигнуть скорости света, тем более превзойти ее.
Ну, а если… скачок?
Звездолет двигался бы со сверхсветовой скоростью и имел бы мнимую массу. Псевдовещество!!! Вот чем стал бы (на это время?) звездолет.
Разрывы пространства… Склеивание частей, отдаленных друг от друга миллиардами световых лет. Процесс, конечно, катастрофический… Сверхвзрыв… Но… если бы… Получить хотя бы косвенную информацию о сопряженных Мирах. Открытый, хотя и жуткий, путь в забесконечность.
Но как можно искусственно деформировать свойство пространства и времени? Только одно: сильные гравитационные поля. И человек полетит к звездам, хоть поперек времени!
Будущее, несомненно, решит эту сверхзадачу. Какое счастье, что он не пришел слишком поздно, к шапочному разбору, а в самый раз, чтоб самому принять в этом участие.
К столу! Надо работать. Как мало сделано, как медленно он подвигается вперед, а время льется так быстро. Если бы немного замедлить время. Время!
6 ВЕК УХОДИТ, ВЕК ПРИХОДИТ
А там своя, иная даль.
А. ТвардовскийПодлетая к Москве, Рената настолько волновалась, что, когда самолет пошел на снижение и она увидела Москву с высоты — золото и пурпур осенних парков и блеск стекла на солнце, у нее на мгновение потемнело в глазах.
Рената очень любила Москву. Уезжая, она знала, что всю жизнь будет возвращаться в Москву и грустить, что не может в ней жить, но она никак не могла предполагать, что вернется так скоро и через столько лет. Она понимала, что, как и родное Рождественское, Москва должна измениться неузнаваемо, что это будет иной город с иными людьми.
Город, огромный, разлившийся, как океан, почти вплотную подступивший к таким городам, как Владимир, Рязань, Тула, Калуга, Тверь. В то же время бережно, как и исторические памятники, были сохранены рощи, леса и перелески, реки и озера. Порой, чтоб сохранить зеленую рощицу или заливной лужок, город взбирался на высокие ажурные мосты и повисал под облаками, как голубой мираж.
Рената жадно приникла к окну, а внизу, все приближаясь, мелькали башни, купола, мосты, непонятные геометрические конструкции, что-то яркое, слепящее, и только рощи были как рощи, как тысячи лет назад.
На аэровокзале она спросила кого-то, где справочная, ей показали на длинный ряд пластмассовых разноцветных кабинок. Там было что-то вроде телеэкрана с клавишами внизу и вращающаяся круглая табуретка.
Рената села и неуверенно нажала первую клавишу. На экране возникло приветливое девичье лицо.
— Мне бы… гостиницу… — запинаясь, выговорила Рената. Девушка на экране кивнула.
— В каком районе?
— Можно в центре?
— В прежнем центре? Там старые гостиницы, нет таких удобств. Обычно все хотят… «Россия» вас устроит?
— Спасибо. Это где?
Девушка посоветовала взять электромобиль и, пожелав удачи в столице, исчезла.
В электромобиле Рената немного успокоилась. Она опустила стекло и невольно отметила чистоту воздуха. Словоохотливый водитель всю дорогу рассказывал ей о Москве. Он еще помнил старые такси.
— Вымирает моя профессия, — вздохнул водитель, — переходят на автоматическое управление. Но на мой век хватит: не всякий доверится автомату, некоторые просто не терпят автоматы. Взять хоть мою жену: будет опаздывать, а на автомат нипочем не сядет… троллейбусный парк у нас целиком автоматический, так она больше не ездит троллейбусами. Она у меня в Институте Личности работает лаборантом.
— А что это за институт?
— Ну, если кто почувствует себя несчастным, или своей жизнью не удовлетворен, или недоволен чем — туда обращаются.
— И им помогают?
— Ну а как же! Иногда человеку кажется, что он способен на нечто большее, чем то место, что он занимает в жизни. Жизнь-то ведь одна. Страшно, если проживешь ее, не использовав всех своих сил, ума и способностей. Вот он и идет в институт и требует себе труда по способностям, чтобы полностью проявить себя. Вы не возразите, если я закурю? Да, так Институт Личности!.. Там ведь лучшие психологи, врачи, педагоги, экономисты, социологи — самые крупные специалисты по кадрам.
— Простите… А вы удовлетворены вашей работой? Вы сами обращались когда-нибудь…
Водитель рассмеялся.
— Так и ждал от вас этого вопроса. Меня несколько раз товарищи выдвигали в начальство, но я каждый раз сбегал к своей баранке, к своим пассажирам. Вы на время в Москву или совсем?
— Хочу жить в Москве.
Водитель лукаво взглянул на Ренату. Пожалуй, ему было не менее семидесяти.
— Что-то не по-современному. Сейчас больше норовят на лоно природы — лес, горы, море, реки. На стройки в океане многие едут. Молодежь ныне больно строгая пошла. И это не так, и то не так. Осуждают нас, стариков. Можете себе представить? Мебели лакированной не признают. Роскоши им не надо. Одеваются как-то строго. Вкус к простоте у них. А уж нетерпимые! Нам/ бывало, какую пьесу ни покажи, раз заплатил деньги за билет — сядешь и смотришь. А они, если не понравится, сразу уходят после первого действия. Как-то мы со старухой одни на весь зал остались. Пришлось тоже уйти: что ж артистам, для нас одних играть? Рассердился я тогда сильно. Спрашиваю внука Владлена, чем же плоха пьеса? Ни одной, говорит, свежей мысли.
Я читать люблю. Всю жизнь собирал библиотеку, думал, внуку оставлю. Подарил ему еще при жизни, все равно вместе, живем. Так он больше половины книг выкинул, тоже, значит, своих мыслей нет…
Вы не видели нового центра? Любопытно взглянуть, если не видели. Дома все в воздухе, вроде как на мостах, а внизу лужайки, каналы, розы цветут.
Ну, вот и приехали. Всего вам доброго. Желаю подобрать работу по душе. А если на душе смутно, идите в Институт Личности прямо к моей жене, она направит к кому следует. Спросите Катерину Михайловну, вам сразу укажут.
Водитель улыбнулся, хотел что-то еще посоветовать, но кто-то уже поспешно садился в электромобиль.
Рената вошла в гостиницу. Ей дали одноместный номер на шестом этаже. Чистая квадратная комната, довольно уютная, с окнами в сторону Кремля. Одна стена превращена, в экран для телевизора — матовое выпуклое стекло, сбоку масса клавишей, переключателей. Можно подключиться к любому театру или концертному залу.
Рената постояла у окна — там внизу текли сплошным потоком яркие обтекаемые машины и толпы людей, они словно завихрялись в конце площади. Подошла к телефону с небольшим экраном — звонить было некому — и бросилась на постель, лицом вниз. «Одна во всем Мире!» — с отчаянием подумала она и всплакнула. Не будет ни отца, ни друзей, ни ее современников…
Потом Рената встала, умылась, привела себя в порядок. Грустить не очень хотелось. Ей было едва за двадцать, а за окном шумела Москва 2009 года.
Рената спустилась на лифте вниз, подумав, дала телеграмму Симонову. Она дошла пешком до улицы Горького. Какая широкая… Что они, раздвинули дома? Незнакомая улица и облик толпы незнакомый. Не только мода другая, но и выражение лиц другое: как они свободно и уверенно ступают по земле в своих ярких, блестящих одеждах.
Рената внезапно остановилась: ее вдруг охватил такой яростный приступ ностальгии, что она чуть не задохнулась, — сжалось горло. Но опять она взяла себя в руки.
— Они, наверно, лучше нас, и тогда я их полюблю. Просто я пока еще одна. Но мне необходимо хоть что-нибудь знакомое, привычное, чтоб отдохнуть от Неведомого.
Рената увидела театральный киоск, афиши и подошла. Интересно, есть ли еще театр Вахтангова, ее любимый театр. Театр был, и шла в нем «Принцесса Турандот». Жаль, что не сегодня, а через два дня. Рената купила билет и спрятала в сумочку. У нее стало легче на душе.
Рената долго бродила по улицам, проголодалась, поужинала в какой-то маленькой столовой. Ужин оказался бесплатный — за деньги кормили в ресторане. Повеселевшая после скромного, но вкусного ужина, Рената пошла куда глаза глядят — все равно она Москвы не узнавала.
Ходила она долго, уже стала уставать, когда неожиданно у какого-то прозрачного здания, почти сплошь из стекла, прочла огромное красочное объявление: в молодежном клубе Состоится диспут на тему: «Молодой человек XXI века в жизни и литературе». В диспуте примет участие писатель Яков Николаевич Ефремов.
Рената даже вскрикнула от неожиданности. В Рождественской библиотеке было Полное собрание Сочинений Якова Ефремова, и Рената прочла почти все.
Подумать только: в незнакомом мире, таком непонятном, у нее уже был любимый писатель и она сможет его увидеть!
Рената записала адрес и дату выступления. После этого она направилась обратно в гостиницу. Села в троллейбус — без кондуктора и водителя — и доехала почти до дома.
В книжном киоске вестибюля она захватила несколько газет и журналов. Но едва принялась за чтение, как ей позвонили из Рождественского. На экране видеотелефона возникли улыбающиеся лица Симонова и Юры.
— Хорошо хоть устроилась?… — начал Николай Протасович.
— А мы беспокоились! — перебил Юра. Рената заверила, что все в порядке.
— Не забудь, о чем я говорил перед отъездом! — настойчиво напомнил Симонов. (Он наказывал ей никому Не говорить о своей истории до возвращения Кирилла с Луны.)
— Не забуду! — успокоила его Рената.
После этого разговора у нее стало светлее на душе и она уже спокойно принялась за газеты.
«Известия» от 16 октября 2009 года… Передовица целиком была посвящена начинающемуся освоению Марса. В южном полушарии строился советский научно-исследовательский городок. В северном большая обсерватория — английская.
На второй странице была довольно любопытная статья академика Евгения Казакова, где он в популярной форме знакомил со своим проектом создания на Марсе атмосферы, пригодной для дыхания людей. Совокупность средств технических — гигантские станции, нагнетающие воздух, и биологических — создание растительного покрова. Бесконечные пустыни — красноватые пески и сухие глины холмов — должны превратиться в сплошные леса и сады.
Третья полоса отводилась, как отметила Рената, для критики и прогрессивных предложений. Международный отдел номера был посвящен главным образом событиям в Америке. Там началась всеобщая забастовка. Граждане Соединенных Штатов требовали возвращения какого-то мима Уилки Саути, исчезнувшего неожиданно и необъяснимо. По свидетельству жены полисмена, Уилки Саути был препровожден на строительство атомной электростанции в скалистых горах. Рената с интересом прочла биографию мима. Был и его портрет: тонкое, узкое, нервное лицо с трагическим ртом и огромными, печальными глазами.
На следующей странице она прочла статью, оказавшую на нее большое впечатление. Статья была написана профессором, лесоводом, лауреатом Ленинской и Нобелевской премий Т. Лосевой по поводу истребления кедров каким-то незадачливым начальником строительства. Начальника этого уже сняли с работы. Но это был уже не первый случай на окраине страны за последний год, что и встревожило профессора Лосеву. Она напомнила, к какому жалкому оскудению привело безответственное хозяйничанье и узкий практицизм. Вот тогда пришлось решать вопрос о спасении природы на высоком — самом высоком — уровне народами планеты.
Международный форум по предложению Советского Союза принял знаменательное решение внести в конституции всех стран без исключения пункт о защите природы от злых и равнодушных рук. Только после этого началось действительное сохранение всего живого и прекрасного на Земле. Светлые березовые рощи стали как бы храмом, куда приходили подумать в молчании, отдохнуть душою, послушать пение птиц. В статье чувствовался такой гражданский гнев, такая сила возмущения, что Рената пришла в восторг. Вот бы порадовался отец, если б он был жив!
Рената прочла набранные петитом сведения о докторе Лосевой. Она была профессором Московской лесной академии имени Леонида Леонова и директором научно-исследовательского Института Леса. Нобелевскую премию она получила за решение извечной проблемы преодоления временив лесоводстве: Сумела вырастить деревья, растущие так томительно долго — десятилетия, за короткий срок… — несколько месяцев?!
Полно, может ли это быть? Рената очень заинтересовалась, но в газете больше ничего о работах Лосевой не было, и она решила поискать завтра в магазинах ее труды. Больше ей читать не хотелось, она устала и легла спать.
Завтра она пойдет искать себе работу.
Рената совсем было засыпала, вдруг вскочила с постели, босая, в одной рубашке, достала из чемодана портрет космонавта Кирилла Мальшета и поставила его на стол, оперев о настольную лампу. С минуту она любовалась чистым мужественным лицом. Было в нем что-то от молодого Симонова — неподражаемое, своеобразное выражение слабости и силы одновременно. Может, слабость — не то слово, скорее — ранимость, душевная хрупкость при физической силе и мужественности.
Какое прекрасное лицо! Бывают же на свете такие люди…
Утром Рената, не теряя времени, решила искать себе работу. Не зная с чего начать, она спросила совета у дежурной по корпусу. Дежурная, пожилая добродушная женщина с расплывшейся фигурой и румяным свежим лицом, на миг задумалась.
— А специальность у вас есть? — спросила затем она.
— Я агроном, но я пока не хочу работать по специальности, — пояснила Рената, сконфузившись.
— А-а… Что же вас интересует?
Видя, что Рената в замешательстве, дежурная покачала головой.
— Сами не знаете, чего хотите. Бывает. Тогда вам лучше обратиться за советом в электронно-психологический отдел научно-исследовательского Института Личности. Там вам лучше всего помогут разобраться в себе. Дадут вам такие тесты (вопросы), а потом посоветуют, в какой области вам лучше всего работать. Я сама так выбирала работу, когда мне что-то нудно стало в торговой сети.
Рената улыбнулась и поблагодарила. Тесты! Как в педологии. Нет, это не по ней. Она сама выберет.
Рената спустилась вниз и подошла к справочному киоску в вестибюле гостиницы. Здесь вместо телеэкрана сидела и скучала милая, очень живая девушка.
Рената взяла у нее адрес Космического Института, где работал Кирилл Мальшет, и, подумав, адрес научно-исследовательского Института Леса, где директором была профессор Лосева. Сначала она добралась на метро до Космического Института. Она знала, что не осмелится войти туда и предложить свои услуги: что она могла там делать? Работать уборщицей? Так теперь убирали автоматы. Просто хотелось посмотреть, где работает космонавт Кирилл Мальшет, о котором она столько слышала, что ей порой казалось, будто они знакомы давно.
У Ренаты перехватило дыхание, когда она увидела здание Космического Института.
Огромный, серебристый полосатый шар из стекла и металла, подобно Сатурну, в черном блестящем кольце, он словно летел на фоне синего облачного неба.
С бьющимся сердцем и пересохшими губами Рената подошла ближе. Кольцо оказалось открытой опоясывающей шар галереей, а само шарообразное здание покоилось на основании из черного мрамора.
Полюбовавшись вдоволь, Рената вздохнула и медленно направилась назад к метро. Она шла и думала, как, наверно, захватывающе интересно работать в Космическом Институте, какие там интересные люди — космонавты, и работать бок о бок с ними — большая радость.
Она даже приостановилась: разве вернуться и попытать счастья? Но какое отношение имеет она к космонавтике? Просто захотелось чего-то яркого, необычного, романтического, общения с людьми фантастической судьбы.
До Института Леса пришлось добираться в другой конец Москвы. Рената остановила проезжавший свободный электромобиль.
Институт — старомодное трехэтажное здание из серого камня — находился в глубине огромнейшего парка, переходящего в питомник. На побуревших лужайках осыпались кусты роз. Под ногами шуршала листва.
Только подходя к массивным дверям, Рената с огорчением вспомнила, что следовало бы позвонить предварительно, может быть, Лосевой сегодня и нет в институте. Из дверей, надевая на ходу плащ, вышел молодой человек в очках, и Рената спросила его, где ей найти профессора Лосеву.
— А вот она пошла в питомник, догоняйте скорее, — кивнул молодой сотрудник в сторону удаляющейся женщины. Рената побежала по аллее. Она чуть запыхалась, пока догнала.
— Вы профессор Лосева? — спросила она, переводя, дух.
На нее, обернувшись, взглянула высокая худощавая спокойная женщина, очень загорелая, с морщинками в углах серо-зеленых насмешливых глаз и у выразительного рта. Она была в сером плаще, с непокрытой головой, подстрижена коротко, не по моде.
— Я Лосева. Слушаю вас. — Она замедлила шаг, но не остановилась. Рената пошла рядом с ней.
Солнце пригревало по-летнему, в кустах попискивали какие-то птицы.
Рената спросила, нет ли для нее какой-либо работы.
— Какую вы хотите работу?
— Все равно, лишь бы работать у вас. Меня очень заинтересовали ваши работы по преодолению времени в лесоводстве. Я в Москве совсем одна. А когда читала вашу статью в «Известиях», словно родных встретила.
— Вон оно что… Вы откуда сами?
— С Волги. Село Рождественское.
— Образование?
— Трудно сказать… Пожалуй, так: незаконченное высшее. Сельскохозяйственная академия имени Тимирязева.
— Ах, вот как! Агроном? Почему же не закончили академию?
— Да я ее, собственно, закончила, но… Это было очень давно, наука с тех пор ушла далеко вперед. Вот почему я…
— Давно? Но вам, по-моему, не более как двадцать два — двадцать три года?
— Двадцать три. Это целая история, вы все равно не поймете или… не поверите.
— Гм! У кого вы учились?
— У профессора Прянишникова. Он даже оставлял меня при кафедре земледелия. Но я отказалась…
— Что?! — Лосева даже остановилась.
Рената густо покраснела. У нее вырвался жест досады.
— Мои знания как раз в объеме Тимирязевской академии по программе 1932 года. Мне, конечно, надо догонять, и я догоню.
— А вы очень странная девушка. Самоучкой, что ли?
— У меня очень странная история. Пожалуйста, не спрашивайте меня… сейчас! Когда-нибудь я расскажу.
— Если я заслужу ваше доверие? Давайте присядем на эту скамеечку и поговорим. Вот так. Что вас больше всего интересует?
— Меня интересует генетика. То, что вы сделали, — гениально. Вырастить дуб за три года! Три года от желудя до плодоношения. Это же прекрасно! Я была бы счастлива работать под вашим руководством, хоть чернорабочей.
— Теперь же нет никаких черных рабочих. Их заменили автоматы. Лаборантом пойдете?
— Ой, спасибо, профессор…
— Меня зовут Таисией Константиновной. Я никакой не гений, просто я своей проблеме отдала полвека и работала… весьма напряженно. Идемте, я покажу свои кедры.
Лосева легко поднялась и повела Ренату по тропке в глубь питомника.
— Вы знаете, кедры не поддаются почему-то. Я всю жизнь бьюсь над кедрами. Но пока не получается, они по-прежнему медлительны.
— Не хотят спешить?
— Не хотят. А когда вы можете выйти на работу?
— Хоть завтра.
— Завтра меня здесь не будет, а я бы хотела сама вам показать, в чем будут ваши обязанности. Приходите уж в понедельник. Завтра я весь день буду в Космическом Институте.
Рената слегка вскрикнула от удивления.
— В Космическом Институте?
— Что вы так удивились? Их, как никого, интересует проблема преодоления времени в лесоводстве. Они готовятся озеленять Марс. Я работаю у них два дня в неделю. Организовываю там филиал нашего института. Лес и космос! Когда-то была такая песня: «И на Марсе будут яблони цвести». Так вот они хотят начать именно с яблонь… По моему совету. Потому что яблони у меня растут всего быстрее. Но требуется приучить их расти и плодоносить в атмосфере Марса.
— А не мало ли солнца?
— Там будет еще несколько солнц — искусственных. В проекте они уже существуют.
— О!!!
— Я вижу, вы большая фантазерка. Может, вам хотелось бы работать в Космическом Институте? Вижу, что хотите.
— О, спасибо! А я… сумею?
— Работа такая же, как здесь. Мне как раз нужен там хороший, исполнительный лаборант.
Рената, просияв, схватила руку Лосевой и пожала.
— Вы занимаетесь спортом? Это хорошо, — заметила профессор, помахав онемевшей рукой. — Молодежь нынче помешалась на космосе. У меня сын космонавт. Впрочем, он отнюдь не романтик. Он-то как раз не рвался в космос, его послали туда работать. Начальник Лунной обсерватории.
— На Луне! Вместе с Кириллом Мальшетом?
— Вы знаете космонавта Мальшета?
— Его семью. Ведь Кирилл родом из нашего Рождественского.
— Ах да! Значит, вы землячка Кирилла Мальшета? Смотрите, вот эти кедры… — все, чего я добилась за столько лет… Ускорение роста процентов пять, не больше. Правда, хороши? Но в Сибири они лучше.
Они долго смотрели в молчании на кедры.
Еще молодой кедровый бор. Сероватые стволы, как колонны, поднимались к небу. Мощная темно-зеленая крона медленно колыхалась на ветру — там был ветер в высоте, в вершинах кедров, внизу — совсем тихо. Сильные крепкие ветви как бронзовые канделябры. У подножия, на опавшей хвое, лежали крупные кедровые шишки.
— Ну что же, завтра можете приходить в Космический Институт, — наконец заговорила Лосева. — Спросите меня.
Рената прерывисто вздохнула:
— Если не возражаете, приду.
— По глазам вижу, как вам хочется в Космический Институт.
— Хочется, конечно, но… здесь ведь работа важнее. И для вас главное — здесь, на Земле, а не там. Надо сначала прибрать у себя на планете. Буду работать где важнее…
— Спасибо. Мне радостно это слышать. Идемте, теперь я вам покажу наши сосны, и попробуйте угадать, сколько им лет. А знаете, с чего я начала тогда — пятьдесят лет назад? С изучения стадийных изменений древесных пород. Мне почему-то казалось, что именно на этом пути можно найти способ управления ростом деревьев. Кстати, работаем мы очень много, вас это не смущает?
7 ДЕНЬ ВСЕПЛАНЕТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Твой ум уклончивый ведет тебя в обход,
Ища проторенных тропинок.
Но ты вступи с ним в поединок.
ВерхорнВ этот день — День Всепланетного Объединения — мы провели в обсерватории лишь самые неотложные наблюдения. Земля торжественно и шумно отмечала большой праздник Мира, и мы на Луне встретили его, как могли.
С утра стали поступать поздравительные радиограммы со всех лунных станций и с Земли. Автоматическое устройство, принимающее их, чуть не вышло из строя.
Робот Вакула приготовил праздничный обед. Вика с утра облачилась в фартук и сама приготовила несколько блюд (ей помогал Яша), которые нам особенно понравились — жаркое из кролика и яблочный пудинг, за который Уилки Уолт торжественно расцеловал Вику в обе щеки.
Шампанское в такой день не жалели. По безмолвному уговору никаких волнующих тем не поднимали.
После обеда Вакула нажал кнопку, и стол со всей сервировкой и остатками яств плавно провалился вниз на кухню, ни дать ни взять в преисподнюю. И я вдруг обнаружил, что Вакула похож не на доброго кузнеца, а на черта, даже рожки есть — антенны.
Пол снова сомкнулся, а мы уселись в кресла. Все были приятно взволнованы. Предстоял сеанс видеосвязи с родными. Сначала дали связь с Сан-Франциско, и мы впервые увидели жену и двух девочек-близнецов Уилки. Они нам понравились: светлые, нежные и красивые, в акварельных тонах. Платье миссис Джен Уолт было отделано кружевами, и кружева удивительно шли ей. Она похожа на женщин с портретов прошлого, будто вышла из романов Диккенса. Такой я представлял, например, Дору Копперфильд. Близнецы были похожи и на нее и на Уилки — славные, живые и шустрые девчонки.
Уилки, радостно взбудораженный, сидел на круглом табурете так, чтобы быть в фокусе. Аппаратурой ведал Яша.
У нас была и отдельная кабина для встреч с родными на телеэкране, но в праздники мы предпочитали встречаться все вместе. В кабинете экран был всего около метра, а в кают-компании чуть не во всю стену, так что люди проецировались в натуральную величину.
Наговорившись и насмотревшись на мужа, миссис Джен пожелала видеть его русских коллег, и мы представились ей поочередно и все вместе, группой.
— Папа, приезжай скорее домой, — сказали девочки по-английски. Экран погас, и улыбающийся Уилки уступил место Харитону.
Отец Харитона уже умер, свидание было с матерью, известным ученым Таисией Константиновной Лосевой (Лосева она по второму мужу, летчику). В результате многолетней работы профессор Лосева добилась ускорения роста деревьев. Открытие века!
Таисия Константиновна мне очень понравилась (раньше я ее никогда не видел), непонятно, как у такой талантливой, веселой, симпатичной женщины мог родиться такой неприятный догматик, как наш Харитон. А мать свою он любит, хотя и не все в ней одобряет. Строгий сын!
После него вызвали меня. Не успел я сесть, как с экрана заулыбались мне дедушка, мать и братишка Юрка. Конечно, мама произнесла приличествующую случаю довольно длинную речь, во время которой дед изнывал от нетерпения (он терпеть не может речей, тем более длинных). Дедушка, когда пришла его очередь, сказал, что в Рождественском все в порядке, но, когда я вернусь домой, меня ждет «очень странная история». Юрка тоже намекал на какую-то историю. Маме это весьма не понравилось, я ничего не понял и попросил объяснить яснее, но дед и внук замахали руками и заявили, что это «не телевизионный разговор», после чего их сразу отключили.
На экране возник дорогой мой отец Андрей Филиппович Мальшет (транслировали прямо со строительства города на океане). Я не видел отца с прошлого года, он все такой же: худой, смущающийся, сдержанный и мечтательный.
Он всегда чувствует себя виноватым передо мной и Юркой, что ушел от нашей матери, хотя мы никогда не осуждали его за это. Отнюдь.
Мы поговорили минуты две — трудно говорить на людях. Я заверил его, что чувствую себя отлично, скоро вернусь на Землю и мы с Юркой приедем к нему на строительство.
— Спасибо, сынок! — только и сказал он. Ох этот комплекс вины, которой на самом деле нет! Хоть бы он женился на какой-нибудь хорошей женщине, которая бы любила его, не третировала и дала бы немного счастья под старость.
С Викой говорили ее отец, академик Александр Андреевич Дружников, большой, красивый, громогласный (друзья его зовут просто веселый Санди), и ее слепая мать Ата Станиславовна. У нее решительное, настойчивое лицо и уверенные движения.
Океанолог Дружников, как видно, любит свою ослепшую жену, но больше всего на свете он любит дочь — это бросается в глаза. Вика рассказывала, что лишь благодаря отцу да еще его матери — бабушки Виктории — она имела счастливое детство. Мать почти не замечала ее, вся уйдя в свой внутренний мир.
Сегодня Вика казалась особенно женственной и красивой в своем праздничном, длинном шелковом платье зеленого тона, под цвет ее зеленоватых глаз. Волосы лились блестящими волнами.
Удивительно крепкая, сильная (иначе она бы и не попала в Лунную обсерваторию), Вика производит впечатление ранимой и хрупкой. Я бы от всей души хотел, чтоб она полюбила Яшку!
Я взглянул на своего друга. Яша не мог отвести от нее глаз, пока на экране не появилась его семья и он сам не занял место на табурете.
Я подошел ближе. Я всех их хорошо знал, словно родных. С экрана радостно улыбались хорошие люди. Бабушка Елизавета Николаевна (Лизонька, как ее зовут дома), его дед, капитан дальнего плавания Фома Шалый, дядя Яша (известный писатель-фантаст) и тетя Марфенька. А для меня — Марфа Евгеньевна Ефремова, кибернетик и бионик, директор Космического Института в Москве. Все четверо с любовью смотрели на Яшку. Он нетерпеливо тряхнул кудлатой, как у цыгана головой.
— Что нового, как дома?
— Все в порядке, Яшенька, — чуть наклонясь вперед, сказала Елизавета Николаевна. Несмотря на возраст, во всем ее облике сохранилось что-то девичье, такая она была ясная, чистая, спокойная, словно излучающая внутренний свет. Лицо счастливой женщины.
— Янька, у нас очень большая радость, — сказала она внуку, — сбылась давняя мечта Филиппа…
— Начинается строительство на Каспии?
— Да! Начались работы по регулированию уровня Каспийского моря… по проекту Филиппа Мальшета.
Глаза ее сияли. Дело Мальшета всегда было ее кровным делом — оба они океанографы, — его мечта — ее мечтой. Своего мужа, капитана дальнего плавания Фому Шалого, она не любила так сильно никогда. Кажется, Яша сделал усилие, чтобы порадоваться вместе с ними.
— Я рад, — сказал он бодро, — наверно, Филипп Мальшет выезжает на Каспий?
— Мы оба выезжаем, — сказала Елизавета Николаевна, — строительство дамбы начинается от Бурунного.
— Яша, у тебя и у Кирилла есть шанс попасть на Марс, — громко заявила Марфа Евгеньевна. — Будет открытый конкурс. Где Кирилл?
Я сел рядом с Яшей и приветственно помахал рукой.
— В первую очередь будут приниматься прошедшие испытания на Луне. — Она многозначительно посмотрела на нас обоих. Платье плотно облегало ее статную дородную фигуру. Умная, властная, решительная, знающая себе цену, — первая женщина-директор Космического Института. Доктор наук, член-корреспондент Академии наук, и прочее-прочее. И кроме этого, еще и добрая, ласковая, справедливая.
Яшу она любила, как родная мать. Родители Яши погибли в экспедиции, когда он был совсем маленький, а у нее не было детей.
Оператор напомнил, что время истекает. Все засуетились, торопясь сказать все заготовленное, перебивая друг друга.
— …Приступили к созданию межпланетного корабля, который… — говорила Марфа Евгеньевна.
— Ты что-то похудел, Яшка, — сказал его дядя, — да я ты, Кирилл. Берегите себя, ребята.
Он подмигнул одобряюще, точь-в-точь как в детстве, когда мы с Яшкой отправлялись в Голландию на международные соревнования по фигурному катанию на коньках. Яша уже был чемпионом Европы, а я ехал впервые. Мне было пятнадцать лет. Я уже мечтал о космосе, вернее, меня интересовали люди в космосе, решения и поступки личности в необычных условиях. Я хотел быть не просто космонавтом, а врачом-космонавтом.
— Помните свое обещание, ребята? — спросил Яков Николаевич.
— Привезти материал для нового фантастического романа? — усмехнулся Яша.
— До встречи, — сказала Елизавета Николаевна, не сводя с внука чуть виноватого взгляда. Она что-то прошептала. На прощание оператор показал ее крупным планом, и все погасло. Встреча с родными закончилась. Мой дед со стороны отца Филипп Мальшет, видно, не смог выбраться с Каспия. Я и в детстве видел его редко. У бабушки в Москве гостил подолгу.
Все невольно вздохнули.
Потом немного выпили, потанцевали. Вика спела несколько песенок. У нее приятный грудной голос, собственная манера петь, непосредственная и искренняя, и песенки она подбирает, отвечающие ее индивидуальности, и какую бы песенку она ни пела — забавную или грустную, — Вика остается сама собой. Мимика, жесты, движения — все это ее, Вики, — милые, застенчивые, женственные и по-девичьи чуть угловатые одновременно.
Когда она устала петь и, смеясь, бросилась на диван, Уилки, не переодеваясь, исполнил несколько своих номеров.
Мы повеселились, как могли (на душе у каждого было не слишком-то весело), до последних известий. Из них мы узнали, что Уилки Саути действительно схвачен полицией и в Соединенных Штатах по этому поводу началась забастовка докеров и металлистов. Забастовка разрастается. Коммунистическая партия выразила свой протест и требует возвращения мима.
Уилки очень расстроился. Мы тоже расстроились. Как странно, только вчера мы услышали о двойнике Уилки, и вот сегодня о нем узнал весь мир. Я почему-то был уверен, что на этом наше знакомство с судьбой американского мима не окончится.
Харитону надо было идти на наблюдение. Поскольку поодиночке категорически запрещалось выходить (прежде мы иногда нарушали эту инструкцию, теперь — никогда), с ним пошел Уилки.
Яша включил телевизор, передавали праздничный концерт из Ленинграда, и мы поудобнее уселись в кресла. Вика сидела в уголочке дивана и, казалось, внимательно слушала концерт — только не смеялась шуткам комиков. Яша тоже был невесел. А я думал о его судьбе.
Как бы я хотел, чтобы Вика полюбила его. Ответила на его глубокое чувство.
Я очень люблю Яшку. Я, не задумываясь, отдал бы за него жизнь, понадобись она ему, и надо же было так случиться, что девушка, которую он полюбил беззаветно, тянется теперь ко мне. Зачем мне это?
Никакая Вика не заменит мне дружбы с Яшкой. Разве есть что-либо дороже честной мужской дружбы?
— О чем ты думаешь, Кирилл? — прервала мои размышления Вика. — Ты совсем не слушаешь. И Яша тоже…
И тогда Яша сказал растерянно, глядя на часы:
— Что-то слишком долго нет Харитона и Уилки!
Мы их искали больше недели. Вместе с нами вели поиски сотрудники Литл-Америки.
Были обшарены все трещины радиусом на десятки километров вокруг, все пропасти и скалы. Обсерватория превратилась в штаб поисков. Но ни живых, ни мертвых их не нашли.
А когда мы все пали духом и уже не надеялись их найти, они пришли как ни в чем не бывало и очень удивились, откуда взялось столько народу за те двадцать минут, что они отсутствовали.
Уилки очень обрадовался своим друзьям, но не мог взять в толк, как и зачем они очутились вдруг в советской обсерватории.
Я их немедля потащил в лабораторию и, несмотря на все протесты, тщательно обследовал обоих. Все оказалось в норме.
— В чем дело? — резко спросил Харитон.
— В том, что вы отсутствовали не двадцать минут, как вам кажется, а около двухсот часов! Восьмой день, как мы вас ищем… Понятно?
И я пошел к кают-компании.
После обеда было устроено срочное совещание.
— Неужели вы ничего не помните? — с недоумением спрашивал селенолог Сидениус, датчанин, с крупными чертами лица и проницательными, добрыми голубыми глазами.
Они ничего ровным счетом не помнили, кроме того, что провели все положенные наблюдения.
— И ничего вам не показалось и снов не видели? — заинтересованно спросил высокий рыжий пилот Том Дайсон.
Харитон не удостоил его ответом, а Уилки заверил, что ничего им не казалось.
Вика сидела молча, глубоко задумавшись, американцы поглядывали на нее исподтишка, но откровенно любуясь. К великому возмущению Харитона, я сказал во всеуслышание, с улыбкой:
— Мне ясно одно, что если бы Харитон Васильевич вдруг погиб, то к т о — т о любезно предоставил бы нам новый экземпляр Харитона Васильевича. То же самое произошло бы и с мистером Уолтом.
— Как это понять? — серьезно и озабоченно спросил Сидениус. По-английски я говорил не слишком блестяще, поэтому Уилки по моему знаку разъяснил своим коллегам ситуацию — странную историю, происшедшую со мной.
Том присвистнул и тотчас извинился перед Викой.
Яша сказал, что идет в радиорубку на сеанс связи.
Харитон был взбешен. В вопросе о гласности мы всегда с ним расходились. Но я был убежден, что вся эта необъяснимая история касается всего человечества, и нечего делать из этого секрета лишь потому, что мы не можем этого объяснить.
Выслушав Уилки, Сидениус заявил, что необходимо в самом срочном порядке произвести разведку на обратной стороне Луны, еще совсем мало исследованной. Ведь если там укрываются инопланетные существа, то у них ведь Тоже должна быть какая-нибудь база… укрытие?
Было решено, что Литл-Америка завтра же начинает поиски. Если мы желаем принять участие, нам могут предоставить два места в реактолетах, или, в просторечии, «пауках», прозванных так из-за длинных членистых стальных ног.
Харитон сухо поблагодарил. Вошел Яша с радиограммой в руке и, подавив вздох, подал ее Харитону. Тот прочел и нахмурил широкие брови.
Всех четверых отзывали немедленно в Москву, даже не дожидаясь прибытия смены. Уилки возвращался на свою базу. Обсерватория на несколько дней прекращает наблюдения. У нас едва хватило времени уложить вещи и лабораторные записи.
В эту последнюю ночь мы, не сговариваясь, собрались все вместе в башне у астрономов. Общая беда объединила нас, даже Харитон был мягче обыкновенного.
— Не знаю, допустят ли нас еще на Луну, — высказал он то, что его терзало. — У каждого из нас остается здесь непочатый край работы. Особенно у меня…
— Неужели нам не поверят? — воскликнула Вика. — Разве это может быть?
— Никто не подумает, что мы лжем, — мрачно заверил Харитон, — а лишь то, что наша нервная система и психика не выдержали второго срока на Луне. Не забывайте, что это как раз и был эксперимент. Теперь никому никогда не продлят пребывание в Лунной обсерватории.
Я подошел к панорамному окну и хотел отдернуть занавеску.
— Не надо! — поспешно остановила меня Вика.
— Ты боишься? — вполголоса спросил ее Яша.
— Да. Да! Мы-то ведь знаем, что там за стенами какие-то могущественные существа. Они могли возродить Кирилла! Кто они? Друзья или враги? Почему не объявятся открыто? Где-то в лунных пещерах у них база… Что им нужно от нас? Зачем они брали Харитона и Уилки? А еще раньше Кирилла?
— Меня интересует, кто они? — сказал я. — Откуда? Уже известно, что и на Марсе нет разумных существ…
— Что мы знаем о Марсе? — перебил меня Яша. — Только начали осваивать, и столько несчастных случаев… непонятных и необъяснимых. Как будто кто-то не хочет, чтоб мы лезли к ним. Не хочет вступать с нами в контакт.
— Не верю я ни в каких зеленых человечков! — упрямо и угрюмо возразил Харитон.
— А как же ты объяснишь… — начала было Вика, он бросил на нее раздраженный взгляд.
— Никак. Не знаю. Но не верю.
— Харитон всегда был противником теории обитаемых Миров, — усмехнулся Яша.
— Объяснять придется еще многое, — уверенно бросил Уилки и зевнул. — Спать уже нет смысла ложиться, скоро за нами прибудут. Крепкого чая или кофейку разве выпить. Где наш Вакула?
— В оранжерее. Я пойду сварю кофе, — предложила Вика, вставая. Яша поднялся, чтоб ей помочь.
— Не надо, я сама, одна! — не без досады возразила Вика. Яша тотчас сел. Вика торопливо вышла.
— Да, я сейчас с наслаждением выпью горячего кофе, — заметил Харитон, — что-то холодно!
— Меня тоже познабливает, — подтвердил Уилки.
Мы помолчали минуты две. Потом услышали голос Вики.
Она звала Яшу. Он тотчас ринулся вниз. Мы прислушались почему-то обеспокоенно!
— Идите все сюда, — позвала Вика. Она стояла внизу лестницы.
— Там вызывают с Литл-Америки, — пояснила она.
Мы не дошли до радиорубки, навстречу быстро шел Яша.
— Исчезли датчанин Сидениус и пилот Том Дайсон… Вместе с «паучком», на котором они вылетели к ближайшему кратеру.
Мы пили кофе в кают-компании и возбужденно обсуждали случившееся. Так мы и просидели до прибытия ракеты лунного сообщения.
Все простились с роботом как с человеком, на него одного оставалась вся обсерватория. Вакула проводил нас до шлюзовой камеры.
— Не скучай, Вакула, скоро приедет новая смена, — заверила его Вика.
— Не буду ску-чать, мно-го ра-бо-ты, — сказал Вакула. Уже в Управлении Международного космодрома, когда мы прощались с Уилки, он сказал нам:
— Надеюсь, со всеми вами еще увидимся — в Москве или у нас в Штатах, но… с вами, Кирилл, и с вами, Харитон, мы еще встретимся на… другой планете.
— Чушь! — пробормотал Харитон.
— Чем вы сейчас займетесь? — спросил я, крепко пожимая руку Уилки.
— Поисками, дружище. На обратной стороне Луны. Нет, не пропавших. Они сами придут!., через недельку. А тех, кто их уволок.
— Жаль, что не могу принять участие в этих поисках, — вздохнул я.
— Да. Очень жаль, Кирилл! Если вам не поверят, не расстраивайтесь особенно. Они еще дадут о себе знать.
— Это так, но когда? Может, лет через пятьсот?
— И это не исключено, мой друг! До скорого свидания…
Мы обнялись. Уилки заторопился — его ждал американский «паучок».
Через час мы стартовали обратно на Землю.
8 КТО ВЫ?
За порогом потрясающие бездны.
Роберт Рождественский…Сначала ко мне возвратился слух. Я слушал возле себя какую-то свистящую, чирикающую речь, из которой я не понимал ни слова. А где-то далеко-далеко словно железо ухало, будто тяжелыми болванками били друг о друга. И словно океан шумел, приглушенно и грозно. Или это могучий орган? Многоголосное пение… Что-то протяжное, рокочущее на басах, и вот уже голоса звенят, удаляясь в вышине.
…Потом пришло сознание, а за ним тревога. Я уже знал, что сейчас открою глаза и не увижу своих товарищей — ничего родного. Со мной случилось что-то недоброе. Это я смутно помнил.
Я открыл глаза, вокруг стлался туман. Однако туман скоро рассеялся, осталась легкая сетка перед глазами. Мне было нехорошо, кажется, я был болен. Я лежал без подушки, на большом квадратном ложе в своем синем пуховом костюме, который я обычно надевал под скафандр.
Я сделал усилие, побеждая дурноту, страх, и осмотрелся. Приподнялся и сел. Я находился внутри громадной шестигранной призмы, сквозь плоскости которой проникал солнечный свет.
Вокруг расхаживали странные создания… Это не были птицы, это не были животные…
На миг мне показалось, что они в светлых фраках, но я тут же понял, что это сложенные крылья.
Один из них подошел ко мне и, наклонив голову набок, с минуту разглядывал меня в упор огромными янтарными глазами, очень умными и печальными. Затаив дыхание я смотрел на него. Разумное существо?!
Это был не человек, но он был прекрасен и с нашей, человеческой, точки зрения. Словно вычеканенное из бронзы, стройное, вытянутое тело, пропорциональность и соразмерность которого поражали. Длинные ноги и руки — того же оттенка золотящейся бронзы. Два крыла — цвета потемневшего золота. Очень подвижная голова с огромнейшими глазами. Как я потом узнал, глаза у них фасеточные, они занимают большую часть головы, и число фасеток огромно — до тридцати тысяч. Над лбом, в верхней части головы, покачивались серебристые антенны, состоящие из большого количества цилиндрических члеников. На недоразвитом подбородке крупный рот.
— Кто вы? — спросил я. У меня закружилась голова, и я откинулся назад. Кажется, я потерял сознание.
Когда я снова пришел в себя, возле меня сидел на краю постели (назовем так) человек. А крылатых существ уже не было. Может, они мне почудились? Но я находился все в том же огромном светящемся шестигранном зале.
Человек смотрел на меня в упор. Что-то было странное в его манере держаться. Он словно замер. И этот немигающий упорный взгляд. На миг я усомнился: человек ли это? Но он был одет, как одеваются у нас большинство мужчин: серый костюм, рубашка, туфли, галстук с крапинками. И лицо его было обыкновенным человеческим лицом. Оно мне даже кого-то смутно напоминало.
Он увидел, что я пришел в сознание, и оглянулся… Чуть не на сто восемьдесят градусов. Надо же было так развить свою шею. Он словно хотел удостовериться, что мы были одни.
— Не пугайтесь, Кирилл, — сказал он негромко на русском языке. — Вы космонавт и должны быть в силу своей профессии готовы ко всему.
— Они — был и, — спросил я, — или мне это почудилось?
— Они — есть, — спокойно подтвердил он. — Вот вы и встретились с инопланетной цивилизацией.
Я медленно спустил ноги на каменную плоскость. Она была теплая. Мне уже стало лучше. Лихорадочно соображал, где же я?
— Вы — человек? — спросил я вдруг. Знающий русский язык заметно огорчился.
— Разве я не похож на человека? — озабоченно спросил я.
— Облик человека… не знаю. Кто вы?
— Вы все узнаете, Кирилл. Не сразу же.
— Вам известно, как меня зовут. А ваше имя?
— Вам не выговорить. У меня было несколько имен… последнее звучит на вашем языке так: Постигший Землю. Думаю, что я его заслужил. Я ученый, специалист по вашей планете. Можете звать меня Семен Семенович.
— Где я? Как сюда попал?
— Вы на планете Харис. Не пугайтесь. Вы рвались в космос. Вы мечтали о встрече с разумом. Вы получили то и другое. Как вы себя чувствуете? Не голодны ли вы? — После его слов я почувствовал жгучий голод и подтвердил, что голоден. — Тогда нам надо сначала подкрепиться. — Он подошел к круглому проему в стене и принял от кого-то поднос с едой, который поставил передо мной прямо на постель.
— Поедим вместе, — сказал он, присаживаясь. На подносе был хлеб, каша — я не понял, из какой крупы, жаркое, очень вкусное, тоже не понял; из какого мяса. И крупные, сочные плоды лиловатого цвета.
— Ешьте спокойно, это вам не повредит, — сказал Постигший Землю и с аппетитом принялся за кашу, хлеб и фрукты. Мяса он не ел.
Мы поели, и он отнес посуду.
— Мы немного поговорим, а потом вы поспите! Вам еще не совсем хорошо?
— Да. Немного знобит, ломает, голова как чугунная. Но я не усну, пока не узнаю, зачем я здесь? Что вам от меня нужно?
— Постепенно узнаете все, Кирилл. Чего мы от вас хотим? Совета. Быть может, помощи. Наша цивилизация более древняя, более высокая технически. Но нас постигло несчастье. Однажды мы сделали ложный шаг… Но об этом потом. Вам лучше отдохнуть. Набраться сил. Вам они понадобятся.
— Скажите только… я здесь один? Из моих товарищей… никого нет?
— Есть. Вы не один.
— Где же они? Я моту их видеть?
— Они еще… не обрели себя. Вы ведь врач?
— Да.
— Вы мужественный человек. Вы спокойно и стойко восприняли случившееся. У нас бывали случаи, когда человек такой ситуации не выдерживал… сходил с ума.
Вы окрепнете и поможете нам — вернее, поможете людям, когда они будут приходить в себя. Не всякий так силен духом, как вы. Здесь еще двое с вашей обсерватории на Луне. Имеется ваша землячка, из одного с вами места на Земле. И еще много разных людей. Можно будет брать по надобности.
— На Земле теперь думают, что я погиб! Дед не переживет… родители…
— Они не будут горевать: Кирилл давно с ними. О в а с они не знают. Спите!..
Он ушел. Семен Семенович… Я послушно лег и действительно уснул.
Проснулся с ощущением, что долго проспал и все помню. Стремительно поднялся, спустил ноги на пол. Там стояли туфли моего размера. На другом конце постели сидел Постигший Землю, терпеливо ожидая, когда я проснусь.
— Хотите окунуться в океан? — спросил он. — Ведь люди это любят. Вам сразу станет легче. Но сначала мы позавтракаем.
— Спасибо. С удовольствием сделаю то и другое. А когда я увижу друзей?
— Когда вы полностью успокоитесь и будете знать, чем их успокоить. А пока пусть они… пребудут в небытии. Ведь так лучше?
— Может быть. А скафандр мне не нужен?
— Нет.
Мы позавтракали, и я пошел за Семеном Семеновичем, совершенно доверяя ему.
Мы вышли, и я чуть попятился. Мы стояли как бы на длинном балконе без перил, примерно на высоте двадцатого этажа.
Вот что я увидел с высоты на планете Харис: сначала Океан — необозримо огромный, светло-зеленый вдали, белый от пены у скалистых берегов. Над ним летали птицы, как над океанами Земли. Но до чего же он был пустынен! И глубокое зеленовато-синее небо над ним, и кучевые облака, белоснежные, огромные, как горы, блистающие облака были как на Земле. Но солнце — их солнце — было словно моложе и больше нашего, яркость его умерялась плотной мощной атмосферой планеты.
Я посмотрел в другую сторону: до самого горизонта простирались леса, леса, леса. Среди лесов блестели купола, серебристые грани стен… жилища этих странных существ.
Я не без тревоги вдохнул воздух: он был чист и свеж, щедро насыщен кислородом.
— Как на Земле? — вскричал я.
— Планета Харис — аналог Земли, — пояснил Семен Семенович. — Оттого мы и заинтересовались вашей планетой… тысячу лет назад. Наша планета немного больше вашей, атмосфера мощнее. Сутки — тридцать часов. Но спустимся вниз.
— У вас есть лестница?
— Нет. Прежде ведь нам они были не нужны. Но теперь многие уже не могут летать. Существует что-то вроде вашего эскалатора.
Мы спустились по наклонно движущейся ленте, пересекающей все здание по диагонали. Бегущая дорожка. Конечно, без перил. Крылатые создания эти страха высоты не ведают.
Я жадно осматривался. У них не было этажей в нашем понятии. Бесчисленные, как соты, шестиугольные комнатки-призмы, непонятного назначения, незаселенные или покинутые, чередовались то выше, то ниже. В них вели те же крупные, как иллюминаторы, проемы. Ниже располагались огромнейшие шестиугольные залы, высокие, как соборы, и такие же сумрачные, одни пустые, в других мерно громыхали непонятной конструкции машины.
Мы сошли с ленты на землю, и громада здания неслышно поднялась вверх. Я вздрогнул. Отошел несколько шагов и обернулся.
Геометрически безукоризненная постройка эта, с ее поразительной пропорциональностью и соразмерностью, парила в воздухе… Она могла по желанию подниматься или же опускаться. Напрасно искал я взглядом опоры — их не было.
— Неужели вы победили гравитацию? — спросил я.
— Еще два тысячелетия назад.
— Значит, это возможно?
— Конечно.
Мы спустились к океану, там, где он образовывал небольшой, спокойный залив. Вода чуть вздымалась, словно дышала, прозрачная, соленая, сверкающая на солнце. Белый песок хрустел под ногами. Мы разделись. Едва я снял туфли, как сразу почувствовал себя значительно тяжелее, видно, в подошвы добавлялось антигравитационное вещество… Но разве это могло быть просто веществом?
Я немного поплавал и почувствовал себя освеженным и сильным. Семен Семенович только несколько раз окунулся с головой. Смешной загадочный человечек, если он только человек.
После купания мы немного прошли пустынным берегом и сели на нагретые солнцем камни.
Семен Семенович испытующе посмотрел на меня и, кажется, остался доволен.
— Ну, можете спрашивать о чем угодно, — сказал он, усмехнувшись.
Я помолчал, испытывая некоторую неловкость.
— Прежде всего я хочу знать, с к е м я говорю: вы человек или…
— Я — харисянин. Но моя специальность — планета Земля, и я в целях удобства исследования принял оболочку землянина.
— Каким образом?
— Это ведь уже детали, не правда ли? Техникой пересадки мозга мы владеем давно.
— А человек, чье тело вы заняли… он…
— Он прожил свой век, ни о чем не подозревал и умер в свое время, в 1946 году. Он был английским писателем, и, насколько мы его знаем, можно с уверенностью сказать, что он был бы весьма доволен, предоставив свою оболочку, свой футляр для такого дела.
Я внимательно оглядел Семена Семеновича. Довольно нескладная фигура! Короткие ноги, короткие руки. Полнеющий джентльмен средних лет. Массивный лоб, умные, проницательные глаза. Лицо фермера или клерка. Неужели… Какая ирония судьбы! Тот писатель действительно был бы в полном восторге, если бы только знал.
— Вы могли бы выбрать более красивое тело, с точки зрения нас, землян, — пошутил я.
Семен Семенович не улыбнулся. Как я потом убедился, харисяне не знают смеха. И чувство юмора им полностью чуждо.
— Мы лишь записали структуру его тела и мозга, — пояснил он. — А когда воссоздавали, ограничились телом. Мозг же мой — Постигшего Землю.
— Вы действительно ее постигли?
— Землю — да, человека — нет.
— Мы сами себя еще не постигли, — согласился я и задал новый вопрос:
— Вас много на Земле?
— Осталось несколько харисян. Мы постепенно свертываем свои работы.
— Где находится планета Харис? Как могло получиться, что она аналог Земли?
Семен Семенович как-то странно посмотрел на меня.
— Этот вопрос, может, лучше отложить? Я беспокоюсь за вас… Не слишком ли много информации сразу?
— Нет. Я крепок. У нас в космонавты берут самых здоровых — и телом и духом. Кроме того, меня еще не оставляет надежда, что все это сон и я еще проснусь.
— Люди всегда надеются на что-то в этом роде, когда действительность слишком ошеломляюща. Отсюда и ваши религии. Что ж, так легче. У харисян никогда не было религии. — Он смотрел на меня с сочувствием, в котором, однако, не было тепла.
— Что ж, представим, что все это лишь сон, — продолжал он, — сон космонавта. Ему снятся непостижимо далекие Миры, медленно и жутко вращающиеся за бездной пространства и времени. Галактики, антигалактики, пульсирующие в такт друг другу. Когда одна расширяется, другая сжимается, проходит вечность, и все повторяется наоборот. Двойная Вселенная. Вы когда-нибудь думали об этом?
— Да. Я задумывался над этим в связи с асимметрией Вселенной, быть может, мнимой. В модели двойной Вселенной кажущаяся асимметричность ее исчезает.
— Вот именно. Оказывается уравновешенным вещество и антивещество. Оказывается полностью уравновешенным и радиальное движение.
— Почему вы говорили об антигалактиках?… Вы молчите? Но ведь этого не может быть?
Я схватил его за теплую человеческую руку. У меня опять потемнело в глазах.
Мне казалось, что я долго лежал на влажном, песке близ лицом и все волны океана прошли надо мною. Но, оказывается, удержался на ногах. Просто время — секунды его и минуты его — иногда чудовищно растягивается.
— Это антигалактика?
— Да, мой друг.
— И я теперь… из антивещества?
— Вспомните, это лишь сон. Мало ли что приснится! Все здесь из антивещества, и мы с вами тоже.
— Но я не чувствую никаких изменений.
— А почему вы их должны чувствовать?
— Значит, я лишь копия Кирилла Мальшета? Копия с обратным знаком…
— Все мы только бледные копии самих себя, — философски заметил Познавший Землю, — и каждый стремится полностью осуществить самого себя, что не всегда удается. Вам эту возможность судьба предоставляет.
Я опустился на камни и закрыл глаза. Он подождал, пока я приду в себя.
— Чего вы хотите от меня? — спросил я наконец.
— Очень многого. Нам нужна помощь людей. Нас постигло величайшее бедствие. Наша цивилизация гибнет.
— Войны?
— Мы никогда не знали войн. Мы не агрессивны.
— Что же тогда?
— Нас погубило бессмертие.
Мы долго молчали. Значит, эти существа бессмертны. Да, слишком много информации сразу. У меня было такое состояние, как в невесомости, когда в нее начинаешь входить…
— Дом для вас и ваших товарищей готов, — сказал Семен Семенович, — но, пока вы один, я побуду с вами.
Я хотел сказать, что мне лучше побыть одному, чтоб обдумать все, что на меня обрушилось, но согласился. Он, кажется, был доволен. Я поколебался, прежде чем задать ему следующий вопрос.
— Семен Семенович… На Земле теперь прошли столетия? Или… Может, миллионы лет?
— Нет, нет, — живо возразил он, — на вашей планете двухтысячный год, точнее, 2009 год.
— Но ведь до вашей антигалактики, которая даже неведома нашим астрономам, тысячи световых лет?
— Успокойтесь, Кирилл, я вас не обманываю.
— Но как же…
— Прыжок в гииерпространстве…
— Искривление пространства? Да неужели вы добились и этого?
— Наша цивилизация неизмеримо старше, хотя планеты — ровесницы. Наше развитие началось раньше — едва появилась растительность, — мы быстрее прогрессировали. Эволюция, создавая нас, не ошиблась. У нее не было никаких тупиков. Она дала нам все, что нужно Существу Разумному. Это мы… начали выбирать… что оставить и от чего отказаться, и — зашли в тупик. Наша цивилизация зашла в тупик, Кирилл, и это очень тяжело и страшно. В этом трагедия планеты Харис.
Он долго молчал, а потом мы встали и пошли от берега.
— У вас есть семья? — спросил я. Вопрос был глуп, но я инстинктивно цеплялся за обычное.
— У меня никого нет, — сказал Семен Семенович, — я — один. Один на Земле — один на планете Харис. Один, но не одинок, потому что я выполняю долг перед своим народом.
Дом для землян был построен в духе неоромантизма конца XX века на Земле — большой, бревенчатый, одноэтажный. С той лишь разницей, что на оскудевшей лесом Земле «бревна» имитировались из особой пластмассы, а здесь они были настоящие.
Как и все их постройки, дом покоился на плоскости из антигравитона. В нем было несколько спален, кают-компаний, библиотека и даже кухня.
— Это вам на первое время, — пояснил Познавший Землю, — дом можно легко перенести на другое место. Мебель сотворили по чертежам с Земли. Если что понадобится — скажите.
— А книги?
— Это книги Земли. У харисян книг никогда не было. Знания записывают, хранят и передают машины.
Мы стояли посреди библиотеки и смотрели друг на друга. Затем я подошел к полке и взял наугад одну из книг. Это был томик Достоевского… «Братья Карамазовы».
— Если не возражаете, я покажу вам сегодня Большой город, где живут Всеобщая Мать, Победивший Смерть, Поборовший Пространство и многие другие, кого мы очень чтим. Или… вы устали?
— Нет, я не устал.
Мы сели в небольшой планетолет, находившийся в полушаровидном ангаре, здесь же, за домом. Что-то вроде энтомоптера Циолковского с автоматическим управлением. Он легко, как на воздушной подушке, выскользнул из ангара и, едва мы уселись, взмыл вверх.
Первое, что сделал Семен Семенович, — показал мне, как им управлять. Принцип управления был совсем несложен. Энтомоптер бесшумно и стремительно летел над океаном. Морские птицы — ни одна не походила на птиц Земли, но это были птицы, столь же прекрасные, как на Земле, — стремительно падали в волны, выхватывая рыбу, и взмывали с добычей ввысь. Иные птицы отдыхали, покачиваясь на волнах, словно на качелях.
— У вас когда-нибудь были корабли? — поинтересовался я.
— Нет, никогда. Мы ведь крылатые существа. Поэтому наше развитие техники сразу пошло по пути покорения воздуха. Затем космоса. Корабли нам были не нужны.
Семен Семенович снизил высоту полета и замедлил скорость, давая мне возможность видеть. Океан остался сбоку, потом позади, затем совсем исчез за лесом.
Какие яркие, буйные, необозримые леса простирались на этой прекрасной планете! У нас такие леса цвели и плодоносили разве что в третичную эпоху.
Энтомоптер скользил над самыми зарослями, где переплелись в тесных объятиях неведомые деревья, похожие и на папоротники, и на лавры, эквалипты, пальмы, бананы, сандаловые деревья, камедные деревья, драконовые деревья, но не бывшие ни тем, ни другим.
Климат был почти тропический. Да, на этой планете господствовала ее величество Растительность.
Иногда лес неохотно расступался, и мы видели синеющий шелковый шарф реки или темное, словно лакированное, лесное озеро, с огромными, распластавшимися на воде цветами. Кувшинки? Нет. Что-то мощное, мясистое, невероятно разросшееся. На огромном, алом, как пламя, лепестке сидел какой-то пушистый зверек и умывался.
— Сейчас мы будем пролетать над… городищем, — наклонился ко мне Семен Семенович, — это наши археологические раскопки. Когда-то, на заре цивилизации, мы жили в таких вот городах.
Ему почему-то очень хотелось показать мне древнее городище, но мы едва нашли его: лес почти поглотил полуразрушенные постройки в скалах на берегу реки. В центре кое-что сохранилось. Это было невероятное нагромождение сотов (не знаю, как их иначе назвать), они лепились друг к другу, соединяемые длинными извилистыми коридорами, нарастали сверху, с боков чудовищными гроздьями.
— Мы всегда были очень общественными существами, — задумчиво сказал Семен Семенович, — в одиночку, даже если был кров и достаточно пищи, быстро погибали. Спустимся? Нет, вы устали. Я, пожалуй, тоже.
Унылый лабиринт в скалах, в земле, заброшенный тысячелетия назад. Ни один харисянин ни за что не зайдет туда, кроме разве археологов, но археология, видно, заглохла ныне.
Он увеличил скорость, и городище мгновенно исчезло, словно лес поспешно спрятал его. И опять темные лесные заросли, где все переплелось и спуталось — там надо было пробиваться с топором, — пологие горы, заросшие все тем же хищным лесом, пустынные обильные реки, разлившиеся бесконечно широко, затопляя деревья, губя кустарники. Здесь лес и река боролись друг с другом, и не понять, на чьей стороне победа.
Я поинтересовался, есть ли у них степи. Семен Семенович покачал головой. Ни степей, ни лугов на планете Харис не было. И я представил их столицу, заросшую и побежденную лесом. Но я ошибся. Лесу даже не дали подойти близко.
Перед городом залитая чем-то вроде пластмассы земля была покрыта бесконечными рядами серебристых спиралей, сверкавших на солнце однообразно и грозно. Это были антенны. Где-то здесь с помощью сложнейшей аппаратуры велся прием сигналов из космоса.
Город сначала предстал как пересечение изломанных линий, треугольников, шаров, сложных стереометрических фигур, в паутине спиральных антенн.
Сюда не было хода Растительности — ни цветка, ни травинки, то же подобие гладкой пластмассы да сплавы неведомых металлов.
Мы приземлились у жилища Семена Семеновича — что-то вроде металлического цилиндра, а внутри обычные шестигранные комнаты. Почти без мебели. Там мы и пообедали. Обед подали крылатые глазастые создания, весьма внимательно ‹оглядевшие меня. Потом мы пошли пешком.
Полукружия улиц были пустынны и безмолвны. Ни движущихся тротуаров, ни транспорта — все движение в воздухе. Редкие прохожие — если их можно назвать прохожими, — шли, потом поднимались в воздух, медленно кружили, как птицы, на уровне поднятых зданий или выше и исчезали. Большинство зданий были заброшены… Город неуклонно и неизбежно пустел. Встреченные харисяне двигались вяло и апатично. Проблеск слабого интереса при виде меня — существа из другого мира, так не похожего на них самих, — и снова равнодушие и печаль.
Мы остановились против здания столь совершенных пропорций, столь поэтичного, что у меня вырвался крик восторга. Оно было подобно храму, вылитому из тончайшего хрусталя. Оно словно было соткано из утреннего света, оно словно звучало. Очертания его медленно менялись, проходя определенный цикл. И эта гамма тончайших красок — от бледно-розового до серебристо-жемчужного, через все оттенки лилового, зеленоватого, золотистого, голубого.
У меня выступили слезы. Чувство восторженного уважения к крылатым художникам охватило меня и осталось во мне.
— Здесь живет Всеобщая Мать, — произнес Познавший Землю, внимательно наблюдая за мной. Я выразил свое восхищение.
— Вы большие художники! — воскликнул я. Он медленно покачал головой.
— Мы очень чтим материнство, — объяснил он просто и трезво.
Мы еще долго блуждали по городу, видели много изумительных архитектурных сооружений, как, например, дом Победившего Смерть или дом Заведующего Картотеками.
Прекрасен был этот город — то реявший в воздухе, то опускавшийся на землю, но было в нем непостижимо тихо, и самый свет солнца, переливающийся на гранях, был как бы сумрачен и безрадостен.
Затем на энтомоптере мы вернулись к океану. Очень быстро, за каких-нибудь десять минут. Семен Семенович включил полную скорость, так что все краски и очертания внизу как бы размылись.
9 СТРАННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ХАРИС
О понять, как безмерно пространство, множественность и безграничность миров!
Уолт УитменСпал я крепко, без сновидений, а утром, одевшись, — мне приготовили легкий летний костюм, вполне современный, — я опять спросил Семена Семеновича, скоро ли я увижу своих товарищей.
— Завтра они будут воссозданы, — обещал он, — а сегодня я хочу рассказать историю нашей цивилизации вам. Людям она покажется странной и мрачной… Не у всех ваше мужество и способность уважать непонятное. Даже если оно совсем чуждо. Людям легче будет услышать это от вас — человека, психолога, врача. Вы меня понимаете?
Я кивнул головой. Этот день навсегда останется в моей памяти свежо и остро, как если бы это было сегодня, может быть час назад.
Мы ходили у шумящего океана. Бушевали пенящиеся буруны, разбиваясь об изъеденные солью прибрежные скалы, пронзительно и резко кричали птицы, стремительно неслись над океаном и лесом тяжелые облака, снижаясь от своей тяжести чуть не к самой воде.
Семен Семенович рассказывал. Все, что он говорил, было так странно, так непонятно, что я сомневался, смогу ли я это вразумительно рассказать своим товарищам завтра или в последующие дни. Я слушал и все примеривался, как я расскажу об этом.
Я так и не понял до конца этих странных существ.
Их развитие как существ разумных началось с архитектуры. До этого они жили инстинктом, огромными скоплениями, где разделение труда было чисто биологическим. Отдельная личность не имела никакого значения — чисто условное существование, только винтик в огромной, слаженной машине, клеточка в чудовищно разросшемся организме. Отдельная жизнь не ценилась даже самой этой жизнью.
Бессмертие вида — вот к чему они инстинктивно стремились, чему приносили в жертву каждого в отдельности.
— Ни на животной, ни на разумной ступени развития у нас никогда не было царей или цариц, — рассказывал Семен Семенович, — мы вообще никогда не знали тиранов, у нас это невозможно. Мы никогда не знали войн — у нас это невозможно. Мы никогда не могли убить себе подобного, хотя старательно удалялось все, не нужное сообществу.
Я позволил себе перебить его:
— Как это — удалялось, куда?
— Удалялось из колонии… Ну, изгоняли, что ли.
— Без права вернуться?
— Да, конечно.
— Отдельно они могли существовать — на той стадии развития?
— Нет, в одиночку наши предки погибали.
— Значит, все же убивали.
По его лицу словно тени прошли.
— Пусть так, — неохотно согласился Семен Семенович.
— Кого-нибудь у вас чтили больше, чем других?
— Мать. Ту, что давала жизнь.
— Простите, харисяне — живородящие или яйцекладущие?
— Все мы вышли из яйца, — туманно ответил Семен Семенович. Я не стал уточнять. — Мать клала яйца. Кстати, тогда харисяне были значительно мельче, величиной с ваших пингвинов. Свой рост и внешний вид они усовершенствовали впоследствии направленной изменчивостью. По своим понятиям красоты и целесообразности.
— Фактически мать и была вашей царицей, — предположил я.
— Нет, нет, — категорически возразил Семен Семенович. — Мать сама подчиняется мудрой силе общины, как и любой из его членов. Если она не могла, как это следует, исполнять обязанности рода, ее заменяли другой.
— А мать прогоняли?
Семен Семенович глянул на меня укоризненно.
— Ни мать, ни любого полезного члена общества, заболевшего или состарившегося, у нас не изгоняли даже на заре цивилизации. Их заботливо кормили, за ними ухаживали до их естественного конца. Изгонялись лишь… — Семен Семенович запнулся. До чего ему не хотелось об этом говорить. Но я, видимо, должен был знать, и он продолжал рассказывать. — Изгонялись непохожие…
— Что?
Я был потрясен до глубины души и только смотрел на него молча и с ужасом.
— Вот почему наше развитие, как существ разумных, началось с архитектуры. Заботиться о красоте и рациональности постройки, в которой живет и трудится род, нам было присуще всегда. Потом уже развились математика, механика, физика, химия, биология, медицина, география, астрономия и другие науки. Науки у нас развивались быстро и скоро. Об ученых заботились, как и о матери.
— А искусство? Есть у вас искусство? — потрясенно вскричал я. Семен Семенович грустно покачал головой.
— У нас могло бы быть искусство, как и у землян. Но мы не дали ему развиться. Как и на заре цивилизации, так и в ее расцвете харисяне последовательно и настойчиво уничтожали все непохожее. А искусство — это и есть непохожее…
Познавший Землю оживился.
— На Земле самое трудное для меня, чего я никак не мог понять, это — искусство. Не правда ли, и для человечества искусство есть что-то непонятное, неразгаданное и в этом именно сила искусства.
— Как непонятна и неразгадана душа человека, — сказал я, — которую пытается отразить искусство.
— Душа? Я понимаю, что вы подразумеваете под этим. У харисян коллективная душа. Душа вида, и она эволюционировала вместе с видом.
— Разве это возможно?
— Значит, возможно.
— Семен Семенович, а что же вы делали с непохожими при развитой цивилизации? Ведь они продолжали появляться на свет! И уже могли, наверное, переносить отчуждение от общества.
— Безусловно, и потому общество не могло допустить их существования… с их странными взглядами, непостижимыми поступками и действиями.
— Их убивали?
— Я уже говорил вам: харисяне не могут убивать. Они… умирали сами.
— Почему?
— Есть много способов избавиться от них. Каждая эпоха выбирает свой. В древности, например, их просто окружали так плотно, что они не могли, понимаете, совсем не могли осуществлять свою непохожесть. И они быстро погибали. Но это было до эры Великих Открытий — две тысячи лет назад. В течение каких-нибудь двухсот лет были совершены открытия, которые дали нам могущество неисчислимое. Открытие тайны тяготения, освоение ближайшего космоса… А затем и победа над гиперпространством. Покоривший Пространство первым открыл так называемый прыжок в гиперпространстве. Знаете, сколько времени понадобится, чтобы добраться от планеты Харис до Земли?
— Сколько?! — Я схватил его за руку.
— Считайте. Время, необходимое на космический полет в пределах вашей солнечной системы, плюс время, потраченное на такой же полет в нашей солнечной системе. Разбег и замедление.
— А движение в межгалактическом пространстве…
— Займет секунды… Но именно за эти секунды вы умрете и родитесь вновь…
— Не понимаю!
— …С обратным знаком. Поэтому прыжок в гиперпространство возможен, лишь когда цель прыжка есть антигалактика. Искривление пространства… Подробнее затрудняюсь объяснить. Я ведь гуманитарий. А затем произошло открытие Победившего Смерть. Он впервые с его мощнейшей электронной аппаратурой записал структуру одного из лишенных себя — его тела, его мозга — и воссоздал его. Так мы стали бессмертными. Тогда мы…
— Простите, но что это значит лишенный себя?
— Это у нас высшая мера наказания — лишение антенны. Ведь мы не убиваем.
— А что получается, когда удаляют антенны?
— Да конца еще не раскрыто наукой… Я попытаюсь вам объяснить. Харисянин, как я уже вам говорил, в высшей степени коллективное существо: в присутствии других харисян он проявляет такие свойства и способности, которые никогда не проявляются в одиночестве.
— Эффект группы!
— Да. Так для чего харисянину антенны? Без них он как бы не слышит мыслей других, не полностью их понимает.
— А вы разве воспринимаете мысли друг друга?
— Конечно. С помощью антенн. Антенны — орган исключительной чуткости. Это, кстати, и орган обоняния. Но это еще не все. Стоит отрезать харисянину антенны, как он полностью теряет способность творчески мыслить — талант его гаснет, как пламя, залитое водой… Он уже не может быть ни ученым, ни инженером, ни архитектором, хотя знания его остаются — на память это не влияет, — но воспользоваться знаниями он уже не может. Харисянин, лишенный антенн, или, как у нас говорят, лишенный себя, уже, по существу, никуда не годен. Он делает самую примитивную работу, а иногда и ту не может делать. Обычно такие харисяне долго не живут.
Я молчал, подавленный, мне стало жутко. Как объяснить эту жестокость?…
— Странное дело, — продолжал задумчиво Семен Семенович, — из совершенно одинаковых оплодотворенных яиц одной семьи развиваются порой совершенно несхожие харисяне. Наша наука так и не открыла — почему? (Мутации… слабое объяснение). Понимаете, харисяне с совершенно невообразимыми особенностями, чего у нас не терпели никогда. Особенностями, столь непонятными и непостижимыми, что приходилось этих харисян лишать антенны.
— Как страшно: вы убивали личность. И действовали без колебания и жалости. Рациональная жестокость.
Семем Семенович долго молчал, отвернувшись, взор его блуждал по океану, потом он повернул ко мне голову.
— А разве человечество никогда не убивало личность? Разве вы уж так любите непохожих на других? Разве один из людей — кажется, он был императором, — не сказал: «Мне не нужны гении, мне нужны верноподданные»?
— Его потомки стали фашистами.
— Человечество так же нетерпимо к несогласным и непохожим, как и харисяне.
— Как можно сравнивать! — вскричал я с досадой. — Как можно говорить о человечестве, имея в виду лишь антинародную власть?! — Я с трудом успокоился. — Продолжайте, я Слушаю вас.
— Так вот, нравственный закон харисян гласит: долг каждого заключается в отречении от личности, если личность эта противоречит устоям общества.
— Так можно зайти в социальный тупик, — пробормотал я, — любое общество выигрывает, лишь когда обретается личность.
— Харисяне не так уж плохи, — сдержанно возразил Познавший Землю. — Мы не знаем бесцельной жестокости, лжи, лицемерия, зависти, алчности, жадности, разврата, тирании, несправедливости, лести, беспринципности, унижения перед сильными мира сего.
— Ну конечно, никаких пороков, никаких страстей, даже привычек, а заодно и никаких творческих взлетов, кроме как в разрешенных областях. Вдохновение, не знающее ни преград, ни границ, — зачем оно вам! Но давайте не спорить. Продолжайте!
Семен Семенович вздохнул. Глаза его потускнели, он словно сразу постарел.
— И все-таки именно ради личности, которая всегда попиралась, пошли мы на бессмертие, погубившее вид… Воля и разум эволюции… Разве она хотела уничтожить вид, созданный ею, свое детище? Старение и смерть страшны для индивидуума, но полезны для вида как в биологическом, так и в социальном смысле. Ликовала вся планета…
— Еще бы! Но как вы подошли к этому открытию, с какой стороны?
— Представьте, мы подошли к этому открытию с двух сторон одновременно.
— Техника и биология?
— Да.
— Понятно. Когда вы сумели записать структуру того несчастного харисянина, лишенного антенн, вы положили начало бессмертия личности. Однако это вас не удовлетворило, и понятно, ведь будет без конца возрождаться записанная копия, а жить хочет сам оригинал.
— Нет, нет, я же сказал, что оба открытия состоялись почти одновременно. Биологи даже раньше этого добились. Воздействие на наследственный код…
Он опять долго и подавленно молчал. Ветер развевал его поредевшие седые волосы. Кажется, сам он был глубоко равнодушен и к бессмертию, и к молодости.
— Когда же кончилось ликование? — спросил я.
— Не скоро. Когда мы поняли, что бессмертные постепенно утеряли способность к размножению,
— Черт побери! А вы не догадались записать структуру каждого харисянина?
— Каждый харисянин в юности прошел эту запись… У нас хранятся эти картотеки. Но…
— Так что же? Эти копии… Они… тоже…
Кажется, я внезапно охрип. Семен Семенович усмехнулся и потрепал меня по руке.
— Эти «копии», как вы их называете, способны давать жизнь, но… не беспредельно же. Матрицы… представьте себе типографские матрицы, с которых печатают книги. Они постепенно изнашиваются. Нужны новые матрицы. Мы их использовали до конца, кроме тех, которые, раз записав, больше не воспроизводили… Тех самых, что лишали антенн.
— Лишенных себя?
— Да.
Я расхохотался. Я смеялся до слез. Давно мне не было так смешно.
Семен Семенович удивленно смотрел на меня.
— Неужели вам смешно?
— Очень. Разве вы не понимаете, как это смешно? Насколько я понимаю, пережившие себя бессмертные старцы скорее согласятся погубить цивилизацию, нежели призовут для ее спасения тех — непохожих, которых они изгоняли тысячелетиями. Слишком сильно они их ненавидят. Но я слушаю, пожалуйста, продолжайте…
— Основное я уже сказал. Так мы зашли в тупик.
— Но у вас лишь один путь…
— Лишь один.
— И вы согласны на него?
— Я лично считаю его единственно разумным и необходимым.
— А кто-нибудь, кроме вас, так считает?
— Да. И вам предстоит с ними увидеться — вам и вашим товарищам. Завтра вы будете встречать ваших землян на планете Харис, как я встретил и подготовил вас. Вы согласны нам помочь?
— Согласен.
— Кстати, этим вы поможете и самим себе, иначе… иначе вам остается только небытие…
Ночью я вышел из дома. Ночь была тихая, ясная, прохладная. Ветер уснул где-то. Океан мерно дышал. В гуще леса ухали птицы, звенели насекомые, изредка слышалось рыкание зверя. Со стесненным сердцем я стоял посреди темной лужайки и смотрел в небо.
Чужое небо, чужие созвездия. Ни одной знакомой звезды. А Луны у них совсем нет.
Мне очень захотелось курить. Машинально я пошарил по карманам. Конечно, там не было ни одной папиросы. Чувство бесконечного отчаяния, одиночества пронизало меня, как ледяной ветер. Значит, Земля — это Земля людей. Нет людей, нет Земли. Завтра я буду принимать людей. Надо спать. Согнувшись, я побрел в дом, но, не заходя, сел на ступени.
Разве уснешь! Я вдруг подумал, каким одиноким должен был чувствовать себя Познавший Землю, блуждая четыреста лет по чужой планете. И каким одиноким он, наверное, чувствовал себя на родной планете, от которой он оторвался духовно, да и физически — существуя в теле человека.
Бедный Семен Семенович. Где он сейчас, спит?
— Не спится, Кирилл, — услышал я голос Семена Семеновича. Он, кряхтя, опустился рядом.
— Вот есть папиросы, курите. Простите, что забыл вам их дать. Вот и спички.
— Вот спасибо! — Я с наслаждением закурил табачку Земли. Семен Семенович глубоко вздохнул.
— Я ведь тоже был приговорен к лишению себя.
— Семен Семенович! За что?
— Я был противник уничтожения личности. Я вступался за каждого непохожего, подлежащего уничтожению, пока меня самого чуть не постигла та же участь. Меня с трудом спасли Всеобщая Мать и Покоривший Пространство. Они сумели доказать, что я необходим как специалист по Земле, теоретически познавший ее до тонкости. Они предложили отправить меня на Землю для изучения ее уже в облике землянина. На это согласились, и я дважды перенес прыжок в гиперпространство. Это было очень страшно, поверьте мне. Мы умерли — исчезли на какие-то доли секунды вместе с космическим кораблем, а затем проявились вновь уже в качестве антивещества. Одушевленная антиматерия. Да, это было страшно, Кирилл.
Он закрыл рукой глаза, потом устало опустил руку.
— И все же это было не так страшно, как в ту ночь, накануне исполнения приговора — лишения себя. Я летал над заснувшим городом, поднимался за облака, где ослепительно пылали косматые звезды, думал о том, кем я стану завтра. Целый мир — мой внутренний, духовный мир — побледнеет, завянет и съежится. Засохнет и рассыплется. И меня уже не будет никогда. Тело мое останется живое и невредимое, как футляр от потерянного сокровища, — зачем оно? Крылья мои ослабли, я стал падать в пустоту. Потом я снова обрел силу, но некоторое время раздумывал — не разбиться ли мне насмерть? Ведь это лучше, чем медленно угасать без…
— Без души, — тихо подсказал я.
— Вы это называете душой? Да. Я хотел сложить крылья и разбиться, но подумал, что еще успею умереть. Ведь для этого не надо вдохновения, неповторимости, силы воли. Харисянин может умереть и без наложения на себя рук, просто по желанию, но это требует некоторого времени, усилия. И я вошел в свое жилище, стал внутренне готовиться к ужасному утру. Я собрал все свое мужество. Это было нелегко. Я плакал.
— Разве харисяне плачут?
— Обычные, соответствующие норме харисяне не плачут никогда, но непохожие плачут. У них, видимо, более тонкая нервная организация… Утром меня окружили плотной, волнующей толпой и повлекли на площадь, где должна была совершиться казнь. Толпа прибывала. Я задыхался, крылья мои измочалились.
— Как это происходит? — прошептал я. — Антенны отрезают? Это больно?
— Что вы! Кто же сможет взять, это на одного себя. Это совершается, так сказать, анонимно. Толпа. Проходят мимо, и каждый отрывает по кусочку.
— Коллективное убийство души… Как страшно!
— Да, это страшно, — просто сказал Познавший Землю. — Но я этого избежал. Меня лишили только тела, данного мне природой. А в человеческом теле я, скорее, человек. Мне даже стало казаться странным прежнее тело харисянина… Пошли спать, Кирилл. Не смотрите же так на звезды, не надо!
10 ЭТО Я
Он с вечера крепко уснул и проснулся в другой стране.
А. БлокВо Вселенной, страшной и огромной, Ты была.
В. Брюсов…Рената открыла глаза и улыбнулась Миру. Вот я и проснулась, как хорошо! Как я счастлива, что живу в этом чудесном Мире. И Мир, наверное, радуется, что я живу в нем.
Окончательно проснувшись, она села, по-детски протерла кулачками глаза и с удивлением огляделась. Огромный шестиугольный зал, торжественно пустынный, как храм. Без окон, но светло, будто свет просачивался сквозь стены.
Рядом стоял и взволнованно смотрел на нее высокий, молодой, худощавый человек с добрым и красивым лицом и знакомой черточкой между носом и губами, придававшей лицу неповторимое выражение нежности и мужественности одновременно.
— Только не пугайтесь, Рената, — сказал он ласково, — я вам все объясню.
— Как я здесь очутилась? — растерянно спросила девушка, мысленно преисполняясь доверия и приязни к этому несомненно доброму человеку. — А где это я? Ведь я шла…
— Где вы шли? — живо подхватил Кирилл, радуясь ей и боясь за нее.
— Сегодня на рассвете я сошла с поезда и направилась пешком в Рождественское… Мне не впервой пешком, хотя бы и с вещами. Но как же я могла очутиться здесь… и где это?
— Как вы себя чувствуете? — озабоченно спросил Кирилл и, взяв ее за руку уверенным и привычным жестом врача, пощупал пульс. Он был хорошего наполнения. И лишь чуть учащенным.
— Хорошо.
— Гм! — Кирилл не смог скрыть своего удивления.
— А разве я должна себя чувствовать плохо? Что со мной случилось? Кто вы такой?
— Я Кирилл Мальшет, врач-космонавт.
— Врач-космонавт… Никогда не слышала…
— Вы знаете, какой на Земле год?
— 1932 год, а что? Я не понимаю…
— Если вы хорошо себя чувствуете, я вам все объясню. Но сначала вы должны позавтракать. Помочь вам встать?
— Зачем же… Я сама. А вы откуда?
— Я тоже из Рождественского. Николая Симонова знаете?
— Николая? Конечно, это мой друг.
— Я его родственник.
…До чего разоспался, никак не стряхнет с себя сон. Что за гул, протяжный, низкий, как орган. Тайга расшумелась перед непогодой? Или близко пороги? Ах, да ведь он же на Луне!
…Иногда мать брала его с собой в лес. Чисто, светло и тихо было в хвойном лесу. Опавшая порыжелая хвоя пружинила под ногами. Солнце, словно дождь, проливалось сквозь темно-зеленые кроны. Они стояли перед старой елью — очень старой, — и мать с сочувствием и жалостью гладила ее по коре.
— Лет сто ей, поди? — небрежно заметил Харитон.
Он не понимал жалости матери к дереву. Раз старая, надо срубить, чего ей занимать зря место.
— Ей около пятисот лет, — сказала Таисия Константиновна задумчиво. — До ста лет кора у ели бронзовая, гладкая, словно кожа у юноши, хвоя ярко-зеленая, сочная. И вся она, молодая ель, полна жизни и радости, и ветер треплет ее крону, как развевающиеся волосы. После ста двадцати пяти лет на коре появляются первые морщины и серый налет… К ста пятидесяти годам кора делается чешуйчатой, крона редеет, появляются мертвые ветви. К ста восьмидесяти годам трещины становятся глубокими бороздами, чешуя крепнет, кора мертвенно-серая. А к двумстам годам кора как пепел. И хвоя как пепел на искривленных сучьях — утолщенных, как опухшие суставы у ревматика. Разве тебе не жаль ее? Иди сюда, Тони, смотри: какая она гордая, эта ель, какая величавая в своей глубокой старости. И она ведь радуется весне, солнцу, дождю, ветру и тому, что из земли по ней поднимаются холодные, горьковато-терпкие соки. Ель, наверное, думает, что старость — это просто болезнь и она еще пройдет.
— Разве дерево может думать? — буркнул сердито Харитон. Ему уже было двенадцать лет, он не маленький, чтоб слушать сказки.
— Какая ты выдумщица, мама!
Мать погладила его мальчишеские вихры и вздохнула.
— Почему ты такой рассудительный, сынок?…
Почему он вечно вспоминает этот эпизод? И с какой стати мать всегда смотрела на него с жалостью, как на убогого? Школа гордилась им — отличник, победитель всех математических олимпиад, учителя предсказывали ему большое будущее. А мать считала его обойденным судьбою. Воображение, эмоции — вот что она ценила превыше всего.
А как она искренне удивилась, когда он решил стать космонавтом. Как будто космонавт — это поэт или мечтатель (в чем — она так считала — ему отказано), а не человек действия. Математика, логика, кибернетика — вот что такое космонавтика, а не воображение и эмоции. И не более в нем тайн, чем во всякой точной науке, и все можно перевести на язык формул.
Сна как не бывало. Харитон открыл глаза и, морщась от головной боли, сел. Какого черта над ним стоит Кирилл и смотрит на него, спящего?
— Тебе чего, Кирилл? — спросил он неприязненно. И оглянулся вокруг. На широком тяжелом лице его отразилось недоумение.
— Черт побери, если я что-нибудь понимаю…
— Поймешь. Как ты себя чувствуешь?
— Как с перепоя. Башка разламывается. Где это мы?
— На планете Харис.
— Все шуточки… У американцев, что ли? Что со мной стряслось? Авария? Я ничего такого не помню…
— Можно назвать и аварией.
— Может, ты мне объяснишь подробнее?
— Непременно. Хоть сейчас…
… Уилки видел очень мучительный сон, будто он прощался с Джен навсегда. Он лихорадочно целовал ее губы, щеки, волосы, руки. Его трясло от тяжелых мужских рыданий.
— Как же я буду без тебя, Джен? — твердил он. — А ты?
— Но ведь ты будешь со мной всю жизнь, Уилки. Когда я умру, ты закроешь мне глаза, только ты.
Но Уилки Уолт знал, что он никогда не увидит жену и детей. Ни жены, ни детей.
— Как же я буду без вас? — твердил он в отчаянии.
Он так стонал и метался, что Кирилл стал его будить, не дожидаясь, когда тот проснется сам.
Уилки узнал Кирилла и с облегчением вздохнул. Лицо его было мокро от слез.
Просыпаясь по утрам он вспоминает: Вика! Первая мысль — и ничего не поделаешь. Когда-нибудь пройдет, может быть. Когда уже будет своя семья… Жена, дети.
Если Вика… полюбит его. Он никогда не женился бы даже на Вике без ответной большой любви.
Яша открыл глаза, Кирилл крепко обнял его.
— Яшка, дружище! Дорогой мой! Я думал, уж не увижу тебя больше! Ох, Яшка, попали мы в переплет!
…Вот и все, что я знаю сам, — закончил Кирилл свой рассказ.
— Просто невероятно, — мрачно проговорил Харитон, — никогда бы не поверил!
— Значит, ни жены, ни детей… никогда… — уронил Уилки. Кирилл протянул ему папиросы. Они сидели в кают-компании дома — большая, бревенчатая комната, и пятеро людей с Земли за круглым столом.
Яша был бледен, но уже овладел собой.
— Если решил стать космонавтом, надо быть готовым ко всему, — стоически заметил он.
Рената обвела всех потемневшим взглядом. Зрачки ее расширились, губы пересохли. Она закинула упавшую на лоб прядь волос — рука ее дрожала.
— Какие страшные существа! — протяжно выговорила она. — Лишить себя. Убить душу живую. Тысячелетиями убивать поэзию! Вы знаете, я поняла, почему они это метут. Когда они были маленькие, им не рассказывали сказок, не пели песен. У них даже музыки нет! И они — не знают любви. Просто размножение, когда наступает для этого время. Как страшно!
— Кирилл! Этот харисянин… Познавший Землю, он говорил, что есть Всеобщая Мать. А об отце он что-нибудь говорил? У них есть отцы?
— Об этом… он… ничего не рассказывал, — неохотно отозвался Кирилл.
— Может, они их… побивают, как трутней? Или…
— Не будем фантазировать, — укоризненно прервал девушку Кирилл. — Я при случае спрошу об этом у Семена Семеновича.
— «Семен Семенович»! — фыркнул Харитон.
— Не знаешь, кто будет завтра воссоздан? — спросил Яша. Кирилл пожал плечами.
— Не знаю. Я поражен, друзья, как я не заметил, что эта планета вращается в обратную сторону, а я ведь здесь уже третьи сутки. А Харитон уже через час заметил. Насчет воссоздания… Пока это приостанавливается… Будет продолжено в другом месте.
— Планета… где солнце встает с запада, — удивленно проронила Рената. — Что-то нас ждет?
Харитон чуть виновато смотрел на Кирилла.
«А ведь он не знает, что было на Луне после его возвращения, — думал Харитон. — Не знает даже, что один из Кириллов убит осколком метеорита. И пусть не знает, неприятно об этом узнать. И я не верил… Пожалуй, я всегда недолюбливал Кирилла… За что? Может, за то, что у него есть все, что мать ценит в людях, — богатые и щедрые чувства. А вот теперь… Я рад, что именно он здесь, со мной, с нами.
Бедняга Уилки совсем скис. А эта девушка… Держится молодцом. А ведь она испугана, очень испугана. И хорошо еще, что с нами Яков Шалый. На него можно положиться.
Неужели где-то в немыслимой дали существую я — еще один я? Черт побери!»
Вошел Семен Семенович и, пожелав доброго вечера, устало опустился в кресло.
— Утром отправимся в город, — сообщил он. — Победивший Смерть хочет вас видеть, всех пятерых.
Семен Семенович обвел нас взглядом, чуточку дольше задержавшись на Харитоне.
— Кирилл рассказал вам все, — проговорил он, не спрашивая, а утверждая. — На вас лежит большая миссия. Вы полномочные представители своей планеты.
— Разве нас кто-нибудь уполномочивал? — холодно спросил Харитон.
— Тем не менее вам придется действовать и принимать решения от имени всего человечества, — возразил Семен Семенович. — Решать от лица вашей цивилизации, не имея возможности посоветоваться. Иметь смелость решить, что взять для людей, потому что наши ученые предложат вам за вашу помощь знания. Приняли бы вы, например, бессмертие?
— Никогда! Разве можно! — вскричала испуганно Рената. Все посмотрели на нее.
— Так сразу… не подумав? — мягко обратился к Ренате Харитон. И так непривычна была в нем эта мягкость, что Кирилл и Яша с удивлением взглянули на него.
— Что ж здесь думать, это ведь так очевидно, — взволнованно возразила Рената, — представьте себе уставших от жизни стариков. А молодость… не нуждается в бессмертии! Разве я не права? — закончила она упавшим голосом. Кирилл кивнул ей, чуть улыбнувшись.
— Почему мы пятеро предстали первыми? — обратился Яша к Семену Семеновичу. — Это случайность или… какие-то соображения, что вы именно нас выбрали?
— Это не случайность, — спокойно ответил харисянин. — Мы надеемся на помощь человека… Мне поручили подобрать наиболее человечного. Остальные находятся в том или ином отношении к нему.
«Почему тогда я, — подумал Харитон, — я никогда не был ему другом».
. — Перед лицом чуждой цивилизации все земляне — друзья, — заметил Семен Семенович, бегло взглянув на Харитона. — Вы все четверо работали вместе, в одной обсерватории на Луне. Космонавты. Друзья.
— А я… ведь я даже не знаю Кирилла, — волнуясь, сказала Рената. — Правда, мы земляки — оба из села Рождественского…
— Зато Кирилл вас очень хорошо знает, — дружески разъяснил Семен Семенович. — Он вырос на бесконечных рассказах деда о вас. Вот непостижимая связь людей между собою. Кирилл может рассказать вам об этом лучше. Попросите его. А я пойду. Мое тело начинает стареть — какое блаженство, — и мне отнюдь не хочется менять его на молодое. Может, мне разрешат умереть, когда все кончится. Спокойной ночи!
Семен Семенович вышел, едва заметно волоча ноги. Плечи его согнулись.
— Как он похож на Уэллса, — сказала Рената.
— Он действительно устал, — заметил Кирилл сочувственно. — Четыреста лет на Земле, в разных обличьях. И еще раньше несколько сот лет на планете Харис. Он очень устал, бедняга.
— Расскажи о Ренате, — попросил Харитон.
— Да, пожалуйста, расскажите о ней, о той Ренате, — присоединилась к его просьбе девушка.
Кирилл рассказал все, что он знал о Ренате сам от деда.
— Дед всегда говорил, что она была чудачкой по призванию, — задумчиво заключил Кирилл. — Она погибла в метель тридцати девяти лет от роду — маленькая, пылкая, нетерпимая ко злу, агроном из глухого села, и сразу стало очевидно, что она светила всем, как яркая звездочка, и люди ужаснулись, как они могли смеяться над ней, злословить о ней, мешать ей работать, мешать ей быть самой собой. На могиле ее надпись: «Мир стал лучше от того, что она в нем жила». А один из учителей сказал на похоронах: «Если бы ее не было, Мир стал бы хуже. Маленький Дон Кихот из Рождественского». И расплакался при всех. И дети о ней очень плакали.
Вот тогда мой дед, Николай Симонов, ушел от семьи, потому что его жена — моя бабка — тоже не любила Ренату, сама не зная за что.
Бабушка всегда говорила: «Как все, так и я». Рената лишь тогда шла за всеми, если эти все поступали добро и честно. Она могла одна пойти против всех, если видела, что большинство собираются поступить не по-доброму, несправедливо.
— Я бы хотела прожить свою жизнь в Рождественском, как она, — загрустила Рената, — делая свое дело, выполняя свой долг и радуясь миру, стихам, цветам и добрым людям. А здесь… я не знаю, в чем заключается мой долг здесь, на этой планете?
— Быть представителем человечества, — усмехнулся Яша.
— Я только хотел это сказать, — улыбнулся и Кирилл. Разговор смолк, но они еще долго сидели рядом — пятеро с планеты Земля — четыре космонавта и агроном из глухого села.
Они очень устали, почти выбились из сил, но не расходились потому, что Уилки Уолт был в отчаянии, и они боялись оставить его одного, а также потому, что сами были в угнетенном состоянии и никому не хотелось оставаться одному.
Наконец Кирилл убедил их идти спать, а сам остался с американцем.
— А нельзя ему дать снотворное? — шепнул Харитон, уходя.
— Слишком перевозбужден, снотворное может не подействовать, — так же шепотом ответил Кирилл, — боюсь вызвать судороги. Но под утро я рискну. Иди спи, Тони.
Все ушли. Уилки схватил Кирилла за руку.
— Посиди со мной, — умоляюще произнес он. — Это самый страшный час в моей жизни. Я даже не могу радоваться за Джен, что она теперь счастлива, — рядом дети… и любимый муж. Ведь тот Уилки… он уже дома. Ему дети, ему жена, ему слава, ослепительный путь в науке. Счастливчик Уилки! Так меня звали всегда, с детства. Теперь это все у него. А мне… мне? Быть представителем человечества?
— Это не мало, — возразил Кирилл. — Давай закурим, дружище.
Рената тоже не сразу уснула. Оставшись одна, она дала волю слезам: никогда больше не увидит она отца! Никогда! Папа, милый папа! Отец ты мой дорогой, светлый ты мой человек! Хоть бы еще побыть с тобой.
Правда, та Рената, что благополучно вернулась со станции утром 1932 года, она тоже потеряла его скоро. И так же плакала о нем и тосковала. Ох папка, мой любимый папа! Как я хочу тебя видеть! К утру усталость сморила Ренату, и она уснула. И видела она во сне ржаные и пшеничные поля. Как пахло цветущими хлебами! Как неутомимо стрекотали кузнечики!
Во сне она опять видела, что бежит за радугой. Этот сон-воспоминание снился ей довольно часто. В детстве она думала, что до радуги можно дойти. Радуга сияла за березами, совсем близко, просто рядом… И Рената с бьющимся сердцем, с пересохшими от нетерпения губами бежала через березовую рощу.
Потом оказывалось, что радуга за холмами, но до нее всё же вполне можно дойти еще до того, как стемнеет. И девочка шла, пренебрегая предстоящей нахлобучкой дома. Мать была очень нервной, у нее был порок сердца, и она всерьез боялась, что из Ренаты выйдет бродяжка. Если бы мать узнала про радугу, то расстроилась бы еще больше: она не принимала всего того, что, по ее словам, не имело здравого смысла. Отец не такой. Он мечтатель, стойкий, добрый, как Дон Кихот.
И вот Рената взбиралась на высокий холм, а радуга уже за Волгой, за лесом словно заманивала вдаль. Тяжело дыша, почти не мигая, Рената долго смотрела, как медленно бледнела и гасла ее прекрасная радуга. И вот ее уже нет… Когда-то появится снова?
И все же зря она бежала за ней. В погоне за радугой Рената заново открыла Волгу — ее отмели, длинные песчаные мысы, скрытые кустарниками бухточки, за горой Иванова могила покинутый меловой карьер, холодную прозрачную речонку Лесовку, вытекавшую из леса, чтоб влиться в Волгу.
Летом Лесовка была не такая уж и холодная, по ее чистому песчаному дну можно было часами идти босиком, подобрав ситцевое платьишко повыше.
Догоняя радугу, Рената открыла лесной родник с ледяной водой, такой вкусной, какой нигде больше не пробовала. И много других замечательных уголков открыла в первые свои десять лет Рената, догоняя радугу. А когда стала старше, поняла, что это все и есть ее родина, одна навсегда — щемяще-любимая, прекрасная, неповторимая Россия. И лишь когда стала еще старше, в понятие Россия вошли и замечательные люди.
Отец и маленькая Рената шли, держась за руки, через молодую дубраву, посаженную учителем для своих односельчан; через речку Лесовку, через деревянный мостик, через разноцветные, волнующиеся на ветру луга.
— Чи-ви, чи-ви, чи-ви! — кричал пестрый чибис, носясь над гнездовьем. И журчала вода в ручье, спотыкаясь о камни. О, голубой и зеленый Мир детства, приди еще раз!
11 БЕССМЕРТНЫЕ НЕСЧАСТНЫ
Всякая цивилизация включает и то, к чему общество стремилось, и то, чего никто не замышлял.
Ст. ЛемТонкий харисянин с остатками слабых крыльев долго вел нас длинными, преломляющимися под прямым углом коридорами, огромными, как площади, гулкими залами, своды которых терялись в туманной высоте. Мимо лабораторий, где что-то делали, нагнувшись и бормоча, харисяне у поблескивающих непонятных аппаратов, мимо машинных залов, где что-то постукивало и потрескивало, что-то шипело и бухало.
— Вот любят большие помещения, прямо гигантомания какая-то, — шепнул Харитон.
В сравнительно небольшом шестиугольном высоком, как храм, серебристом помещении, вся обстановка которого состояла из «табуретов», похожих на тумбы, нас ждали, сидя, несколько харисян.
Мы раскланялись, они отвечали тем же. Семен Семенович предложил нам сесть, мы сели. Один из харисян что-то сказал на своем свистящем и щелкающем языке, переходящем в невнятный клекот. Звуковые колебания их речи переходят границы, воспринимаемые человеческим ухом. Ультразвуки! Впоследствии с помощью прибора, улавливающего коротковолновые звуковые колебания, удалось записать их голоса полностью.
Семен Семенович представил нам харисян: Всеобщая Мать, Победивший Смерть, Покоривший Пространство и Хранитель Картотеки.
Они были так похожи — для нашего неискушенного глаза — друг на друга, что мы сейчас же спутались, кто из них есть кто. Но Семен Семенович каждый раз называл их по имени, и мы постепенно стали их различать.
Всеобщая Мать была всех крупнее и тяжелее, бронзовое тело ее потемнело, покрылось серыми чешуйками, янтарные глаза потускнели. Хранитель Картотеки был сухонький, маленький, худой, руки его и крылья совсем истончились, как у высохшей летучей мыши.
Жизненная сила более всего чувствовалась в Покорившем Пространство. Он и повел разговор. Для краткости опускаю посредничество Семена Семеновича как переводчика.
Покоривший Пространство осведомился, как мы себя чувствуем. Мы поблагодарили и сказали, что чувствуем себя хорошо (Уилки прерывисто вздохнул, Харитон только крякнул).
Затем Покоривший Пространство спросил, известна ли нам история цивилизации Харис.
Все молчали, и тогда мне пришлось заверить, что «известна в общих чертах».
— Наша цивилизация зашла в тупик и гибнет, — сказал Покоривший Пространство. — Уже около тысячи лет ни одного значительного технического или научного открытия. Пользуемся техникой прошедших столетий. Любознательность гаснет, интерес к жизни чуть теплится. Все чаще обращаются к Всеобщей Матери с просьбой разрешить умереть… с уничтожением записи структуры тела и мозга. Некоторые уничтожают себя и без разрешения. Равнодушие к интересам рода, равнодушие к судьбе вида. Судьбе планеты. Единственное чувство, которое еще горит ярко, — ненависть к непохожим. Общая апатия, равнодушие сменяются вспышкой слепого гнева, когда у непохожих уничтожают антенны — гасят их личность. Мы здесь все под угрозой, даже Всеобщая Мать.
— Я с нетерпением жду своего конца, — перевел ее слова Семен Семенович. — Если я больше не создаю жизнь, зачем же мне самой жить? Среди записей, уничтоженных за непохожесть, изредка попадались и Матери. Они не стерты и смогут дать жизнь новым молодым харисянам. Свой последний долг я вижу в том, чтоб спасти погибающий род. Вторично эволюция не создаст его.
Заговорил Победивший Смерть. Голос его странно отличался от голоса других харисян. Он несколько напоминал голос человека, говорящего на нигде не слышанном языке.
— Это мое открытие погубило цивилизацию Харис, — глухо сказал он, — Старение и Смерть страшны для отдельного индивидуума, но полезны для вида в целом. Как мы могли об этом забыть, именно мы, харисяне, у которых отдельная личность никогда не имела самодовлеющего значения!
Мы подписали приговор разумной жизни на планете Харис. Но еще есть последняя возможность спасти ее… Это признать Непохожесть и вернуть ее к жизни. И мы, бессмертные, которые несчастны, просим смертных людей помочь нам в этом. Ибо нас, понимающих, слишком мало, и мы должны остерегаться своего же рода. Вы не откажете нам? Познавший Землю — это он предложил осуществить спасение с вашей помощью — ручался за вас. Но… может быть, он ошибся? Какое вам дело до чужой цивилизации.
— Он не ошибся, — заговорил я, — что мы должны делать?
— Необходимо прежде всего перепрятать записи структур непохожих, а также записи людей, сохраняющиеся у нас с древнейших времен. Хранитель Картотеки проведет вас в хранилище, и вы можете сейчас же просмотреть их.
Когда записи структур будут переправлены — ночью — в подготовленное убежище, вы поможете воссоздать тех из землян, за которых вы поручитесь жизнью, что они не причинят вреда нашей планете, не будут убивать. Затем поможете воссоздать харисян. Когда их будет достаточно, они сами закончат работу.
— А что будет с нами? — спросил Харитон.
— Вы будете нашими гостями сколько захотите. Мы поделимся с вами нашими знаниями… которые вы сочтете разумным заимствовать, ибо не всякое открытие полезно разумным существам. А затем — затем мы отправим вас на вашу планету. Вы уже знаете, что путешествие из нашей системы в вашу совершится в доли секунды. Некоторое время займет лишь передвижение в самих солнечных системах.
— Вы отпустите нас на Землю? — обрадованно воскликнула Рената.
— Конечно, вы же не пленники, а гости. А если кто-либо из вас пожелает остаться навсегда на планете Харис, мы будем лишь рады.
— Возможно ли снестись по радио с Землей? — спросил Яша.
— Возможно, но это требует колоссального количества энергии… почти как сам перелет. Если это вам будет очень необходимо, мы сможем устроить вам разговор с Землей. Только не теперь. А после… когда… сейчас мы бессильны.
Мы поговорили еще немного и простились. Хранитель Картотеки повел нас в хранилище.
Оно находилось глубоко в земле. Мы спустились по движущейся ленте. Она скользила над голубоватой шахтой, конечно, без перил. Затем мы шли постепенно сужающимся коридором, пол его подымался, а потолок опускался — или это был обман зрения?
Хранилище было похоже на библиотеку, только вместо книг — бесчисленные стеллажи, заполненные рядами крошечных — с наперсток — «катушек». И в каждой такой «катушке» была записана жизнь со всеми ее тревогами, муками, стремлениями, мечтами, воспоминаниями и надеждами.
По приглашению Хранителя мы сели у стола, и он подал нам самые обыкновенные каталоги — на русском и английском языках. Заботливый Семен Семенович приготовил их заблаговременно для нас.
Мы просматривали эти каталоги людей и вскрикивали от неожиданности. Семен Семенович снисходительно посматривал на нас, как на малых ребят. Было от чего прийти в изумление.
Первое знакомое имя, которое нам попалось, был неистовый протопоп Аввакум. Сначала мы онемели, затем разволновались (Яшка почему-то развеселился). Трудно было представить, как повел бы себя Аввакум на планете Харис, не похожий ни на ад, ни на рай. Но какая личность! Вот это личность!
Затем мы прочли на той же странице: Петр Первый. И снова разволновались. У меня даже голова заболела. Иметь возможность возродить Петра!!!
Петр — крутой, гениальный, с неудержимой и неутомимой волей. У него же каждая мысль претворялась в дело… Вся беда этого поистине великого преобразователя России была в том, что великие прогрессивные для того времени идеи он хотел провести в жизнь насилием, жестокостью, казнями, кнутом.
— Не надо его возрождать, — взмолилась Рената, — он был жесток.
Затем нам попались имена Пушкина, Достоевского, Менделеева, Пирогова, Кибальчича, адмирала Нахимова, матроса Кошки, Николая Рериха, Чайковского, Александра Грина, Циолковского…
— Его в первую очередь надо возродить, он имеет на это право! — воскликнул Яша. Все единодушно согласились с ним. Дальше мы нашли в списках структуру Софьи Ковалевской, путешественника Черского, Константина Сергеевича Станиславского и целого созвездия актеров его школы, имена известных писателей и многих, многих других.
Неожиданно Рената вскрикнула и схватила меня за руку.
— Моя прабабка! Боже мой! Смотрите: Авдотья Ивановна Финогеева, из села Рождественского на Волге, в возрасте пятидесяти лет. Моя прабабка! Она была совсем неграмотная, но выдающаяся сказительница. Я потом расскажу вам о ней. Умоляю, возродите ее!!! Лучше, когда все наладится, успокоится. Мы ведь еще не знаем, что нам предстоит. Подумать только, моя прабабушка!!!
Рената окончательно разволновалась и даже заплакала. Неожиданно Уилки потребовал список соотечественников. Кажется, он надеялся найти там жену…
— Давайте пока отложим эти списки, — предложил Харитон, — после со спокойной душой просмотрим их. Сейчас мы слишком разволновались. Протопоп Аввакум, родная прабабка, Марина Цветаева, — с ума можно сойти. Давайте лучше посмотрим город… если можно.
Семен Семенович сказал, что можно. Каталоги я спрятал в карман пиджака. Мы вышли в город.
Не знаю, в чем здесь причина, в том ли, что я первый раз смотрел город один, без друзей, или я был тогда слишком утомлен, подавлен, но лишь теперь я смог разглядеть этот странный, потрясающий город. Какие странные пространственные представления!
Город, свободно парящий в воздухе: движущийся, пульсирующий, живой, невесомый город, весь устремленный ввысь. Композиция из прозрачных, просвечивающихся плоскостей и объемов, — причудливые фееричные формы. Они напоминали загадочные структуры, строение атома или строение мышц, тканей (мне, как врачу, бросилось это теперь в глаза), словно колонии кораллов, раковины в паутине, спирали, вертящиеся веретена, трубы и блистающие нити. Все это сконструировано так, что силы колебания, давления и натяжения взаимно уравновешивались.
Харисяне обходились без строительных материалов. Зная физические и химические свойства воздуха, они создавали из него нужные им объемы.
Архитектура, выражающая невесомость, крыши, днем поглощающие свет, ночью излучающие его. Игра света и тени на разных уровнях.
А внутри перекрещивающиеся спиральные коридоры — трехметровый лабиринт ходов, несчетные шестигранные ячейки.
Беспощадный Мир, не признающий самое ценное, самое прекрасное, ради чего лишь стоит стремиться к общественному совершенству, — личность.
Дивные дворцы — нет, храмы Науке, Технике, Производству, где сквозь своды струится солнечный свет и веет ветер. И здания, похожие изнутри на плод граната, где каждое зернышко — это крошечная шестигранная камера, ячейка. Безликое однообразие пчелиных сот, потому что харисянину для себя лично, кроме этой шестигранной камеры для сна, ничего не надобно. Скопления сотов могли чудовищно разрастаться до бесконечности.
Полное отречение от себя, и вдруг сумасшедшая вспышка гения, там, где гениальность могла прорваться, а раз прорвавшись, самоутвердиться.
Надолго ли? Гений, творящий под вечной угрозой лишиться души.
Я невольно содрогнулся.
— Потрясающе! — воскликнул Яша. Уилки от восторга не находил слов. У Ренаты, кажется, перехватило горло. Она уцепилась за меня, другую руку прижала к горлу. Даже флегматичный Харитон был взволнован.
Всю ночь мы работали, переправляя записи структур в приготовленное убежище.
Хранитель упаковывал «катушки», Яша, Рената и я грузили их на нечто, подобное «вагонеткам», с той разницей, что они просто парили в воздухе и сами проходили путаный путь под землей до выхода, где их поджидал планетолет.
Семен Семенович и Харитон совершали рейсы до убежища, устроенного где-то в горах. К утру мы переправили значительное количество записей харисян, остались целиком «катушки» с записями землян.
Семен Семенович отпустил нас отдохнуть. Почему-то нам приготовили постель в одной комнате всем, но мы так устали, что не обратили на это внимания и мгновенно уснули. Мы проспали не более четырех часов, когда нас разбудил Семен Семенович. Он был очень бледен и сказал, что надо спешить, так как в городе неспокойно: вышли харисяне.
Мы наскоро поели каких-то фруктов, хлеба и яиц. С улиц доносился протяжный нарастающий шум. Я хотел выйти на открытую галерею, но Семен Семенович воспротивился. Он боялся, что меня увидят, и это увеличит раздражение.
Но когда мы стали спускаться в хранилище, он открыл дверь на одну из террас, почти закрытую изображением какого-то математического символа.
— Можете посмотреть, но осторожно, не высовывайтесь, — сказал он нам тихо.
Как он сегодня был тих. Вот что мы увидели, спрятавшись за темным символом. Мы увидели безостановочный ход обгоняющих друг друга харисян.
Утро было очень жаркое. На знойном раскаленном небе ни облачка. Крылья харисян отливали на солнце золотом. Одни бессмысленно кружили по огромной площади, другие стояли покачиваясь или куда-то стремительно бежали. Иногда они обменивались на бегу прикосновениями антенн, после чего гнев их (даже мы понимали, что это была гневающаяся толпа) угрожающе нарастал.
Толпа харисян на глазах увеличивалась, расширялась, покачивалась, некоторые взлетели и парили над площадью невысоко, но большинство уже утеряли способность летать, — словно куры, — и только раскачивались. Гул стоял, как на птичьем базаре, где скопились сотни тысяч птиц.
Рената вскрикнула от ужаса. «Пошли», — напомнил Семен Семенович. Мы продолжали спуск.
Солнце и ветер проникали в световые проемы, и на сквозняке — в зданиях харисян вечно дуют сквозняки — плясали в озарении солнца скопления пылинок.
Хранитель был невозмутим, как и вчера, как будто там, на площади, ничего не происходило. Он приготовил для нас новые упакованные тюки. На этот раз это были записи структур людей, вынести их сегодня было значительно трудней…
Растерянный Семен Семенович предложил подождать. На что он надеялся?
Мы перетащили тюки в планетолет, укрытый на крыше среди паутины спиралей, нитей, причудливых символов. Все было готово к отлету, но, видимо, заговорщики боялись привлечь внимание. Мы опять спустились вниз, в сумрачный и пустынный зал, где находились Всеобщая Мать, Победивший Смерть и Покоривший Пространство.
Они сидели молча — сложенные крылья ни дать ни взять сероватые фраки, — поблекло их золото, руки бессильно опущены, а янтарные глаза потемнели и встревожены. Умные печальные глаза. Серебристые антенны в верхней части головы чуть покачивались и дрожали. Харисяне сидели неподвижно, прислушиваясь к усиливающемуся гулу на площади. Сквозь скользящую лавину шума проступали одни и те же созвучья, как будто харисяне скандировали одни и те же слова.
Я вопросительно взглянул на Семена Семеновича. Он пояснил вполголоса:
— Род требует Всеобщую Мать. Сейчас она выйдет к ним… Победивший Смерть пойдет с ней.
У меня сжалось сердце. Присели перед тем, как выйти навстречу смертельной опасности, — совсем как люди.
Вышедшие из одинаковых сотов, где сумрак, сон, пустота ждут их. Чтобы спросить отчета или расправиться? Кто они — господа или рабы? Или на Земле нет им аналогии?
Всеобщая Мать поднялась, чтоб проститься. Она поочередно обняла Покорившего Пространство, Хранителя, Победившего Смерть. Нежно дотронулась антеннами до их антенн. Обняла Семена Семеновича. Потом ласково, по-матерински, дотронулась до каждого из нас. Напомнила, что мы обещали помочь гибнувшей цивилизации. Так же простился со всеми Победивший Смерть.
Затем Всеобщая Мать обратилась к Хранителю, и он неохотно передал ей что-то: небольшую коробку в виде красноватого плода.
Всеобщая Мать открыла коробку и заглянула внутрь, затем медленно закрыла ее.
Почему-то я понял, что там находилось, и по спине у меня пробежал мороз.
Мои товарищи тоже поняли — настолько мы прониклись ощущением и болью харисян. Так оно и оказалось: в коробке была запись ее структуры.
Всеобщая Мать еще раз оглядела нас всех и, что-то властно сказав на прощание, пошла к выходу. Победивший Смерть шел рядом с ней.
— Она приказала нам спасаться и спасти записи структур, — задыхаясь, проговорил Семен Семенович. Он сорвал с себя нелепый земной галстук и уронил его на пол.
Мы поднялись на крышу, где стоял приготовленный планетолет с погруженными в него «записями», но не сели в него, а подошли к самому краю террасы. Покоривший Пространство и Хранитель недвижно застыли в стороне.
— Неужели они убьют ее? За что? — вскричала Рената с ужасом. — Непостижимая планета Харис, непостижимые харисяне!..
Семен Семенович тяжело поднял руку. Ни кровинки не было в лице его.
— Род призвал ее потому, что она не может больше производить жизнь.
— Но разве она виновата в этом? Разве они не знают?
— Знают. Но сейчас разум в них подавлен… Говорят древние-древние инстинкты, требующие новую Всеобщую Мать. Но нет больше Матери…
— Разве у вас нет жен? — не могла понять Рената.
— Есть. Но они тоже бессмертны и потому не могут воспроизводить жизнь.
Рената хотела еще что-то спросить, но не решилась и умолкла.
В молчании мы смотрели, как Всеобщая Мать вышла к детям своим, — рядом с ней тяжело шагал Победивший Смерть, вокруг них сомкнулась крылатая толпа.
— Они убьют ее! — прошептала Рената в отчаянии.
— Тогда они сами умрут, — тихо пояснил Семен Семенович, — убившие Мать обычно умирают в ближайшие часы, иногда минуты. Сердце их не выдерживает, ведь они любят Всеобщую Мать больше жизни.
— Но ведь они бессмертны! — удивился Уилки.
— Если слишком большой стресс, сердце не выдерживает… разрывается.
— Тогда зачем… — прошептала Рената и отвернулась.
Мне самому хотелось отвернуться, но я был ученый, я был на неизвестной планете. Я обязан смотреть, и я заставил себя смотреть. Уилки был только астроном. Он отошел в сторону и остановился там, сжав зубы.
Я видел, как харисяне отрывали им антенны, как сжимали их в плотном кольце все теснее и теснее. Я видел поднятую руку Всеобщей Матери с коробкой в виде красноватого плода — она не хотела обманывать свой род, оставляя за собой возможность нового воссоздания.
Запись копии вырвали и растоптали. Затем раздавили самый подлинник — единственный, неповторимый, непознанный.
С Матерью погиб и Победивший Смерть. Он думал, что харисяне не посмеют посягнуть на того, кто даровал им бессмертие, и он сможет защитить Мать.
— Пошли, — сказал Семен Семенович.
Мы сели в планетолет. Покоривший Пространство сам включил двигатель и, уже не опасаясь ничего, сделал медленный круг над площадью. Толпа харисян медленно, как кровь от остановившегося сердца, отливала от площади, оставляя позади себя сотни умирающих и умерших.
Семен Семенович был прав.
Планетолет несся над лесами и над водами, а я все думал о происшедшем. Темна, сложна и непонятна для нас, людей, их психология. Что это было! Месть, расплата, отчаяние? Силы слепого инстинкта? Биологическая или социальная загадка?
Убежище было скрыто далеко в горах. Огромный лабиринт с мощнейшим оборудованием по воссозданию структур. Вокруг простирались непроходимые леса.
К нашему удивлению, мы увидели на зеленом склоне горы наш бревенчатый дом. Его уже переправили сюда. Семен Семенович поселился с нами, заняв отдельную угловую комнату за библиотекой. Он сразу после ужина ушел к себе. Мы остались одни. И тогда, в первый же вечер, безмерно усталые, измотанные до предела, мы схватились с Харитоном.
Он вдруг заявил, что мы не должны принимать никакого участия в «спасении» этой цивилизации, так как мы не можем знать истинного положения вещей.
— То есть как? — удивился я.
— Что мы о них знаем? То, что нам счел нужным рассказать этот подозрительный Семен Семенович?
— Подо… зрительный?!
— Я вообще не верю, что он харисянин. Ему не верю, и баста! Познавший Землю, четыреста лет на Земле — бред какой-то. Что мы поняли в сегодняшних событиях? Может, это революция? А мы укрылись с владыками и собираемся помочь им? Непохожие!!! — Он возмущенно фыркнул. — Гитлер был тоже непохож на обыкновенного немца. А Муссолини — разве это было типично для итальянского народа, простодушного и веселого?! Может, эти харисяне до смерти рады, что избавились от этих «непохожих», а мы поможем их возродить? Послужим делу реакции?
— Нельзя же проводить прямую аналогию с Землей! — рассердился я.
— Я только хочу сказать, что не желаю вслепую помогать неизвестно кому. Мне надо разобраться.
— Разве можно что-нибудь понять в их устройстве? — вмешался Уилки. — Чужая и чуждая цивилизация. У них даже денег никогда не существовало.
— Разве у них есть классы, — поддержал его и Яша, — какая может быть аналогия? Цивилизация явно вымирающая, значит, надо помочь возродить ее. И не по образцу Земли, а по их собственному. Разве не ясно?
Все заспорили, заговорили разом. То, что все смертельно устали, вовсе не прибавило нам благоразумия.
В разгар спора к нам вошел Семен Семенович.
— Простите, но вы говорили так громко, что я все слышал. Сомнения Харитона Васильевича понятны мне. Есть возможность изучить язык харисян за несколько сеансов… Тогда вы ознакомитесь с нашей историей и разберетесь в ней сами.
Харитон, кажется, смутился. Семен Семенович посмотрел на него пристально.
— Я не обиделся, — успокоил он, — почему вы должны слепо доверять? Мой родной народ настроен ко мне недоверчиво… Сначала я был непохожим, мне едва не удалили антенны, затем был землянином… Слишком долго. Так долго, что стал восхищаться людьми. Не всеми, конечно.
В людях мне как раз не нравилось то, что стало главным в харисянах. То, что они боятся непонятного. Мало того. Часто не верят в то, чего не понимают. А объясняют свое неверие… здравым смыслом! Бороться с таким неверием очень трудно. И я не смог отказать себе в удовольствии просто посмеяться.
Ликвидируя нашу базу в Гималаях, я воссоздал все имеющиеся у нас структуры до одной и сам лично доставил их на место, где они в свое время были взяты на несколько часов. Итак, на Земле XXI века очутились теперь Константин Циолковский, насмешник Марк Твен, Галилей, милый Андерсен…
Возле села Рождественского я оставил ранним утром в июле 2009 года Ренату Петрову…
— Ренату? Теперь! — воскликнул я вне себя, подумав сразу о деде. Хватит ли у него сил и рассудка перенести возвращение той, которую он не сумел при жизни защитить.
— А вашу прабабку, Рената, я оставил под Москвой, там, где она была взята после богомолья в Троице-Сергиевой лавре… Пусть попробуют объяснить обладающие «здравым» смыслом.
— Просто посадят в сумасшедший дом, — пожал плечами Харитон.
— Не так просто: с ней документы, выданные в 1899 году, одежда, сшитая тогда же, свежая газета, в которую она завернула купленную в лавре иконку…
— Моя прабабка?!! — Рената закрыла ладонями лицо. Яша привстал. Глаза его заискрились смехом.
— А протопоп Аввакум… тоже… где вы его высадили?
— В Москве.
— Через триста с лишним лет… это невероятно, — не выдержал я. — Не жестоко ли это по отношению к нему? Аввакум и так много выстрадал. Больше, чем человек может вынести.
— Более жестокого, чем небытие, ничего нет! — яростно возразила Рената. — Пусть Аввакум посмотрит, как живут его потомки.
12 НИКТО НЕ ПОВЕРИТ
Не понимаю — значит, не существует!
А. ГринДомой я вернулся на рассвете. Отпер ключом дверь. В квартире было очень чисто, свежо, даже в прихожей пахло цветами. Розы мои политы, пыль всюду вытерта, полы натерты и даже в холодильнике нашлось кое-что съестное.
Это позаботилась Марфа Евгеньевна Ефремова — мое прямое начальство, Яшина тетка.
Я обошел свои три комнаты, вскипятил на кухне чай и там же выпил его у самовара. Потом прилег со свежими газетами на постель. Однако мне было не до чтения.
Я вдруг почти с испугом подумал о том, как мне придется звонить и отвечать на звонки друзьям, встречаться с ними, улыбаться, шутить. Выступать вместе с Харитоном, Яшей и Викой на пресс-конференции или в студии перед телезрителями, на разных научных конференциях и симпозиумах. Доказывать в Академии наук…
Хорошо хоть, с тех пор как ввели регулярные рейсы на Луну и Марс, не устраиваются торжественные пышные встречи возвращающихся космонавтов.
Даже с Викой я бы не мог сейчас говорить — уж она-то должна была мне верить, но и она сомневается. А мне предстоял разговор, которого не миновать, с Марфой Евгеньевной, и если я не сумею убедить ее, то мне не убедить никого.
Приняв ванну и позавтракав, я пошел в институт. Наш научный руководитель и директор приходит рано. На всю жизнь сохранилась деревенская привычка рано вставать.
Марфе лет под семьдесят, но она еще в форме. Красивая, живая, энергичная, собранная женщина. Муж ее, известный писатель-фантаст Яков Ефремов, тоже очень моложав, хотя года на три старше.
Марфа (за глаза ее зовут Марфа Посадница) очень мне обрадовалась. Мы обнялись и нежно поцеловались. Потом сели рядышком на диване. Она уставилась на меня живыми, черными глазами ласково и встревоженно.
— Давай рассказывай все по порядку, — приказала она.
Я, не торопясь, рассказал ей все, что произошло в Лунной обсерватории.
— Черт побери! — только и сказала она и надолго замолкла, хмурясь.
— Вы мне не верите? — спросил я подавленно. — Кстати, Яша вам ничего не говорил?
— Нет, он отказался говорить раньше тебя, заверил, что все, что ты скажешь, есть правда. Видишь ли, Кирилл, здесь ни при чем «верю, не верю». Никто же не заподозрит тебя во лжи. Вопрос стоит так: либо ты заболел, и тебе надо срочно лечиться… у невропатолога…
— У психиатров?
— Либо это действительно, как ты уверяешь, встреча с инопланетной цивилизацией.
— А вы как думаете, Марфа Евгеньевна?
— Не знаю, Кирилл, не знаю. Откуда же мне знать? Будущее покажет.
Я фыркнул рассерженно:
— Болезнь будет прогрессировать?
— Не обязательно. Может быть, тебе противопоказана Луна, космос. А на земле ты сможешь работать, как и работал.
— Обследуя космонавтов и изучая их отчеты? Я сам — космонавт! Это мое жизненное призвание, моя мечта.
— Если эти… твои существа не дадут о себе знать, космос тебе больше не увидеть. Ни одна медицинская комиссия… ты сам понимаешь. Эх! А я уже выставила твою кандидатуру… Будет конкурс. Готовится новая комплексная экспедиция на Марс. Ты ведь мечтал о Марсе…
— Мечтал о Марсе, — упавшим голосом пробормотал я.
— Неприятная история! — заметила Марфа. Я быстро поднял голову.
— Если бы я действительно заболел, ну что ж, полечился бы, и только. Дело не во мне. Это касается всего человечества. Мы уже столкнулись с иной цивилизацией. И неизвестно, чем чревата для нас эта встреча. Почему они скрываются от нас? Наблюдают за нами исподтишка? Изучают, как кроликов. Вот что тревожит меня. Необходимо срочно обшарить всю Луну. Где-то за Морем Холода… возможно, на обратной стороне Луны. Я хочу, я имею право участвовать в этих поисках. Теперь меня Марс может заинтересовать лишь в том случае, если и там столкнутся со следами этой цивилизации.
Профессор тяжело вздохнула.
— Не знаю, добьемся ли мы средств и людей на срочные поиски. Сомневаюсь. Но можно вменить в обязанности новой смене… под видом изучения Луны.
— Мне не поверят?
— Конечно нет! Пока они не дадут о себе знать.
— И меня не пошлют больше на Луну?
— Медицинская комиссия сначала спросит у тебя про зеленых человечков…
— Но ведь меня разнесло осколком метеорита на глазах Вики и Харитона.
— Харитон уже отрекся от того, что видел.
— Негодяй!
— Зачем же так, Кирилл! Он селенолог и хочет, не позже как через полгода, опять поработать на Луне. Он не закончил свои исследования.
— От вас я этого не ожидал.
Марфа промолчала, но тень прошла по ее румяному лицу.
— Еще раз спрашиваю, вы мне не верите? Вы нам не верите? Потому что Вика и ваш собственный племянник не откажутся… Яша не Харитон.
. — Будут лечить всех троих.
— Ответьте на мой прямой вопрос.
— Невероятно это все, Кирилл, — тихо ответила она, — и… пожалуйста, не хлопай дверью, Кирилл!
Я все-таки хлопнул дверью так, что зазвенели окна. Марфа Евгеньевна выскочила за мной в коридор.
— Кирилл! Не езди без меня к президенту, слышишь? Ты только навредишь себе. Сначала остынь.
Я круто обернулся к ней.
— Сколько времени вы даете мне, чтобы остыть? Учтите, что после бессонной ночи будет хуже…
— Ну хоть часа два. Идем, я тебе покажу новый отдел. Растительность в марсианских условиях…
— Хорошо. Показывайте новый отдел. Я только сначала свяжусь по телефону. Одну минутку…
Я вернулся к ее секретарше, профессор гневно ждала меня в дверях и попросила ее связать меня с президентом Академии наук… Мне назначили на четыре пятнадцать. У президента Казакова все рассчитано по секундам.
— Напрасно ты хочешь с ним говорить, — заметила Марфа и расстроенно махнула рукой.
Мы спустились по лестнице и перешли выложенный пластмассовыми плитами двор с мощным фонтаном посредине.
— Заправляет марсианским сектором матушка Харитона, — рассказывала на ходу Марфа, видимо решив переменить тему. — Она согласилась давать у нас консультации… два раза в неделю. С помощью Казакова, который обратился к правительству, удалось ее «временно» перетащить сюда, вместе с ближайшими помощниками и даже любимой лаборанткой. А консультации она теперь дает у себя, в Лесном Институте… два раза в неделю.
— Как вы любите насилие!
— Не дерзи! Озеленение Марса — работа первостепенного значения. Профессора Лосеву никто не сможет заменить. Понятно?
— Чего уж там! Как будто на Земле проблема преодоления времени полностью решена.
— На Земле когда-нибудь станет совсем тесно. К тому времени на Марсе должна быть создана атмосфера. Под куполами — это не жизнь. А с помощью растений — ну, и техники, конечно, — мы создадим атмосферу за полвека… А может, и за тридцать лет.
— Может, за десять? — съязвил я.
— Не знаю, за сколько, но создадим. Слушай, Кирилл, обрати внимание на лаборантку Лосевой. Она общая наша любимица. А Таисия Константиновна в ней души не чает. Ее звать Рената. Мы зовем ее девушка из Грядущего.
— Почему?
— Ты увидишь. Она удивительный человек! Ясная, цельная, добрая, умная и в высшей степени способная к восприятию красоты Мира. Словно и вправду пришла из Будущего. Мы, к сожалению, еще не такие. Хорошо, хоть знаем, какими мы хотим быть.
— Марфа Евгеньевна! Вы что же, хотите сказать, что в прошлом не было таких гармонических личностей?
— В темном прошлом, где жестокость поддерживалась равнодушием, где личность ставилась ни во что, — конечно, нет! После столкновения со злом личность дает трещину, как хрустальный бокал, по которому грубо стукнули…
— Это слишком грустно.
— Но это ведь так.
— Я не согласен с вами, категорически. Есть люди, подобные самому ценному хрусталю, который не дает трещин. Его можно разбить только совсем, вдребезги. И в памяти такой человек" остается, каким был, — неповторимым, тонким, прекрасным. Разве я не рассказывал вам об агрономе в Рождественском Ренате Михайловне Петровой? Все, что она хотела сделать для людей, она фактически сделала после смерти…
Марфа вдруг остановилась так внезапно, что я чуть не налетел на нее. Глаза ее округлились.
— Рената, о которой я говорю, тоже из Рождественского. Твоя землячка! Полностью ее имя: Рената… Михайловна… Петрова. Есть у вас такая? Ты ведь всех знаешь.
— Не помню, — почему-то замялся я, — может, и есть.
Мы вошли в кабинет Лосевой. Сердце мое гулко билось. Я заставил себя успокоиться.
Профессора Лосеву я знал давно, не раз бывал на ее лекциях, восхищался ею как ученым и как человеком и никогда не переставал удивляться, как у нее мог быть такой сын, как наш Харитонушка.
Таисия Константиновна собиралась идти в спецтеплицы вместе со своей лаборанткой. Обе только что примеряли новые скафандры (в теплицах была атмосфера, давление и температура, как на Марсе). При виде нас скафандры были отложены, нас любезно пригласили садиться. Затем, спохватившись, Лосева представила меня лаборантке.
…Почему мы так смотрели друг на друга, словно знали давно и встретились после долгой разлуки. «Наконец-то! — говорили ее глаза. — Я так долго тебя ждала. Вот ты и пришел. Долго же я тебя ждала!»
Это прекрасное лицо с трогательно доверчивыми глазами, ожидающими радости или чуда, я знал всегда.
Портрет висел у дедушки на стене. Юношеская любовь деда. Юношеская ли? По-моему, он любил ее всю жизнь. Много я о ней слышал. Многое понял, раздумывая над ее судьбой. Дед рассказывал о ней много доброго…
Конечно, эта девушка никак не могла быть той Ренатой, умершей задолго до моего рождения, но… какое странное, какое непостижимое сходство: имя, наружность, тот же душевный склад!
Я ни слова не слышал из того, что говорили обе профессорши. Я взял за руку Ренату и отвел ее в сторону.
— Вы из Рождественского?
— Да. О да!
— Мой дед Николай Протасович Симонов видел вас?
— Конечно. Я жила у него… в комнате, где…
— Где жила Рената его юности?
— Да.
— Как могло получиться… такое сходство? У нее ведь не было, по-моему, родных?
— Я вам расскажу все. Одному вам. Но не здесь.
— Где же?
— Где хотите. Может, придете ко мне? Николай… Протасович и Юра все знают. Вы тоже должны знать. Я ждала вас.
— Меня?
— Я хочу просить у вас совета. Со мной случилась очень странная история.
— Я приду к вам.
Мы договорились о встрече, я взял адрес и ушел, крайне взволнованный и испуганный за дедушку. Как пережил он эту встречу?!
Я где-то бродил по Москве, не помню где, но в четыре уже был у президента Академии наук.
Евгений Михайлович Казаков — профессор, академик, очень видный мужчина. Высокий, подтянутый, безукоризненно одетый, матовая кожа, насмешливые серо-синие глаза, седые, голубовато-серебристые волосы, волевой подбородок, высокомерный рот, маленькие руки, маникюр… Кажется, я злюсь. Он, без сомнения, очень крупный ученый. Лауреат Ленинской и Нобелевской премий за крупнейшие открытия в области геофизики. Но в ученом мире его не любят и говорят, что вторично его президентом уже не выберут никогда.
Принял он меня вежливо, поздравил с окончанием работ на Луне (мое возражение, что работа вовсе не закончена, он, видимо, не расслышал), спросил, чем может служить.
Скрепя сердце я рассказал ему все, что произошло в Лунной обсерватории, — он не удивился, у него уже был рапорт Харитона. Потом я сухо напомнил, что дело это касается всего человечества и надо действовать в международном масштабе.
Президент чуть покраснел, даже как будто сконфузился, что на него не похоже, и поспешно заверил меня, что «будет сделано все, что требуется». В этот момент он искал рукой звонок. По крайней мере тотчас появился секретарь и отнюдь не собирался уходить.
Вздохнув с облегчением, Казаков стал трясти мою руку и пожелал хорошо отдохнуть. Я удивленно взглянул на него и сказал, что не собираюсь пока отдыхать — некогда…
— Но у вас отпуск. Вы устали… Сложные условия… невесомость…
— Я не собираюсь сейчас отдыхать, — повторил я, нахмурясь.
— Хорошо, как угодно… обследование решит.
— Обследование? Внезапно я понял.
— Меня… отстраняют от работы?
Должно быть, я сильно побледнел, щекам стало холодно.
— Да вы не волнуйтесь, — сказал Казаков, — все космонавты пройдут обследование. До обследования никто к работе в Космическом Институте допущен не будет. Вы же сами врач. Понимаете.
— Значит, вы не приняли всерьез ни одно мое слово? Все, что я вам рассказал, — плод больного воображения? Так, по-вашему?
— Ну, почему же… Все будет сделано как надо. Извините, у меня совещание…
Он посмотрел на часы.
Марфа была права. И зачем я только к нему пошел?
Расстроенный, удрученный, весь под впечатлением этой неудачи, я пришел — к Ренате.
Она жила в домах Лесного Института — четвертый этаж, комната с балконом, выходящим в институтский парк. Едва я позвонил, девушка открыла дверь. Мы сели у треугольного столика. Дверь на балкон была открыта, ветер свободно ходил по комнате, трепал занавески, цветы, бумагу на письменном столе, легкое серое платье Ренаты.
— Обедали ли вы сегодня? — спросила она, заметив мою бледность.
— Кажется, забыл пообедать. Но я ничего не хочу. Сначала расскажите, кто вы, как попали в Рождественское. Потом можете сварить мне кофе. Я слушаю.
Она на миг задумалась, рассматривая меня. На стене висел мой портрет. Не из тех, что выпускаются массовыми сериями «Герои-космонавты на Луне», а любительский. Наверное, Юрка ей подарил.
— То, что я хотела рассказать вам, совершенно невероятно, — задумчиво заметила Рената.
— Ну и что? Со мной тоже стряслась невероятная история. Говорите!
…Так я узнал историю Ренаты. Странную, немыслимую, невозможную историю.
— Вы мне верите? — спросила она, волнуясь.
— Конечно! Я очень рад вас видеть. Теперь давайте сварим кофе, а то у меня слабость от голода. А потом я расскажу вам свою историю, чем-то похожую на вашу.
— И с вами?
— Да. Только я пришел не через полвека после смерти, а всего лишь через два дня…
Рената прерывисто вздохнула — у нее совсем детские губы — розовые, свежие, чуть припухшие. А в тонком одухотворенном лице столько жизни, игры, смены настроений и ощущений: оно то темнело, будто тень от облака набегала, то светлело, розовело, загоралось, освещаемое радостью изнутри. И прекрасные, доверчивые, открытые людям глаза…
Я действительно изрядно проголодался и приналег на бутерброды. Настроение мое заметно поднялось.
После кофе я, в свою очередь, рассказал ей обо всем, что произошло в Лунной обсерватории.
— Что же все это означает? — спросила Рената. Щеки ее заметно побледнели, зрачки расширились.
— По-моему, только одно: где-то близко, рядом с нами, инопланетная цивилизация.
— Как же нам убедить в этом людей?
— Искать. Сегодня я не с того начал. Ну зачем я ходил к Казакову!
Я смотрел на Ренату. Сердце мое сжалось: не хотел бы я, чтобы ее сочли сумасшедшей, отчислили из института…
— Вы доверяете мне, Рената?
— О да!
— Тогда не торопитесь. Никому не рассказывайте своей истории. Мы начнем с другого конца. У меня есть знакомый… Очень хороший человек. Он многие годы работал начальником Московского уголовного розыска. Ермак Станиславович Зайцев зовут его. Теперь он директор Института Личности, где людям, не удовлетворенным собой или работой, помогают найти то, чего им не хватает для счастья.
Зайцев связан со всеми учреждениями, которые имеют отношение к Человеку.
— А преступления еще совершают?
— Совершают еще… пока. Непонятно, что их заставляет… Казалось бы, никаких предпосылок. Бездуховность? Уголовный розыск теперь переименован в Институт Совершенствования Человека. Так вот, я пойду к Ермаку и поговорю с ним. Он нам поможет.
— Как?
— Прежде всего я попрошу его поискать, нет ли еще появившихся вторично… из другого времени или из нашего, но… например, двойника.
— Вы один к нему пойдете?
— Если согласны, пойдем вместе. А сейчас… уже поздно. Вы, вероятно, хотите спать.
— Нет. Но действительно поздно. Идите. Пожалуй, я провожу вас до ворот парка. Хочется пройтись перед сном.
Мы вышли в парк. Я взял Ренату под руку.
Ночь была темная, дул влажный ветер, принося с собой капли дождя. Хрустел мокрый гравий под ногами. Шумели деревья. Остро пахло травой, листьями. Скоро пойдет дождь. Рената проводила меня до ворот парка. Затем я проводил ее обратно до дома.
Прощаясь, я задержал ее руку в своей и сказал то, о чем я смутно думал весь вечер, хотя говорил о другом.
— У человека бывает как бы две жизни. Та, которой он живет, и та, которую он мог бы прожить, если бы он мог полностью реализовать свои способности и мечты. Это не моя мысль, но она меня глубоко поразила. Подождите, это у меня записано в блокноте…
Мы вошли в освещенный подъезд, и я, достав блокнот, прочел ей возле лифта слова, выписанные мною из тоненькой книжки очерков одного талантливого журналиста семидесятых годов прошлого века. Что-то в них потрясло меня, и я выписал дословно: «У человека две жизни: та, которою он действительно живет, и та, которою он мог бы жить. Нереализованная, непрожитая жизнь эта каким-то образом отражается на жизни действительной. И чтобы до конца понять человека, надо представить себе, как он мог бы жить, попади он в совершенно другие обстоятельства…» Правда, хорошо сказано?
— Очень. Очень хорошо!
— Что же вы будете делать во второй своей жизни? Рената не то полушутливо, не то торжественно подняла кверху руки.
— Я буду писать поэму, я уже пишу.
— О чем?
Рената слегка смутилась.
— Не знаю почему, но… понимаете, меня это переполняет. Я пишу поэму о… космосе. О трепещущей былинке в межзвездных безднах — Человеке. О чудных и непостижимых цивилизациях, с которыми он столкнется в своих поисках Вечности. Может, это слишком дерзко, но я… Я… вижу это, даже закрыв глаза.
13 ЧЕРЕЗ СТО, ЧЕРЕЗ ТРИСТА ЛЕТ
Аз семь ритор, не философ… простец человек и зело исполнен неведения.
АввакумНезаменим
академик Ландау.
Незаменима
и окрылена
резкость
конструктора
Королева!..
Даже артисты
цирков бродячих,
даже стекольщик,
даже жестянщик,
кок,
над которым не светятся
нимбы.
незаменимы.
Незаменимы…
Роберт РождественскийБлагожелательно и заинтересованно Ермак Станиславович выслушал меня и Ренату. Ни малейшего следа недоверия. Не ошибся я в этом человеке — родном дяде Вики.
Мы сидели в его кабинете, в Институте Личности на Чистых прудах.
— Приходилось ли вам сталкиваться с чем-либо подобным? — напряженно спросил я.
— Да. Недавно, — подтвердил Ермак, разглядывая Ренату. Я вскочил со стула.
— Успокойся, Кирилл, — заметил Зайцев. — Три случая, кроме ваших…
— Кто? Что вам об этом известно?
— Только успокойся, а то я отложу разговор. Ну ладно. Ты сядь… Так вот, случай первый. Ко мне обратился врач из Института психиатрии Валерий Тер-Симонян, такой симпатичный молодой человек, с мышлением незаурядным и нешаблонным. К нему в отделение доставили крайне нервного и желчного мужчину, который изъяснялся на чистейшем древнерусском языке семнадцатого века, был одет в сильно поношенный кафтан и назвал себя протопопом Аввакумом.
— Что?!
— Да. Аввакум. Вот так. Тер-Симонян не то что поверил ему, но многое в этом случае не объяснялось… Он не стал обращаться со своими сомнениями к главному врачу, а пришел ко мне. Тер-Симонян принес с собой одежду Аввакума, его обувь, документы, письма и просил меня, чтоб я от своего имени установил лабораторным путем — фальсификация ли это или…
— Ну и что?
— Семнадцатый век!.. Но этой материи, этой бумаге не триста лет, а самое большее — несколько месяцев.
— Так фальсификация?
— Нет. Я этого не сказал.
— А что же?
— Как будто протопопа перенесли во всем его одеянии из семнадцатого века. И документы — подлинники. Свежие подлинники, если так можно выразиться.
— Что же теперь будет с Аввакумом? — вмешалась Рената. — Неужели будут его держать в больнице? Это жестоко.
— Вопрос очень сложный. Мы с молодым доктором рядили так и этак. Все осложняется тем, что протопоп очень упрям, крут и не согласен «отречься» ни от своего сана, ни от имени. Кроме того, его же нельзя оставлять одного, с ним должен быть специальный человек, иначе… его опять доставят в лечебницу.
— Интересно, он понимает, в какое время он попал?
— Вполне. Это очень умный человек. Он всем интересуется. Засыпал Тер-Симоняна вопросами. Хочет разобраться во всем.
— И как же он объясняет то, что с ним произошло?
— Бог перенес его на триста лет вперед… Пока порешили вот на чем: Тер-Симонян берет отпуск и, забрав Аввакума под свою ответственность, удаляется с ним на свою дачу, здесь же, в Подмосковье. За месяц попытается растолковать неистовому протопопу ситуацию. Полечит его, нервы-то у бедняги никуда не годятся. Научит его современному русскому языку. Покажет ему Москву. Тер-Симонян обещал держать меня в курсе. Недельки через две я сам к ним съезжу.
— А второй случай? — с жгучим любопытством напомнил я.
— Второй случай… Дело еще более деликатное. Гений из вашей области, космонавтики…
— Королев?
— Нет. Этот сам понял ситуацию и назвался другим именем. Рассказала мне о нем женщина, приютившая его. Она подозревает, что… это Циолковский.
— Ух ты! И что с ним, надеюсь, он…
— С ним все в порядке. Назвался Ивановым. Дни и ночи занят научной работой. Перечитал горы книг, журналов, рефератов. Видно, хочет догнать, разобраться, чтоб идти дальше…
Женщина почти уверена, что это Циолковский.
— Но если это действительно Циолковский, так невежественно и глупо с нашей стороны не попытаться…
— Он правильно поступил — не назвав себя. Пока еще рано. Зачем подвергать себя насмешкам? Отрицательные эмоции ему противопоказаны — ему работать надо… Так вот, третий случай… — Ермак опять уставился на Ренату.
— Вы не захватили с собой документы? Те… выданные в 1932 году?
— Вот они.
Рената достала из сумки пачку документов и передала Зайцеву. Я уже видел их. Ермак медленно развернул их: диплом об окончании Тимирязевской академии — новехонький диплом. И паспорт. И две книги с одной и той же надписью. Одна пожелтевшая от времени, другая новая.
— Вы можете мне это доверить? — попросил Зайцев, внимательно просмотрев все.
— Пожалуйста.
Зайцев опять смотрел на Ренату, а я на него.
Невысокий, худой, пропорционально сложенный, очень славный и обаятельный человек. Серо-зеленые глаза на загорелом с резкими чертами лице смотрели лукаво и сочувственно, понимающе.
В чем было его обаяние — в доброте, любви к людям, доверии к ним, желании сделать каждого счастливым?
— Вы помните свою прабабку?… — вдруг спросил он Ренату.
— Помню очень хорошо. Она умерла от сыпного тифа в 1919 году. Мне тогда было десять лет. Она была добрая, ласковая, мудрая и очень любила меня. Она ведь меня вскормила, мать я никогда не видела, она умерла, едва я появилась на свет. Многое о бабушке я знаю от отца. Он часто о ней рассказывал.
— Как ее звали?
— Авдотья Ивановна Петрова. Девичья фамилия Финогеева.
— Расскажите мне о ней подробнее, если можете.
Рената взглянула на него с любопытством. Кажется, она сразу заподозрила что-то и разволновалась, но взяла себя в руки. Даже села поудобнее, приготовясь рассказывать.
— Простите, вы не возражаете, если я включу запись? — спросил Зайцев, — а то я могу забыть…
— Пожалуйста, если вас так интересует…
Моя прабабка Авдотья Ивановна была замечательной русской женщиной, самородком, жаль, что так трагически сложилась ее судьба.
Будучи совсем неграмотной, она сочиняла сама и знала на память сотни песен и сказок. Конечно, она была талантлива. А умерла в безвестности и нужде.
Марию Дмитриевну Кривополенову нашла артистка Озаровекая, Ирину Федосееву — учитель Олонецкой гимназии Виноградов, Аграфену Крюкову открыл собиратель былин Марков. Я уже не говорю о многих замечательных сказителях, ставших известными после революции.
Отец мне рассказывал, что в 1916 году приезжал в Рождественское какой-то молодой энтограф и долго беседовал с бабушкой, записал много ее сказок и историй на фонографе и в тетрадь. Собирался приехать еще, но так и не приехал: время было смутное, шла первая мировая война.
В начале тридцатого года, будучи студенткой, я заходила в Институт этнографии имени Николая Миклухо-Маклая и узнавала насчет этих записей.
Мне повезло, записи эти были целы и хранились в архивных фондах института. Нашла я и того молодого человека — он уже был профессором. В его обширном историко-этнографическом исследовании о культуре русского народа упоминалась и Авдотья Финогеева (почему-то под девичьей фамилией).
В фонотеке института нашли записи ее песен и сказов и дали мне прослушать. Помню из свадебной песни: «Ох ты, горе мне, тошнехонько, отдают меня, красну девицу, на чужую на сторонушку, ко чужому да свекру-батюшке, ко чужой свекрови-матушке».
Никогда не забуду этот низкий, глуховатый, совсем молодой голос. Торжественный и грустный речитатив…
Папа рассказывал, каким невиданным по тому времени для женщины, да еще простой крестьянки, авторитетом во всей волости пользовалась Авдотья Ивановна. Не только слушать ее песни и сказки приходили к ней, но и за советом, за помощью.
Выглядело это так. Бабушка топит печь поутру, обед готовит на всю семью, а муж ее, Сергей Васильевич (дед моего отца), возится во дворе по хозяйству. Приходит из соседнего села, скажем, крестьянин с узелочком, в котором гостинчик: сальца кусочек, яиц с десяточек, баночка меду своего.
Здороваются, закуривают. Гость, смущенно переминаясь с ноги на ногу, излагает, зачем пришел.
— Ты уж, Сергей Васильевич, прости, до твоей хозяюшки я… Разреши посоветоваться… Дело, знаешь, такое получается…
Сергей Васильевич никогда не возражает.
— А что ж… пожалуй… иди, коль пришел. И кликнет негромко, с уважением:
— Авдотьюшка, к тебе пожаловали.
Волостного старшину — было такое неписаное правило — выбирали из мужиков побогаче, поавторитетней. А тут стали всем миром из года в год выбирать бедного и не сильного умом Сергея Васильевича.
Обсуждают какое-либо мирское дело, каждый выскажет свое соображение, но перед тем, как принять окончательное решение, деликатно предложат своему старшине пойти домой и подумать.
— Иди, Сергей Васильевич, иди, подумай маленько дома, да не торопися, мы здесь подождем.
Это надо понимать так: иди, посоветуйся с женой.
Старшина спешит, чуть не спотыкается, — что-то посоветует его Авдотьюшка. Она зачастую уже знает, в чем дело: слухом земля полнится. Подумает и скажет, как, по ее мнению, надо поступить. А как скажет, так сход и сделает: значит, для мира так будет лучше.
Но видно, не всем ее советы приходились по вкусу. Да и зависть, особенно бабья, куда ее денешь… Кто-то распустил по деревне слухи, что Авдотья то ведьма («сама видела, как она под коровами шептала, порчу напускала»).
Раз подожгли Петровым в горячее суховейное лето избу — на отшибе они жили, за околицей, — сгорела дотла. Еле детей спасли.
Всем миром собирали им на избенку — и собрали, и отстроиться помогли.
А потом пришла новая беда…
Был убит ее свекор — мужик крутой и жестокий, который, все это знали, был ненавистен Авдотье, от которого, по ее настоянию, Серега и отделился, с кем она слова не хотела сказать до последнего дня.
Ей подбросили окровавленный топор, а истинный убийца девять лет оставался неоткрытым. Нашлись лжесвидетели, которые «видели», как она заходила поздно вечером к свекру, просила денег и «шибко гневалась», что не дает. У открытого окна их «подслушали», а потом напугались и ушли. Следствие недолго утруждало себя разбором: улики имеются, свидетели налицо.
Авдотью Ивановну осудили на двадцать лет каторжных работ… Только через девять лет настоящий убийца перед смертью исповедался и на духу признал, что убил сам из-за старых счетов, «по великой злобе», а потом напугался и подбросил топор Авдотье Ивановне, так как знал, что она со свекром не в ладу. Да еще сам и свидетельствовал против нее.
Бабку мою освободили, и она вернулась домой поседевшая, постаревшая, но такая же сильная духом, с ясным умом и добрым сердцем, как и прежде. Муж терпеливо и верно ожидал ее все эти годы, он никогда не верил никаким наговорам.
По возвращении Авдотьи с каторги сыграли свадьбу старшему сыну. Авдотья Ивановна пела на свадьбе новые песни, которые переняла у северянок.
Дружно, в согласье и ласке прожили они остаток жизни — теперь уж им никакая нужда не была страшна: видели худшие времена. Умерли в одном году. Вот и вся история моей прабабки…
Рената вдруг порывисто поднялась и отошла к окну, чтобы незаметно вытереть проступившие слезы. Потом обернулась к нам. Лицо ее разгорелось, глаза потемнели, она тяжело дышала.
— Самое большое зло, которое можно причинить человеку, — страстно проговорила Рената, — это не дать ему осуществить себя, раскрыть сокровищ своей души, своей ошеломляющей неповторимости! А какие маленькие, ничтожные, завистливые людишки придумали подленькую поговорку. «Незаменимых людей нет»! — Рената гневно топнула ногой, волосы ее взметнулись. — «Незаменимых нет»… Как же они смели поставить человека наравне с железной гайкой, которых в ящике тысячи, и любую можно заменить такой же отштампованной гайкой. А ведь это человек — единственный на все времена и все народы, даже узор на пальцах не повторяется, а не то что склад души…
— Спасибо, — сказал Ермак, — спасибо, Рената. Вам надо работать в Институте Личности. Поступайте к нам.
Рената слабо улыбнулась.
— В качестве кого? Разве я знаю тревоги современного человека — ваших современников. Я говорила от имени своего времени.
— И от нашего, — возразил Ермак. — Поступайте к нам инспектором. Я серьезно говорю. Подумайте!
— Благодарю за доверие. Но я уж не уйду от Лосевой.
— Жаль. Нам такие люди нужны. А теперь… вы только не пугайтесь, Реночка. Ваша прабабка… Авдотья Ивановна Петрова… у нас. Здесь, в Институте Личности. Ну вот, как вы побледнели. Успокойтесь. Я пойду подготовлю ее к встрече с вами, и мы вернемся сюда.
— Где она?
— Работает. Я предложил ей ухаживать за цветами в институте. Поливать, обрезать сухие листья. Пересаживают раз в год садовники. Ночевала она пока в комнатах для приезжих во дворе института. Вы ее, наверное, заберете к себе?
— Конечно! Сколько ей лет?
— Пятьдесят лет. Она крепкая, сильная духом женщина. Сумеет начать жизнь заново и найдет свое место в современном мире. Поливать цветы — это лишь пока освоится.
Зайцев поспешно вышел.
Я обнял Ренату и поцеловал ее, как говорится, на радостях. Но когда почувствовал ее дрогнувшие губы, стал целовать ее, как целуют только любимую.
— Рената!
— Кирилл!
Затем она застенчиво высвободилась из моих рук и отошла подальше.
— Сейчас войдут, — сказала она. Мы помолчали. Зайцев не шел,= видимо, подготавливал Авдотью Ивановну.
— Вот и у вас оказался родной человек — прабабка, — сказал я. — Какие еще неожиданности впереди?
Когда дверь открылась, Рената опять заметно побледнела.
Зайцев пропустил вперед высокую женщину в платочке и сразу отошел к окну.
Стройная, дородная, в длинной юбке из темного кашемира и такой же кофте, в башмаках, русые волосы, гладко причесанные и повязанные белым платочком. Прекрасное, моложавое, румяное лицо чуть попорчено оспой. Большие ярко-серые, необыкновенно лучистые глаза смотрели умно, ласково.
Попав в другой век, Авдотья Ивановна отнюдь не казалась испуганной, держалась с достоинством, которое было ей, видимо, свойственно всегда. Едва войдя в комнату, она бросилась к Ренате.
— Внученька!
Они обнялись и обе заплакали. Мы с Ермаком почему-то переглянулись.
— Мы поедем ко мне, — сказала Рената. Она была потрясена, но держалась мужественно.
— Я вызвал для вас электромобиль, он ждет у подъезда, — сказал Ермак. Он был очень взволнован. Авдотья Ивановна низко поклонилась ему.
— Спасибо, Ермолай Станиславович, за твою доброту. Рената тоже от души поблагодарила его.
— Вы придете? — тихонько обратилась она ко мне.
— Да. Сегодня же, вечером… Нет, лучше завтра. Сегодня вам будет о чем говорить. Мешать не хочу.
Они ушли, странно похожие друг на друга.
— Что все это значит? — вырвалось у меня. Ермак пожал плечами и открыл портсигар — пальцы его дрожали. Мы закурили.
— Как Авдотья Ивановна объясняет случившееся? — полюбопытствовал я. — Вы ее спрашивали?
— Сама сказала, когда я разъяснил ей, какой год на дворе. Говорит: «Однако, скоро конец света будет — начались чудеса и знамения. В Библии предсказывалось это…»
— Не испугалась «конца света»?
— Не похоже. Скорее, исполнена интереса. Она ведь на богомолье ходила пешком — по обету — в Троице-Сергиеву лавру. Возвращалась оттуда душевно переполненной. Присела в рощице возле дороги отдохнуть и вроде как уснула… Очнулась, смотрит — никакой рощи, дома высокие — никогда таких домов не видела… голова у нее закружилась. Потом прошло. Ходила весь день — всюду город и город. Устала, говорит, очень, совсем из сил выбилась! Вот тогда заплакала со страху. Ее окружили, стали расспрашивать. Она рассказала о себе… Ее усадили в такси и попросили шофера отвезти ее в больницу. По дороге таксист сам расспросил ее, вместо больницы привез ее к нам — в Институт Личности. Такой славный паренек с веснушками на носу. Мне он сказал: «Хорошая бабушка, настоящая бабушка, я таких во сне иногда вижу. Моя-то родная бабка волосы красит в рыжий цвет и ведет себя, гм, не по возрасту». Заезжал на другой день, привез ей фруктов и конфет, обрадовался, что я не отправил ее ни в какую больницу, а нашел ей подходящую работу. Да, мы ведь с ней в Рождественском были…
— Что вы говорите?!
— Да она все порывалась домой, в Рождественское, не верилось ей, что уже нет ни семьи, ни мужа, да и родной деревни, по существу, нет. Ну я сам с ней и отправился. Походили, посмотрели, порасспрашивали. Все чужое… никто не помнит.
— У деда были?
— Нет. В тот же вечер — обратно. Авдотья Ивановна все приговаривала: хоть бы из правнуков кого найти. И вот нашла. Мужествен русский человек.
— Интересно было бы познакомиться с Аввакумом…
— Ну что ж, если хочешь, можно в следующее воскресенье слетать к Тер-Симоняну на дачу.
Мы простились до воскресенья. Но так совпали события, что в то воскресенье я был уже в Соединенных Штатах.
14 УИЛКИ САУТИ, КЛОУН И МИМ
Едва сойдя с самолета, я попал в объятия Уилки. Он мне обрадовался чуть не до слез. Вообще он мне показался каким-то подавленным, расстроенным. Отнюдь не таким уравновешенным, каким я знал его на Луне.
До его дома в пригороде мы добрались на его вертолете с автоматическим управлением.
Дом был большой, старомодный, очень уютный. Окна выходили в ухоженный сад, на лужайку с подстриженными газонами и кустами цветущих роз.
Миссис Уолт встретила нас на лестнице и приветливо улыбнулась.
— Муж мне столько о вас рассказывал! — заметила она. Джен оказалась гораздо красивее, чем на телевизионном экране, но тоже была озабоченной и грустной, и даже как будто испуганной. Близнецы купались в бассейне — их смех и визг доносились в открытые окна.
— Обед будет подан через десять минут, — сказала Джен и, улыбнувшись, ушла распорядиться на кухню…
Уилки провел меня в приготовленную комнату на втором этаже.
— Я должен просить у тебя прощения, — серьезно сказал Уилки.
— Почему?
— Ты просил сообщить тебе, если я найду своего двойника.
— Ты хорошо сделал, что позвонил мне. Спасибо.
— Да, но после того, как ты вылетел, события развернулись стремительно и грозно… И я узнал… Впрочем, поговорим после обеда.
— Только скажи, что с Саути? Я кое-что читал в газетах.
— Он в больнице, в Сан-Франциско. Я хотел забрать его сюда, но они не дали.
— Кто они?
— Товарищи его по коммунистической партии. Около него дежурят по очереди. Но я все равно заберу его к себе. Пусть дежурят здесь. Я не возражаю. Наоборот!
— Что с ним? Уилки передернуло.
— Ладно, Кирилл, потом… после обеда.
— Так скверно?
— Очень скверно, Кирилл.
За обедом разговор шел о другом. Вспоминали Лунную обсерваторию, общих знакомых. Говорили о предстоящем симпозиуме в Москве. Тема его — «Разумная жизнь вне Земли». Это должен быть отнюдь не съезд фантастов, а встреча наиболее выдающихся астрономов мира, астрофизиков, биохимиков, крупнейших специалистов по передаче информации между животными.
Симпозиум организовывали Академия наук СССР и Совет космических наук при Академии наук США. Уилки Уолт должен был выступить с докладом на симпозиуме, потому он и вернулся с Луны раньше, чем собирался. Руководителем сообщений наших представителей был назначен крупнейший советский астрофизик Николай Черкасов. В числе докладчиков была и Вика.
Джен очень заинтересовалась, чем занимается Вика, и я рассказал о ней.
Близнецы с интересом разглядывали меня и задали много вопросов о России. Это были чудесные девчонки, озорные и умненькие, похожие друг на друга, как два желтеньких цыпленка. Только им и было весело.
После обеда Уилки увел меня в свой кабинет — большую угловую комнату на втором этаже. Мы сели в кресла и закурили.
— Я должен просить у тебя прощения, — повторил Уилки.
— Почему?
— Уилки Саути — это не то, что интересует тебя. Я ведь понимаю! Это не мой двойник. Саути… мой родной брат. Боже мой! Боже мой!
Уилки вытер со лба пот.
— Уилки! Но как же…
— Я сам узнал лишь вчера утром. Неужели только вчера? Как много вместилось в эти сутки. Я рад, что ты приехал, Кирилл. Мне очень тяжело.
Ко мне приехал бывший домашний врач моей матери, теперь он известнейший биолог и генетик, лауреат Нобелевской премии профессор Харлоу.
От него я узнал, что я не сын своих родителей. У них никогда не было детей. История довольно обыкновенная. Им обоим очень хотелось иметь ребенка. Сына. Они обратились к мистеру Харлоу с просьбой достать им «подходящего» мальчика. Новорожденного.
У циркачки мисс Саути детей было более чем достаточно. И когда у нее родились близнецы, она за некоторую сумму (чтоб обеспечить других своих детей) отдала одного ребенка. Харлоу показал мне ее расписку… Она честно соблюдала договор и никогда не пыталась увидеть меня или… попросить еще денег. Та сумма быстро разошлась.
Лишь перед смертью она рассказала Уилки про меня. Понимаешь, Уилки Саути знал, что я его брат, когда мы с ним проговорили всю ночь. Ну почему он мне не сказал! Я мог бы помочь ему. Родители оставили мне большое состояние, Джен тоже принесла немалое приданое. Мне ничего не стоило ему помочь. Может, не случилось бы ничего, что произошло…
Я обрушился с упреками на мистера Харлоу, почему он не сказал мне раньше. Ты не представляешь, какой это циник! Как я понял, мы оба были для него подопытными кроликами.
Как выразился Харлоу, мы с Уилки идентичные близнецы. Наследственные признаки у нас совершенно одинаковые — набор хромосом так же одинаков, как в двух соседних клетках одного и того же человека.
У нас даже барьер тканевой несовместимости отсутствует. Мы с ним абсолютно тождественны. Один человек, повторенный дважды. Только судьба различная.
Вот это как раз и привлекло внимание уважаемого генетика. Как отразится на нас различие воспитания, образования, случайных болезней, различие возможностей для реализации личности… Социальные факторы.
Я спросил его, обращался ли он к моим родителям с просьбой помочь Уилки, хотя бы помочь ему получить образование… Вопрос был глуп. Конечно, не обращался. Ему было интересно другое. Впрочем, он помогал ему несколько раз в тех случаях, когда боялся утерять «подопытного кролика». Лечил его бесплатно в своей больнице.
Не знаю, по каким соображениям он рассказал мне все теперь. Может, опыт закончен. А может, хочет закончить его в других условиях, в другом варианте? Во всяком случае, спасибо, что хоть теперь сказал.
Уилки посмотрел на часы.
— Через полчаса еду в больницу. Если хочешь, поедем вместе.
— Благодарю, если можно, то поеду. Что же все-таки с Уилки?
— С ним сделали что-то страшное. Непонятно мне все это. Судороги перемежаются с полной потерей сознания.
— Но что с ним сделали?
— Какая-то обработка мозга.
— Мерзавцы! Но разве это возможно… ведь уже двадцать первый век…
— Не знаю. Значит, возможно.
— А где он был?
— Коммунистическая партия и прогрессивные ученые обращались к правительству… Им ответили, что государство не имеет к этому никакого отношения… Он был у гангстеров.
— Зачем он гангстерам? У него же нет ни копейки.
— Гангстеры бывают разные… Есть ученые-гангстеры, которые делают опыты на людях. Ужасно все это! Как хорошо, что ты приехал, Кирилл! До чего же у меня тяжело на душе!
Уилки Саути лежал в университетской клинике. К нему не пускали никого посторонних. Журналистам обещали организовать специальную пресс-конференцию, но они толпились у входа.
Уилки, как и прежде, отказался сообщить что-либо, тогда один из репортеров крикнул:
— Скажите только, мистер Уолт, правда ли, что Саути оказался вашим родным братом?
— Правда, — сухо ответил Уилки.
Мы вошли в клинику под восторженный гул репортеров. Я представил, под какими сенсационными шапками выйдет это сообщение в газетах.
Прежде чем войти в палату к больному, мы заглянули в кабинет дежурного врача. У него сидел румяный, добродушный по виду толстяк лет под пятьдесят в светлом летнем костюме. По тому, как Уилки стиснул зубы и неприязненно кивнул, я догадался, что это профессор Харлоу. Так оно и оказалось.
Молодой дежурный врач с великим почтением представил его нам.
— Выяснилось, что с моим братом? — резко спросил Уилки, обращаясь к молодому человеку. Но ответил за него Харлоу.
— Его только что осмотрел… (он назвал мировую величину), специально прибыл из Стокгольма. Был консилиум…
— Что сказал швед? Консилиум? — отрывисто спросил астрофизик.
Харлоу доброжелательно взглянул на молодого врача.
— Как там наш больной, взгляните, пожалуйста. Врач тотчас вышел.
— Манипуляции над мозгом. Трудно сказать, какие именно. Возможно, ничего страшного. Ему всего лишь хотели внушить надлежащий образ мыслей. Обычно это делается постепенно, начиная с беспечного детства. Вы не знали об этом, мистер Уолт? Ваш… брат знал и боролся против этого. Саути не так уж часто посещал школу, а может, просто приноровился к тому, чтоб не допускать в свой мозг посторонние силы. То, что с ним сделали сейчас, не так уж опасно для жизни — обычно не так опасно, но Саути слишком волевой человек. Даже не в этом дело, что волевой… Саути обладает редкой колоссальной силой внутренней сопротивляемости. Насильственное вторжение в его душу, попытка насильно заменить его мысли чужеродными не могла пройти для него бесследно… Вот почему он умирает.
— Умирает? — проронил Уилки. Он обратил ко мне бледное лицо — невольно мне припомнилась белая маска Петрушки: тот же трагический излом рта, бровей.
— Идем, Кирилл.
Я пошел за ним. Саути только что проснулся. Он узнал брата и обрадовался ему. Уилки представил меня ему.
— Русский! — улыбнулся Саути. Мы сели рядом. Больше в палате никого не было. Саути не казался умирающим, и я подумал, что, может быть, Харлоу ошибся… Лицо мима было ясно и спокойно, тик почти прекратился. Я взглянул на обоих братьев и подумал, что сейчас Саути более похож на того Уилки, которого мы знали в Лунной обсерватории, чем сам Уилки Уолт, потрясенный всем случившимся.
Уилки взял его за руку.
— Поедем, брат, хворать ко мне. Там тебя ждут не дождутся две озорные племянницы. Тоже близнецы, как и мы с тобой, и тоже похожие, видно, это у нас в роду. Моя жена Джен очень хочет, чтоб ты жил с нами. У нее никогда не было брата. У меня до сих пор — тоже.
— Спасибо, Уилки, после… если я… Еще одного такого приступа, какой у меня был вчера, я не вынесу.
— Не надо об этом. Не думай. Не старайся вспоминать. Давай лучше думать о будущем. Мы никогда больше с тобой не расстанемся. Мы будем работать вместе. Ты знаешь, мне предлагают пост директора Национальной радиоастрономической обсерватории Грин Бэнк. Это в Западной Виргинии. Я тебе не говорил, Кирилл? Я тебе не говорил об этом? Забыл…
Он опять обратился к брату. Голос его дрожал.
— Ты получишь место астронома. У тебя будут самостоятельные исследования. Ты сможешь осуществить все, чего не осуществил до сих пор. Уилки, брат мой, подумай только — работать вместе! Такое счастье!!!
— Это счастье, — согласился Саути. Он ласково смотрел на брата — так смотрят на младшего, бесконечно любимого брата, который еще многого не понимает.
— Но ведь я теперь… не смогу работать, — сказал Саути с усилием.
— Сможешь! Вот поправишься и сможешь. Ты прирожденный астроном. Даже на своем чердаке ты достиг чего-то, дружище. Ты ученый по призванию!
— Ты не понимаешь, Уилки. Теперь я уже не ученый… не артист, а главное — коммунистом настоящим я не могу быть.
— Но… ладно, Уилки, тебе нельзя волноваться. Ты просто болен, и это пройдет.
— Может быть, и пройдет, — неуверенно согласился Уилки. Рука его нервно теребила одеяло — тонкая выразительная рука.
— Конечно пройдет! Тебе тяжело говорить. Хочешь, Кирилл тебе расскажет о России? Ты никогда там не был.
— Я с удовольствием послушаю о России… потом. Я хочу, чтоб ты знал, что именно со мной сделали. И пусть русский узнает. Ничего, сейчас мне лучше. Слушайте.
Мне сказали, что я арестован. Было три часа ночи, и на них была форма полиции. Но привезли меня не в тюрьму, а в какую-то больницу. Может, в тюремную больницу?
Я был заперт, в двери волчок, ни одного окна, в потолке лампы дневного света, но это была не камера, а одиночная палата. Даже пахло больницей.
Никто меня не допрашивал, меня не били. Никакого видимого насилия. Снотворное мне дали с едой или питьем. Но в лаборатории я очнулся… Я лежал на столе, вокруг что-то делали врачи в обычных марлевых масках, какие надевают перед операцией. И хотя я буквально засыпал, я стал протестовать. Мне сказали: «Не волнуйтесь, вам не сделают ничего плохого. Вы убедитесь в этом потом».
— Что вы хотите со мной делать? — закричал я. — Я не разрешаю меня оперировать. Вы ответите за это!
— Но вас никто не собирается оперировать, — возразил человек в марлевой маске. Я почувствовал укол и уснул.
Я проснулся опять в своей палате, у меня ничего не болело. Я ощупал себя. Нигде ни следа операции. Я только ужасно хотел спать и уснул, несколько успокоенный.
Не знаю, где я был и сколько там был. Я не знал, что вокруг моего имени поднялся во всем мире такой шум…
Окончательно я пришел в себя в пригородной аптеке, куда меня доставили какие-то люди, по их словам подобравшие меня на дороге.
Я назвал свое имя, и через какие-нибудь десять минут аптеку заполнили взволнованные репортеры.
Сначала я чувствовал себя как будто ничего… Я только удивился, что вызываю такой интерес к своей персоне.
Мне стали задавать вопросы. Я рассказал то, что и вам, больше ведь я ничего не знал. А затем… было задано несколько вопросов. О моих взглядах на те или иные проблемы нашего времени, и я… почувствовал неладное.
— Уилки, милый, не надо об этом! — вскричал астрофизик с ужасом.
— Потерпи. Ты должен знать. Я чувствовал… я мыслил не так, как всегда. О! Как я был благодушен! Как миролюбиво настроен ко всему, что творится вокруг… Технократическая олигархия? Ее всевластие? Но они же пекутся о будущем Америки. Они знают, что делают. Они, право же, хорошие парни! Непонятно, почему я за них не голосовал… И вообще, мое дело сторона. Я маленький человек. Была бы работа да девчонка в придачу… Я ужасался своим словам!..
— Не надо, Уилки, прошу тебя!
— Уже все… Вот тогда со мной начался первый припадок. Меня доставили в клинику. Память мне пока не изменила. Но в глубине души я удивляюсь самому себе. Чего мне, собственно, нужно? Что я лезу на рожон? Я — маленький человек, клоун и мим. Как все, так и я. Разве мне больше всех надо? Ну, вступил в Коммунистическую партию США сдуру, по молодости лет, но не пора ли закругляться? Вот, дорогой брат, что у меня теперь на душе. Ты помнишь, что я говорил тебе в нашу первую встречу, когда мы с тобой проговорили всю ночь напролет. Тогда я рассуждал иначе, не так ли?
— Уилки! Родной мой!
— Подожди. Обещай мне, что вы, ученые, будете бороться, не дадите им… обесчестить науку…
— Обещаю. Даю слово! Вот в присутствии Кирилла.
— Будьте покойны, Уилки Саути, — заверил я, — мы оба выступим на пресс-конференции. Об этом узнают народы всего мира.
— Спасибо… Кирилл Мальшет, — Уилки пожал мне руку и слабо улыбнулся брату.
— Пожалуй, я посплю, — сказал он тихо и закрыл глаза. Уилки подоткнул ему одеяло, поцеловал его, и мы вышли на цыпочках.
Домой вернулись мы вместе. Но вечером Уилки уехал к брату в больницу, предупредив, что будет возле него всю ночь. Я предложил свои услуги, но Уилки сказал, что лучше не надо: все-таки я русский, и не надо зря дразнить гусей.
Вечер я провел с Джен и близнецами. Рассказывал по их просьбе о России и о Луне. Потом разошлись по своим комнатам.
Джен чего-то боялась и попросила садовника и механика-шофера ночевать в доме. Сама заперла все окна и двери.
Перед сном, лежа в постели, я думал об истории Уилки Саути. Беспокойство за судьбу мима не покидало меня. Как врач, я понимал, какой операции подвергли Уилки Саути, и восхищался его силой воли.
Потом мысли перекинулись на другое. Я вспомнил о доме. Рената… Почему я полюбил именно ее? Не Вику, например, которой я искренне восхищаюсь. То, что я знаю о ней, о Ренате, скорее могло помешать.
Я привык видеть людей, всегда торопящихся куда-то, часто нервничающих, с громкими пронзительными голосами. Возможно, причина этого — в чрезмерном шуме.
И вот я встретил человека совершенно другого. Удивительного! Словно стройная елочка на солнечной лесной полянке. Высокая, тоненькая, крепкая, дружив с ветром и солнцем. Как же возле нее легко дышится. Какие у нее светлые, ясные серые глаза, большой чистый лоб, русые блестящие волосы. И говорит и смеется она неторопливо, негромко. И от слов ее веет такой же ясностью, чистотой и миром, как от всего ее облика. У нее маленькие огрубелые руки, которые не боятся земли.
Если бы эта девушка стала моей женой, я бы назвал себя счастливейшим человеком. Только бы она не исчезла так же загадочно, как появилась!!!
Я не могу без нее жить.
На рассвете что-то разбудило меня. Словно ледяным ветром пахнуло. В дверях стоял Уилки в пальто и шляпе и смотрел не на меня, а куда-то в окно.
— Уилки! — вскричал я испуганно.
— Тише, тише, Кирилл, — остановил он, — разбудишь Джен. Он прошел в комнату и, сбросив пальто прямо на пол, присел в кресло. Шляпу он забыл снять. Галстук где-то оставил. В сумраке рождающегося утра лицо его казалось постаревшим и серым.
Передо мной словно сидел Уилки Саути и смотрел невидящим взором. Тогда я стал торопливо одеваться, сдерживая дрожь и путаясь от волнения в одежде.
Одевшись, я распахнул окно, сел рядом с ним.
— Уилки Саути умер, — сказал он как-то безжизненно. — В два часа ночи.
Долго мы сидели молча, подавленные бедой.
— Я любил своего брата, — тяжело проговорил Уилки. — Ты не представляешь, Кирилл, как я любил его. Будьте прокляты негодяи, убившие его!..
Он опять надолго умолк, глядя в окно. Там разгорался день — алый восток, алые снизу тучи, — будет сильный ветер.
— Скоро все проснутся в доме, пригороде, во всей стране и узнают, как и почему погиб мим Уилки Саути. Неужели они после этого будут жить, как жили?!
— Уилки Саути! Родился, рос, мужал человек и хотел только одного — отдать людям себя всего. Как нелепо! Как возмутительно нелепо…
У меня сжались кулаки.
— В Грин Бэнк я теперь, конечно, не поеду, — сказал Уилки. Как изменился его голос, как изменился он сам. — Директором обсерватории будет другой. Теперь я уеду навсегда из Америки. Куда-нибудь — в Англию, Швецию, Астралию, где найду приют как астроном. И буду оттуда говорить всему миру, что сделали с человеком. Буду говорить громко, как смогу, и так долго, как смогу, — пока буду жив и в здравом уме.
— А я буду говорить из России, — сказал я, — об Уилки Саути и о многом другом.
— Спасибо, Кирилл!
Уилки Уолт порывисто протянул мне руку, и мы обменялись крепким мужским рукопожатием.
15 ОТ КИРИЛЛА МАЛЬШЕТА АНДРЕЮ ФИЛИППОВИЧУ МАЛЬШЕТУ
Дорогой отец!
Жаль, что ты не смог приехать на симпозиум! Приглашение тебе ведь было послано, хоть ты и считаешь, что не имеешь никакого отношения к теме «Разумная жизнь вне Земли».
— То, что произошло на этом симпозиуме, навечно останется в памяти человечества.
В Москву прибыли самые выдающиеся ученые мира: астрономы, астрофизики, биохимики, кибернетики, математики, космонавты, писатели. Открывал симпозиум в аудитории научно-исследовательского Института Космонавтики новый президент Академии наук Александр Андреевич Дружников.
Подготовленные учеными доклады были расписаны на неделю. Первым шел доклад британского профессора, но он еще не успел выйти к кафедре, как с своего места в президиум поднялся Уилки Уолт и попросил дать ему слово первым, пообещав сенсационное сообщение.
В зале зашумели, заволновались. Британский ученый, не дожидаясь голосования, сел обратно на свое место и с детским любопытством уставился на Уилки Уолта.
«Хочет открыть международный симпозиум рассказом о гибели брата», — подумал я и… ошибся.
Уилки вышел к кафедре и преспокойно сообщил, что встреча человечества с инопланетной цивилизацией уже состоялась. Инопланетяне с планеты Харис (созвездие Уилки неизвестно) уже более пятисот лет наблюдают планету Земля, но теперь ее покидают надолго… если не навсегда. На их планете беда: гибнет цивилизация, гибнут харисяне. Что погубило их? Они считают — открытие бессмертия. Несколько сот лет они ликовали, пока… пока не обнаружили, что полностью перестали размножаться. А затем… что у них угасают творческие способности.
— Сегодня ночью меня посетили в номере гостиницы трое харисян… То, что они рассказали, страшно…
Уилки умолк, пережидая, когда в аудитории утихнет поднявшийся невероятный шум — смех, остроты, выкрики.
Сидевшие рядом со мной друзья реагировали по-разному.
Вика неодобрительно качала головой, Харитон от возмущения даже не мог смотреть на Уилки и нервно шарил по карманам, ища сигареты, пока не вспомнил, что все равно курить здесь нельзя.
Яша верил Уилки, но реакция аудитории казалась ему смешной, и он смеялся.
— Интересно, что им Уилки еще преподнесет? — прошептал он сквозь смех.
Марфа Евгеньевна, в строгом вечернем платье, сидела в президиуме рядом с директором Института Личности Ермаком Зайцевым. Оба с надеждой смотрели на Уилки.
Президент Академии наук казался смущенным: ему было неловко за Уилки.
Яшкин дядя писатель-фантаст Ефремов и профессор Лосева сидели дружно в первом ряду и неуверенно улыбались, не зная, чего ожидать еще от Уилки Уолта. Оба знают Уилки по его прежним приездам в Москву (шутник, мистификатор!).
— Вы мне не верите? Понятно, — произнес он невозмутимо.
— Мистер Уолт, вы не догадались пригласить их на наш симпозиум? — поинтересовался президент Академии наук.
— Конечно догадался, товарищ Дружников. Сначала они отказались наотрез, но я убедил их. Привел несокрушимые доводы. Сейчас вы их увидите.
— Уилки, это правда? — крикнул я, потрясенный.
— Ты-то знаешь, что это правда, Кирилл. Вы позволите мне продолжать? Харисяне уже прибыли.
Все стали озираться: где? где?
В зале сделалось тихо. По-моему, ни один из них не поверил. Но «шутка» Уилки Уолта зашла слишком далеко, и всем было любопытно, как он вывернется из положения.
Вот что дальше рассказал Уилки. Инопланетян пришло к нему трое: один в облике человека, двое в своем собственном. Все трое были историками-этнографами, специалистами по истории человечества. У всех троих имелось звание «Познавшие Землю».
Того харисянина, что был в облике человека, Уилки отлично знал и хорошо помнил. Но когда харисяне после длительного разговора удалились, он начисто забыл, кто именно это был.
Уилки намекнул на гипноз. Но, насколько я его понял, он просто пообещал не разглашать чужой тайны и никогда бы не нарушил данного им слова.
— Все, что я мог сделать, это уговорить их показаться на симпозиуме. Сейчас они войдут. Два харисянина. Не приветствуйте их слишком шумно, они не привыкли к шуму.
Уилки подошел к двери на террасу, опоясывающую Институт Космонавтики, и открыл ее…
Прямо в зал вошли два инопланетянина, помешкали с минуту у двери, затем проследовали за Уилки на сцену.
В зале сначала замерли, затем дружно встали, приветствуя инопланетян. Поднялись все и в президиуме, многие заметно побледнели.
Харисяне медленно подошли к краю эстрады и, давая рассмотреть себя, спокойно остановились. Сколько достоинства было в этом спокойствии!
Харисянин!.. Он не так уж походил на человека, но он был прекрасен и с нашей, человеческой, точки зрения.
Стройное вытянутое тело, словно вычеканенное из бронзы. Гибкие руки. За спиной два крыла цвета потемневшего золота. Подвижная голова с огромнейшими глазами. Надо лбом покачивались полупрозрачные антенны, состоящие из множества цилиндрических члеников. Маленький подбородок, крупный тонкогубый рот. Бедра задрапированы куском светлой материи, спадающей на длинные бронзовые ноги.
Рассматривая их долго, молча, все были ошеломлены. Первым пришел в себя Дружников.
— Они могут летать? — спросил он тихо Уилки Уолта.
— Вы можете летать… на своих крыльях? — спросил Уилки сначала на русском, затем на английском, французском, немецком, итальянском языках. Харисяне, оба одновременно, кивнули головой, совсем как мы, земляне.
В напряженной тишине с легким шуршанием (или это показалось?) раскрылись крылья — они оказались бледно-желтыми с розоватым оттенком.
Не без усилий харисяне поднялись в воздух, движения их были неуверенны, они походили на космонавтов в невесомости. Все же они поднялись к самому потолку высокого зала, медленно снизились, вылетели в оставленную открытой дверь на террасу и исчезли в вечернем небе…
Толкаясь, спеша, участники симпозиума бросились на террасу, но ничего больше не увидели. Равнодушно шумел город. Розыски ни к чему не привели.
Вот, дорогой мой отец, и все!.. Так состоялась встреча с разумной жизнью вне Земли. Уилки рассказал мне подробно, что именно он узнал о них.
Бедные братья по разуму! Сумеют ли они спасти свою цивилизацию?!
Пока все. Поговорим, милый отец, при личной встрече.
Твой Кирилл.
Р.S. Как продвигается строительство Города на Великом океане? На открытие непременно приеду, если… не буду в это время в космосе.
Милый мой, славный папа! Я женился! Приеду с женой. Ее звать Рената Петрова.
Кирилл Мальшет.
СОДЕРЖАНИЕ
ПЛАНЕТА ХАРИС (роман)
1. Пришла еще раз.
2. Первая жизнь Ренаты
3. Залив Радуги
4. Этого не было, потому что не могло быть
5. Се творю все новое
6. Век уходит, век приходит
7. День Всепланетного Объединения
8. Кто вы?
9. Странная цивилизация Харис
10. Это я
11. Бессмертные несчастны
12. Никто не поверит
13. Через сто, через триста лет
14. Уилки Саути, клоун и мим
15. От Кирилла Мальшета Андрею Филипповичу Мальшету


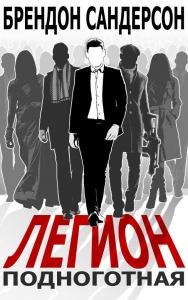
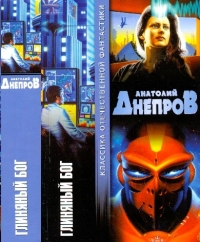

Комментарии к книге «Планета Харис», Валентина Михайловна Мухина-Петринская
Всего 0 комментариев