Проскурин Вадим Восемь дней Мюллера
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. МОНАСТЫРЬ
1
На южной границе империи, где степной тракт пересекает реку Россомаху, на обрывистом северном берегу этой реки стоит крепость именуемая Роксфорд. На древнем языке это слово, как говорят, означало «скалистый брод». Крепость действительно стоит на горе над бродом, но гора эта вовсе не скалистая, это скорее даже не гора, а высокий холм с крутыми склонами. Некоторые ученые говорят, что в древности, когда Роксфорд строился, склоны горы были круче, их за прошедшие века обтесало ветрами и дождями. А другие ученые говорят, что если оценить возраст горы и возраст крепости, получится, что когда крепость строили, гора была такая же, как сейчас, и название крепости никогда не отражало реальность, но с самого начала являлось преувеличением. Кто из ученых прав, ведают только боги.
В прошлом Роксфордская крепость имела важное стратегическое значение. В эпоху степных войн здесь проходил один из трех путей, которыми варвары вторгались в имперские земли. Несведущие люди полагают, что в степи дорог нет, куда хочешь, туда и скачешь, но это верно лишь на коротких дистанциях. Если твой путь занимает дольше трех дней, на нем наверняка встретится река, а пересекать водную преграду там, где нет ни моста, ни брода — занятие для дурака или извращенца. В дальних походах купцы, воины и дикари либо обходят реки по водоразделам, либо пересекают в немногих удобных местах. Крепость Роксфорд построили рядом с одним таким местом. Здесь узкая и быстрая Россомаха разливается широкой песчаной отмелью, а глубина воды такова, что лошадь перейдет реку, едва замочив брюхо. А на северном берегу, прямо напротив брода, стоит высокий холм, который так и просится под крепость.
Роксфорд — место знаменитое, овеянное воинской славой. Не раз и не два лавина степных орд разбивалась о крепкие стены и доблестные сердца защитников крепости. Отмели Россомахи окрашивались дикарской кровью, щуки и вороны пировали на останках косорылых воинов и маленьких мохноногих лошадок. За тысячелетнюю историю империи только однажды Роксфорд был сметен степными полчищами, их тогда вел сам Монго-Хан, которого историки не зря считают лучшим полководцем всем времен и народов. Прочие предводители степняков либо выбирали для вторжения иные пути, либо бесславно складывали головы под стенами Роксфорда.
Но теперь Роксфорд утратил былое величие. Степные войны закончились великим перемирием, когда принц Ингмар и принцесса Айгуль сочетались браком, и династия Гугоидов слилась с династией потомков Монго. После той свадьбы имперские рыцари часто преломляли копья со степными багатурами на турнирных ристалищах, но крайне редко на поле брани. Бывали, конечно, мятежные вассалы, затевавшие междоусобицу, но таких отморозков можно пересчитать на пальцах одной руки. Степная виконтесса Мотоко Меч, имперский граф Этельрейж Бык, да император Ануол Солнце, когда еще не был императором, а был не в меру наглым байстрюком, обильно полил кровью южное пограничье. Но это всё, других больших кровопролитий на границе Империи и Орды за последние сто лет не было.
В девяностых годах новой эры Роксфорд совсем захирел. В двадцати лигах ниже по течению Кифа Строитель соорудил мост с двусторонним движением, и с тех пор купцы стали прокладывать караванные пути не через Роксфорд, а через Стонбриж, а в Роксфорде всякий бизнес, кроме самого примитивного, пришел в упадок. Знаменитая на всю империю роксфордская ярмарка превратилась в рядовое мероприятие уездного масштаба, а роксфордский гарнизон перестал быть элитным подразделением, а стал местом для ссылки проштрафившихся командиров. В девяносто пятом году гарнизон расформировали, а в крепости разместили женский монастырь, посвященный Птаагу Милосердному, который покровительствует, помимо всего прочего, свободной торговле. Таким мистическим способом совет старейшин собирался привлечь в город благодать высших сил, чтобы избавить Роксфорд от упадка. Но высшие силы не спешили делиться благодатью. Монастырь стал хиреть, не успев толком отстроиться, и скоро захирел бы окончательно, если бы не случилось того, что одни почитают как долгожданную милость Птаага Милосердного, а другие называют случайной удачей.
В сто четвертом году новой эры году герцог Дори, владыка Ануольский и Арнуольский, открыл особым указом при Роксфордском монастыре так называемый «казенный дом для особого призрения малолетних сирот обоего пола». Злые языки говорили, что каждый второй из этих сирот суть бастардом самого герцога, а другая половина — бастарды его собутыльников. Это очень похоже на правду, особенно если учесть необычно мягкие правила, установленные в монастыре, и необычно большой объем пожертвований от правящего дома.
Настоятельницу монастыря звали матушкой Ксю, по крови она не принадлежала ни к Ануолу, ни к Арнуолу, а происходила из северных варваров. Она была высока и широкоплеча, и те, кто видел ее только со спины, часто принимали ее за мужчину. Говорили, что в юности она была из дев-воительниц, называемых амазонками либо валькириями. В дикой природе эти девы носят мужскую одежду, занимаются мужскими ремеслами, и любят не мужчин, а других женщин, а мужчины им нужны только чтобы зачинать детей. Матушка Ксю носила обычное монашеское одеяние, но те сестры, которым доводилось видеть ее голой, говорили, что мускулатура у нее совершенно мужская, а на коже есть три больших шрама из тех, какие оставляет меч, и один маленький шрам из тех, какие оставляет стрела. Впрочем, монахини не настолько разбираются в воинских делах, чтобы судить о ранах определенно.
Что касается того, кого матушка Ксю больше любит — мужчин или женщин — слухи ходили разнообразные и неопределенные. Все сходились на том, что в нынешнем преклонном возрасте матушка Ксю блудом не занимается вообще, а кого она любила, когда была молода — разобраться невозможно за давностью лет. И еще надо понимать, что в рассказах о молодости великих все всегда преувеличено, и если верить всем рассказам одновременно, получится, что матушка Ксю большую часть жизни трахала все, что движется, а это не может быть правдой, потому что не соотносится с чином настоятельницы, а значит, клевета и ересь. Но то, что с герцогом Дори связь у нее была, хоть и недолгая — совершенно точно.
Возраст матушки Ксю составлял от пятидесяти до шестидесяти лет, но спину она держала прямее, чем иные молодки, а посох носила не для помощи при ходьбе, а для вразумления подчиненных. Она, правда, слегка прихрамывала на правую ногу, но не от старческой немощи, а от раны, самый большой шрам у нее был как раз на правом бедре.
Волосы матушки Ксю были пегими: наполовину белые, наполовину черные, при этом пряди разного цвета смешивались в беспорядке, как черные и белые перья на пегой курице. В народе говорят, что такая форма седины свидетельствует о сношениях с нечистой силой, но это ерунда, матушка Ксю тому яркий пример, надо быть последним дураком, чтобы поверить, что такая благочестивая женщина сношается с нечистым. А если и сношалась в молодости, то давно раскаялась и предала душу в руки светлых богов.
Но достаточно о матушке Ксю, перейдем к сиротам-воспитанникам. Их число меняется от года к году и составляет обычно от ста до двухсот, девочек всегда больше, чем мальчиков. Потому что девочки содержатся в монастыре до совершеннолетия, а мальчики только до полового созревания, затем их переводят в мужской монастырь Ашанти Многорукой. Был, правда, один случай, когда мальчик скрыл свою зрелость, пристрастившись к онанизму, а потом соблазнил не менее двух монахинь, и когда все раскрылось, матушка Ксю лично его выпорола, и многие были поражены, насколько тяжела ее рука. Наверное, не врут, что она ходила в походы на пиратском корабле и сделала карьеру от бортовой шлюхи до десятника абордажной команды.
Воспитуемых в Роксфорде кормили не по нормативам, а от пуза, кто сколько сожрет, тот и молодец. И если в обычных приютах воспитуемых обучали только закону божьему и какому-нибудь простому ремеслу, то здесь мальчиков учили древним языкам, верховой езде, фехтованию и танцам, а девочек — рукоделию, танцам и гимнастике. Закон божий тоже преподавали, но без фанатизма, никаких постов или всенощных бдений детям не устраивали.
Обычно воспитанников привозили в приют в возрасте от двух до четырех лет. Рассказывать воспитанникам о происхождении запрещалось категорически, никто точно не знал, кто чья мать и кто чей отец (за исключением юных Дори, их происхождение сразу бросалось в глаза), воспитанники обращались друг к другу по личным именам, как простолюдины. Те, кого матушка Ксю признавала достойными дворянского звания, со временем узнавали правду о своем роде и занимали достойное место в обществе. А те, кого матушка Ксю считала породным браком, те оставались простолюдинами навсегда. Чаще всего их отчисляли много раньше выпускной церемонии, и они продолжали жизненный путь в нищете и бродяжничестве. Матушка Ксю считала это лучшим стимулом к учению и воспитанию, и по всему выходило, что она права.
Воспитанников делили на восемь групп по возрасту, две старшие группы состояли только из девочек, шесть младших были смешанными. Каждой группе полагалась воспитательница из числа монахинь, ей полагалось пребывать вместе с группой почти неотлучно. Некоторые занятия проводила она, на другие занятия приходили учителя, более умудренные в соответствующем предмете. Сама матушка Ксю никакого постоянного предмета не преподавала, но время от времени приходила в разные группы проповедовать закон божий.
Маленьким детям матушка Ксю проповедовала не как жрецы обычно проповедуют мирянам. Малышей бесполезно запугивать божьим гневом, в лучшем случае они расплачутся, в худшем обгадятся. Путь к спасению юной души ведет через ласку, терпение и снисходительность. И когда ты идешь этим путем, надо все по возможности представлять в игровой форме, именно такие знания лучше всего усваиваются детскими душами. Но важно не переборщить, однажды матушка Ксю устроила в монастыре любительский спектакль на тему грехопадения, а малыши как начали рыдать… брр…
Во второй младшей группе воспитательницей была юная девица по имени Ассоль, сама в прошлом воспитанница, а ныне полноправная монахиня. По документам она считалась байстрючкой герцога Дори, но почти все полагали это невероятным. Мамаша у бедной девушки, видимо, была низкоморальна и высокоразвратна, и предавалась блуду не только с дворянами, но и с простолюдинами. Иначе не объяснить, почему у Ассоль такая нездоровая кожа и такие неправильные черты: нос длинный и смотрит на сторону, глазки маленькие и блеклые, брови косматые, зубы неровные, кривые, а передние резцы торчат, как у зайца. Дворянки с такой внешностью тоже встречаются, но редко, благородные господа кого попало не осчастливливают. Когда герцогский мажордом господин Жобим привез маленькую Ассоль в Роксфорд, матушка Ксю сразу сказала, что с чистотой крови у девчонки все плохо, но господин Жобим не согласился, сказал, дескать, утята бывают еще гаже, а вырастают в таких лебедушек, что пальчики оближешь. Матушка Ксю на это так улыбнулась, что господин Жобим невольно вспомнил клеветнические слухи о похождениях молодой Ксю. Но вслух ничего не сказал, не хотел огрести посохом поперек спины.
В итоге матушка Ксю оказалась права, не выросло из гадкого утенка лебедя, хотя нижняя половина тела удалась неплохо. И когда Ассоли пришла пора выпускаться из приюта, пути ей было два: в портовые шлюхи либо в монахини. Матушка Ксю выбрала ей второй путь, ибо несмотря на всю страховидность, Ассоль была добра и ласкова, воспитанники ее любили, и матушка Ксю нередко ставила ее в пример другим, куда более пригожим для глаза, но глупым или злым.
По темпераменту Ассоль был флегматична. Вывести ее из душевного равновесия было непросто, а прочесть на невыразительном лице, о чем или ком она сейчас думает — еще труднее. Коллеги почитали Ассоль тихой и скромной дурочкрй, и матушка Ксю не опровергала этого мнения, хотя сама полагала иначе. Народная мудрость не зря говорит, что черти водятся в тихом омуте. И хотя Ассоль не подавала к тому поводов, матушка Ксю допускала, что однажды эта тихая дурнушка поставит весь монастырь на уши. Дело в том, что Ассолина мама прославилась тем, что завязала с герцогом Дори безобразную драку прямо в постели и едва не задушила почтенного феодала его собственным галстуком. Если бы он не дотянулся до перевязи с кинжалом и не зарезал неумеренно наглую шлюху — непременно задушила бы. А народная мудрость не зря говорит, что яблочко от яблони недалеко падает. Встретит однажды Ассоль такого же шального ловеласа, только менее осторожного… Впрочем, откуда тут ловеласы, в монастыре…
Дети Ассоль любили, особенно младшие. В старших группах уже умеют отличать красивое тело от некрасивого и смущаться, глядя на уродливую женщину, а малыши телесную красоту не разумеют, зато очень высоко ценят доброту и участие, и еще уравновешенность, собранность, отсутствие вздориости и сварливости, и кое-что по мелочи. Вряд ли кто-то сможет внятно объяснить, как дети отличают хорошую воспитательницу от плохой, но как-то отличают. И Ассоль была отличной воспитательницей, тут сомнений нет.
Как все монахини, Ассоль была грамотна. Еженедельно она посещала библиотеку и проводила за благочестивым чтением положенные три часа. Мало кто знал, что в эти часы она предпочитала читать не священные писания, а куртуазные романы, по недомыслию присланные одним меценатом пару лет назад. Эту тайну знал только воспитанник четвертой группы Лукас Прыщ, в прошлом году он однажды застал Ассоль за неподобающим чтением. Мать Лукаса была наложницей из горцев, и по характеру он сильно отличался от других воспитанников. Поймав молодую воспитательницу за непристойным занятием, он не застеснялся, а стал прямолинейно домогаться, дескать, ублажи меня, а то расскажу настоятельнице. Ничего он, конечно, не добился, Ассоль врезала ему по яйцам, а настоятельнице все рассказала сама. Матушка Ксю самолично испытала парня, признала зрелым, велела выпороть и отчислить. А про непристойные книги матушка не сказала ничего, но на следующей неделе Ассоль заметила, что все эти книги, кроме одной, исчезли из библиотеки неизвестно куда.
Все монахини религиозны, но Ассоль выделялась даже среди них. Вера ее была не поверхностной, а глубокой и истовой. Ассоль соблюдала божьи заповеди не только тогда, когда на нее смотрят, но всегда и везде, и делала это не из житейской хитрости (вдруг кто-нибудь подглядывает), а только лишь из глубокой веры. Взрослые обитательницы монастыря в большинстве полагали, что она лицемерит, но дети ей верили, и не зря. Дети знали, что Ассоли можно доверить самую постыдную тайну, и если она поклялась никому не рассказывать, то никому не расскажет. А если пообещала что-нибудь даже самому последнему замухрышке, то в лепешку расшибется, но сделает. Всякое обещание Ассоль считала данным Птаагу, а всякое клятвопреступление — оскорблением Птаага. А оскорблять Птаага Ассоль опасалась, потому что воспринимала священные писания некритично и реально верила, что оскорбление высших сил чуть-чуть приближает конец света.
Во вторую младшую группу входило восемь воспитанников: пять мальчиков и три девочки. Среди них выделялся мальчик по имени Мюллер, что на древнем языке означает «мельник». Мальчик этот был странный, немного пришибленный на голову. На уроках Ассоль часто замечала, что он как бы спит наяву, глаза открыты, но взгляд пустой, смотрит, а не видит. И если спросить его в такой момент, он отвечает невпопад и не сразу, сначала моргает и как бы отряхивается, так делает щенок, когда спит и ты его внезапно будишь. Поначалу Ассоль злилась на Мюллера, ей казалось, что он бесит ее нарочно, не сразу Ассоль поняла, что мальчик такой по жизни.
Чаще всего детей привозил в монастырь господин Жобим лично. Изредка, когда ему нездоровилось либо было недосуг, он поручал нового воспитанника кому-нибудь из старших дьяков. Детей привозили не по одному, а сразу по два-три, чтобы не гонять караваны попусту. Один караван всегда приходил в начале весны, сразу, как только подсохнет распутица, а второй осенью, перед дождями. Изредка одного-двух детей привозили посреди лета. По-любому, прибытие в монастырь новых воспитанников — событие примечательное, настоящий праздник, монастырская жизнь однообразна и скучна, любое отклонение от привычной канвы развлекает и радует. Едва новые воспитанники прибывали в монастырь, как сразу становились главной темой пересудов на ближайшие полгода. Нет у монахинь и рабынь любимее развлечения, чем угадывать, какого воспитанника какой феодал породил от какой матери и как оно происходило. Правду о происхождении детей знает только матушка Ксю, она ей никогда не делится, но угадать, кто чей потомок, обычно несложно, надо лишь уметь сопоставлять столичные сплетни с внешностью и поведением детей, иметь хорошее воображение и уметь рассуждать логически.
С Мюллером все было не так. Он появился в монастыре темным декабрьским вечером, в канун дня рождения Митры, и его никто не привозил, он пришел как бы из ниоткуда. Матушка Ксю ввела его в трапезную и представила Ассоли, а заодно и другим монахиням, и не было в этом представлении никаких слов, кроме предписанных обычаем. Позже Ассоль навела справки и узнала, что ни в тот вечер, ни в предыдущий, ни за неделю никаких гостей в монастыре не появлялось, ни одиночных путников не заходили, ни, тем более, целые караваны. Монастырские ворота исправно открывали утром и закрывали вечером, но проходили через них только постоянные обитатели монастыря. Откуда взялся маленький Мюллер, оставалось загадкой.
Но нельзя сказать, что эта загадка не имеет решения. Монашествующие кумушки давно судачат про тайный ход, ведущий из тайного места крепости в тайное место снаружи, что якобы позволяет невоспитанным монахиням блудить в городе. Это, конечно, неправда, потому что будь это правдой, в городе блудили бы многие и хотя бы одна монахиня непременно попалась бы. А раз ни одна не попалась, значит, блудить в городе нельзя, и никакого тайного хода нет, все логично. Либо, как вариант, тайный ход есть, но о нем не знает никто, кроме матушки Ксю.
Генеалогическое происхождение Мюллера тоже оставалось загадкой. Знатных блудников в свите герцога Дори было не так много, поэтому многие дети в приюте сильно походили друг на друга. Но Мюллер не походил ни на кого. Он был высок и тощ, глаза у него были голубые, лицо округлое, а нос — маленький, пуговкой. В повадках Мюллер был неуклюж, бегал медленно, прыгал плохо, и когда он водил в салочках, игра становилась скучной, потому что водящий не мог никого поймать, и другие дети предпочитали Мюллера в эту игру не брать. В прятки Мюллера тоже не брали, но по другой причине — он прятался слишком хорошо и никогда не выдавал мест, в которых прятался. Какой интерес играть, если заранее всем известно, что Мюллера не найдут? Вот его и не брали в игру, а если брали, то не искали. Если Ассоль настаивала, его, конечно, брали и искали, но Ассоль скоро перестала настаивать, потому что надоело. Так что в подвижных играх Мюллер участвовал редко, и неудивительно, что с каждым следующим месяцем он становился все менее ловким и более жирным. Ассоль тогда попыталась ограничивать его в еде, но маленький Мюллер посмотрел на нее строго, по-взрослому, и сказал серьезно, что так делать нельзя, ибо нарушает устав монастыря, а Птааг этого не одобряет. Ассоль подумала и согласилась с мальчиком.
Это был не единственный случай, когда Мюллер повел себя не по возрасту. В свои пять лет он умел читать, и не так, как читают дети-школяры — вслух, по слогам и водя пальцем по строчкам, нет, он читал как взрослые монахини — быстро и свободно, не помогая себе не пальцем, ни гримасами, у него даже губы не шевелились. А писал Мюллер как курица лапой, даже простейшие палочки и крючочки ему не давались, все получалось вкривь и вкось. Ассоль как только ни ругала и не стыдила мальчика за плохой почерк, даже дополнительные занятия пробовала проводить вместо дневного сна, но все было без толку. А сам Мюллер своего почерка не стеснялся и проблемы не видел, дескать, потренируюсь года три, само наладится. В этом он был прав, но слышать подобные рассуждения от маленького ребенка было удивительно.
Однажды Ассоль заметила, что свои собственные каракули Мюллер разбирает всегда, какими бы кривыми и неразборчивыми те ни были. Но когда Ассоль написала короткую записку, имитируя безобразный почерк Мюллера, тот не понял ни буквы. Оказалось, что он на самом деле не разбирает свои каракули, он просто помнит, что именно написал в том или ином месте. Мюллер, как оказалось, помнит во всех подробностях каждый день своей жизни: какая была погода, что давали на завтрак, обед и ужин, что в какой день проходили на уроках, кого Ассоль хвалила и кого наказывала. Это было совершенно невероятно. Ассоль сразу побежала доложить настоятельнице, та внимательно выслушала, нахмурилась и спросила:
— Как давно он помнит себя?
— С самого первого дня, как у нас появился, — ответила Ассоль. — Я проверяла его по журналу, подряд и вразбивку, он все помнит, до последней мелочи.
— А более давнее прошлое он не помнит? — спросила матушка Ксю.
— А как я могу это проверить? — растерялась Ассоль.
— Никак, — ответила матушка Ксю. — Но узнать пробовала?
— Нет, — покачала головой Ассоль. — Не догадалась.
— Это правильно, что не догадалась, — сказала матушка Ксю с некоторым облегчением. — И впредь не догадывайся. Никогда его не спрашивай, откуда он взялся и как сюда попал, поняла?
— Так точно, — кивнула Ассоль.
— Вот и хорошо, — сказала матушка Ксю. — А теперь прими мое благословение и поди прочь.
— Разрешите вопрос, матушка? — спросила Ассоль. — Этот мальчик не сумасшедший ли?
— А он слышит потусторонние голоса? — спросила в ответ матушка Ксю. — Замирает без движения в нелепых позах? Выстраивает игрушки в ровные линии?
— Нет, — ответила Ассоль. — Ничего такого он не делает.
— Тогда он не сумасшедший, — резюмировала матушка Ксю. — Изыди.
Ассоль вышла и сразу вспомнила, что хотела обсудить с настоятельницей еще одну необычную особенность юного Мюллера. Но возвращаться не стала, чтобы не выглядеть дурой.
Особенность эта заключалась в том, что Мюллер сочинял сказки. А точнее, не сказки целиком, а продолжения сказок — Ассоль рассказывала короткую поучительную историю на полчаса, а Мюллер придумывал ей продолжение, да такое длинное, что за целую неделю не расскажешь. И продолжения эти получались несколько жутковаты. Взять, например, классическую сказку про лисичку со скалочкой. У Мюллера побитая лисица не просто убежала в лес с позором, но придумала хитрый план мести, выгнала старика со старухой из дома, сожрала всех гусей, а потом позвала друга-лиса, с ним вдвоем они сожрали собаку, потом у них с лисом народились лисята и однажды они поймали в лесу одичавших старика со старухой, долго гоняли по кустам, а потом тоже сожрали, после этого лисы построили в лесу подземный город…
К этому времени Ассоль утомилась слушать.
— А эта сказка скоро закончится? — спросила она.
— Нет, — покачал головой мальчик. — Там всего двадцать одна часть, я тебе сейчас шестую рассказываю.
— Расскажи двадцать первую, — попросила Ассоль.
— Зачем? — удивился Мюллер. — Ты тогда не узнаешь, что было раньше.
— Мне так хочется, — сказала Ассоль.
— Извращенка, — сказал Мюллер.
— А ну заткнись! — рявкнула Ассоль. — Мыльного камня в рот напихаю и прополощу! Не смей сквернословить, ты в монастыре! Забыл, что всякая брань оскорбляет Птаага?
Мюллер насупился и промолчал. Обычный мальчик на его месте извинился бы, но Мюллер никогда не извинялся, это была другая его странность. И еще он никогда не плакал, даже когда очень больно.
В тот раз он не рассказал воспитательнице двадцать первую часть своей сказки, он рассказал ее потом. Он был прав, Ассоль ничего не поняла. По всей видимости, в пропущенных частях лисы построили в своем подземном городе мастерские и изобрели какое-то адское оружие, непохожее ни на алебарды, ни на арбалеты, ни даже на катапульты. С помощью этого чудо-оружия они собрались истребить всех людей и устроить на земле свое царство, в двадцать первой части они как раз проводили какое-то важное испытание. Но в чем оно заключалось, разобрать было трудно, потому что рассказ Мюллера наполовину состоял из слов наподобие «бум» и «бдыщь», а на вторую половину — из слов наподобие «ужас» и «чудовище». Ассоль тогда решила, что матушка Ксю не совсем права, Мюллер все-таки сумасшедший, совсем чуть-чуть. А потом он однажды принялся рассказывать ей сказку про деревянную куклу Буратино, разъезжающую по болотам на лошадином скелете и сражающуюся за равноправие детей, и Ассоль укрепилась в своем мнении. Она сказала, что сказки Мюллера ей не нравятся, Мюллер обиделся и больше не рассказывал ей сказок. И другим тоже не рассказывал, но сочинять продолжал, это точно, иногда он рисовал к своим сказкам иллюстрации, и Ассоль старалась не разглядывать их подолгу, потому что они ее не то чтобы пугали, но как-то не по себе становилось, если смотреть на них подолгу.
Однажды матушка Ксю пришла во вторую младшую группу и стала проповедовать про конец света. Это была стандартная проповедь, все дети знали ее почти что наизусть, но так получилось, что последний раз матушка читала ее за пару дней до того, как Мюллер появился в монастыре, и он эту историю не знал.
— И спустятся с неба светлые небесные корабли, — говорила матушка Ксю. — И прилетят на них светлые небесные боги: Птааг, Иисус, Инь, Ян и Аполлон. Вот, глядите, дети, как художник нарисовал эти корабли.
— Херожник! — неожиданно воскликнул Мюллер. — Неправильно он все нарисовал! Небесные корабли не такие! У них нет парусов, они большие бублики без дырок!
Дети захихикали, вначале втихомолку, затем в голос. Маленькие дети всегда смеются, когда кто-то говорит что-то необычное, и особенно часто это делает Мюллер. Он всегда обижается, когда товарищи смеются, и называет их глупым стадом. Иногда его за это бьют, но чаще нет, потому что все привыкли к его странностям.
— Мюллер! — негодующе воскликнула Ассоль. — Как себя ведешь! Ох, как мне за тебя стыдно!
Мюллер посмотрел на нее как на дуру. Был у него такой характерный взрослый взгляд, от которого по спине пробегали мурашки. Казалось, что ребенок этот не совсем ребенок, а как бы дверной проем, сквозь который в мир заглядывает нечто чужое, такое чужое, что понятия «добро» и «зло» значат для него не больше, чем, скажем, законы равенства треугольников для лягушки. Но такое чувство возникало лишь на мгновение и тут же проходило, Мюллер снова превращался в почти обычного ребенка, и Ассоли становилось неудобно, как она только могла подумать такую гадость про этого мальчика. Может, она сама чуть-чуть сумасшедшая?
— А ему не стыдно! — заявил Луи по прозвищу Шило. — Мюллер не знает, что такое стыд.
Это было верно, Мюллер действительно не понимал, что такое стыд. Не было у него инстинктивного чувства стыда, Ассоль долго билась над этой проблемой, но в конце концов опустила руки. Составила перечень стыдных ситуаций и велела Мюллеру заучить наизусть. Тот очень обрадовался и спросил:
— Спасибо, Ассоль, а почему ты так не сделала раньше?
Ассоль ничего не смогла ему ответить, только руками развела. Человек, которому неведом стыд, в некотором смысле безнадежен. А тот, кому неведом еще и грех, безнадежен вдвойне. Но, выходит, даже безнадежное существо можно сделать похожим на нормального человека, если найти правильный подход.
— А ну все заткнулись! — сказала матушка Ксю. — Если кто меня еще раз перебьет, в угол поставлю и будет стоять до конца урока как дурак! Смотрите, дети, на следующий плакат, это Птааг Милостивый…
— Ой, а я его знаю! — закричал Мюллер во весь голос. — Он такой добрый! Взял меня за руку, повел по лестнице, я говорю, типа, устал, а он взял меня на руки, понес…
— Простите его, матушка, — подала голос Ассоль. — Он такой фантазер… Что с вами, матушка?
После последних слов Мюллера настоятельница побледнела и лицо у нее стало растерянное. Но она быстро овладела собой.
— Со мной все нормально, — сказала она. — Но проповедь у меня не получится. Из-за тебя не получится, бестолковое чадо! — бросила она Мюллеру.
— А давайте лучше я расскажу! — предложил Мюллер. — Я интересно рассказываю! В тот раз мы с Птаагом…
— А ну молчать! — рявкнула настоятельница. — Ассоль, выведи святотатца! В карцер! На хлеб и воду! Три дня! Выполнять!
Ассоль испуганно охнула. Никогда еще она не видела матушку в таком гневе, вот как махнет сейчас посохом… Да она мальчика в порошок сотрет!
Ассоль схватила Мюллера за руку и быстро вытащила из класса. Мальчик не упирался, он, похоже, так и не понял, что происходит и чего он избежал.
— А Птааг добрее, чем Ксю, — невозмутимо произнес он.
К счастью, дверь в класс уже закрылась, матушка Ксю не расслышала последних слов.
Ассоль присела на корточки, чтобы лицо оказалось напротив лица мальчика, и горячо зашептала:
— Никогда не говори такого, никогда не говори, так нельзя! Это же святотатство!
— Почему? — переспросил Мюллер. — Птааг, он же добрый… Какое тут святотатство, если он добрый?
Ассоль поняла, что продолжать воспитание сейчас неуместно. Затащила мальчика в карцер, захлопнула дверь, хотела сказать что-нибудь назидательное, но ничего не придумалось, и она удалилась молча.
Мюллер улегся на спину на жесткие нары, закрыл глаза и занялся тем, что просвещенные взрослые называют медитацией, а Мюллер не называл никак, потому что не знал подходящего слова. Он мысленно обратился к Птаагу, но это не было молитвой, потому что молитва — действие одностороннее, бог на нее если и отвечает, то только через долгое время, а когда Мюллер обращался к Птаагу, тот всегда отвечал быстро, всего через несколько минут. Вот и сейчас бог выслушал жалобы мальчика и пообещал все исправить, притом не за три дня, а намного быстрее. Тогда Мюллер набрался храбрости и попросил бога сделать, чтобы у Мюллера были мама и папа, как у всех нормальных детей, и чтобы мама была добрая, как Ассоль. Бог обещал, что все сделает.
2
Конная сотня пересекла брод и направилась к воротам. Это были не косорылые степняки на мохнатых низкорослых лошадках, а имперские воины на нормальных имперских лошадях. Любой дурак легко узнает воина родной державы по высокому шлему и удлиненному щиту, притороченному к лошадиному боку. А офицера легко опознать по гербу, изображенному трижды: на щите, на грудной пластине доспеха и на флажке, надетом на копье пониже наконечника. А у старших офицеров шлем снабжен забралом, а за поясом вместо меча торчит булава-шестопер. В том отряде, о котором идет речь, офицеров было четверо: один старший и трое младших, они держались вместе в голове колонны.
До реки лошади шли неторопливой рысью, а войдя в воду, перешли на шаг, и когда выбрались на северный, имперский берег, так и шли дальше шагом. Обычно воины, когда въезжают в крепость, стараются принять бравый вид, но эти воины ничего подобного не делали. То ли знают, что Роксфордская крепость уже не крепость, то ли слишком сильно устали и измучились.
Когда передовые всадники приблизились к воротам, стало видно, что верно второе. Плащи воинов были запылены так, что выглядели не красно-коричневыми, как положено по уставу, а серыми. Все воины, кроме самых молодых, были небриты, у многих отросли окладистые бороды. Все лошади были серыми невзирая на масть, будто их не чистили дней пять, а nbsp;то и всю неделю. У нескольких воинов руки или головы перевязаны побуревшими тряпками, щиты почти у всех порублены, а копье сохранилось только у предводителя отряда, флажок этого копья изображал вставшего на дыбы единорога.
Матушка Ксю встретила их сразу за воротами. Она сразу узнала командира отряда, хотя тот и скрывал лицо под забралом. По гербу узнала.
— Привет тебе, Ромул Мокроносый! — сказала она.
Эти слова обидели молодого безбородого офицера, ехавшего по левую руку командира.
— Кому Ромул Мокроносый, а кому ваше высочество, — сказал он и вытащил из-за пояса плеть.
Матушка Ксю половчее перехватила посох и приготовилась отразить намечающееся оскорбление. Но ей не пришлось ничего отражать, командир остановил ретивого подчиненного повелительным жестом.
— Моя честь — мое дело, не твое, — сказал он.
Юноша поморщился и буркнул:
— Как вам угодно, батюшка.
Батюшка поднял забрало и громко сказал:
— И тебе привет, Ксю Двойная Дудка!
Эти слова произвели на матушку Ксю странное впечатление. Сначала она клацнула челюстью, будто поймала ртом комара, затем покраснела, и, наконец, принужденно рассмеялась.
— Мы встречались? — спросила она.
— Вроде нет, — ответил Ромул. — Но слухами земля полнится.
— Сын? — спросила Ксю, указав на офицера, только что возмутившегося ее словами.
— Да, старший мой, Бартом кличут, — кивнул Ромул. — Что с крепостью?
— Пока стоит, — пожала плечами Ксю. — Что война? Битва уже была?
— Была, — кивнул Ромул. — Просрали.
— Проездом или как? — спросила Ксю.
— Или как, — ответил Ромул. — Приказано держать брод.
Настоятельница оглядела воинов критическим взглядов. К этому времени три десятка бойцов въехали внутрь и распределились по окружности монастырского двора. Остальные по-прежнему толпились за воротами.
— С таким сбродом ты говно в жопе не удержишь, не то что брод, — сказала Ксю.
Барт вздрогнул. Не зря говорят, что она колдунья, откуда иначе ей знать, что половина имперского войска мается несварением?
— Отец! — воскликнул Барт. — Разреши…
— Не разрешаю, — отрезал Ромул. — Ты на абордаж не ходил, а она ходила. Много раз. Потому имеет право дерзить. Ксю, у меня приказ держать брод пока хватит сил.
— Сил хватит ненадолго, — сказала Ксю.
— Это касается только меня и Птаага, — сказал Ромул. — Не тебя.
— Мой монастырь посвящен Птаагу, — заметила Ксю. — Так что меня оно тоже касается. Когда ждешь степняков?
— Послезавтра, — сказал Ромул.
Настоятельница снова клацнула челюстью.
— Послезавтра? — переспросила она. — А эвакуация?
— Какая тут эвакуация, — пожал плечами Ромул. — Божья воля очевидна. Все сложим головы во имя богов и императора. Военные, гражданские, все…
— А дети? — не унималась Ксю. — У меня больше сотни сирот-бастардов.
— Сироты-бастарды тоже, — сказал Ромул и безразлично пожал плечами.
Ксю некоторое время испытующе пялилась ему в глаза, затем отвела взгляд и тоже пожала плечами.
— Скажи бойцам, пусть детей не обижают, — сказала она.
— Солдат ребенка не обидит, — сказал Ромул.
— Старших девочек тоже, — добавила Ксю.
— Гм, — сказал Ромул. — Ладно, хорошо, старших девочек тоже.
— Поклянись, — потребовала Ксю.
— Клянусь, — сказал Ромул. — Всеми светлыми богами клянусь, и пусть моя душа не спасется, если нарушу сию клятву.
— Клятву приняла, — кивнула Ксю. — Слезай с коня, пойдем, покажу, где людей разместить.
— Барт, пойдешь со мной, — приказал Ромул сыну.
Барт слез с коня и последовал за настоятельницей и отцом. Лицо Барта было мрачно. Он только сейчас понял, что вряд ли переживет послезавтрашний день. А сегодня и завтра обещают быть неимоверно унылыми. Зачем только отец поклялся не обижать местных девок…
3
Птааг не соврал, Мюллеру недолго пришлось сидеть на хлебе и воде. И трех часов не прошло, как в карцер явилась Ассоль в сопровождении незнакомого мужика-простолюдина, здоровенного, волосатого и вонючего. Воспитательница схватила Мюллера за руку и выволокла в коридор, тот даже проморгаться не успел.
— Ага, вот они где, сходы для смолы, — непонятно пробасил мужик. — Эй, Шорти!
Мюллер к этому времени уже проморгался и понял, что в коридоре полно больших и вонючих волосатых мужиков, и это не просто мужики, а воины, потому что на поясе у кого сабля, у кого меч, у кого топор, а у некоторых поверх рубах нацеплены кольчуги и панцири, видать, не нашли времени разоблачиться.
— Да я понял, — подал голос густобородый коротышка, похожий на сказочного гнома. — Смолу доставим враз, дымоход — вон он, я только пока не соображу… ан нет, сообразил…
— Шорти, Чиж и Кикимора здесь, Шорти старший, — распорядился первый мужик. — Остальные со мной. На другой стороне такая же трахомудия должна быть, пошли искать.
Они прошли мимо, задевая стены ножнами и полами плащей, Ассоль прижалась к стене, ее потная рука сильно сжимала ладошку Мюллера. Будто чего-то боится…
— Ай! — вдруг пискнула Ассоль и стала запыхтела, невнятно и сдавленно.
Мюллер поднял глаза и увидел, что мужик, шедший последним, ухватил Ассоль одной рукой за грудь, а другой за жопу, а небритой харей уткнулся в Ассолину шею и… кусает, что ли…
— Кто там балует?! — донесся издалека зычный командирский голос. — Его высочество что Ксюхе пообещал?
Воин поднял голову, Мюллер увидел, что он вовсе не кусал Ассоль, просто слюнявил, так, помнится, по весне Луи Шило стал слюнявить морду Селине Топотушке, а потом они принялись разглядывать пиписки, а потом пришла Ассоль и стала ругаться…
— Так то сиротинок-ублюдиц высочество обещал не портить! — крикнул воин. — Про монашек уговора не было!
Кто-то захохотал, глумливо и одобрительно. Воин наклонился к Ассоли, чтобы снова обслюнявить, но тут луч света упал на ее лицо, воин вздрогнул и произнес сразу пять плохих слов подряд. И добавил непонятно:
— Наволочку бы…
Ассоль тоненько запищала и стала отпихивать мужские руки. Мюллер решил, что пора ей помочь. Вытянул руку, ухватился за рукоять сабли, потянул на себя…
Мужик испуганно отпрянул и уставился на Мюллера с таким холодным бешенством в глазах, что незазорно и описаться. Но Мюллер не описался.
Мужик вдруг улыбнулся и произнес длинную фразу, в которой было только два не плохих слова: «постреленок» и «дает». И ушел догонять товарищей. А они с Ассолью остались, при этом Ассоль дышала неровно и прерывисто, а морда у нее стала красная. И те три воина, что остались доставлять смолу и делать что-то еще, тоже заметили, что морда у нее красная. Старший над воинами, тот самый гномоподобный Шорти, так и сказал:
— Ну что, красна девица? Побалуемся напоследок?
Ассоль всхлипнула, схватила Мюллера за запястье и повела прочь, очень быстро, почти что бегом.
— Не баловаться! — громко приказал воинам Мюллер. — А то заругают!
Воины захохотали, будто он сказал что-то смешное. Взрослые часто смеются без причины, и знаменитая пословица им не указ.
Они забежали за угол, там Ассоль остановилась, отпустила Мюллера, села на корточки, спрятала лицо в ладонях и стала плакать. Мюллер принялся гладить ее по волосам и утешать:
— Ассоль, не плачь, боги в обиду не дадут. Птааг мне обещал давеча, все хорошо будет, так и вышло. Я, вон, уже не на хлебе и воде.
После этих слов Ассоль почему-то не успокоилась, а стала плакать еще горше и отчаяннее. Мюллер между тем продолжал:
— А еще Птааг мне сказал, у меня будет мама, добрая, как ты. А можно, ты будешь моей мамой?
От этого вопроса Ассоль перестала плакать, и Мюллер понял, что подобрал верные слова.
— Давай ты будешь моей мамой! — повторил он.
Но Ассоль помотала головой из стороны в сторону и сказала:
— Мамой я быть не могу, даже сестрой не могу. Я же обеты приняла.
— Это не проблема, — рассудительно произнес Мюллер, неосознанно подражая интонациям матушки Ксю. — Я с Птаагом поговорю, он что-нибудь придумает. А почему у нас в монастыре воины? Степняки набегут? Всех убьют? Монастырь сожгут?
Ассоль снова зарыдала, и Мюллер понял, что угадал все три раза. Он начал беспокоиться. Птааг, конечно, обещал, что все будет хорошо, но при таких вводных…
— А ты меня не бросишь? — требовательно спросил он. — Я хочу быть с тобой! Обещаешь, что не бросишь?
— Обещаю, — кивнула Ассоль, вытерла слезы и высморкалась в край монашеской робы. Выпрямилась и сказала: — Пойдем в трапезную.
— Так не время, — удивился Мюллер.
— Все дети теперь там, — объяснила Ассоль. — В спальнях и классах солдаты. Потом обещали нормально распределить…
Некоторое время они шли молча, затем Мюллер спросил:
— А правду говорят, что если монахиню трахнуть, ее обеты больше не считаются?
— Не говори плохие слова! — возмутилась Ассоль.
— Так это без плохих слов не сказать, — возразил Мюллер. — Так правда или нет?
— Тебе рано думать о таких вещах, — заявила Ассоль.
— Я не о себе думаю, — сказал Мюллер. — Я-то ребенок… Вот смотри, если какой-нибудь солдат тебя трахнет, ты потом меня сможешь усыновить?
Ассоль резко остановилась, будто ударилась лбом в стену, медленно обернулась, наклонилась и посмотрела на Мюллера так изумленно, будто у него во лбу открылся третий глаз, как у волшебного зверя Тулерпетона.
— Ты на что намекаешь? — настороженно спросила она. — Ты что задумал?
— Я ничего не задумывал, — стал оправдываться Мюллер. — Я-то что, я ребенок… Я подумал, попрошу Птаага…
— Светлых богов о таких вещах не просят, — заявила Ассоль.
— Значит, попрошу Рьяка, — поправился Мюллер.
Ассоль неожиданно разгневалась.
— А ну замолчи! — взвизгнула она. — Глупый мальчишка! Не смей поминать Темного Владыку! Призвать захотел?
— А чего его призывать? — пожал плечами Мюллер. — Степняки служат темным силам, верно? Они к нам идут, верно? А Рьяк — главный предводитель темных сил. Значит, Выходит, он и так уже призвался, чего еще призывать? А в трапезной есть шкафчик у дальней стенки, там Лалена из пятой группы вино прячет, может, тебе тоже попить…
Ассоль глупо хихикнула и почему-то мгновенно перестала гневаться. Взяла Мюллера за руку и повела дальше. Мюллер вспомнил, что когда Лалена из пятой группы так хихикала, Ассоль называла ее истеричкой и пьяницей, хотя Пьяница — это извозчик Жуль, а Лалена на него совсем не похожа. Наверное, Ассоль тоже стала истеричкой, это наверное, заразно, как если в носу ковырять.
4
Бартоломей Ромулсон с детства мечтал о военной карьере. Еще будучи голожопым мальчуганом, он предпочитал все прочим игрушкам деревянный меч, а когда ходил в приходскую школу, редко выдавалась неделя, чтобы его жопа не встречалась с розгой. Ибо воин должен быть силен, задирист и безропотно терпеть боль. Так говорил папа Ромул после второго кубка, именно в таком состоянии Барт больше всего любил отца, потому что трезвый он был уныл и во всем слушался маму. Сколько раз бывало: нажалуется учитель маме, она пилит Барта, пилит, а отец поддакивает, а она пилит, а он поддакивает, и если не знать, что это только до второго кубка, никаких сил не будет терпеть. А так совсем нетрудно терпеть, легче, чем когда прутом по голой жопе. После второго кубка отец становится совсем другой, уже не забитый муж-подкаблучник, а сказочный воин, сильный, наглый и решительный. Настоящий мужчина. Жалко, что мама ему запрещает пить второй кубок. Редко-редко пап становится настоящим, раз в месяц примерно, редко чаще. Но это ничего, Барт все равно помнит, что такое настоящий мужчина.
Вступительные экзамены в военное училище Барт сдал легко. Не играючи, как рассчитывал, он-то думал, что сыну капитана сделают скидку, а ее не сделали. Но он в ней, как выяснилось, и не нуждался. Пробежал, проскакал, проплыл, поразил три мишени тремя стрелами, потом был бой на деревянных мечах, его Барт провел не слишком хорошо, притомился, не рассчитал сил, когда переплывал водную преграду, но все равно продержался, хоть и пропустил удар по носу в самом конце. Мама потом вопила и убивалась, папу изругала всего, дескать, не проследил, хотя как он мог проследить? Да пустяки это все, не стоит разговоров, для воина сломанный нос — ерунда, у ветеранов такой у каждого второго. Если без забрала ошеломили, нос целым не сохранить, годом раньше, годом позже… Жалко, что женщины таких простых вещей не разумеют. И еще мама плохо сделала, что уговорила отца взять Барта к себе в эскадрон. Там Барту нелегко пришлось — не напейся, не пошали лишний раз, чуть что — сразу выволочка, не смей, дескать, позорить родного отца. Поначалу Барт хотел дождаться ежегодного парада, когда император собирает прошения, выйти из строя, пасть на колени и умолять о переводе, но Дарт Сномен, с которым Барт поделился бедой, сказал, что так поступать стыдно для родовой чести. Барт обиделся, а потом понял, что Дарт прав, помирился с ним и решил, что все перетерпит назло всем. И перетерпел, как ни странно. Потом, впервые примерял когда лейтенантский панцирь, никак не мог поверить, что перетерпел.
С этого момента Барт стал мечтать о войне. Ветераны любят шутить, что война — ерунда, главное в военной жизни — маневры, но все понимают, что это шутка. Будь ты хоть самым наипервейшим фехтовальщиком, наездником и стрелком одновременно, все равно пока первого врага не замочишь, всерьез тебя не примут. А мочить некого, со степью вечный мир, пираты не набегают, смерды не бунтуют, где развернуться юному герою? Негде. Вот и пошел герой в храм, и помолился Тору Громовержцу, дескать, устрой, Тор, настоящую войну, пропадает герой без войны. Зря молился, дурак.
Поначалу война Барту понравилась, да что там говорить, он был в полном восторге! Война только на первый взгляд похожа на маневры, все вроде то же самое, те же дозоры и караулы, та же унылая мура, но на самом деле все по-другому! Как на них девки пялились из-за плетней! А как станешь на постой в деревне, едва ли не каждая стремится причаститься офицерской ласки. И это не простой блуд, это что-то как бы мистическое, они тебя как бы благословляют, и с каждым следующим благословением чувствуешь себя все большим героем. Отец этого не одобрял, подтрунивал над Бартом, но беззлобно, потому что у кого на панцире лейтенантский узор, тот делом доказал право на мелкие глупости.
А потом зарядил дождь. Не обычный летний ливень с грозой, когда псы прячутся по кустам и скулят, а храбрые мужи веселятся и молятся Тору, чтобы не залепил огненной стрелой по неосторожности. Нет, то был другой дождь, мелкий, моросящий, и конца-краю ему не было. Холодно стало, как осенью, и грязища разлилась, точь-в-точь как в распутицу. Всадникам-то еще терпимо, а пехоте хоть вешайся, с каждым шагом на сапоге пуд грязи поднимаешь, и это только те, у кого сапоги пока не развалились, а у кого развалились, те босиком по лужам скачут, ноги в цыпках, ужас! За два дня каждый десятый простудился, а простуда — дело такое, что сегодня ты перхаешь, завтра в груди забулькало, а послезавтра добро пожаловать в братскую могилу. Сколько таких случаев Барт в те дни пронаблюдал — ужас! А потом армию настиг кровавый понос, и засранцы стали завидовать простуженным.
Степной король, носящий имя Никодим и прозвище Тушканчик, славился не полководческим талантом, а только лишь интриганским умением. Никто не ожидал, что он одержит верх в прямом столкновении броня на броню, но вышло так. Победа упала в руки Тушканчику, как яблоко с яблони. Имперское войско пришло на расправу, как бараны на бойню, и если бы кто в начале войны предсказал, как все обернется, то повесили бы дурня немедленно, чтобы не предвещал ерунды.
Барту доводилось слышать разговоры, что во всем, дескать, виноваты боги. Недостаточно почитали, неправильно почитали, не тех почитали, хер разберет, короче, в чем промашка, но что-то не заладилось между богами и императором, вот они и подкузьмили. Тушканчиковы кешики проскакали по бранному полю как витязи по ристалищу, кони сытые, всадники румяные, а имперское войско — как парад живых мертвецов, кто водой не срет, тот кашлем заходится. Чем не божья немилость? Отец, правда, сказал, что боги тут ни при чем, что Птаагу Милосердному, дескать, и сам император в хер не уперся, а о простых воинах тем более говорить нечего. Барт тогда остолбенел, впервые услышав, как отец сквернословит, да еще с богохульством, а потом подумал, чего уж теперь…
Он стал чувствовать себя как мифический Андроид Автомат, про которого рассказывала сказки Янка-кормилица, и мама тоже что-то рассказывала, хотя до Янки ей, далеко было в сказительном умении. Мозг Барта как бы отключился, все, что он делал, делалось само собой, и иногда Барту казалось, что его душа высунулась из тела через невидимый третий глаз на темечке и теперь телепается на ветру, как невидимая хоругвь, и с любопытством озирает доверенное богами тело. А телу повезло, ни желудочная хворь не задела, ни легочная, ни стрела, ни сабля. Ну и толку с того… Война не турнир, на войне победы раздают не каждому бойцу отдельно, а всем сразу, и будь ты хоть трижды героем в побежденной армии, все равно горе побежденным.
Нелепое оцепенение отпустило Барта в тот момент, когда отец сказал старухе-монашке, дескать, все сложим головы во славу богов и императора. И тогда Барт понял: да, они сложат головы на стенах этой забытой богами крепости, облезлой и уродливой, ничуть не соответствующей собственной славе. Не самый достойный конец для храброго воина, не о таком он мечтал, когда муштровался в училище и потом, когда терпел отцовские придирки.
Барт ничем не показал своего разочарования. Он с головой погрузился в обычную расквартировочную суету: распределить нужники и умывальники, составить списки дежурств, графики приема пищи и уборки помещений, перечень постов и порядок смены караулов, определить запретные зоны, организовать пропускной режим… Организацию обороны отец взял на себя, а тыл полностью поручил Барту. И уже не в первый раз. Ветераны говорят, это хороший признак, в капитаны готовит. Точнее, раньше готовил, а теперь действует по инерции, не осознал еще сердцем, что послезавтра все умрут и все бессмысленно. И не только он, никто этого не осознал, ни солдаты, ни офицеры, совсем никто. Ходят, говорят, шутят, покрикивают, все как обычно, будто этот день не предпоследний в жизни каждого, а потом только финальная битва и конец. Как будто все не бессмысленно.
Ближе к вечеру суета утихла и стало совсем тяжело. Когда делаешь тысячу мелких дел, легко отвлечься от грустных мыслей, а когда все дела сделаны, это намного труднее. Вроде все хорошо, впервые за три недели сытно поел, да не какую-нибудь похлебку, а жареную свинину с заморскими пряностями (чего их теперь беречь), выпил два стакана вина один за другим (тоже незачем беречь), в другой день Барт был бы счастлив, но не сегодня. Он знал, что послезавтра умрет, и от этого хотелось выть.
Он вышел за пропускной пункт и поплелся по гулкому сырому коридору куда ноги ведут. Ноги привели его в крыло, отведенное малолетним бастардам. Прямо в коридоре по охапке соломы ползали штук десять голожопых малышей в одинаковых застиранных рубашонках, сразу не разберешь, где девочки, а где мальчики. Хотя нет, вот девочки, играют в куклы, а вон мальчики солдатиков по полу расставили. А воспитательница какая страшная на рожу!
— Здравствуйте, благородный господин, — почтительно произнесла воспитательница, поднялась с карачек и сделала неловкий книксен. — Дети, поприветствуйте благородного господина.
— Заасси бааоный гаадин, — нестройно пропищали дети.
А один пацан, белобрысый и не по возрасту серьезный, спросил воспитательницу:
— Ассоль, а он воин?
— Да, конечно, — ответила страшная Ассоль. — Почему ты спрашиваешь, Мюллер?
— Ты говорила, воины бесстрашные, — сказал серьезный мальчик Мюллер. — А он вот-вот усрется от страха.
Дети захихикали. Барт почувствовал, что краснеет.
— Мюллер, не говори плохих слов! — воскликнула Ассоль. Повернулась к Барту и добавила: — Простите его, благородный господин, он еще маленький, не понимает, что говорит.
По ее лицу было видно, как трудно ей не рассмеяться.
— Мюллер — странный мальчик, — продолжала Ассоль. — Мы к нему привыкли, не обижаемся, слышали бы вы, какие он сказки придумывает…
— Господин наклюкался, — заявил Мюллер. — Вона рожа раскраснелась.
— Мюллер! — прикрикнула на него воспитательница.
Какой-то ребенок произнес, прикольно растягивая гласные:
— Надо говорить не «вона», а «глядите», и не «рожа», а «лицо». Ты бы еще «хавальник» сказал.
— Луи! — снова прикрикнула воспитательница. — Мне стыдно за тебя! И за тебя, Мюллер, тоже стыдно. Разве я вас не учила, как говоривать с благородными господами?
— Да какой он благородный, он не представился, — сказал Мюллер и скорчил брезгливую гримасу.
— Он степнячий шпион! — внезапно завопил Луи.
Какая-то девочка заплакала.
Барт хотел сказать, что он не шпион, но вдруг заметил, что челюсти его сжаты с такой силой, что на щеках вздулись желваки. Усилием воли расслабил жевательные мышцы, зубы громко скрипнули.
— У дяди глисты, — прокомментировал какой-то ребенок.
Ассоль нахмурилась, наморщила лоб, и ее страшная морда неожиданно перестала быть страшной. Не иначе, вино догнало.
— Благородный господин, вы шли мимо? — обратилась она к Барту.
В этот момент Барт решился. Если он послезавтра умрет, что сегодня имеет значение? Да ничего!
— Леди, позвольте вас на минутку, — учтиво произнес он. — Буквально на пару слов.
— Я не леди, — поправила его Ассоль. — Я благородного происхождения по отцу, но я приняла обеты. Вы можете называть меня сестрой.
Барт саркастически хмыкнул. Сестрой, как же… Впрочем, почему бы и не сестрой? Все равно послезавтра обоим помирать, настолько сестренка смазлива, чтобы оставили в живых. Он ей сейчас добро сделает, подготовит, так сказать, к последнему испытанию.
— Пойдемте, сестра, — сказал Барт.
Галантно подхватил девку под локоть, и повлек по коридору торжественным шагом. Но торжественность была обманчива, Барт просто боялся поскользнуться на гнилой соломе.
— Сюда, пожалуйста, — сказал Барт и направил девицу в первую попавшуюся комнату.
— Там детский нужник! — изумилась Ассоль.
— Тогда не сюда, — поправился Барт. — Что в следующей комнате?
— Детская спальня, — ответила Ассоль. — Там сейчас никого, дети вона играют.
— Вот и хорошо, — кивнул Барт. — Пойдемте в спальню.
На глупенькой мордочке дурнушки впервые появилось подозрительное выражение.
— Гм, — сказала она. — Позвольте поинтересоваться, благородный господин…
Барт решил, что пора переходить от слов к делу. Обхватил девку за талию, подставил подножку, толкнул в плечо другой рукой, она пискнула, потеряла равновесие и бестолково засеменила, подчиняясь направляющему движению. Барт втолкнул ее в детскую спальню и разжал руки.
Это, очевидно, была временная спальня. Здесь не было ни кроватей, ни тумбочек, ни других казарменных атрибутов. Просто большая охапка соломы на полу и в беспорядке разбросаны какие-то одеяла. Ну и ладно.
— Ах! — воскликнула Ассоль.
— Не пищи, дети услышат, — посоветовал ей Барт. — Становись раком.
— Вы не посмеете! — вскрикнула Ассоль, но тише, чем в прошлый раз, умненькая, детей стесняется, похвально. — Ваш командир обещал…
— Не лги мне, — сказал Барт. — Я при том разговоре присутствовал и точно помню каждое слово. Ты разве ребенок?
— Нет, — ответила Ассоль, несколько растерянно.
— Тогда становись раком, — потребовал Барт. — А то будет больно.
Подождал немного и добавил с особой доверительной интонацией, отрепетированной еще в столице:
— Да хватит тебе кобениться, от этого не умирают, оно даже приятно. Тем более послезавтра все равно умирать.
— Ах, вот в чем дело, — сказала Ассоль с неожиданным облегчением. — Прости, я думала, ты маньяк, а ты трус. Давай лучше помолимся Птаагу Милосердному…
Она не договорила. Барт ударил ее кулаком в скулу, получилось не особо сильно, несподручно бить сидячего, когда сам стоишь, но все равно дух из девки вышибло неслабо. Ишь чего удумала, благородного офицера трусом называть! Сейчас ты у меня, стерва, попляшешь!
Барт повернул бездыханное тело, задрал на голову подол монашеской робы и изумленно присвистнул. Никогда не видел такого контраста — сверху крокодил крокодилом, а снизу вполне себе пригожая девица. Ну, держись, красавица, принимай воина в гости.
— Ее нельзя трахать, — послышался из-за двери детский голос. — Она обеты дала.
— Заткнись, ублюдок, — пропыхтел Барт, стараясь не сбиться с ритма.
Он вспомнил: Мюллер, так она назвала эту малолетнюю скотинку.
— Я теперь понял, что такое грех, — сказал Мюллер. — Раньше не понимал, а теперь понял. Грех — это как ты себя ведешь. Сильных боишься, слабых обижаешь. Не стыдно?
— Заткнись, ублюдок! — повторил Барт, на этот раз во весь голос.
— Зато я не трус, — спокойно сказал Мюллер.
Барт выхватил кинжал и метнул в дверь, не глядя. Послышались удаляющиеся детские шаги. Странно, что нож не зазвенел, когда упал, неужели попал? Неудобно получилось — хотел пацана отпугнуть, а случайно зарезал. Ну и наплевать.
Трахать бесчувственное тело было необычно, будто не живую девку трахаешь, а покойницу. Барт долго не мог кончить. Только когда девица стала приходить в себя и зашевелилась, тогда только получилось. Отдышался, снял подол с девкиной головы, прилег рядом, по-хозяйски облапил грудь.
— Вот и все, а ты боялась, — сказал Барт.
— Теперь ты на мне женишься, — сказала девка.
Спокойно так сказала, уверенно, как будто назвала время ужина или, например, указала дорогу в прачечную. Даже смешно.
— Да ради всех богов, — улыбнулся Барт. — Все равно послезавтра помирать. Почему бы не жениться на крокодилице?
— Я тебя за язык не тянула, — сказала монашка. И добавила: — Никогда не думала, что так обернется.
— Гордишься? — спросил Барт.
— Стыжусь, — ответила Ассоль. — Стыдно от труса детей рожать.
— Рожать не придется, — заверил ее Барт. — Послезавтра все помрем. А тебя степняки сначала трахнут хором, а потом убьют.
— Послезавтра ни тебя, ни меня здесь не будет, — возразила Ассоль.
Барт почувствовал, как под ложечкой екнуло. Надежда?
— С какого перепугу? — спросил он.
— Твой отец от тебя отречется, — ответила она. — Он ведь по-настоящему благородный, не такой, как ты. Матушка Ксю женит меня на тебе, нас изгонят. Если повезет, доберемся до Палеополиса живыми.
В коридоре послышались шаги и приглушенные голоса, один женский, а второй… гм… отцовский. Барт подскочил, как ужаленный, заправил рубаху в штаны, и едва успел подпоясаться уставным образом, как на пороге появился граф Ромул собственной персоной. Из-за его плеча выглядывала старуха-настоятельница, Барт только сейчас заметил, что она ростом почти с отца.
— Ассоль, ты как? — спросила старуха.
— Отлично, — ответила Ассоль. — Он обещал на мне жениться.
Ромул поперхнулся и закашлялся. Старуха-настоятельница хлопнула его по спине, граф пошатнулся и едва не вошел лбом в гранитный косяк.
— Спасибо, что не посохом, — пробормотал Ромул вполголоса.
— В следующий раз будет посохом, — сурово произнесла Ксю. — Распустил отродье…
— Он мне не отродье, — заявил Ромул. — Отрекаюсь ныне, присно и во веки веков, лишаю титула, наследства и всего прочего. Ксю, засвидетельствуй.
— Это я всегда пожалуйста, — сказала Ксю.
В этот момент Барт понял, что не ослышался, отец действительно только что от него отрекся.
— Отец, ты чего?! — воскликнул Барт. — За что?!
— Чтобы не делал родного отца клятвопреступником, — объяснил Ромул. — Почто парнишку зарезал?
— Мальчик его трусом назвал, — подала голос Ассоль. — А он обиделся. Правда глаз колет.
— А, вот в чем дело… — протянул Ромул. — Я-то думал, от воздержания осатанел, а оно вона как… Тогда у меня совесть не болит, отрекаюсь от труса с легким сердцем. Эй, Шляпа! Пошли кого-нибудь, пусть ему манатки соберут!
Лейтенант Джеми по прозвищу Шляпа отправился выполнять приказ.
— Объявляю вас мужем и женой, — подала голос настоятельница.
Барт аж подпрыгнул.
— Ты чего? — завопил он. — Совсем сдурела? Да я тебя…
Он потянулся за кинжалом, но ножны были пусты. Краем глаза заметил резкое движение, автоматически отмахнулся, но неудачно, отцовский кулак прилетел в солнечное сплетение, а секундой позже посох настоятельницы врезался в темечко. Барт сомлел, прислонился к каменной стенке, сполз на солому и затих. Ромул осторожно, чтобы никого случайно не зарезать в тесном помещении, достал меч, и аккуратно перерезал кончиком лезвия завязки, крепящие у бывшего сына грудную пластину к другим деталям панциря. Нагнулся, снял с Барта офицерский знак, передал кому-то за спину. Затем обратился к Ассоли:
— А ты не пожалеешь?
Ассоль безразлично пожала плечами. Ксю толкнула Ромула в бок и стала строить гримасы. Ромул посмотрел на нее и вроде понял. Намекает, что такую страхолюдину по доброй воле замуж ни один черт не возьмет, а тут, можно сказать, повезло. Хотя какое там повезло… Чтобы пробраться к столице мимо степных разъездов нужна совсем невероятная удача, на такое нельзя всерьез рассчитывать. Ну да ладно, пусть боги их судят, не человеческое это дело, удачу оценивать.
Какая-то женщина подошла к Ксю, зашептала на ухо.
— Ну и слава богам! — воскликнула Ксю и осенила себя благочестивым жестом. — Эй, презренный, боги над тобой смиловались. Жив мальчишка, только оцарапался. Ну, ничего, до свадьбы… гм…
Да, до свадьбы мальчишки не доживет. Никогда не заживет царапина, так и будет труп валяться оцарапанным. Интересно, степняки только девчонок насилуют или мальчиков тоже?
Ассоль поднялась с соломы, отряхнула робу, встала рядом с мужем, и все увидели, что скула у нее разбита и глаз заплыл. Хорошая свадьба вышла у сына, ничего не скажешь. Не такой судьбы желал ему Ромул, до последнего момента надеялся, что не дадут боги Барту проявить дурной характер, унаследованный от матери. Однако дали.
Барт открыл глаза, поднял голову и посмотрел на новообретенную жену с отвращением. Ассоль отвернулась и вышла из комнаты. Ксю окинула Барта презрительным взглядом и тоже вышла. Отец и сын остались одни.
Губы Барта зашевелились, Ромул подошел ближе и опустился на одно колено, чтобы расслышать слова. Лучше бы не слышал.
— Отец, прости, — сказал Барт.
Ромул распрямился, сплюнул в угол, резко повернулся и вышел. За распахнутой дверью слышались всхлипывания бывшего лейтенанта.
5
Редко какого путника собирают в дорогу так щедро, как собрали Ассоль и Барта. Если бы в монастыре оказался вдруг иностранный путешественник, несведущий в имперских обычаях, он бы нашел этот факт поразительным. Но для образованного и культурного человека все очевидно.
Варвары полагают своих богов такими же варварами, как они сами, только бессмертными и могущественными. Варвары не постигают главное отличие бога от человека, и именно это отличает их от людей цивилизованных. Боги непостижимы, это ясно всякому жителю империи, и если этот факт уяснить не только умом, но и сердцем, то ясно становится все.
Почему ни матушка Ксю, ни граф Ромул не стали эвакуировать из Роксфорда гражданских? Потому что ни пешком, ни на осле от степных всадников не уйти, а лошадей на всех не хватит. Будь матушка Ксю менее образованной, она бы приказала кинуть жребий либо как-то иначе разузнать божью волю. Но мудрый человек не оскверняет душу гаданием, мудрому очевидно, что если боги не спешат огласить свою волю, значит, в этом как раз и есть на данный момент их воля. Глупо полагать, что в монастыре Птаага Милосердного хоть какая-то ничтожная малость происходит без воли этого самого бога. Пожелал бы Птааг устроить выборочную эвакуацию — нашел бы путь донести свою мысль до человеческих разумов. А раз мысль не дошла, значит, не было такой мысли, значит, богу угодно массовое жертвоприношение.
Почему ни матушка Ксю, ни граф Ромул не только не возражали против бегства Барта, но фактически заставили его покинуть Роксфорд? Потому что в священном писании не зря сказано, что приносимое в жертву существо должно быть безупречным, а класть на жертвенник порченые объекты — оскорбление божества. Кроме того, Птааг ясно дал понять, что жизнь Барта принимать не желает, надо быть совсем глупым, чтобы думать, что все произошло само, без божьей воли. Так что бывшего лейтенанта отпустили без колебаний, хотя никто ему не завидовал, ибо лучше сгинуть в строю во славе, чем пресмыкаться в позоре, отвергнутый богами и товарищами.
А почему никто не стал наказывать Ассоль за двойное нарушение обетов (сначала преступила целомудрие, пусть и ненамеренно, затем безбрачие)? Да по той же самой причине — ясно же, что не случайно все так произошло, а по божьей воле, а противиться божьей воле дураков нет.
Матушка Ксю выделила беглецам четырех лучших лошадей (двух верховых и двух вьючных), а также съестных и прочих припасов на две недели пути, хотя в седлах путникам предстояло провести от силы четыре дня, если степняки не перехватят. Ассоль, кроме того, получила полный комплект монастырской одежды и отпущение всех грехов, вольных и невольных. Отпускать девку на волю с отягощенной душой матушка сочла недопустимым. Даже не стала толком выслушивать, протараторила скороговоркой положенную формулу и вернулась к фехтовальному упражнению, прерванному явлением юной монахини. Матушка упражнялась с тяжелым полутораручником, и пот с нее лился градом, что неудивительно — старость не радость. Но какую песню сложат степняки о старухе, принявшей геройскую смерть в столь преклонном возрасте!
Кто-то дернул Ассоль за подол, когда та проверяла седельные сумки. Она обернулась, никого не увидела, опустила глаза и встретила недетский взгляд Мюллера.
— Ты обещала меня усыновить, — заявил он.
— Когда? — удивилась Ассоль.
— Ну, когда это… на хлеб и воду…
Ассоль вспомнила. Трудно поверить, что это случилось только сегодня утром, а не месяц назад. Да, все верно, на последнем уроке перед обедом матушка проповедовала, а Мюллер устроил безобразную сцену и потом…
— Погоди, — сказала Ассоль. — Я тебе ничего не обещала.
Мюллер нахмурился и закатил глаза к потолку.
— Нет, обещала, — упрямо сказал он. — Обещала, что не бросишь. Ассоль, усынови меня, пожалуйста.
— Да ты сдурел! — возмутилась Ассоль. — Что я Барту скажу, ты подумал?
— Скажи, что я твой брат, — рассудил Мюллер. — Проверить он все равно не сможет. А усыновишь потом, когда в город приедем.
А этот план может сработать… Интересно, как ребенка угораздило такое придумать… Да какое там придумать, ему пять лет!
— Кто подсказал тебе эту хитрость? — подозрительно спросила Ассоль.
— Птааг, — ответил Мюллер.
Ассоль заглянула в его серые недетские глаза, по спине пробежали мурашки. Она отвела взгляд.
— А ты часом не Омен Разрушитель? — спросила она.
— Нет, я Мюллер Долбозвон, — ответил Мюллер.
— Не повторяй это прозвище, оно обидное! — возмутилась Ассоль. — Сколько раз можно говорить…
— Не вижу ничего обидного, — пожал плечами Мюллер. — Долбозвон, Дубощит, Меднолоб… Нормальные прозвища, ничего плохого.
Хлопнула дверь, в конюшню вошел Барт.
— Что, собралась наконец? — обратился он к Ассоли. — Чего копаешься? А это кто?
Мюллер выжидательно заглянул ей в глаза снизу вверх. Ассоль сглотнула и ответила Барту:
— Мой брат. Мюллером зовут.
— Я с ним возиться не буду, — заявил Барт. — На своем седле повезешь. И кормить будешь из своей доли.
— А что, у меня будет своя доля? — удивилась Ассоль.
Барт ничего не ответил. Бегло заглянул в одну седельную сумку, в другую, охлопал вьюк, оценил объем и вес, взял коня за повод, повел к воротам. Бросил через плечо:
— Не отставай.
Ассоль подумала, что сейчас они выйдут во двор, кто-нибудь заметит, что с ними увязался Мюллер, скажет, что растаскивать мальчишек команды не было, но монастырский двор был пуст. Не так пуст, как обычно говорят, а совсем пуст, абсолютно, нигде ни одного человека. Днем, за три с лишним часа до заката никогда такого не бывает! А почему они выбрались в дальний путь на ночь глядя?
— Барт! — позвала Ассоль.
— Кому Барт, а кому благородный господин, — отозвался Барт. — На первый раз прощаю, потом буду бить.
Ассоль решила, что больше не будет спрашивать его без нужды. И еще она подумала, что организованное Птаагом спасение от степняков — не награда, а наказание. Но она перетерпит его с достоинством.
Мюллер дернул ее за юбку и тихо прошептал:
— Я потом убью его, мама.
— Какая мама? — удивилась Ассоль. — Я ему сказала, ты мой брат.
— Мама, сестра, не суть важно, — сказал Мюллер. Озорно улыбнулся и добавил: — А по первому вопросу ты не возражаешь?
По спине Ассоли пробежали мурашки. Она подумала, что замужество за Бартом, возможно, не самое большое испытание из ниспосланных ей богами.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. СТОЛИЦА
1
Испокон веков столицей империи является Палеополис, самый наидревнейший из всех имперских городов. Слово Палеополис на древнем языке как раз и означает «древний город». Помимо того, что он самый древний в империи, он еще самый большой, настолько большой, что никто толком не знает, сколько людей там живет. Одни говорят, сто тысяч, другие — миллион, третьи — миллиард, а кто прав — знают только боги, да и то не факт. Какое богам дело, сколько смертных проживает в каком-то конкретном городе?
Город Палеополис состоит из трех районов, далеко отделенных один от другого. Первым является исторический центр, выросший вокруг древней цитадели, стоящей на высокой горе. Она давно перестала быть крепостью, рвы засыпаны, валы оплыли, стены и башни время от времени обновляются, но только для красоты, не для обороны. Лестницы на стены почти везде обвалились, а где сохранились в целости, там загромождены барахлом. Караулы на стенах стоят символические, а боевые площадки башен так тесно заставлены скульптурами, что если кто-то захочет использовать такую площадку по назначению, воинам там не развернуться.
В прошлом цитадель была обычным городом-крепостью, внутри стен стояли жилые дома, конюшни, амбары, другие хозяйственные постройки, казенные, казармы для воинов, все как обычно. А императорский дворец был совсем маленьким, не больше, чем типичные хоромы богатого купца. Но со временем военные и хозяйственные строения перенесли за пределы городских стен, а все освободившееся место занял дворец. Вся цитадель превратилась в одно огромное бесформенное здание, составленное из множества элементарных сооружений, соединенных запутанными переходами. Сейчас здесь живет император с женами, детьми и другими родственниками, и неимоверное количество прислуги. Впрочем, слуги живут в особых казармах за стенами, а внутрь цитадели приходят только на работу.
Гора, на которой стоит цитадель, венчает собой невысокий, но крутой хребет, делящий Палеополис пополам. Про этот хребет говорят, что в прошлом он принадлежал морскому зверю Брухатке, который выполз из моря и окаменел, и все его кости растащили хищники, только хребет остался. Почему зверь Брухатка выполз из моря — никто точно не знает, известно два десятка разных и одинаково правдоподобных объяснений этому факту. А ученые философы, квартал которых расположен между кварталом шутов и кварталом гадальщиков, говорят, что зверь Брухатка не при делах, дескать, удивительная форма каменного гребня образована выветриванием горной породы, а сходство со звериным позвоночником только внешнее. Дескать, в незапамятные времена, когда империи еще не было на белом свете и все люди были варварами, однажды случилось большое землетрясение, два земных пласта опустились, а третий поднялся, и так, дескать, и образовался удивительный ландшафт Палеополиса. Но здравомыслящие люди твердо верят, что если какое землетрясение и было, то вызвал его зверь Брухатка, ударив хвостом по земле.
Описываемый хребет тянется с востока на запад и упирается в океан отвесным обрывом, над песчаным пляжем. К северу от хребта размещается так называемый верхний город, а к югу, соответственно, нижний город. Верхний город состоит из одинаковых квадратных кварталов, застроенных каменными домами с большими внутренними двориками, там обычно обустраивают бассейн или фонтан, что кому больше нравится. Каждый квартал заселен представителями определенного сословия: в одном живут помещики, в другом генералы, в третьем купцы, и так далее. Чем более высокое положение занимает сословие в табели о рангах, тем более почетный квартал этому сословию предоставлен, тем ближе это место к небу и императору, и тем дальше от сточных канав.
Нижний город застроен стихийно, без какого-либо плана. Здесь живет низкая публика: мастеровые, торговцы, шлюхи, ворье и другие сословия, которых поэты сравнивают с крысами, самопроизвольно заводящимися в нечистотах. А нечистот тут хватает — дома достигают пяти этажей в высоту, а водопровода, в отличие от верхнего города, нет и в помине, дерьмо швыряют из окон прямо на улицу, и если дождя долго нет, оно накапливается и смердит. В целом нижний город — место крайне непривлекательное, приличные люди сюда не заходят, разве что пьяные в поисках приключений, но это дело опасное, потому что стражи здесь нет, а отчаянных парней, охочих до чужих кошельков — более чем достаточно.
На западе верхний и нижний город смыкаются в морском порту. Поэты называют порт Палеополиса городом контрастов, потому что здесь процветание и нищета не разделены непроходимым барьером, а соприкасаются вплотную, и никого не удивляет пьяный калека, блюющий на ступенях дворца. В верхнем городе такого нарушителя выпороли бы и прогнали взашей, но портовые богачи более снисходительны к людским слабостям. Потому что среди портовых богачей большинство составляют не родовитые аристократы, а купцы и пираты, начавшие карьеру с низов и скопивших состояние на протяжении одной жизни. По портовым улицам гуляют вальяжные пузаны, увешанные серьгами и перстнями, а вокруг суетятся босоногие хитроглазые пацаны, и никто не знает, кому из них суждено стать с годами таким же пузаном, а кому сгинуть в пиратском набеге или уличной драке. Известно лишь, что вторых большинство, а первых немного, но не исчезающе мало, а вполне заметное количество.
Северная часть порта считается богатой, там селятся адмиралы, капитаны, штурманы и прочая относительно чистая морская публика. А южная часть застроена убогими покосившимися домишками, в которых ютятся семейные матросы и портовые грузчики. А те, кто семьей не обзавелся, предпочитают хижины-однодневки, сложенные на скорую руку из упаковочной тары. А если долго стоит хорошая погода, без дождя, то моряк в жилье вообще не нуждается, ему в такую погоду всюду хорошо, главное, чтобы наливали.
В южной части порта в двухстах шагах от береговой кромки, на перекрестке двух забытых богами безымянных переулков стоит таверна, именуемая «Якорь в гузне». По местным меркам это приличное заведение, здесь даже пол не засыпают соломой, а подметают и посетителям плевать на пол не разрешается. А если кто хочет подраться, то сначала надо уплатить по десять грошей с участника, не считая двойного штрафа за ущерб заведению, если дерущиеся вдруг по случайности расколотят что-нибудь ценное. Бесплатно драться можно только с вышибалой, но желающие редко находятся, потому что вышибалой здесь работает знаменитый Барт Живчик.
Интересный это человек, очень необычный для своего ремесла. Люди втихомолку шепчутся, что он высокородный дворянин по происхождению, лишенный титула за что-то позорное — не то в бою струсил, не то что-то уголовное учудил. Но правда ли это, никто толком не знает, потому что Барт о своем прошлом не рассказывает, а на прямые вопросы отвечает либо бранью, либо ударом. Но в целом похоже на правду — лицо у Барта породистое, дворянское, и если бы не сломанный нос, был бы красив, как Аполлон. И дерется он, как черт дворянский, фехтовальных приемов знает столько, сколько только благородные знают. Как-то раз забрели в «Якорь» пираты-дикари с Банановых Островов, стали буянить, так Барт отдубасил их простой деревянной дубиной, забрал три сабли и два шлема, и третий тоже забрал бы, если бы тот пират его прежде не пропил. Потом к Барту подходил боцман с того корабля, звал в команду, но Барт не пошел. Барт по жизни трусоват, в драке забывает о трусости и дерется как черт, а когда драки нет — всего боится, как заяц. Если бы не этот недостаток, Барт давно бы уже стал у пиратов абордажным лейтенантом, а то и боцманом. Но Барт так и не пошел в пираты, сколько ему ни предлагали.
— А если мне веслом ногу перешибет? — спрашивал он каждого очередного вербовщика. — Что я буду, как цапля прыгать на одной ноге?
Столкнувшись со столь явным малодушием, вербовщик обычно терял дар связной речи и начинал лепетать ерунду, дескать, все в руках божьих, будешь молиться как следует — не перешибет тебе ногу веслом, и так далее… Барт выслушивал это, закатывал глаза, цокал языком и говорил:
— Неубедительно.
Тогда посетители начинали хохотать, а вербовщик понимал, что выставляет себя на посмешище, и либо расплачивался и уходил, либо лез в драку и огребал. Завсегдатаи «Якоря в гузне» настолько привыкли к выходкам Барта, что воспринимали их как должное, а кое-кто даже всерьез полагал, что Барт глумится над вербовщиками нарочно, и отказывается он от приличной карьеры не из трусости, а по каким-то другим причинам.
Обычный вышибала одновременно является ночным сторожем, и живет прямо в охраняемой таверне, в особой комнатушке, чаще всегр на втором этаже. Но Барт был не обычным вышибалой, семейным. Большую часть скудного заработка он тратил не на вино и не на шлюх, а на арендную плату за половину небольшого, но в целом пристойного двухкомнатного домишки на соседней улице. Там он жил с семьей: женой Ассолью и сыном Мюллером, сын, впрочем, был ему не родной, он раньше был Ассолин младший брат, а когда осиротел, сестра его усыновила, так в империи часто делают. При каких обстоятельствах это случилось, Ассоль никогда не рассказывала, только обмолвилась пару раз, что это как-то связано с набегом Никодима Тушканчика на Роксфорд пять лет назад.
Ассоль была необычной женщиной. При первом знакомстве она производила отталкивающее впечатление, черты ее лица были настолько неправильны, что ее даже уродиной трудно назвать, потому что не понимаешь, в переносном или в прямом смысле следует употреблять это слово. Не женщина, а крокодил в юбке, прости господи.
Барт никогда не рассказывал, как вышло, что он женился на этаком страшилище. Мужики в таверне поначалу пытались его расспрашивать, но он зверел, начинал драться, и со временем расспрашивать его перестали. Темная история. От чистого сердца такую крокодилицу вряд ли можно любить, но оженить мужика насильно на сироте тем более невозможно, а если предположить, что Ассоль хитростью либо колдовством вынудила Барта дать обет богам, это, в принципе, возможно, но предположение получается шаткое, ничем не подкрепленное. Да и не в характере Ассоли устраивать подлые хитрости.
О характере Ассоли следует сказать особо. Насколько страшна она лицом, настолько прекрасна душой, очень добрая она женщина, почти святая. Когда Молли Трясогузку разбил паралич, Ассоль целую неделю выносила за ней горшок, хотя никто ее не заставлял и даже не просил, и когда потом Молли померла и набежали родственники делить оставшиеся после нее гроши, и Ассоли ничего не досталось, она не обиделась и никого не прокляла, только сказала, что боги не лохи и разберутся, кого наказывать и за что, и что она, дескать, ходила за Молли не из корысти, а из жалости. Эти слова услышал Ларос Тролль, как раз вернувшийся из пиратского набега и люто бухавший, и сказал, что божьей десницей в деле справедливости пока еще не бывал, но побудет с удовольствием. Допил стакан, закусил ломтем баранины и пошел восстанавливать справедливость. Но не восстановил, потому что заблудился в подъезде и вломился не в ту квартиру, хорошо, что Жарга Бешеного Пса не оказалось дома, а то поубивали бы один другого к чертям. А так Ларос изрубил у Жарга всю мебель, нашел в буфете вино, вылакал целую бутыль прямо из горла и заснул рядом. Там его нашла Мила Железяка, завизжала, стала звать стражу, но вместо стражников пришел Валли Морж, узнал Лароса, разбудил пинками и утащил на корабль. А потом Жарг вышел из запоя, узнал про безобразие, пошел за Ларосом на корабль, получил по башке от боцмана, стал подкатывать к Ассоли, дескать, ты подговорила парня на беззаконие, значит, ты и виновата, тут в дело вмешался Барт, засадил Жаргу два раза в пузо, тот успокоился и отвалил. А Нина Пробка сказала, что боги, видать, не слишком любят Ассоль, раз превратили поступок Лароса, задуманный как благородный, в этакое безобразие. Говоря это, она хотела обидеть Ассоль, но сказала, что божья воля неисповедима, и ничуть не обиделась.
Ассоль была сильно набожна. Она посещала храм пятидесятилетия животворящей статуи Птаага Милосердного о пяти ногах, что стоит на том самом углу, где раньше рядом стояла гостиница «Русалка раком», но она сгорела, а храм не сгорел, потому что Птааг милосерден. По воскресеньям Ассоль высиживала службу от начала до конца, оставалась на проповедь и на исповедь, и еще потом подолгу беседовала со Страйкером Толстопузым, служившим в этом храме жрецом. Но публично вопросов не задавала, потому что была скромная. В обычные дни Ассоль забегала в храм дважды в день, утром и вечером, а иногда выкраивала и в обед минутку, помолиться и поблагодарить Птаага за очередные несколько часов безмятежной жизни. В приходе Ассоль была активисткой, участвовала почти во всех мероприятиях. Страйкер одно время хотел поставить ее начальницей над другими бабами, но она из скромности отказалась, и сколько Страйкер ни уговаривал ее не отвергать послушание, Ассоль твердо стояла на своем. Но от простого труда во имя божье она не отказывалась, ей что подушку вышить, что занавеску соткать, что полы в храме помыть — все едино. Только в хоре не пела и иконы не рисовала, но не от нежелания, а оттого что боги не наделили потребными талантами. И еще в мистерии плодородия она никогда не участвовала, потому что не звали, и сама тоже не рвалась, ибо знала, что непременно распугает половину участников.
В те немногие часы, что оставались у Ассоли свободными от домашних и богоугодных дел, она вышивала бисером рыбок и морских змеев, а сдавала поделки оптом Винни Камнежорке по три гроша за рыбку и по пять грошей за змея. Это нехитрое ремесло приносило примерно треть их с Бартом общесемейного дохода, но она никогда не говорила мужу о своем приработке. Потому что если Барт узнает, что он не единственный кормилец в семье, он расстроится, а расстраивать его она не хотела, не из любви и не из страха, просто по жизни не любила расстраивать людей.
Соседи считали, что Барт и Ассоль живут душа в душу и души в друг друге не чают. Они, действительно, не дрались и почти не ругались, а если ругались, то тихо, и для соседей их ссоры почти всегда проходили незамеченными. Но любви между супругами не было, ни душевной, ни плотской, за первый год Барт поимел жену всего-то раз десять, а потом вообще перестал. Какое удовольствие иметь женщину, которая валяется, как бревно, и никак тебе не радуется? Раньше у нее жопа была красивая, а потом оплыла, покрылась апельсиновой коркой, и вообще ничего хорошего в жене не осталось. Лучше со шлюхами оттягиваться, чем с такой нелюдимой страхолюдиной, шлюхи хотя бы притворяются, что им хорошо.
Одно время Барт всерьез подумывал, не прогнать ли жену к чертям. Но не прогнал, потому что жить холостяком хоть и веселее, но не так комфортно. Жена в доме прибирается, белье стирает и все такое, а то придется каждый раз прачку нанимать и уборщицу отдельно, нет уж, лучше быть женатым, пусть даже на крокодилице. Жрет супруга немеряно, деньги тратит как в прорву, но женщины все такие, тут ничего не поделаешь. Хотя бы мелочь из карманов не тырит, и на том спасибо. Вон, у Саввы Жеребца жена повадилась монеты из карманов незаметно вытаскивать, сколько раз бывало, приходит в трактир, заказывает бормотухи, а расплатиться нечем. И словами учил жену, и колотушками, а ей все едино, на упреки отвечает, дескать, не хочу быть замужем за пьяницей, и хоть кол ей на голове теши, уперлась и никуда. Ассоль-то хотя бы вино пить не запрещает, понимает, что мужику надо иметь радость в жизни. Либо совесть заела за ту историю в монастыре. Как она тогда его соблазнила, всю жизнь поломала, сука хитрожопая! А он ее даже не побил ни разу как следует.
Многие обращали внимание, что Барт бьет жену редко, намного реже, чем другие мужики того же сословия. А если и бьет, то скорее гладит, чем бьет, ну, залепит пощечину или сапогом в жопу задвинет, но это не считается. А чтобы розгой или батогом, такого, почитай, никогда и не было. Барт не знал, почему так происходит, он не придавал значения тому, что всякий раз, как только он только начинал примериваться, появлялся малолетний ублюдок Мюллер и переключал гнев отчима на себя либо совсем убирал этот гнев.
Мюллер считался сыном Барта и Ассоли, но на самом деле был, как уже говорилось, ее усыновленным братом. Отцы у них почти наверняка были разные, потому что ни лицом, ни телосложением Мюллер на сестру не походил. В облике его не было ничего примечательного, пацан как пацан, таких в каждом дворе как грязи. Но характер у него был странный, это сразу бросалось в глаза.
Прежде всего, Мюллер был глуп. Нормальные портовые мальчишки очень быстры разумом, мысли у них носятся как хорьки по курятнику. Бывает, купец только начал оглядываться, сам еще не понял, что заблудился, а один пацан уже улицу называет и руку за грошиком протягивает, а второй уже втирает пацанам постарше, что нашел лоха и тоже тянет ручонку за монеткой. А не будешь тянуть ручонки куда надо — ничего в них не упадет, будешь ходить как дурак с пустым брюхом, а пацаны поумнее — кто леденец сосет, а кто и заморское дурманное зелье. Портовая жизнь быстро отучает считать ворон.
Но бывает, что среди портовых мальчишек попадаются совсем необучаемые экземпляры. Одним из таких был Мюллер. Если его посылали куда-нибудь с поручением, он не бежал вприпрыжку, а неторопливо шествовал и по дороге много раз отвлекался на ерунду. Не раз бывало, что к концу пути он напрочь забывал поручение или вообще забывал, куда шел и шел ли куда-то вообще. Тогда он садился на перевернутый ящик из-под заморских пряностей, пялился неведомо куда и шевелил губами, будто молился. Поначалу пацаны так и думали, что он молится, но однажды Леон Жирный попросил научить этой молитве, и оказалось, что Мюллер вовсе не молится, а придумывает сказки. И это не нормальные подростковые сказки про богов, героев и войнушку, и даже не детские сказки про старика, старуху и всяких колобков, а какой-то неимоверный бред про подземные города и летучие корабли. Дурной, короче, парень, даже не блаженный, просто долбанутый на всю голову.
Серьезных дел Мюллеру в порту не доверяли, и дохода в семью он не приносил никакого. Но Ассоль его не ругала за это, у нее было нелепое представление, что подростков надо содержать как младенцев, и им якобы вовсе не обязательно обеспечивать свое содержание хотя бы частично. Соседи много раз предлагали устроить Мюллера в обучение серьезному ремеслу, к ворам-карманникам, например, или к педерастам в веселый дом, но Ассоль всегда отказывала. Так и повелось, что Мюллер бродил целыми днями неприкаянный, глазел куда глаза глянут, да бормотал всякий бред себе под нос. Бывало, прохожие принимали его за блаженного, подавали подаяние, был бы пацан поумнее, сделал бы карьеру на паперти, но его никакая карьера не интересовала. Дурачок, короче.
Одно время Мюллер пристрастился рисовать морские карты. Подбирал у писцов обрывки порченой бумаги и на обороте рисовал острова, проливы, розы ветров как настоящие, даже русалок и морских змеев выучился похоже изображать. Один раз вышел конфуз — пиратский капитан Алан Пекарь подобрал в «Якоре» клочок бумаги с обозначенным кладом, и поверил, что карта настоящая, потому что Мюллер на этом клочке изобразил не какой-то только что придуманный остров, а вполне узнаваемый Далалайский архипелаг. Позже Мюллер признался, что однажды брел по причалу и прошел мимо штурмана, который в своем атласе как раз рассматривал эту страницу, Мюллер ее запомнил и потом много раз перерисовывал. Мюллер хоть и был дурак дураком, но обладал одной способностью, от которой многие не отказались бы — умел запоминать большие картинки целиком и во всех подробностях. Короче, Алан поверил, что карта настоящая, собрал экспедицию, успел уже провиант закупить, только, слава богам, однажды проболтался собутыльникам. Как они хохотали! А Алан, как узнал, в чем дело, озверел неимоверно, пошел разбираться к отцу пацана, но не дошел, потому что по дороге зашел в другой кабак и забыл, за чем шел. А когда вспомнил, гнев уже остыл, да и голова с похмелья трещала. Плюнул Алан, махнул рукой, и отправился пиратствовать дальше обычным образом, а клады больше не искал.
Мюллер был очень одинок. Это неудивительно — нормальные пацаны с подобными дурачками не дружат, да и сами дурачки между собой не дружат, потому что дурачки. Нормальный пацан на его месте страдал бы, но Мюллер привык к одиночеству с детства. Он знал, что у людей бывают друзья, но к себе это правило не применял, ему даже в голову не приходило применять к себе людские правила. Действительно, был бы он нормальным человеком — были бы нормальные родители и нормальная семья. А Мюллера отец (на самом деле не отец) игнорировал, а мать (на самом деле не мать) все время шарахалась из одной крайности в другую — то начинала мелочно опекать, чуть ли не в нужник за ручку водила, а то вдруг теряла к ребенку всякий интерес. Последнее чаще всего совпадало с подъемами религиозного рвения, что неудивительно — когда голова занята богами, для родного сына (на самом деле не родного, но неважно) места в мыслях не остается. А причина религиозных колебаний Ассоли была проста (хотя и никому, кроме нее, не известна) — ей время от времени снились эротические сны с участием богов, и каждый раз после такого сна Ассоль несколько дней была не в себе.
Мюллер страдал не от одиночества, а от скуки. Но сам он не считал, что страдает, он полагал это состояние естественным. Он много спал, иногда до четырнадцати часов подряд, но пустого времени все равно оставалось много. Чтобы как-нибудь убить очередной день, он придумывал сложные ритуалы. Например, так: составлял список возможных занятий на сегодняшний день, присваивал каждому занятию порядковый номер, потом брал какую-нибудь песенку, которую помнил наизусть, и начинал заниматься тем занятием, на номер которого указывало число букв в первом слове. А потом переходил к занятию по числу букв во втором слове, затем по третьему слову и так далее. Со стороны это выглядело глупо, а временами даже безумно. Однажды, например, он нашел у Ассоли пачку маленьких женских сигар, (Ассоль иногда покуривала, хотя стеснялась этого пристрастия и всегда отрицала его) и включил курение в список занятий на сегодня. А потом случайно вышло так, что в сегодняшней песне трижды повторилось одно и то же слово, и ему пришлось выкурить три сигары подряд, и его стошнило прямо на улице. Очень глупо.
Если бы Мюллер жил в приличном районе, он бы много читал. Но в южной части порта читать нечего, здесь нет ни частных, ни общественных библиотек, да и не знает никто такого слова — библиотека. Здесь даже газеты не продают, не настолько много грамотных, чтобы оно окупалось. Фактически, грамоте здесь учились только капитаны, штурманы, мастера-корабелы да еще конторские писари. Говорят, есть места, где принято, чтобы грамоту разумели все мальчики без исключения, а кто не разумеет, тот дурак, но в порту такой традиции не было. Соседи Мюллера не подозревали, что он грамотен (и тем более не подозревали, что Ассоль тоже грамотна), и даже Алан Пекарь был уверен, что вышеупомянутую карту Мюллер перерисовал так, как богомазы перерисовывают иконы — тютелька в тютельку, не понимая сути изображенного. Если бы Мюллер догадался, он легко мог сделать карьеру герольда, читая вслух газеты, сборники анекдотов и рекламу. Такие профессиональные чтецы по местным меркам считались обеспеченными, а если бы герольдом стал ребенок, поглазеть на такое чудо сбежалась бы целая толпа, и ребенок заработал бы кучу денег. Но Мюллер до этого не догадался, и никто другой тоже не подсказал.
А теперь пришло время рассказать о ближайших соседях Барта, Ассоли и Мюллера. Выше уже говорилось, что Барт снимал не весь дом, а только одну комнату, а вторую комнату снимал надсмотрщик над рабами-грузчиками по имени Отис, с ним жил сын Пепе одного возраста с Мюллером, а жены у Отиса не было, потому что померла. Отис был пузат, неопрятен и имел привычку разговаривать громче, чем принято в обществе. Эта привычка обычна для надсмотрщиков, потому что черножопые рабы все тугоухие, это общеизвестно, нормальную речь понимают с трудом, а когда орешь, как бешеный верблюд — тогда понимают. В последнее время, кстати, среди пиратов распространилась мода ловить черножопых в заморских лесах, привозить в родной город и продавать на рынке города, из-за этого черножопых в Палеополисе развелось сверх всякой меры. Говорят, что ловить рабов — дело более прибыльное, чем грабить караваны, возить контрабанду или мыть золото на тайных приисках, но в масштабах государства рабство — это плохо. Потому что помещику и промышленнику черножопый раб обходится дешевле, чем свой брат голодранец, и выгоднее не нанимать рабочих, а покупать рабов. И когда рабов на рынке неограниченно, рабочих никто не нанимает, они страдают от безработицы и многим приходится подаваться в воры или пираты. А одна семья, говорят, даже вернулась из города в родное село к крестьянскому труду, но в это не верится, врут однозначно.
Однако вернемся к Отису. Лет ему было около сорока, был он толст и всегда выглядел помятым. Он говорил соседям, что десять лет провел на каторге гребцом на боевой триреме, но ему не верили, потому что на триремах нет особо выделенных гребцов, там служат гребцами те же люди, что воинами и матросами, трирема — такой корабль, что каждый на счету и каждому приходится осваивать по две-три профессии. Кроме того, выжить десять лет на гребной скамье — дело непростое, и те, кто его осилил, отличаются от нормальных людей не только шрамами от кандалов (Отис уверял, что их ему колдунья свела), но и кое-какими привычками, которых у Отиса не было. Во всем городе был только один человек, веривший байкам Отиса безоговорочно — его сын Пепе.
Пепе Отисон имел необычное прозвище Клювожор. Почему это прозвище к нему прилипло, никто не знал, да и не задумывался особо. Клювожор, значит, Клювожор, делов-то. Был Пепе среднего роста, но не пузат, как отец, а тощ, сутул и имел необычную походку, его ноги не до конца разгибались в коленях, поэтому ребята постарше сравнивали его с заморской обезьяной. Ровесники такого себе не позволяли — боялись огрести по зубам.
Несмотря на субтильное телосложение, в драке Пепе двигался быстро и точно, никого не боялся и оттого был первым драчуном на два квартала вокруг. Бывало, стоят два парня один напротив другого и переругиваются, а вокруг стоят друзья одного и друзья другого, и подзуживают обоих, и спорят на щелбаны, кто кому вломит. А бойцы уже перехотели драться, но отступать неприлично, скажут, что струсил, вот и вопят, и руками машут, но морды один другому не бьют. И вот откуда ни возьмись налетает Пепе, бьет каждого в пятак и начинает носиться вокруг, как комар, хрен поймаешь. А потом вдруг взрывается вихрем ударов, глядишь, один горе-боец пыль грызет в обмороке, а другой ревет белугой, а рука у него заломлена. А потом раз, и нет Пепе, убежал куда-то.
По характеру Пепе походил на сторожевого терьера из тех, что охраняют склады с заморскими пряностями. Ростом такая собачка не превосходит кошку, зубы имеет, как у обычной дворняги, а резвость в лапах такова, что, бывает, в погоне за кошкой взбирается на дерево по голому стволу, а потом боится слезть, сидит и гавкает, а дети смеются и кидаются в животное всяким дерьмом. Раньше на складах держали для охраны овчарок и мастифов, а потом кто-то заметил, что опытного вора с длинным ножом собаке по-любому не задержать, так что главная задача зубастого сторожа — не грызть, а гавкать, а для этого большая собака не нужна. Кроме того, маленькие терьеры меньше жрут, и от этого происходит дополнительная выгода. В итоге оказалось, что терьер против вооруженного человека получается даже сильнее мастифа, потому что в озверевшего терьера не попасть ни ногой, ни ножом, ни кистенем, хоть ты обдрыгайся, ему все равно, носится кругами, лает и покусывает. Короче, уже три года как на всех портовых складах в охране работают только терьеры, а больших собак держат в жилых дворах, случайных прохожих распугивать.
Так вот, Пепе по характеру был как маленький терьер. Живость имел неимоверную, все время бегал либо приплясывал, а нормальным шагом не ходил. Морда у него была всегда разбита, потому что будь ты хоть наипервейшим бойцом, но если дерешься пять раз в день, рано или поздно что-нибудь прилетит, даже если все пять раз победил. Руки-ноги у Пепе были исцарапаны, колени ободраны, а все рубашки, кроме выходной, продраны на локтях, а штаны на коленях. Одно время Отис ежедневно порол сына, потом стал пороть через день, а потом перестал пороть, потому что бесполезно. Тогда Пепе решил, что никто ему не указ, и совсем с цепи сорвался. Кто-то из парней рассказывал, что подслушал, как старухи спорили на бочонок варенья, на чем Пепе впервые поймают, на воровстве или разбое, и ни одна старуха даже не подумала, что Пепе вырастет честным человеком. Сам Пепе, когда о том узнал, сказал, что ни воровством, ни разбоем заниматься не станет, потому у него и так все есть, а когда он вырастет, станет пиратом, а воровством и разбоем пусть занимаются неудачники. Мюллер, случайно присутствовавший при том разговоре, сказал тогда, что Пепе в пираты не возьмут, потому что пират должен быть не только храбр, но и дисциплинирован. Пепе обиделся, стукнул Мюллера кулаком в висок, сбил с ног и пинал, пока в драку не вмешался какой-то матрос. Мальчишки потом спорили, убил бы Пепе Мюллера, если бы не тот матрос, или нет. А Пепе с тех пор Мюллера не любил и старался обидеть по любому поводу. Но получалось редко — словесные придирки Мюллер не замечал, а сразу бить в морду Пепе стеснялся.
Несмотря на всю склочность, в мальчишечьей компании Пепе был популярен. Он всегда отвечал добром на добро, а если кто-то оказывал ему должное почтение или дарил что-нибудь ценное, к таким парням он относился лучше, чем другим. Другого бы запинал ногами до полусмерти, а этого всего лишь козлом обозвал, да не зло, а ласково — большая разница. Потому друзей у Пепе было много, и когда бы он ни появлялся на улице, вокруг него всегда собиралась компания. А на улице Пепе появлялся часто, домашних дел у него не было, хозяйством у Отиса занималась приходившая по субботам черножопая рабыня. Пепе однажды похвастался, что ее трахает, но старшие ребята стали задавать проверочные вопросы, Пепе не смог правильно ответить, его обсмеяли и с тех пор он больше так не хвастался.
Раньше, когда Отис и Пепе только-только поселились в своей половине дома, кухня была общая на две семьи. Но теперь Ассоль предпочитала стряпать на маленькой переносной горелке в собственной комнате. Дело в том, что Пепе постоянно воровал жратву со стола, это у него стало как соревнование с самим собой, только Ассоль ступает на кухню, как Пепе сразу начинает крутиться вокруг, и только Ассоль отвернется — хвать что-нибудь и сожрал. Как ни пыталась Ассоль его увещевать, ничего не помогало, она даже завела привычку делать особый пирожок с острым перцем и подкладывать, чтобы Пепе стянул именно его, но Пепе научился отличать эти пирожки от других, и однажды такой пирожок достался Барту, и хорошо, что Ассоль в тот момент была в храме, а то огребла бы по полной программе. Ассоль пробовала жаловаться Отису, но тому было все равно, он уже разочаровался в воспитании сына. В итоге Ассоль решила, что проще кухней вообще не пользоваться, и когда Пепе это понял, он решил, что победил, и несколько дней дразнил этим Мюллера. А потом перестал дразнить, потому что Мюллер ничего не понял.
Однажды Ассоль с Мюллером пошли в храм на службу, а Барт не пошел. Ассоль его пригласила, но он сказал, что плохо себя чувствует, потому что вчера съел что-то несвежее. На самом деле он чувствовал себя прекрасно, а в храм идти не хотел потому, что договорился на это самое время с шлюхой, и Ассоль это знала, и Барт знал, что она знает, они понимали друг друга без слов.
Храм, к приходу которого принадлежала Ассоль, был посвящен, как уже упоминалось, пятидесятилетию животворящей статуи Птаага Милосердного о пяти ногах. Это не означало, что означенная статуя находилась на территории храма, нет, она стояла где-то в верхнем городе и ни один прихожанин ни разу ее не видел, даже сам местный жрец Страйкер Толстопузый видел ее лишь однажды. Просто в Палеополисе в то время была мода посвящать храмы разным юбилеям, иногда неожиданным.
Здесь уместно сказать пару слов про Страйкера Толстопузого. Прежде чем посвятить себя Птаагу, он служил на пиратском корабле и сделал карьеру от рядового бойца до боцмана. А потом черти угораздили его влюбиться в черножопую рабыню, он ее похитил и сбежал с корабля, а она не поняла, что он в нее влюбился, улучила момент, набросилась и стала убивать, а когда не смогла — убежала. Страйкер отбился, но был изранен и долго лежал в горячке, и по ходу принес обет Птаагу Милосердному стать жрецом, если не помрет. Так оно и вышло. Заодно избег гнева бывших товарищей, они его сначала хотели вообще убить за крысятничество, потом пришли штраф требовать, а в итоге пришлось обойтись бесплатным благословением, ибо ничего сверх того требовать с ученика жреца неприлично.
Поскольку Страйкер начал духовную карьеру не по внутреннему убеждению, а в силу обстоятельств, место в храме он подыскивал в большой спешке. Будь он не так стеснен во времени, он бы ни за что не согласился служить богам в задрипанной халупе в бедном районе. И зря — жрец Эммануил, заведовавший до него этим храмом, объяснил Страйкеру, что чем беднее район, тем богобоязненнее народ, так что в среднем выходит то же на то же. А насчет личной безопасности Страйкер зря беспокоится, потому что среди преступников ходит поверье, что обидевший духовное лицо лишается удачи на три года, так что ученику жреца можно ходить по району в любом месте и в любое время, надо только подождать несколько дней, чтобы морда примелькалась. А потом, не прошло и года, Эммануил захворал животом и помер, из районной управы никого на смену почему-то не прислали, так что Страйкер сам себя рукоположил в жрецы, и все прихожане остались довольны. Потом, правда, приехал проверяющий чиновник, стал возмущаться, обозвал Страйкера еретиком, но Страйкер стукнул ему в бубен, а потом дал золотой, они помирились и напились в «Якоре в гузне». А потом проверяющий чиновник сомлел и уснул, Страйкер отобрал у него золотой, а самого отнес на руках к заставе верхнего города и сдал стражникам, чтобы продали в рабство. Стражники обыскали чиновника и нашли еще пять золотых, которые Страйкер по рассеянности не нашел, и обрадовались, а сам Страйкер расстроился. Но по дороге домой решил, что зря расстроился, потому что деньги он не нашел по Птаагову попущению, а если бы он их нашел, то еще неизвестно, как бы он договорился со стражей (на самом деле легко договорился бы, но лучше думать иначе, а то знамение не получается), так что все, что боги ни делают, к лучшему. Вернувшись в храм, Страйкер вознес Птаагу благодарственную молитву, тот в ответ посоветовал сходить в управу и дать взятку. Страйкер так и сделал, и в тот же день его официально утвердили жрецом.
Покойный Эммануил не солгал, должность жреца в бедном районе не такая ничтожная, как может показаться. Большинство прихожан жертвуют очень мало, но есть в приходе несколько человек, чья щедрость все компенсирует. Вожди преступного мира нуждаются в удаче гораздо больше, чем обычные люди, а потому более суеверны и богобоязненны. Жрецу, их исповедующему, не приходится голодать, надо только не болтать лишнегои не выставлять напоказ достаток, что непросто, вон как брюхо растет, коллеги уже поддразнивать начали.
Но хватит уже отступлений, пора вернуться к основному повествованию. Итак, стоит воскресное утро, прихожане заполняют храм, вот и Ассоль уселась на свое место во втором ряду, и Мюллер рядом с ней, а Барт не пришел, нездоровится ему, но это ничего, одну неделю можно пропустить, надо только, чтобы в привычку не вошло, а то от такой привычки один шаг до атеистической ереси, прости господи.
На сегодня Страйкер запланировал проповедь о конце света. Раньше он совсем позабыл про этот классический сюжет и не читал такую проповедь ни разу за все пребывание в храме, лет уже, наверное, пять, а почему забыл — сам не знает, как-то случайно получилось. А вчера, когда готовился к богослужению, стал листать священное писание и вдруг заметил давнее упущение. Сразу стало ясно, о чем завтра рассказывать.
Оглядел Страйкер публику, и решил, что пора начинать. Вышел на кафедру, прокашлялся, объявил тему сегодняшней проповеди и приступил к песнопению, которое положено пропеть перед проповедью.
Мюллер, будучи в храме, обычно скучал. Очень-очень редко, когда над алтарем летала муха или бабочка, ему было чем заняться, а в остальное время так скучно, что хоть вешайся. Но сегодня он испытывал нечто странное. Казалось бы, обычные слова: «конец света», два обычных повседневных слова, почему-то они отдались в его душе чем-то неестественным, разбудили туманные воспоминания раннего детства. Мюллер поплыл. Тогда, в Роксфордском монастыре, старая грымза, хрен ее вспомнит, как звали, тоже говорила про конец света, и случилось тогда что-то настолько нелепое… В памяти зияет провал, черная пустота, а потом Мюллер вдруг сидит на загривке вьючной лошади перед вьюком, накрапывает дождь, Роксфорд, который скоро разграбят кочевники, остался позади, а впереди стольный град Палеополис, но доберутся ли они до него в целости — знают только боги. Барт крутит головой, морда у него злая и испуганная, он тогда еще не отвык быть дворянином, не утратил спеси, страшно было глядеть ему в глаза, того и гляди пришибет… И другое воспоминание всплыло — Мюллер солвсем маленький, как щенок, сидит на руках у большого мужика с усами и короткой бородкой, а волосы у него длинные, как у женщины, и волнистые, но женственная прическа его не портит, не на пидора он похож, а…
— Птааг! — воскликнул Мюллер. — Птааг во плоти!
Впрочем, «воскликнул» — сказано слишком сильно, Мюллер скорее хрипло каркнул, и когда он провозгласил имя божие в первый раз, никто даже не понял, что он произнес имя божие, больше было похоже, будто муха в рот залетела. Но когда это имя прозвучало повторно, оно прозвучало отчетливо.
Нина Пробка потом говорила, что ей показалось на мгновение, что на дурачка Мюллера снизошла благодать, и что он сейчас станет пророчествовать, и надо тщательно запомнить все пророчества, чтобы потом пересказать подругам. Но никаких пророчеств не последовало. Мюллер захрипел нечленораздельное, забился в судорогах, да и повалился в проход между скамейками, а изо рта у него повалила пена.
— Сыночек! — воскликнула Ассоль и стала заламывать руки.
Многие ждали, что она окажет сыну первую помощь, но никто не знал, в чем эта самая первая помощь заключается, и Ассоль тоже не знала, потому она ничего не делала, только заламывала руки.
— Бес вселился! — крикнула какая-то бабка.
— Бес вселился! Воистину вселился! — стали повторять другие бабки.
Обстановка накалялась. Страйкер решил, что пора принимать срочные меры. Помнится, Эммануил рассказывал, как в нижнем городе одну девочку сначала изнасиловали группой, а потом сожгли живьем, когда кому-то показалось, что она колдунья, а кому-то другому захотелось развлечься, и потом эти гопники стали насиловать и убивать других баб, а поймали мерзавцев только через месяц, троих растерзали на месте, а четвертый вырвался и убежал, его потом снова поймали и судили, а на суде он сказал, что творил безобразия во имя светлых богов, и непонятно, чем бы закончился суд, если бы сокамерники не утопили гада в нужнике. Нет, нельзя позволять народу изгонять бесов друг из друга, от этого один шаг до беспредела!
— Ассоль, что расселась, как статуя, уведи его! — распорядился Страйкер.
На лице Ассоль появилось тупое недоумение.
— А как же вышивка? — спросила она. — Я хотела после службы задержаться…
Здесь надо пояснить, что прошедшей ночью Ассоли приснился эротический сон с участием Птаага и Аполлона, и Ассоль, преисполненная благодарности, твердо вознамерилась посвятить весь день богоугодным делам, а тут внезапно такая неприятность…
Взгляд Страйкера переместился и уткнулся в Пепе.
— Мальчик! — провозгласил жрец и ткнул в Пепе пальцем. — Во имя Птаага Милосердного, выведи товарища из святого храма и проводи домой. Живо, пошел, пошел!
— Далалайский хвостокол ему товарищ, — пробормотал Пепе себе под нос, но сверх того возражать жрецу не осмелился.
Встал со скамьи, вышел в проход и задумался, не пнуть ли малохольного под ребра или в святом храме неуместно. Недоумение Пепе рассеял сам Мюллер, который начал приходить в себя.
— Необычный случай падучей болезни, — негромко сказал знахарь Ион, сидевший в третьем ряду, почти у самой боковой стены.
— Это не падучая, — возразил ему другой знахарь, по имени Джеггед. — При падучей за припадком идет сон с глубоким расслаблением, а он уже почти очухался.
— Да, пожалуй, — согласился Ион после недолгого размышления. — Каков ваш диагноз, коллега? Бес вселился?
— Может, и бес, — пожал плечами Джеггед. — Без очного осмотра не разобраться, да и с очным-то…
Тем временем Мюллер поднялся на четвереньки, изо рта у его толстыми лентами свисала слюна, как у бешеной собаки, а глаза стали шальные и бессмысленные. Многие отметили, что его поза имела сходство с позой поверженного демона Лурка, изображенного на иконостасе как раз позади Мюллера, если смотреть со средних мест. Мюллера был бледен, на лбу выступили крупные капли пота. Выглядел мальчик весьма жалко.
— Где я? Кто я? Что со мной? Откуда я взялся? Куда уйду? — бессмысленно вопрошал он, обращаясь непонятно к кому.
Пепе ухватил его за руку и потащил к выходу. Мюллер попытался упереться, но Пепе дернул сильнее, и Мюллер едва устоял на ногах. Двинуть дурачку в хавальник Пепе не решился — кругом люди, все пялятся, неудобно.
— А ну пошел, дебил малахольный, — прошипел Пепе и повлек Мюллера более решительно.
Спотыкаясь на каждом шагу, Мюллер кое-как доковылял до порога храма, переступил, тут Пепе дернул его вбок и отвесил смачного пинка. Мюллер потерял равновесие, кувырком скатился с бокового крыльца и замер мордой в грязь. Пепе подошел поближе, потыкал в бедро башмаком, дурачок заворочался, стал отплевываться, вытирать жижу с морды, но куда там! Только больше размазывал, грязный стал как черт, в натуре!
Пепе нагнулся, упер руки в колени и захохотал.
— Ну ты даешь, чертила чумазый! — воскликнул он.
— Сам ты чертила, — пробормотал Мюллер.
Это он зря сказал. У блатных за такие слова полагается отвечать, а если ответа не стребовал — значит, сам виноват, признал характеристику. И то, что обозвал тебя фраер, который сам не понял, что ляпнул — не оправдание. Вилли Муха такие вещи хорошо разъясняет, очень доходчиво. Один раз не ответил, другой раз не ответил, потом сам не заметишь, как уже привык к непотребству, и когда пацаны поймуи — опустят тебя так, что дальше некуда. За базар спрашивать надо сразу!
— За речью следи, урод малахольный, — прошипел Пепе.
Подошел ближе и легонько пнул дурачка около уха. Даже не пнул, чуть-чуть прикоснулся, он же, Пепе, не дурак и не беспредельщик, понимает, что наказание должно быть соразмерным. Просто обозначил движение, чтобы ни один свидетель не смог сказать, что Пепе оставил оскорбление без ответа.
Малахольный дурачок завопил, завизжал, как свинья, ухватился за подбитое ухо, как смерд за лопату, из глаз слезы брызнули. То ли Пепе не рассчитал и врезал сильнее, чем хотел, то ли у Мюллера в дурной башке окончательно что-то передвинулось. Рожа у Мюллера стала красная, как свежая свекла, и заорал он во всю глотку:
— Ненавижу тебя, тварь, чтоб ты сдох! Убью гада, суку, убью, убью!
Будь на месте Пепе взрослый бандит или подросток лет шестнадцати наподобие Вилли Мухи, он бы развернулся и ушел, оставив паренька в истерике. Но Пепе еще не умел прощать оскорбления. Пепе свято верил, что на всякое зло надо отвечать злом, а кто не может или не хочет, тот лошара позорный и место его у параши.
Поэтому Пепе не ушел, а стал избивать Мюллера ногами. Вначале целился по плечам и бедрам, чтобы не покалечить, а потом вошел во вкус, озверел и стал бить куда попало. Мог бы насмерть забить, если бы не оттащили. Хотя это вряд ли, десятилетнему ребенку трудно забить насмерть другого ребенка.
Матрос, вмешавшийся в детскую драку, действовал стандартно — дал в рыло одному, дал другому и пошел прочь. Пепе, когда прилетело, изобразил, что сомлел, чтобы не прилетела вторая порция следом, а Мюллер покрыл проклятиями и матроса, и его маму, и до кучи бабушку, матрос дал в рыло повторно и пошел дальше. А потом Мюллер заткнулся и стал молча сидеть, прислонившись спиной к храмовому крыльцу, а задом глубоко вонзившись в дорожную грязь. Нарядный выходной костюм, специально для воскресных походов в храм, стал весь загажен и годится теперь только на тряпки. Пепе подумал, что ближайшие дни надо держаться от Барта подальше, а то Мюллер пожалуется своей страхолюдной мамашке, та пожалуется папе Отису, тот пошлет ее подальше, и она пожалуется своему хахалю, тот наедет на папу Отиса, папа Отис его пошлет, Барт пойдет куда сказали, но злобу затаит. Потом встретит Пепе одного на кухне или у сортира — запросто может напасть. Убить не убьет, но будет больно, а этого лучше избегать.
Короче говоря, встал Пепе из лужи, и потихоньку, бочком-бочком, пока Мюллер не очнулся и снова не заголосил, а то снова бить придется… короче, встал Пепе и пошел прочь, а Мюллер остался сидеть и плакать. А потом Мюллер тоже встал и пошел в ту же сторону, но не потому что хотел догнать обидчика, а потому что они жили в одном доме.
Пепе видел, как Мюллер поднялся на крыльцо и прошел в свою комнату, не разувшись и не скинув грязную одежду. В другой раз Пепе не упустил бы случая поиздеваться над дурачком, но в этот раз решил не вмешиваться. Он начал понимать, что отец вечером навешает по-любому, и не видел возможности избежать взбучки.
В комнате Мюллер завалился на сундук, служивший ему постелью, уткнулся мордой в подушку, и замер без движения. Другой на месте Мюллера сказал бы, что медитирует, но Мюллер этого слова не знал и полагал, что просто лежит и тупит.
Впервые за много лет он молился Птаагу Милосердному. Раньше он не видел в молитвах смысла, несколько раз пробовал молиться разным богам по разным поводам, но результата не было, а когда он спросил Ассоль, почему так, она его обругала и сказала, что к богам всуе не обращаются, а обращаются только по делу, а молиться насчет всякой ерунды — грех. Мюллер тогда спросил, что такое грех, Ассоль рассердилась, стала говорить пустое, дескать, сколько раз можно повторять, выискалась, дескать, грешная бестолочь на мою голову, и далее в том же духе еще минут десять. Так что Мюллер никогда не молился, и даже в храме, когда все молились, он только делал вид. Потому что если совсем не делать вид, что молишься, это неприлично, все начинают цыкать зубом и обзывать атеистом.
А теперь Мюллер молился. Он просил всех светлых богов и в особенности Птаага Милосердного, чтобы Пепе, мразь поганая, пес шелудивый, червяк козлодрищенский, короче, чтобы сдох гаденыш лютой смертью, и не издевался больше над нормальными людьми наподобие Мюллера. И если это не веская причина, чтобы обратиться к светлому богу, то тогда вообще непонятно, что такое веская причина, и если молитва не поможет, то, наверное, никакая молитва не поможет, и не будет Мюллер в будущем никогда больше молиться ибо бессмысленно. Но по мере того, как Мюллер молился, в его душе крепла уверенность, что молитва поможет, она не может не помочь.
Он вспомнил темные коридоры Роксфорда. Раньше он был уверен, что навсегда забыл эти лица и интерьеры, но теперь они представали перед ним так же ясно, как в первый раз. Луи Шило, Вальтер Бычара и Селина… необычное у нее было прозвище, смешное и нелепое, и мама Ассоль, совсем молодая, не толстая и еще не мама, и старая грымза Ксю… И в конце цепочки воспоминаний, на самом дне, у последней двери — Птааг, не как на иконе, а другой, без нимба, и волосы не уложены красиво заколками, а распущены в беспорядке и видно, что они волнистые и, похоже, крашеные, но это точно Птааг, портретное сходство несомненно. Он ведет Мюллера по крутой винтовой лестнице, мальчику неудобно, приходится идти ближе к центру лестничного колодца, а там ступени узкие и крутые, ребенка надо за другую руку держать, но Птаагу невдомек или все равно, поэтому Мюллер спотыкается, Птааг наклоняется и берет его на руки, несет дальше, а Мюллер прижимается к богу (он еще не знает, что это бог, но о чем-то подобном догадывается) и думает: «Хорошо бы это был мой папа». А лицо Мюллера не разбито, губы не кровоточат, и сам он ничуть не грязен, потому что вблизи бога грязь перестает существовать.
— Господи, помоги, — шепчет Мюллер, не там, в видении, а здесь, наяву. — Убей Пепе, умоляю тебя, убей, что угодно за это для тебя сделаю.
А тогда он тоже молился! И Птааг ответил на молитву, помог! Раньше Мюллер не помнил такого, а теперь вспомнил, вон она, та кладовка, вот Мюллер сидит в темноте, посаженный под замок по приказу настоятельницы (потому что перед этим припадок был, такой же, как сейчас), и молится Птаагу, господи, помоги, заколебало, зачем ты оставил меня, господи, в плохом месте, не хочу быть ублюдком, бастардом, байстрюком, выблядком, пусть даже благородным, не хочу, господи, дай мне маму хорошую, как Ассоль, пожалуйста, господи, добрый и справедливый, чую, что так, и верую в тебя всей душой своей и всем сердцем. Как-то так.
Да, все верно! Распахнулась еще одна страница памяти, и увидел Мюллер в своем прошлом, что Птааг ответил ему и пообещал, что все сделает по его воле, а не по капризу или прихоти, признал маленького Мюллера как феодала, имеющего волю, теперь не придется сидеть три дня на воде и хлебе, и едва Мюллер узнал это, как распахнулась дверь, вошла Ассоль и забрала его из заточения, она была злая и напуганная, Мюллер стал ее успокаивать, не сумел, но в итоге все вышло по его воле, он теперь не ублюдок, а Ассолин сын, а что ненастоящий — ерунда. И что благородное происхождение утратил — тоже ерунда, благородных, говорят, степняки на следующий день на колы сажали, а Мюллер жив и здоров, не совсем здоров, правда, но это дело поправимое, а если Птааг за него отомстит, то будет совсем ерунда. А прикольно! Вот валяется Мюллер на сундуке, печалится втихомолку, а Пепе где-то в другом месте веселится и невдомек ему, Пепе, что Птааг его скоро убьет. Птааг-то хоть и милосердный, но не для всех, а к врагам веры вообще беспощаден. А мерзавец и садист наподобие Пепе — чем не враг веры? Если боги перестанут таких гадов наказывать, кому станут нужны такие боги? То-то же.
Интересно, а как именно исполнится воля Птаага? Страйкер не зря говорит, что пути божьи неисповедимы, знал бы он, как затейливо Птааг в тот раз выполнил волю Мюллера… Страйкер-то, наверное, подумал бы, что Мюллер плохо сделал, что помолился, дескать, не молился бы, и не пришли бы кочевники в Роксфорд, они ведь только по слову Птаага пришли, своей цели у них не было, все тогда думали, что грядет война, а ничего не грянуло, только маленький набег, прискорбный пограничный инцидент, как вопил герольд, а если бы не Мюллер, то и вовсе ничего не случилось бы. Страйкер, небось, скажет, из-за тебя люди погибли, а сам-то, небось, еще пуще молился бы, окажись на месте Мюллера. Языком чесать каждый горазд, дескать, альтруизм, взаимопомощь, а как до дела доходит — добра хрен от кого дождешься. Так что пусть не разевают варежку.
Хорошо бы Пепе бандиты убили. И не в обычной пьяной драке, а чтобы сначала пытали, а потом убили, и побольше огня, железа, кровищи, соплей всяких… Мюллер не жесток, зла никому не желает, но Пепе — случай особый, на него никакого зла не жалко.
Вспомнилась сказка про подземный город лис. Там тоже все началось с того, что лису обидели. А она отомстила! Не стерпела обиду, не сказала, дескать, пусть боги разбираются, не мое это дело, нет, сама отомстила, четко показала старику со старухой превосходство лисьего ума, а потом… А что было потом? Что сказка была в двадцати одной части — это он помнит, общую канву сюжета тоже помнит, а каждое конкретное приключение во всех подробностях — уже нет. А раньше все помнил и ничего не забывал, это он точно помнит! И как другие люди удивлялись, когда узнавали, что он ничего не забывает — это он тоже помнит. А теперь, выходит, память меняется, теряет уникальные свойства, становится, как у обычного человека, это, может, и хорошо в каком-то смысле, раньше он не верил, что станет обычным, а теперь, может, и станет, но, с другой стороны, не так уж это и хорошо…
Хорошо бы сочинить сказку, как Пепе настигает божья месть, а он, дурак, ничего не понимает, и дохнет, мразь, в говне и позоре, так и не поняв ничего глупой своей башкой. И чтобы потом не смел никто глумиться над Мюллером, чтобы не смеялись над его нелюдимостью, чтоб уважали и ценили. И чтоб мама раздобыла денег, чтобы переехать в приличный дом в приличном районе, дружить с нормальными детьми, а не с этой швалью…
Хлопнула входная дверь, затем хлопнула дверь комнаты. Послышалось частое и прерывистое дыхание с покряхтыванием, будто вошедший хочет что-то сказать, но не может, потому что запыхался. А потом вошедший перевел дыхание и произнес голосом мамы Ассоли:
— Мюллер, собирайся, пойдем, в городе чума.
2
За прошедший час город изменился до неузнаваемости. Стоило только зазвонить тревожным колоколам, да взвиться над маяком черному чумному флагу, как все сразу стало по-другому. Раньше люди на улицах были беззаботными и беспечными, редко у кого в глазах отражалась работа мысли либо молитвенное созерцание. А теперь все стали как обухом пришибленные, каждый второй к собственным внутренностям прислушивается, ищет признаки смертельной хвори, а каждый первый глаза вытаращил и взывает ко всем богам без разбора, обеты приносит, обещает черт-те что, через минуту уже сам не помнит, кому что наобещал, да и неважно это, потому что никто, кроме Мюллера, не ждет, что бог реально исполнит молитву. Люди молятся не для исполнения желаний, а чтобы стало не так страшно, молитва для души — как маковая настойка для тела, обезболивает.
Мюллер боялся, что Ассоль изругает его за грязную одежду и разбитую морду. Но она ничего не заметила, а когда Мюллер сам осторожно завел разговор, дескать, я на улице еще раз случайно упал, она только отмахнулась.
— Милый ребенок, — сказала она. — Какое значение это имеет теперь?
Мюллер задумался над вопросом и решил, что вопрос был риторический. Потом подумал еще немного и задал встречный вопрос:
— А что теперь имеет значение?
Он ожидал, что мама тоже задумается и либо ничего не ответит, либо ответит не сразу, но она ответила сразу и без усилий.
— Только посмертная судьба, — ответила Ассоль. — Ты ведь не хочешь переродиться в жабу?
Мюллер автоматически помотал головой, дескать, не хочу, но вдруг подумал, а чего это он с таким пренебрежением относится к посмертной судьбе? Раньше он в богов, можно сказать, не верил, а теперь Птааг ему ясно показал, что боги существуют, но раз так, то и загробная жизнь существует, а значит, надо работать над спасением души, в особенности, сейчас, когда до конца земного пути тебя отделяют считанные дни. Впрочем, сам-то Мюллер моровое поветрие должен пережить, оно ведь началось по его молитве, не по какой-нибудь чужой… Или это такой божий сарказм? Вспомнить бы точно, чего именно просил он у бога, а то как загремели колокола, так сразу в голове все перепуталось, с испугу, не иначе… Хорошо быть маленьким ребенком, там в башке ничего не путается, каждый день сохраняется в памяти до мельчайших подробностей, каждое слово, кем угодно произнесенное… эх… Нет, вроде не просил ничего особенного у бога, только чтобы Пепе сдох, сучара подзаборный. Прикольно будет, как он очумеет, хотя лучше бы, конечно, проказа одолела или рак, но чума — тоже неплохо. Хуже, что Мюллер сам от чумы никак не защищен, для себя он благополучия у бога не просил, только Пепе просил наказать, да еще в конце что-то близкое промелькнуло в мыслях, но очень смутно.
— Мама, мы куда идем? — спросил Мюллер.
— В больницу, — ответила Ассоль. — Через храмы объявили набор добровольцев.
Мюллер ничего не понял, но переспрашивать не стал, сначала обдумал мамины слова тщательно, повертел в голове так и эдак, но все равно не понял. И тогда все эе переспросил:
— А что такое больница?
Мама рассказала, что это такое. Оказывается, болезни, в том числе и заразные — не просто результат разногласий между больным и богом. Оказывается, болезни можно лечить не только молитвой или колдовским обрядом, но и так называемыми лекарствами. Вот, например, если бесноватый поест травки беладонны, бесы его душу либо оставят, либо сожрут окончательно, но быстро и безболезненно. А если больной глистами сожрет большую ложку горького перца, то глисты передохнут, а больной с божьей помощью, глядишь, выживет. А если покусала собака, надо эту собаку убить, взять ее мозги, сутки выдержать на солнце, чтобы высохли, а потом растереть в порошок и втереть в рану, но не в ту, которую собака оставила, а другую, свежую, специально нанесенную освященным лезвием, и тогда, если боги смилуются, не заболеешь ни бешенством, ни антоновым огнем.
— Если боги смилуются, чумой тоже не заболеешь, — заметил Мюллер по этому поводу. — Если боги смилуются.
Ассоль посмотрела на него осуждающим взглядом, но вслух ничего не сказала. Она всегда так делала, когда Мюллер произносил что-нибудь не по возрасту умное и ставил ее в неудобное положение. И не только она.
— А зачем мы идем в больницу? — спросил Мюллер, закончив обдумывать предыдущую мысль.
Ассоль объяснила, что когда в городе мор, около больницы разбивают лагерь, называемый лазаретом, туда свозят заболевших, и специальные люди, называемые знахарями или лекарями или докторами, их лечат, а добровольцы, больше других озабоченные спасением души, ухаживают за больными, облегчают их страдания и тем самым набираются заслуг перед светлыми богами. А потом добровольцы тоже заболевают и умирают, но к этому времени у них накапливается столько заслуг, что умереть уже не страшно, потому что знаешь наверняка, что посмертие будет светлым.
— Какой хитрый план! — восхитился Мюллер, дослушав Ассолино рассуждение до конца. — Погоди… А ты, получается, боишься посмертия, правильно?
— Ничего я не боюсь! — фыркнула Ассоль.
— Тогда почему идешь в лазарет перед богами выслуживаться? — спросил Мюллер. — Если ничего не боишься, надо бухать и развратничать, так интереснее!
— Откуда ты знаешь, что так интереснее?! — возмутилась Ассоль.
— Старшие ребята рассказывали, — невозмутимо ответил Мюллер.
Ассоль снова посмотрела на него тем самым осуждающим взглядом и снова ничего не сказала. Мюллер решил, что выиграл словесный спор.
Тем временем они зашли на какой-то рынок, скорее вещевой, чем продуктовый, непонятно, потому что здесь уже не торговали, а сворачивали палатки, грузили барахло на телеги, вьючных лошадей и ослов, гам стоял неимоверный, и кое-где мелькали черно-белые плащи имперских штурмовиков. Мюллер знал от старших товарищей, что штурмовики злы и опасны, и стоит только украсть самую ничтожную мелочь и попасться — запорют до полусмерти, а что останется, продадут на галеры либо к педерастам в веселый дом. Но сейчас штурмовики ничего плохого не делали, просто кучковались в разных местах, одни молились, другие жевали дурманное зелье.
Ассоль провела Мюллера через рынок насквозь, и вскоре они достигли места, где разворачивался лазарет. Женщины, чем-то неуловимым похожие на Ассоль, раскладывали ровными рядами одеяла на подушках из лапника, на обрывках всякого тряпья, а то и на голой земле, тут и там расставляли бочки с водой, какие-то банки и склянки, с лекарствами, надо полагать. Хотя Ассоль говорила, что от чумы лекарства нет… может, просто не знает?
Мюллер выбрал женщину поавторитетнее, подошел к ней и вежливо спросил:
— Скажите, пожалуйста, тетенька, а у вас в этой банке лекарство от чумы?
Тетенька посмотрела на него тем же самым осуждающим взглядом, каким раньше смотрела Ассоль.
— Не держите зла на моего сына, — сказала ей подошедшая Ассоль. — Он у меня… гм… странный…
Лицо тетеньки просветлело, как будто она только что не понимала что-то важное, а теперь вдруг поняла.
— Блаженны нищие духом! — провозгласила она и сделала жест, отгоняющий нечистую силу. — Молись, сынок, кайся и не греши. И да пребудут с тобой светлые боги!
— А чего мне каяться? — удивился Мюллер. — Я же не грешил. А бояться я и так не боюсь, а что светлые боги со мной, так это я знаю наверняка, вон, час назад с Птаагом беседовал.
Ассоль дернула его за руку и сказала:
— Пойдем.
Мюллер стал протестовать, дескать, куда пойдем, мы уже пришли, забыла, что ли? Вот же лазарет, давай, начинай выслуживаться, а то помрешь быстрее, чем судьба переменится. Но ничего сказать Мюллер не смог, потому что Ассоль разозлилась и изругала его на чем свет стоит, почитай, два года уже так не ругала. А авторитетная женщина смотрела на Мюллера как на адского выползня и обеими руками делала жесты, отгоняющие нечисть. Мюллер решил, что она расстроилась от известия о чуме, а он своим здравомыслием ее смущает. Тогда он применил универсальное средство, всегда избавлявшее от подобных собеседников — сделал придурковатое лицо и проникновенно произнес:
— Я за тебя помолюсь.
Смятение моментально оставило тетеньку, та улыбнулась, пробормотала нечто невнятное и пошла куда-то по своим делам.
— Не выпендривайся, — сказала Ассоль сыну. — Не строй из себя слишком умного.
Мюллер пропустил эти слова мимо ушей. Он давно уяснил, что когда Ассоль смущена, она всегда так говорит, а другого смысла в этих словах нет. Казалось бы, что может быть проще, чем сказать: «Ты меня смущаешь, перестань». Но взрослые так не говорят, а вместо этого поучают не по делу. Может, потому боги и насылают на взрослых так много несчастий, что их тоже достала их бестолковость?
Будь Мюллеру пять лет, а не десять, он бы обязательно задал Ассоли этот вопрос и поверг бы ее в еще большее смущение. Но Мюллеру было десять, и он уже знал, что некоторые вопросы лучше не задавать. Он промолчал.
— Что, заболел мальчик? — услышал Мюллер незнакомый мужской голос.
Обернулся на голос и увидел, что вопрос задал высокий молодой мужик в знахарской мантии, солидный такой мужик, внушительный. Мюллер не сразу понял, что вопрос относится именно к нему.
— Нет, мы добровольцы, — ответила Ассоль.
— А почему такой грязный? — спросил знахарт.
Ассоль посмотрела на Мюллера, будто впервые увидела, и всплеснула руками:
— Ой! Ты где так испачкался?
— Я тебе уже говорил, — ответил Мюллер и насупился.
Его всегда злило, когда мама задает вопрос, выслушивает объяснение и тут же забывает, что услышала, а потом ругается, что ничего не сказал. И не только мама такая, взрослые все такие. Хотя знахарь, может, и нормальный.
— Да неважно, — сказал знахарь. — Пусть сходит в умывальник, а одежда сама обтрясется. Тебя как зовут, добрая женщина?
— Ассоль, — ответила Ассоль, улыбнулась и стрельнула глазами, как все время делают шлюхи в таверне, где работает отчим Барт.
— Раньше в лазарете работала? — спросил знахарь.
— Нет, — помотала головой Ассоль. — Но теорию знаю.
— Теорию все знают, — сказал знахарь. — Иди вон туда, видишь, целая стайка пингвинов, их прямо в монастырях учат за больными ухаживать.
— Пингвинов? — переспросила Ассоль.
Знахарь открыл рот, чтобы начать объяснять, но Мюллер успел объяснить раньше.
— Монахинь, — сказал он. — Они издали похожи на заморских птиц.
— Ох, — сказала Ассоль и покраснела.
— Она раньше была монахиней, — сказала Мюллер знахарю.
И сразу понял, что сморозил глупость, вспомнил, как сильно она стесняется той истории, когда Барт якобы вынудил ее нарушить обеты. На самом-то деле вынудил ее не Барт, а сам Птааг, а подговорил его Мюллер, но Ассоль придумала себе другую историю, а в правду верить не хочет, хотя Мюллер ей однажды рассказал, как все было на самом деле. А она сказала, чтобы он так больше не фантазировал, дескать, сказки придумывай, а реальные истории не переиначивай. Так и не поверила, что Мюллер ничего не переиначивал, а рассказал ей истинную правду и ничего сверх того.
— Пойдем, Мюллер, — сказала Ассоль.
Ухватила за рукав и потащила прочь от доктора, но не к монахиням-пингвинам, а совсем в другую сторону. Мюллер понял, что с пингвинами она разговаривать не желает. Видимо, боится, что доктор им расскажет, что она тоже была пингвинихой, они станут расспрашивать, как она нарушила обеты, а ей станет стыдно. Зря Мюллер рассказал про ее прошлое, а Ассоль не зря твердит чуть ли не каждый день: «Сначала думай, потом говори». Не все советы, исходящие от взрослых, одинаково глупые.
Мюллер решил, что пора успокоить маму Ассоль, поговорить с ней о чем-нибудь отвлеченном.
— А от чумы умирают все, кто заболел? — спросил он.
Он ожидал, что ответ будет утвердительным, и тогда Мюллер спросит ее, как организаторы лазарета собираются избавляться от огромного количества мертвых тел, Ассоль станет рассказывать, как это делается, она ведь знает, лекарь говорил, что в монастырях учат ухаживать за больными, а без избавления от мертвяков никакого ухода не получится. Так, глядишь, увлечется рассказом мама Ассоль, забудет дурные мысли…
— Типун тебе на язык, — сказала Ассоль. — Каждый четвертый примерно.
— Только каждый четвертый? — переспросил Мюллер. — То есть, трое из четырех заболевших выздоравливают?
— Да, — кивнула Ассоль. — Но это при обычной чуме, бубонной. От легочной чумы умирают все, от кишечной тоже, только она редко бывает, а от кожной чумы никто не умирает, большая удача такую чуму подцепить, только она тоже очень редкая…
— Погоди, — перебил ее Мюллер. — Я-то думал, при чумном море помрут все, а выходит, помрет только каждый четвертый? Какое же это суровое испытание? Да любой степнячий набег страшнее, чем чумное поветрие! А я-то думал…
Сзади кто-то засмеялся. Мюллер обернулся и увидел, что за ним идет тот самый знахарь и улыбается. Ассоль тоже обернулась и доктор спросил ее:
— Аспергер?
— Чего? — не поняла Ассоль.
— Ничего, — знахарь лекарь и вдруг воскликнул: — О, больного, привезли, пойду взгляну! Сто лет настоящего бубона не видел.
— А на вид моложе, — сказал Мюллер, когда знахарь удалился.
— Кто моложе? — переспросила Ассоль.
— Знахарь, — объяснил Мюллер. — По виду не скажешь, что ему сто лет исполнилось. Наверное, когда он сам себя лечит, он работает тщательнее, чем когда за деньги, вот и живет дольше других. Правильно?
— Да заткнись ты, чучело гороховое, послал господь на мою голову! — неожиданно возмутилась Ассоль.
Мюллер счел за лучшее заткнуться. Он привык, что с мамой Ассолью иногда случается что-то вроде припадка, она начинает ругаться на пустом месте, а когда перестает ругаться, иногда плачет, а иногда нет. Но называть это припадком нельзя ни в коем случае, особенно вслух, тогда Ассоль ругается еще сильнее и плачет еще отчаяннее.
Они подошли к повозке, на которой привезли первого больного.
— Ой, да это же Отис! — воскликнула Ассоль.
Действительно, лошадью правил Отис, только узнать его стало непросто, раньше он был наглый и самоуверенный, а теперь стал растерянный и испуганный, а винищем разит так, словно искупался в нем. Не иначе, зашел в таверну избавиться от страха, да не осилил.
В повозке кто-то закашлял. Кашель был глубоким и хриплым, при обычной простуде так не кашляют, так начинают кашлять дня за два до того, как помереть. А между кашляниями было слышно, как в груди у больного булькает и клокочет. Не жилец.
Мюллер привстал на цыпочки и заглянул внутрь повозки через борт. На дне лежала кучка заблеванной соломы, а на этой кучке лежал заблеванный Пепе. Морда у него была красная, глаза шальные, а в груди у него булькало и клокотало. Надо же, какой мелкий пацан, а хрипы в легких, будто медведь рычит!
— Отлично, — констатировал Мюллер и важно кивнул собственным словам. — Не зря я Птаагу молился, чтобы сдох мерзавец. Ассоль, а от легочной чумы точно все помирают?
Отис покраснел, затрясся и стал брызгать слюной. Потом потянулся к Мюллеру, будто рассчитывал, что сейчас его рука удлинится втрое, ухватит Мюллера за горло и либо задушит, либо сразу шею свернет. Но рука, конечно же, не удлинилась, только клацнула в воздухе толстыми пальцами.
Пепе посмотрел на Мюллера и его так перекосило, будто только что сожрал два лимона подряд и закусил капустой. Раскрыл рот во всю ширь, как герольд на базаре, но закашлялся пуще прежнего и не смог вымолвить ничего членораздельного, только кашлял, хрипел и брызгал слюной.
Рядом с повозкой нарисовался тот самый знахарь, он только что закончил набивать трубку дурманным зельем и теперь раскуривал. Когда раскурил, стало ясно, что набита трубка не заморским табаком, а отечественной коноплей.
— Скажите, пожалуйста, а курить коноплю разве не вредно? — спросил Мюллер знахаря.
Ассоль тихо ахнула и попыталась дать Мюллеру подзатыльника за нахальство, но он это предвидел и заранее отошел чуть в сторону.
— Да какая теперь разница, — махнул рукой знахарь. — Говорят, для профилактики чумы даже вроде полезно. Врут, скорее всего.
— Почему? — заинтересовался Мюллер.
— Будь это правдой, оно бы давно стало известно и повсеместно применялось, — объяснил знахарь. — Как в каком городе эпидемия, народ сразу начинает наркотики потреблять без разбора. А толк вышел только из одного опыта, только одна известна пара болезнь-лекарство, где польза наркотика доказана.
— А какая это болезнь? — заинтересовалась Ассоль.
— Девятидневная лихорадка, — сказал доктор. — А лекарство — обычное вино, чем крепче, тем лучше. Пока не протрезвеешь — не заразишься, это строгое правило, много раз проверено. А протрезвеешь хотя бы на час — сразу станешь уязвимым.
— А против чумы бухать можно? — спросил его Отис.
— Против чумы бухать можно, — подтвердил знахарь. — От чумы не спасет, но настроение поднимет. Однако странно, один из самых первых случаев, и уже легочная форма. Может, мальчик простудился?
— Нет, не простудился, — уверенно заявил Мюллер. — Час назад был здоров как лось.
— Не может быть, — покачал головой знахарь. — Так быстро даже чума не развивается.
— Птаагом Милосердным клянусь! — воскликнул Мюллер. — Мама, ты прости, я говорил, испачкался, потому что упал, но я наврал, я с Пепе подрался, и он совсем здоровый был совсем, не чихал ни чуть-чуть.
— Все равно слишком быстро, — сказал знахарь.
Мюллер посмотрел на него осуждающе и сказал:
— Слишком быстро — это если чума просто так одолела, сама по себе. А его не просто чума одолела, его я проклял. Он меня бьет и обижает, вот я его и проклял. И не надо так на меня смотреть! Я не сумасшедший! Сумасшедшие слышат голоса бесов, а я не слышу.
— А припадки? — спросил знахарь.
— Один раз было, — вмешалась Ассоль. — Как раз сегодня. Доктор, он не…
— Понятия не имею, — сказал знахарь. — Один шанс из четырех, что чума сделает этот вопрос бессмысленным.
Пепе тем временем закашлялся особенно сильно и стал синеть и царапать себе щеки.
— А неплохо я его проклял, — тихо произнес Мюллер. — Спасибо, Птааг.
Иногда бывает, что говоришь что-то громко, чтобы все услышали, а получается, что никто не слышит, а потом говоришь что-нибудь тихо, чтобы никто не услышал, а получается наоборот. Сейчас получился как раз второй случай.
— Ах ты колдун поганый! — просипел Отис, пахнув на Мюллера винным духом. — Да тебя на костер надо!
Он рванулся к Мюллеру и, наверное, поймал бы, если бы не запутался в вожжах. Но не поймал.
— Я бы на твоем месте начал убегать, — посоветовал Мюллеру знахарь. — Люди могут поверить, что твое проклятие обладает силой. Или что ты призвал чуму на весь город. На костре навряд ли сожгут, но побьют знатно.
Мюллер оглянулся и решил, что знахарь прав. Убегать, конечно, нельзя, убегающего сразу ловят, эта привычка что у собак, что у людей одна и та же. А вот быстро удалиться по какому-нибудь выдуманному делу — очень даже к месту.
— Спасибо за совет, господин, — сказал Мюллер и быстро пошел прочь.
Его никто не остановил. Когда Мюллер достиг места, где лазарет переходит в рынок, он вознес Птаагу молитву. Знахарь прав, Мюллер сильно рисковал, открыто признавшись в связях с богом. Раньше он в таких делах много раз признавался, и никто ему не верил, и он привык не бояться подобных признаний, но в этот раз он играл с огнем. Спасибо, Птааг, что уберег от людского гнева и помоги как-нибудь этому знахарю, будь любезен, не попусти, чтобы он помер от чумы. Он человек хороший, такие должны долго жить.
Придя домой, Мюллер вспомнил слова доктора про девятидневную лихорадку, достал из буфета початую бутылку вина и любимый Бартов кубок, наполнил доверху и выпил. В голове закружилось, и вскоре эпидемия чумы перестала волновать Мюллера.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ШКОЛА
1
В северной части Палеополиса, также именуемой верхним городом, у перекрестка улицы Гуго Ворона и проспекта Айгуль Открой Личико стоит большой трехэтажный дом, раньше принадлежавший Ромулу Мокроносому, знаменитому имперскому офицеру. Славный был офицер, очень достойный, если бы не погиб десять лет назад в дурацком инциденте у Роксфордского брода, был бы уже генералом. Но воинская судьба переменчива, известно множество случаев, когда офицер удачлив, талантлив, в меру суров, в меру харизматичен, все гадальщики прочат ему славную судьбу, и вдруг сбивает с коня шальная стрела, и вместо славной судьбы достается человеку скромная могила на семейном кладбище. Так вышло и с Ромулом — полковничий патент уже лежал в императорской канцелярии, ждал высочайшего утверждения, как вдруг налетели степные легионы Никодима Тушканчика, отправился Ромул на войну, да и остался там навеки. А героизм, проявленный его воинами в безнадежном бою с подавляюще превосходящим противником, так и остался тайной для широких масс, даже родственники погибших толком не знают историю той битвы, потому что выживших в том бою с имперской стороны не было ни одного. Так часто бывает, подвиги совершают одни, а награды получают другие, обычное дело.
Наследство Ромула приняла его старшая дочь Орнелла. По идее, наследовать должен был сын Бартоломей, но он отсутствовал в столице, то ли в плену был, то ли какое-то секретное задание выполнял. Злые языки поговаривают, что Ромул, дескать, лишил Барта наследства за какое-то военное преступление, то ли за насилие над гражданским населением, то ли за трусость на поле боя. В пользу этой версии говорит то, что пять лет после Роксфордского инцидента о Барте Ромулсоне не было ни слуху, ни духу, а появился он в родном доме только после чумной эпидемии, когда остальные Ромулсоны вымерли, а он остался последним в роду. Сам Барт эту версию отрицает, но что было на самом деле, тоже не говорит, намекает, что это, дескать, государственная тайна. И жена его, и сын тоже ни слова не говорят о пяти годах между Роксфордом и чумным мором, как воды в рот набрали. Может, и вправду Барт Ромулсон делал что-то тайное на благо Родины, но, видать, не слишком удачно, потому что ни на военной, ни на какой-либо другой службе он не состоит, только в таверну ходит, как на службу, наверное, скоро сопьется.
Жену Барта звали Ассолью, главной ее особенностью была невероятная страховидность, ни дать, ни взять, крокодилица в юбке, и ко всему прочему бесплодная, единственный сын у них с Бартом был неродной, он на самом деле Ассолин младший брат, она его усыновила по обычаю, когда родители умерли. Между собой Барт и Ассоль жили мирно, не ругались, но большой любви между ними не было, что неудивительно — такую страхолюдину непросто полюбить. Барт постоянно путался с шлюхами, а одно время ненадолго завел постоянную любовницу. Но с женой обращался хорошо, не бил.
Приемного сына Барта и Ассоли звали Мюллером, было ему пятнадцать лет, голос у парня уже поменялся, но борода пока не росла. Странный парень был этот Мюллер, не сказать, что сумасшедший, но с придурью. Вроде и мозги есть, и соображалка житейская имеется, говорит связно, на людей не бросается, но, бывает, отмочит что-нибудь — хоть стой, хоть падай. Смотришь на парня и не понимаешь, то ли придуривается, то ли раньше притворялся нормальным, а сейчас как раз проявил истинное лицо.
Мальчики старших классов выстраивают промеж себя четкую иерархию, в которой сразу видно, кто сильный, кто умный, кто и то, и другое, а кто лошара позорный. Но Мюллер ни в какую иерархию не вписывался. На спортивных занятиях он был в числе последних, потому что неуклюж и неловок, бегал плохо, прыгал никак, мяч кидал и ловил хреново, короче, лох лохом. Поначалу, когда он только-только появился в школе, его так и сочли лохом, стали чмырить, однажды на арифметике Коко Пердючка вызвала его к доске решать задачку, а Перси Молоток, которого Пердючка всегда сажала на первую парту, чтобы не безобразничал, стал тыкать Мюллера циркулем в жопу. А Мюллер ко всеобщему изумлению терпеть не стал, а развернулся и влепил Молотку боковым в челюсть, а потом снова повернулся к доске. Пердючка так ничего и не заметила. Перси тогда чуть со стула не упал, не привык получать в рыло от всяких лохов посреди урока. На перемене подвалил к Мюллеру, стал запугивать, дескать, пойдем за школу после уроков, я от тебя мокрое место оставлю. Мюллер сделал вид, что не слушает, а Перси стал орать и толкаться, тогда Мюллер взял со стола карандаш и пырнул Перси в глаз, но не попал, попал в щеку и ничего серьезно не повредил, только царапину оставил. Перси испугался и больше к Мюллеру не приставал, разве что по мелочи. Потом они помирились, но дружбы между ними не было.
На нормальных уроках, не спортивных, Мюллер, напротив, входил в числе лучших. Та часть человеческого ума, которую развивает школа, была у Мюллера развита сильно лучше, чем к обычных людей. Особенно хорошо он успевал по арифметике, и если не ленился и не отвлекался, то даже сложные задачки, бывало, решал в уме, не написав единой строчки. Помнится, однажды Джин Водяра, сменивший в шестом классе Коко Пердючку, задал Мюллеру особенно сложную задачку, такую сложную, что в классе никто даже условие толком не понял, а Мюллер задумался секунды на три, и сказал:
— Тридцать две тысячи семьсот шестьдесят восемь.
Джин посмотрел в конец учебника, ответ совпал.
— Как ты посчитал так быстро? — изумился Джин.
— Очевидно же, — пожал плечами Мюллер.
А потом на уроке химии Ева Глюкало задала классу какой-то вопрос, не обращаясь ни к кому конкретно, а Ким Поросенок внезапно ответил:
— Тридцать две тысячи семьсот шестьдесят семь.
— Восемь, — поправил его Мюллер.
Ева посмотрела на одного, на другого и растерянно спросила:
— Почему?
— Очевидно же, — хором ответили оба и захохотали.
Тогда Глюкало решила, что они сговорились над ней поглумиться, пожаловалась директору и тот велел школьному палачу всыпать по три горячих каждому. Палач не удивился — и Мюллер, и Ким были его постоянными клиентами.
Несмотря на выдающийся ум, отличником Мюллер не был. Какую бы задачку ему ни задавали, чаще всего выходило так, что он мог решить ее, но почему-то не решал. То забывал учесть дополнительное условие, то терял при переписывании цифры и буквы, а иногда просто тупо делал не то задание, какое задали, а другое. Но все эти неудачи Мюллера не расстраивали, успехи в учебе его мало интересовали. Безразличие к учебе — обычное дело для школ в богатых районах, но мало кто выказывал его так неприкрыто, как Мюллер. Рут Крючколовка, тогдашняя их классная руководительница, много раз вызывала Ассоль в школу, и говорила, что ее сын учиться не желает, а ходит в школу развлекаться, как в цирк. Ассоль поддакивала, а потом их беседа как-то незаметно переключалась на моду и сплетни, и воз оставался, как говорится, и ныне там. Со временем Ассоль и Рут подружились.
К шалостям Мюллер подходил изобретательно, и эта его изобретательность превосходила возрастную норму раз в десять, если не больше. То, что придумывал он, никому не приходило в голову ни раньше, ни позже, а когда люди узнавали, как, оказывается, можно безобразничать, они за головы хваталис от изумления.
Первым знаменитым изобретением Мюллера было такое. Сидел он однажды на уроке чистописания, и вдруг поднял руку и спросил:
— Можно выйти?
Вирка Конопатая, их тогдашняя словесница, разрешила. Мюллер вышел в коридор, посетил нужник, а на обратном пути задержался у кабинета географии, где проводил урок Монни Кефир, подошел к двери, размахнулся и ударил ногой со всей дури. А потом прошел два шага и зашел обратно в кабинет словесности.
— Что там такое? — спросила его Вирка.
— Что-то упало, — ответил Мюллер.
А в следующую секунду Монни Кефир загрохотал в коридоре своим оглушительным басом:
— Стой, я тебя вижу!
И побежал куда-то вдаль, и затихли его тяжелые шаги. А Мюллер сел на свое место и продолжал писать прописи, только морда перестала была унылая, теперь он улыбался до ушей.
В другой раз Мюллер слонялся по району с Кимом Поросенком, и ноги привели их к родной школе. К этому времени в младшей и средней школе уроки закончились, но старшеклассники еще занимались, и из открытого окна кабинета географии доносился характерный рев Монни Кефира. Кабинет этот находился на втором этаже, окно было закрыто, но открыта узкая форточка.
На глаза Киму попалась куча лошадиного навоза, наваленного прямо на дорожку и почему-то не убранного. Раньше такого не допускали, но недавно директор школы уволил всех рабочих, купил вместо них черножопых рабов, и порядка в школьном хозяйстве стало гораздо меньше.
— А хорошо бы Монни в окно говном запулить, — сказал Ким. — Прямо в рыло.
— Прямо в рыло не получится, — возразил Мюллер. — Момент не подгадаешь, и форточка узкая. Хотя, погоди, ее же, чтобы закрыть, сначала открыть надо…
Через минуту Мюллер держал в руках три маленьких катышка, а Ким — огромный ком, собранный из всей оставшейся кучи. Мюллер метнул свои катышки в форточку один за другим, первые два катышка Монни проигнорировал, а после третьего подошел к окну, чтобы закрыть форточку, а для этого ее сначала надо распахнуть настежь, такая у нее конструктивная особенность. А как распахнул, так сразу и получил в морду два фунта фекалий. А когда проморгался, под окном никого уже не было.
Ни Ким, ни Мюллер не заметили, что как раз в тот момент, когда Ким метал основной заряд, из-за угла вышел учитель танцев и этикета по имени Ли и прозвищу Бычий Хер. Мюллеру надо было найти кого-нибудь третьего и поставить на шухер, но Мюллер не только на уроках был недопустимо рассеян, но и вообще по жизни. Бычий Хер не понял, что происходит, он поймал убегающих нарушителей чисто инстинктивно, у всех опытных учителей есть такая привычка: видишь, ребенок бежит с виноватым видом — лови. Только потом он понял, что случилось, когда услышал, как орет Монни и какая у него при этом говенная рожа. Сначала Ли остолбенел, затем непроизвольно расхохотался, но тут же овладел собой и сказал с почти серьезным лицом:
— Придется просить прощения.
И тогда Мюллер неожиданно заголосил:
— Господин Монни, простите нас, пожалуйста! Мы не нарочно! Нас заставили!
Ли вздрогнул от неожиданности и приотпустил рукав, за который держал Мюллера, тот вырвался и убежал, а следом за ним убежал и Ким. После этого Монни решил, что обкидать его дерьмом придумал господин Ли, и нажаловался директору, тот его внимательно выслушал, затем так же внимательно выслушал Ли и в тот же день уволил обоих. Старшеклассники были рады, что Бычьего Хера поперли, даже обещали отсыпать Мюллеру дурманной травы, но не отсыпали, обманули.
В старших классах Мюллер и Ким сдружились, все время ходили вместе как педики, разве что за руки не держались. Перси Молоток одно время дразнил их педиками, но Мюллер придумал какую-то пакость и Молотка побили старшеклассники, а за что конкретно, он никому не рассказывал, потому что стеснялся. Мюллер тоже никому не рассказывал, что за пакость он устроил Перси, говорил, что никакой пакости не устраивал, но все знали, что он врет, потому что устраивать сложные пакости во всей школе умел только Мюллер.
Ким был высок, широкоплеч, светловолос и розовощек, ни дать ни взять витязь из древнего эпоса. Физически Ким был хорошо развит, силен и могуч, но в драке был не силен, потому что трусоват. Зато очень любил нагадить кому-нибудь исподтишка, а придумать затейливую гадость соображения не хватало. Так что Ким и Мюллер, можно сказать, нашли друг друга.
Как и отчим Мюллера, отец Кима был богатым землевладельцем, но отчим Мюллера был жив, здоров и вечно пьян, а отец Кима в позапрошлом году погиб. Поехал в поместье то ли донос проверить, то ли просто так, а по дороге сверзился с моста и утонул вместе с лошадью. Речка была мелкая, а мост высокий, так что лошадь приложило о камни, она озверела, а всадник запутался ногой в стремени, короче, печалька. Мама Кима после этого случая стала много пить и принимать в гости разных мужиков. Кима это сначала злило, а потом он заметил, что мама теперь выдает карманные деньги по первому требованию и не запоминает, сколько выдала. Тогда Ким перестал злиться, а стал радоваться.
Как и Мюллер, Ким любил пошутить. Но шутки у него были не хитровывернутыми, как у Мюллера, а простыми и прямолинейными. В седьмом классе у них в классе учился мальчик по имени Рашид и прозвищу Тигра, такое неимоверное чмо, что его даже пятиклассники чмырили, потом родители его увезли в сельское поместье, чтобы не позориться, так вот, однажды Ким на уроке истории прополз на четвереньках по коридору и украл у Рашида сумку с тетрадями, притом Ким сидел на последней парте, а Рашид на первой, а Рита Жаба ничего не заметила. Это, как выяснилось, на самом деле просто, надо всего лишь ползти на полусогнутых, а когда дополз куда надо, потом не разворачиваться, а ползти задом наперед.
Когда ребята подросли, Ким стал тырить у мамы вино и угощать друзей, в первую очередь Мюллера. Но Мюллер вино не сильно любил, от угощения не отказывался, но и не увлекался. Гораздо больше он любил над кем-нибудь поглумиться. Но над Кимом не глумился, дружбу с Кимом он ценил.
Однажды в восьмом классе какая-то учительница заболела, заменить ее никто не пришел, ребята разбрелись по школе без присмотра, а Ким с Мюллером вышли во двор и там на помойке Ким нашел крысу. Крыса сидела в пустом ящике из-под какого-то барахла, людей не замечала и вся была какая-то снулая, должно быть, отравы наелась. Ким поднял ящик вместе с крысой, она не выскочила и даже не забегала внутри, только запищала, тихо-тихо, точно больная.
— А давай ее в школу принесем! — предложил Мюллер.
— Да ты что! — засмеялся Ким. — Она по дороге выскочит!
— Попытка не пытка, — сказал Мюллер.
Они попробовали и все получилось, крыса не выскочила. Поставили ящик напротив пустой по летнему времени раздевалки, сами отошли в сторону, присели на скамеечку, тут мимо проходила рабыня-уборщица и вдруг как завизжит! Из кабинета выскочил директор, думал, рабы-дворники опять уборщицу насилуют, а тут, слава богам, всего лишь крыса, да и то снулая. Но от рабыниного визга она тоже проснулась, выскочила из ящика, а тут как раз проходила Рита Жаба… Короче, повеселились на славу.
В целом Мюллер был доволен жизнью. Иногда ему казалось, что первые его десять лет, до чумы и переезда в верхний город, были дурным сном. Хорошо, когда есть что есть, и никому в семье не приходится работать. Зря он так поздно сообразил помолиться Птаагу, надо было раньше, хотя и так неплохо получилось. Школа напрягает, но это терпимо, если бы школы не было, ее стоило придумать. Потому что когда все время делаешь только то, что хочешь — это же озвереть можно. Когда Мюллер был совсем маленький, он так и зверел, придумывал всякие правила, сказки сочинял, чтобы с ума не сойти… Сказки, впрочем, он сочинял до сих пор, только никому не рассказывал, что сочинял, потому что стеснялся. Однажды попробовал рассказать, но его так обсмеяли… Люди завистливы, и когда видят, что кто-нибудь превосходит их в чем-нибудь кроме мордобития, сразу поднимают на смех. Хорошо учишься — ботаник, хорошо танцуешь — педик, не пьешь крепленого вина — маменькин сынок, гуляешь с девчонкой- жених и невеста. Можно, конечно, и с такими ярлыками жить, но лучше без них.
В пятнадцать лет мальчики только-только начинают тянуться к девочкам, но Мюллер опередил возрастную норму. Он лишился невинности в двенадцать, это случилось в сельском поместье, унаследованным Бартом в комплекте с городским домом. Ассоль однажды вывезла Мюллера на летние каникулы в поместье, ей кто-то рассказал, что это полезно для здоровья, и не соврал, это действительно оказалось полезно. Крестьянка по имени Леда и по прозвищу Столб была старше Мюллера на три года и выше на голову, но это не мешало им совокупляться две недели подряд, пока Леда не предпочла Мюллера взрослому конюху. Вернувшись в столицу, Мюллер решил, что теперь можно вести себя по-мужски, и стал ухаживать за девочками, причем успешно, но товарищи-мальчики его не поняли. Стали смеяться, тили орали до хрипоты — тили-тесто, а Мюллер на это почему-то повелся, хотя обычно дразнилок не замечал либо не подавал вида, а потом тихо мстил. А тут расстроился и перестал гулять с девками, потому что они дуры, а стал гулять с Кимом, но не в эротическом смысле, они же не педики, только в прямом смысле гулять, шататься по району туда-сюда, убивать время.
Как ни извращай природу растущего организма, она все равно возьмет свое. Сколько ни говорил Мюллер, что бабы дуры, в глубине души он понимал, что неправ. Обычно парни его возраста думают и мечтают о плотских утехах, о которых имеют самые фантастические представления (один придурок, помнится, убеждал Мюллера, что дырка у бабы сквозная и могучий любовник может нанизать сразу троих), но Мюллер уже знал, как там все устроено, и что ничего особо удивительного там нет. Мюллер хотел не столько секса, сколько любви, хотя и сам не понимал в полной мере, чего хочет. А ухаживать за девочками, как это уже начали делать его ровесники, он стеснялся. Он смотрел на одноклассниц, мечтал о каждой второй, но эти мечты превращались только в дурные шутки наподобие спереть карандаш посреди урока или дернуть за лифчик, чтобы расстегнулся. Девочки не понимали его чувств, думали, что он дурак, задержавшийся в детстве, и смотрели на него не то чтобы презрительно, но близко к тому. Мюллер понимал, что делает что-то неправильно, но что именно — не понимал, и от этого нервничал. А когда он нервничал, у него дергался глаз, и иногда он начинал заикаться, и от этого нервничал еще больше, а девчонки смеялись, добродушно, не издевательски, но он не понимал этого и злился еще больше, и становился еще более застенчивым, и это был замкнутый круг, конца которому Мюллер не видел. Впрочем, он и самого круга не видел и всего вышеперечисленного не осознавал, он был как животное, понимал, что что-то не так, а что именно — не понимал. И все чаще в собственных мыслях он называл себя неудачником.
Тем не менее, девочки не считали его неудачником, и в редкий месяц ни одна не была в него влюблена. Но девочки в этом возрасте еще большие дуры, чем парни дураки, и показывать высокие чувства не умеют. Так что Мюллер совершенно не подозревал о своей популярности у противоположного пола. Если бы ему сказали, что Ольга Бабочка полгода страдала от безответной любви к нему, и что она до сих пор убеждена, что недостойна такого прекрасного юноши, Мюллер однозначно подумал бы, что над ним глумятся. Затаил бы обиду, а может, и навешал бы прямо на месте, если обидчик не очень сильный. Но скорее затаил бы, чем навешал, Мюллер в последнее время перестал драться. Когда пацаны дорастают до определенного возраста, они сбиваются в компании, которые в порту называют бандами, а в верхнем городе никак не называют, не придумали здесь для них особого слова, а те подростки, которые ни в одну компанию не вошли, тем по хавальнику огрести — как два пальца обгадить. А Мюллер ни в одну компанию не вошел, как-то не сложилось, странный он, да и смелости маловато, всегда норовит улизнуть, как драка. Насчет последнего Мюллер мог сказать, что легко быть смелым, когда нечего терять, а когда терять и есть с чем сравнивать нынешний образ жизни, это храбрости не способствует. Но в реальности Мюллер такого не говорил, потому что понимал, что о своей портовой жизни нельзя упоминать ни в коем случае, а то вскроется Бартова афера, попрут их из дома и из района, Мюллеру уголовная ответственность не светит, потому что малолетка, но Ассоль с Бартом однозначно забреют на каторгу, и куда тогда идти Мюллеру? В педерасты? Нет уж, увольте.
Была у Мюллера одноклассница по имени Лайма. Красавица, умница, отличница и из очень благородной семьи, прямой потомок знаменитого премьер-министра Спитмана. Очень нравилась она Мюллеру, часто снилась, притом не только голая, он мечтал о ней, но слово «любовь» не произносил даже мысленно, не понимал, что влюбился, гнал нелепые чувства, и не так уж сложно это было, потому что пока любовь не укрепилась в душе, не пустила корни, прогнать ее легче легкого. Но окончательно Мюллер ее не прогонял, просто не давал укрепиться, ему нравилось то шаткое равновесие, в котором пребывала его душа. Лайма подозревала, что Мюллер к ней неравнодушен, но насколько он к ней неравнодушен — это ей в голову не приходило. Но в целом она относилась к Мюллеру с симпатией. Дурацкие выходки ее раздражали, но в целом Мюллер парень умный и не злой, а что выпендривается — так в этом возрасте все мальчишки такие.
Классу, в котором учился Мюллер, в некотором смысле не повезло — классные руководители у них менялись каждый год, что не способствовало ни укреплению дисциплины, ни сплочению коллектива. В восьмом классе их взял под опеку учитель по имени Шу, сразу получивший прозвище Мелкий. Шу преподавал далалайский язык, на котором в империи не говорят уже столетия два, да и за границей проще объясниться по-имперски, чем по-далалайски, так что учить иностранный язык — дело бесполезное, но дети все равно учат, потому что положено.
Как часто водится у низкорослых мужчин, самомнение и амбиции Шу сильно превосходили его рост. Шу считал себя талантливым педагогом и умелым организатором, к тридцати пяти годам он рассчитывал стать директором школы, и не закончить карьеру этой должностью, но подняться выше, хотя что это такое — «выше, чем директор» Шу представлял себе неотчетливо. Зато видел, с каким уважением разговаривают с ним люди, в том числе старшие по возрасту и положению, как внимательно они выслушивают и обдумывают разные идеи, исходящие от Шу, с какой почтительностью они к нему обращаются, будто он не обычный молодой человек, едва-едва начавший карьеру, а седобородый отшельник или, скажем, философ. А если бы они узнали, что Шу водит дружбу с племянником самого императора…
Шу заблуждался, о его дружбе с племянником императора все сослуживцы знали. Ничего особо выдающегося в этой дружбе не было, сыновей у императора только законных одиннадцать штук, а племянников сорок семь, так что вероятность случайно познакомиться с племянником императора невелика, но не исчезающе мала. Но для простого учителя знакомство необычное, это немного подозрительно, может, он на самом деле не простой учитель, а байстрюк кого-нибудь высокородного или, может, они с племянником императора не просто друзья, но и любовники, прости господи. Именно из этих соображений другие учителя и директор, которого звали Рори, относились к Шу слегка настороженно, и именно эту настороженность он принимал за почтение. Господин Рори отлично понимал природу своих чувств и природу ответных чувств господина Шу, но не считал нужным просвещать своего подчиненного. Рори здраво рассудил, что мания величия в умеренных дозах никому не вредит, в отличие от комплекса неполноценности, и если учителю мерещатся ангельские крылья за спиной, пусть мерещятся, хуже от этого не будет, а если все-таки будет, то поставить на место излишне самонадеянного молодого человека — дело несложное.
Однажды, когда Шу был еще студентом, а не учителем, и никто не называл его господином даже в шутку, один преподаватель попросил его дать самому себе характеристику, состоящую из одного слова. Шу подумал и сказал:
— Требовательный.
Препод тогда озадаченно хмыкнул, Шу спросил, в чем дело, но препод только пожал плечами, а ничего осмысленного не ответил.
Превыше всего Шу ценил дисциплину, а идеальным порядком считал такой, когда все делается само собой, а учителю не нужно напрягаться, потому что дети уже выдрессированы. Если бы он рассказал об этом господину Рори, тот от души посмеялся бы, но Шу никогда не говорил вслух о своих жизненных представлениях. Он полагал свои соображения настолько очевидными, что обсуждать их с кем бы то ни было просто глупо.
Дети Шу не любили. Он об этом знал и относился к этому спокойно, потому что полагал нелюбовь к педагогу естественной на начальном этапе воспитания. Когда ребенку не дают творить безобразия, запрет раздражает, а инициатор запрета вызывает нелюбовь. Но когда дети просветлятся в должной мере, они поймут, что учитель желает им только добра, и тогда они его полюбят и скажут спасибо за все предшествующее воспитание.
Но дети упорно не желали просветляться. Даже самые лучшие, дисциплинированные и исполнительные, даже они не выказывали к господину Шу никакой симпатии. Единственным ребенком, в чьих глазах Шу видел обожание, был Рашид Тигра, которого как раз отчисляли, когда Шу принимал классное руководство. Но Рашид был извращенцем-мазохистом с подтвержденным диагнозом, так что его чувства глупо принимать во внимание. А нормальные дети, не извращенцы, господина Шу не любили.
Шу знал, что хороший педагог ко всем своим подопечным должен относиться одинаково ласково, не выделять любимчиков, умело изображать, что любит всех детей в строго одинаковой мере. По жизни так не бывает, любимчики появляются по-любому, как и ненавистные гаденыши, но все равно надо стремиться к тому, чтобы их как бы не было, чтобы любить как бы всех. Но как же трудно делать вид, что любишь этих двух клоунов, Кима и Мюллера!
Этих двух клоунов Шу ненавидел всем сердцем, не было в мире никого и ничего, что бы он ненавидел в той же мере, как этих двух. Особенно Мюллера! Ким-то еще ничего, дурак и есть дурак, но у Мюллера с интеллектом все в порядке, господин Джен однажды рассказывал, что он сложнейшие задачки как орехи щелкает! Может ведь подчиняться! Но когда надо упражнять не заумную арифметику, а житейский здравый смысл, соображалка у него отказывает напрочь. Отличный человек мог получиться из ребенка, дисциплинированный, исполнительный, но не получится, потому что ребенок отрицает таланты, данные богами, и упорно противится всем попыткам превратить его в достойного члена общества. А ведь дисциплина должна быть превыше всего! Времена феодальной вольницы прошли, нынешнего императора не зря называют вторым солнцем, с каждым годом страна становится все богаче, все приятнее и веселее живется в ней простому народ. Все меньше золота оседает в карманах удельных князьков, все больше падает в государственную казну, чтобы оживлять экономику. Глядишь, через полстолетия будет у самого последнего гражданина по три раба, а то и все четыре, чем не рай на земле? А феодалы и помещики не понимают народного блага, противятся светлому будущему, вредители. Но это временные трудности, победа будет за силами добра.
Иногда Шу становилось чуть-чуть жалко детей, которых он учил и воспитывал. Они не виноваты, что их родителей скоро сметет история. Но, с другой стороны, если молодой человек полагается не на отцовское наследство, а на личные знания и умения, такому человеку везде открыта дорога, кем бы ни был его отец — землевладельцем или, скажем, чиновником в министерстве. Но вслух Шу такого детям не говорил, а то кто-нибудь пожалуется отцу, а тот расстроится, начнет скандалить, лучше без этого.
Однажды Мюллер с Кимом сидели на уроке изящной словесности, Шелли Гусыня читала вслух стихи, не замечала ничего вокруг и можно было делать что угодно и переговариваться не тихим шепотом, как обычно на уроке, а просто вполголоса, главное не перекрикивать Гусыню, а то она обидится. Чтобы не было скучно, Мюллер и Ким играли в такую игру: нажевали из бумаги много мелких шариков и по очереди забрасывали их в пенал, при этом подбрасывать шарик разрешалось только двумя пальцами и траектория должна быть навесной, а не настильной. Вначале было интересно, но вскоре оба наловчились попадать девять раз из десяти, и интересно быть перестало.
— Давай последний раз, — предложил Ким. — Скучно.
— Может, с закрытыми глазами? — предложил Мюллер.
Они попробовали с закрытыми глазами, но это тоже было скучно, только по противоположной причине — попасть катышком в пенал стало почти невозможно. А если прицеливаться с открытыми глазами, и только кидать с закрытыми — опять слишком легко и неинтересно. И непонятно, как найти золотую середину.
— Может, попробуем так, — предложил Мюллер. — Я закрою глаза и буду кидать, а ты будешь говорить, в какую сторону я промахнулся и насколько, а потом поменяемся. Кто за меньшее число раз попадет, тот и выиграл. Идет?
— Ерунда какая-то, — сказал Ким. — Ну, давай, попробуем.
Они попробовали, и игра оказалась на удивление азартной. Особенно если пенал выставлять на стол уже после того, как кидающий закрыл глаза, так, чтобы он до первого броска не знал, где цель, а узнавал только по подсказкам второго участника. А особенно прикольно поставить пенал на самый дальний край стола, тогда при перелетах катышки попадают в спину Лайме. А если подсказывать Киму неправильно, можно сделать так, чтобы он попал ей за шиворот…
Мюллеру не удалось претворить этот план в жизнь. В класс вошел Маленький Шу, его глаза метали молнии.
— Госпожа Шелли, можно вас прервать на пару минут? — вежливо спросил он.
При звуках его голоса Ким улыбнулся, захихикал и открыл глаза.
— Проиграл, — констатировал Мюллер.
— Закончили, — возразил Ким. — Непреодолимая сила.
Перед изящной словесностью у них был урок обществознания, и там Рита Жаба, преподававшая этот предмет наряду с историей отечества, рассказывала про то, что законники называют непреодолимой силой или, на древнем языке, форс-мажором. Сейчас Ким вспомнил эти слова и употребил не к месту. Он часто употреблял научные термины как слова-паразиты, этому его научила старшая сестра, ей эта привычка помогала зубрить, в у Кима она из полезной превратилась во вредную.
— Мелкая какая-то сила, — прокомментировал Мюллер.
Они тихонько засмеялись. Ким протянул руку и стал собирать катышки, прилипшие к Лайме. Лайма обернулась, Ким продемонстрировал ей собранный урожай и сказал:
— Мыться надо лучше.
Мюллер засмеялся чуть громче и подмигнул Лайме.
— Дурак, — сказала Лайма и отвернулась обратно.
И ласково улыбнулась, но ни Мюллер, ни Ким этого не увидели. А Шу увидел, но не придал значения.
— Мюллер, Ким, тишина, — сказал Шу и выпучил глаза, как всегда делал, когда хотел казаться грозным. — Лайма, не вертись.
Ласковая улыбка пропала с Лайминых губ. Мюллер и Ким закрыли рты и насупились.
— Кто подрисовал нос герцогу Дори? — сурово спросил Шу.
Мюллер поперхнулся и захрюкал — хотел захохотать, но сдержался. Из разных углов класса послышались сдавленные смешки.
— Это не смешно, — заявил Шу. — Мне пришлось самому оттирать этот нос. Кто вчера убирался в моем кабинете?
Надо сказать, что в империи было принято, что парни и девушки знатного происхождения в определенном возрасте должны причаститься простонародному труду, это обосновывалось сложными религиозно-мифологическими соображениями, которые мы не будем здесь приводить ибо они несущественны. Важно для повествования только то, что коридоры и лестницы в школе убирали рабыни-уборщицы, а в классах мыли полы и протирали пыль сами ученики, каждый в свою очередь. Некоторые присылали вместо себя рабов, за это наказывали, хотя и не очень строго.
— Кто вчера убирался в моем кабинете? — повторил Шу.
Он говорил подчеркнуто медленно, четко разделяя слова, подражая манере, в которой император произносит ежегодную речь в день национального флага. Впрочем, никто не понимал, что он подражает императору, все думали, что он склонен заикаться, и когда говорит медленно, борется с этой дурной привычкой. Но сам Шу был уверен, что когда он так говорит, получается внушительно и убедительно.
— Там на стене список висит, можно свериться, — подала голос отличница Полина с первой парты.
Она хотела придти учителю на помощь, но получилось так, что этими словами она разрушила его хитрый замысел заставить виновника либо самого признаться и тем самым унизиться, либо все отрицать, а потом быть попаленным и опять-таки попасть в дурацкое положение.
— Господин Шу, давайте я схожу и посмотрю, — предложил Ким. — Я быстро, одна нога там, другая здесь!
— Одна здесь, другая там, — автоматически поправила его Шелли.
Ее всегда злило, когда дети перевирают традиционные поговорки, Ким часто дразнил ее таким образом. Но сейчас он ее не дразнил, он просто случайно перепутал.
Шу насупился, раздул ноздри и стал похож на сумасшедшего больше, чем обычно. Сам он полагал, что демонстрирует благородный гнев.
— Не придуряйся! — закричал он. — Я знаю, кто убирался в моем кабинете! Это был ты! И ты тоже это знаешь!
— Ах да, — сказал Ким и хлопнул себя по лбу. — Что-то такое припоминаю… А вы не подскажете, господин Шу, герцогу большой нос пририсовали или не очень?
— Десять розг! — рявкнул Шу, развернулся и пошел прочь.
Ким пожал плечами и постарался придать лицу безразличное выражение. Розгой больше, розгой меньше…
Мюллер подумал, что Лайму никогда не наказывали розгами. А любопытно было бы по розовой попке…
Ким ткнул его локтем в бок и зло спросил:
— Чего лыбишься?
— Чего? — не понял Мюллер. — А, это… Не бери в голову, о своем подумал.
— Шу пидор гнойный, — констатировал Ким.
Взял в пальцы бумажный катышек, ловко щелкнул, бумажка взлетела по навесной траектории и прилетела Лайме в волосы. Девочка ничего не заметила.
— Говна бы ему в волосы, козлу мелкому, — продолжил Ким свою мысль.
Мюллер вдруг понял, что это можно организовать.
— Сделаем, — спокойно сказал он.
— Что сделаем? — не понял Ким.
— Говна в волосы, — объяснил Мюллер. — Обкидаем говном мелкого пидора, а он не увидит, кто. Может догадаться, но обосновать не сможет. Только людей надо больше набрать, вдвоем не получится.
— Где ж ты наберешь людей? — риторически вопросил Ким.
Тихонько ткнул Лайму карандашом в спину и спросил, когда та обернулась:
— Пойдешь мелкого козла говном обкидывать?
Лайма удивленно подняла брови, и Мюллер подумал, что этот жест ей идет, так она становится еще красивее.
— Мюллер говорит, что не поймают, — продолжил Ким.
Мюллер авторитетно кивнул.
Рыжая Руби по прозвищу Лиса, соседка Лаймы, тоже обернулась и поинтересовалась, в чем дело.
— Ким с Мюллером хотят обкидать Мелкого говном, — объяснила Лайма. — Мюллер говорит, не поймают.
Руби захихикала и повернулась обратно. Лайма тоже повернулась обратно, и Руби сказала ей:
— Если Мюллер говорит, значит, точно не поймают. Мюллер врать не будет. Помнишь, как Ким Кефиру прямо в морду говном залепил, а наказали Бычьего Хера?
Лайма вспомнила и заулыбалась. Шелли Гусыня поймала ее взгляд и тоже одобрительно заулыбалась.
«Какая прекрасная девочка, как глубоко понимает поэзию», подумала Шелли.
— Мы пойдем, — бросила Лайма через плечо. — Когда, где?
Это было неожиданно. Приглашая их на безобразие, Ким просто пошутил, а тут вон как получилось. Неужто Лайма влюбилась?
Ким ни на минуту не допускал, что Лайма могла влюбиться не в него, а в Мюллера. Как можно влюбиться в этого пришибленного хлюпика, когда рядом сидит такой красавец!
— А вы сможете? — засомневался Ким. — Кидать надо сильно.
— Смогут, — успокоил его Мюллер. — Сильно кидать не надо. Пойдем сегодня, сразу после школы. Чего зря тянуть?
— У тебя есть перчатки? — спросила Лайма соседку.
— С собой нет, — ответила Руби. — А что?
— Идем после школы с парнями, — объяснила Лайма.
— Ух ты! — восхитилась Руби.
Она подумала, что это замечательный шанс познакомиться с Мюллером поближе. Единственный приличный парень в классе, а с девчонками не гуляет, а тут Руби с Лаймой… гм… Как бы Лайма его не отбила, она красивая, вон Ким слюни пускает, как баран тупой… а интересно, у него большой…
Дальнейшие мысли Руби ушли далеко в сторону от темы нашего повествования и не представляют никакого интереса.
2
Замысел Мюллера был настолько же прост, насколько изящен. Странно, что раньше никто до такого не додумался, элементарно же придумывается. Скорее всего, раньше никто не играл в такую игру, какую они играли сегодня с Кимом.
— Все просто, — говорил Мюллер. — Идем к конюшням, набираем навоза. Один человек, например, я… нет, лучше кто-то из девчонок, там перед конюшнями игровая площадка для детей, рядом с ней скамейка, короче, кто-нибудь один будет там сидеть и смотреть по сторонам.
— Давайте, я буду смотреть! — предложила Руби. — У меня перчаток нет, а у Лаймы есть.
— А при чем тут перчатки? — удивился Ким.
— Дурак, — сказала Руби и ничего не добавила к этой характеристики.
— Хорошо, пусть будет Руби, — сказал Мюллер. — Руби садится на скамейку и, например, курит…
— Я не курю! — перебила его Руби.
— Тогда что-нибудь жри, — предложил Мюллер.
— Рядом с конюшней? — удивилась Лайма. — Там же воняет.
— А ты шаверму жри, ее все равно где жрать, — сказал Ким и глупо засмеялся.
— Ну, не знаю, придумай, что-нибудь, чтобы не палиться, — сказал Мюллер. — Сделай вид, что пятку наколола.
Руби выставила вперед одну ногу, продемонстрировала туфлю на толстой подошве.
«Ничего нога, симпатичная», подумал Мюллер. «Ей бы нос покороче и сиськи побольше…»
«Если Лайма не даст, вдую этой», подумал Ким.
В отличие от Мюллера, он не страдал комплексами в отношении девчонок. Его проблема была диаметрально противоположной — насколько Мюллер недооценивал свою привлекательность, настолько Ким ее переоценивал. Впрочем, Ким пока еще не понимал, что это проблема.
— Короче, — продолжал Мюллер. — Надо выбрать приметный ориентир…
— Чего? — не поняла Лайма.
— Пойдемте к конюшням, — сказал Мюллер. — На месте объясню.
Они пришли на место и Мюллер все объяснил. Это оказалось на удивление просто, зря он пытался излагать все словами, гораздо проще, когда тыкаешь пальцем и говоришь «эта херня», а не подбираешь нужное слово долго и мучительно.
Ориентирами стали две палочки, которые Ким воткнул возле тропинки. Каждое попадание между ними уговорились считать попаданием в цель. Руби уселась на указанной скамейке, а Мюллер, Ким и Лайма заняли позиции за забором, окружающим развалины заброшенного дома, где по вечерам собираются гопники и наркоманы, да и днем тоже страшно ошиваться неподалеку, только перед друзьями нельзя показывать, что страшно, а то смеяться будут. Впрочем, у самом забора не страшно, в случае чего улизнуть успеешь.
Мюллер предполагал устроить Шу то, что в одном параллельном мире называется навесным обстрелом с корректировкой. Каждый говнометальщик делает два-три пристрелочных броска, а Руби со своей скамейки подает команды наподобие «недолет» или «чуть левее». А потом, когда говно начнет попадать куда надо, надо всего лишь запомнить прицел, и когда Руби закашляется, сообщив тем самым, что в зоне обстрела находится Шу, надо просто метнуть оставшиеся снаряды со всей возможной скоростью. На Мелкого при этом обрушится настоящий град навоза, а кто кидается, ему видно не будет, потому что кидают из-за забора. Прикольно.
Поначалу все шло, как рассчитывали. Единственное, чего Мюллер не ожидал — что после пристрелочных выстрелов на тропе образуется целая россыпь мелких катышков, но это даже хорошо — жертва задумается, как обойти препятствие, замедлит шаг и проведет в зоне поражения даже больше времени, чем рассчитывалось.
Они стояли за забором и ждали, когда появится Шу. Стоять было неудобно, потому что если поменять позу, руки забудут прицел, и хорошего обстрела не получится. Знать бы заранее, что придется так долго ждать, и что это будет утомительно, может, и не стоило затевать это дело. Но теперь, когда сделано так много, отступать глупо.
Мюллер думал, что в следующий раз надо будет не швырять навоз руками, а сделать механическое приспособление наподобие боевой катапульты, только поменьше, и чтобы оно швыряло сразу много, и помнило прицел, и тогда можно сидеть в удобной позе и подсматривать в дырочку… Кстати о дырочках, надо было позаботиться… или нет, лучше не надо, а до появится соблазн задержаться на месте преступления дольше, чем надо, а для безопасности убегать надо немедленно…
Ким думал, что Лайма точно в него, в Кима, влюбилась, потому что иначе невозможно объяснить, почему она согласилась на это дело, ведь обычно на подобные дела девчонки не соглашаются.
Лайма думала, что должно быть, сошла с ума, раз согласилась на такое безобразие, а Мюллер, идиот, на нее даже не смотрит. Перчатки испачкала, придется выбросить, мама отругает… По-хорошему, надо все бросить и уйти, но как-то глупо получится…
А Руби ни о чем не думала, он любовалась облаками и чуть было не прозевала момент, когда Шу появился в поле зрения. И когда она свистнула, от точки прицеливания учителя отделяло не двести шагов, как уговорились, а от силы пятьдесят. И когда Руби закашлялась, сообщая, что пора бросать, никто не был готов к этому.
Мюллер размахнулся зажатым в руке куском навоза, но не бросил, потому что Ким явно не собирался бросать свой кусок, и это смутило Мюллера, он подумал, что Ким, должно быть, что-то заметил, чего не заметил Мюллер, и надо уточнить, что именно он заметил. А Ким замешкался с броском тупо от неожиданности, а когда увидел, что Мюллер почему-то не бросает свой снаряд, тоже решил не бросать. И если бы не Лайма, так бы и простояли два идиота на месте, глядя друг на друга, и ничего дальнейшего не случилось бы.
Лайма никуда не смотрела и ни о чем не думала, кроме того, что устала торчать на одном месте и мерзнуть. Размахнулась широко, запустила фекалию далеко и подумала: «Как бы перелета не вышло». После этого Мюллер с Кимом вышли из ступора, и стали швырять свои заряды один за другим. А потом Ким вдруг случайно выронил один заряд себе под ноги, поскользнулся на нем, зашатался, замахал руками, как мельница крыльями, да и рухнул, причем не куда-нибудь, а прямо на забор, и вынес целую секцию, тупой боров, к чертям собачьим.
Стало видно, что обстрел прошел не слишком кучно, но одно прямое попадание достигнуто, да не куда-нибудь, а в голову! На мгновение даже жалко стало подлого гаденыша, но не очень жалко, так, чуть-чуть.
Лайме повезло, ее стрелковая позиция находилась чуть в стороне, и Шу ее не увидел. А Кима с Мюллером увидел очень хорошо, особенно Мюллера, который как раз запускал последний заряд, и процесс этот был виден Шу во всех подробностях. «Палево», подумал Мюллер и сам засмеялся над собственной мыслью. Действительно, смешно. Называть случившееся палевом — все равно что легочную чуму назвать простудой, так же получается несоразмерно и глупо.
В первые секунды Шу от неожиданности потерял дар речи. Шел спокойно, думал о своем, и вдруг бах-бах-бах! Поднял голову посмотреть, что такое, и сразу прилетело прямо в глаз, едва проморгался. Да какое он едкое… Черт, ничего не видно…
Когда Шу наконец проморгался, он увидел, что в заборе, идущем вдоль дороги, нет одной секции, а за этой отсутствующей секцией стоит Мюллер, а морда у него, как у кота, пойманного у банки со сметаной, только еще испуганнее.
— Мюллер! — крикнул Шу. — Ты что там делаешь?
Мюллер глупо засмеялся и ответил:
— Ворон дрессирую, чего же еще?
Рассмеялся еще раз, нагнулся, вытянул вперед руку и помог встать… гм… Киму. Значит, Ким тоже здесь… как они только сумели ворон отдрессировать на такое дело… и директору не расскажешь, не поверит, в дурдом отправит на проверку здоровья… Нет, но как же в самом деле…
Шу принюхался, потер щеку, посмотрел на испачканную руку. Странно, это не вороний помет, а конский навоз, Но не Пегас же его обгадил!
А вон Руби сидит на скамейке и усиленно делает вид, что ни при чем и что классного руководителя, попавшего в неудобное положение, в упор не замечает. Правильно, молодец, вежливая… Стоп!
В голове Шу щелкнуло, головоломка сложилась. Ах они твари!
— Вас всех отчислят! — завопил Шу и сам испугался прозвучавшей в голосе ярости. — В стражу сдам, в тюрьму, на галеры, на каторгу!
— Сейчас навешает, — пробормотал Ким.
— Не навешает, — возразил Мюллер. — Кишка тонка.
— Мальчики, что там такое? — тихо спросила Лайма.
Она неподвижно замерла, словно играла в «море волнуется раз», и боялась пошевелиться. Лайма была в панике. Соглашаясь на идиотскую авантюру, она ни на секунду не предполагала, что их могут пропалить по чистой случайности, что Мюллер хоть и умный до гениальности, но все же не абсолютный гений, а значит, соглашаться нельзя было, но ей так хотелось удивить Мюллера своей храбростью… Вот и удивила, тупая овца.
— Шу беснуется, — тихо ответил Мюллер. — Тебя не видит. Беги, пока еще можно.
— Ага, — сказала Лайма и побежала прочь.
На языке вертелось «спасибо» и «простите», но она не произнесла вслух ни того, ни другого, промолчала. У подростков такое случается сплошь и рядом — хочется сказать что-то вежливое, а язык не поворачивается и подросток тупит. Такое поведениnbsp;е более типично для мальчиков, но и у девочек оно тоже бывает.
— Кто там еще?! — выкрикнул Шу.
Он вдруг вспомнил свое любимое слово — «требовательный». Надо быть требовательнее, а то сядут на шею. Вот и сели, дождался.
— А ну выходи! — требовательно закричал Шу. — Все выходите немедленно!
Никто не вышел. Мюллер и Ким переглянулись между собой, затем переглянулись с кем-то невидимым. Ким улыбнулся этому кому-то и издевательски помахал рукой, дескать, пока-пока. А потом они отвернулись и пошли прочь, не обращая на униженного учителя внимания.
— Стоять! — орал Шу им вслед. — Кто не остановится, тот пожалеет! Думаете, я директору пожалуюсь? Берите выше! Я племяннику императора пожалуюсь! Буду у него на приеме, все про вас расскажу! Вас казнят!
Здесь следует пояснить, что по древнему закону любой член императорской семьи имел право подвергать смертной казни без суда и следствия почти любого подданного империи. На практике этот закон не применялся, но формально действовал, и с этим было связано много анекдотов и городских легенд. Реально Шу не рассчитывал, что племянник императора господин Сидди отдаст приказ казнить двух детей за шалость… кстати, почему двух, Руби наверняка им подсказывала, когда начинать швыряться…
— Кто не извинится и не выдаст сообщников, тому снисхождения не будет! — крикнул Шу. — А кто покается и выдаст, тому будет!
Когда Шу это выкрикнул, Мюллер и Ким уже вышли из его поля зрения, так что он не увидел, как Ким после последних слов остановился и неуверенно спросил:
— Может, пойдем, покаемся?
— А ты ему веришь? — удивился Мюллер.
— Ну, не знаю… — задумался Ким. — А вдруг не врет? Жизнь-то одна.
— Ты что, атеист? — ехидно поинтересовался Мюллер.
— Да пошел ты! — возмутился Ким. — Нашел время умничать, я серьезно говорю!
— Серьезно говорю я, — сказал Мюллер. — А ты говоришь так, будто только прикалываешься, что веришь в богов, а на самом деле не веришь.
— А ты веришь на самом деле? — спросил Ким.
— Конечно, — серьезно ответил Мюллером. — Я с Птаагом несколько раз лично разговаривал.
Подумал немного и добавил:
— Иногда я подозреваю, что он мой отец.
И сразу пожалел, что добавил это, потому что Ким засмеялся и воскликнул:
— Да ты псих ненормальный! Отчислит тебя мелкий из школы, что будешь матери говорить?
— Ничего не буду, — пожал плечами Мюллер. — Да ты не бойся, все нормально, помолюсь Птаагу, он поможет, не впервой. Он мне уже дважды помогал по-крупному, а по мелочи без счета. Если бы не Птааг, меня бы еще в детстве… неважно.
Мюллер решил, что не станет говорить Киму, что был в Роксфорде накануне инцидента. А то слово за слово наболтаешь лишнего, а он потом растрезвонит или донесет мелкому или кому-нибудь еще.
— Да пошел ты! — крикнул Ким и пошел прочь.
Мюллер проводил его взглядом, пока Ким не скрылся за углом. Мелькнула мысль: может, Лайма где-то неподалеку, повертел головой, поглазел, ее нигде нет, да и странно было бы, будь иначе… Впрочем, сегодня и без того все странно, выдаются иногда странные дни, когда все не так, и судьба человека меняется радикально, вот, например…
Внезапно Мюллер понял, что происходит. Точно такое же ощущение у него было в первый день чумы, с самого утра, до того, как Птааг переменил судьбу маленького мальчика, призвавшего бога молитвой. Или, может, не мальчик призвал бога молитвой, а высшее существо призвало мальчика, чтобы тот помолился и как бы узаконил то, что бог захотел сделать по собственной воле… нет, так слишком сложно.
Мюллер зашел в первую попавшуюся подворотню, прислонился спиной к стене, раскинул руки крестом, задрал голову к небу (никакого неба, конечно, не увидел, только щербатый кирпич) и продекламировал нараспев:
— Птааг, к тебя взываю! Приди, пусть свершится воля твоя!
И Птааг пришел.
3
— Господин Шу, простите меня, пожалуйста, — тихо сказал Ким. — Я не нарочно, это Мюллер попутал.
В банном халате и тапочках господин Шу казался еще мельче, чем обычно. А в тех местах, которые не скрывал ни халат, ни тапочки, кожа господина Шу была розовая, как у ребенка или женщины, видать, мочалкой тер.
— Кто еще был с тобой? — спросил господин Шу.
Он говорил тихо и монотонно, его голос был лишен каких-либо интонаций. Это пугало.
— Лайма и Руби, — сказал Ким.
Он ждал какой-то реакции, но ее не последовало. Тогда Ким добавил уточняюще:
— Две девочки.
— Не лги мне, — сказал Шу. — Лайма приличная девочка, она на такое не пойдет.
Ким хотел было возразить, рассказать, что она влюбилась в Кима, а из любви к такому замечательному парню чего только не сделаешь, но решил не говорить. Не потому что не хотел выдавать Лайму, он ее уже по-любому выдал, а потому, что господин Шу все равно не поверит. Надо же было так глупо спалиться! А все Мюллер со своими выдумками!
— Я жду, — сказал Шу.
— Простите, господин, — сказал Ким и склонил голову. — Лаймы там не было, я соврал.
— То-то же, — сказал Шу и на его губах появилось нечто похожее на улыбку. — Зачем хотел обмануть? А ну говори!
Ким вздохнул и ответил:
— Из вредности.
— То-то же, — повторил Шу и улыбнулся чуть-чуть шире. — Больше мне не лги, все равно пойму, где правда. Что еще ты натворил?
Ким склонил голову еще чуть ниже и сказал:
— Герцогу Дори нос пририсовал.
— Еще! — потребовал Шу.
— Крысу в школу мы с Мюллером принесли, — признался Ким.
— Какую крысу? — удивился Шу и вдруг вспомнил, захохотал и радостно воскликнул: — А прикольно!
Но сразу вспомнил, что одобрять хулиганские выходки педагогу не подобает, стер улыбку с лица и сказал:
— Плохо.
— Да, господин, — согласился Ким.
— Ты дрянь, — сказал Шу.
— Да, господин, — согласился Ким.
— Мразь, — сказал Шу.
Ким промолчал.
— Не слышу, — сказал Шу.
— Да, господин, — послушно сказал Ким.
— На колени, — потребовал Шу.
Ким поднял голову, в глазах у него читался испуг.
— Я не педик, — сказал он.
— На колени! — рявкнул Шу.
Отдавая последний приказ, он не думал об извращениях, он ведь тоже не педик, он хотел малолетнего мерзавца унизить, но не более того. Чтобы никогда больше не пытался так поступать, чтобы это позорное существо превратилось в достойного подданного империи, да и приятно, оказывается, унижать людей. Шу давно подозревал это, но проверять это предположение экспериментом ему раньше не доводилось.
— Ползи в чулан, — приказал Шу. — Не так, на коленях ползи! Да, вот так. Возьми из корзины грязную куртку, принеси мне. Быстрее!
Куртка, если честно говоря, была не такая уж грязная — почти все куски конского навоза просвистели мимо, и если бы не единственный снаряд, угодивший в голову, Шу скорее удивился бы, чем оскорбился. Хотя нет, все равно бы оскорбился, потому что даже неудачные попытки унизить педагога нельзя оставлять безнаказанными, дети должны понимать, что такое хорошо и что такое плохо. А если кто не понимает слов, пусть постигает этику методом дрессировки, как собака. Хорошая, кстати, идея.
— Там, в чулане, есть собачий ошейник с поводком, — сказал Шу. — Найди и надень на себя.
Ошейник оказался строгим, с торчащими внутрь тупыми шипами, Шу об этом забыл. Ошейник был не от его собаки, у него никогда не было собаки, но у квартирной хозяйки в чулане было полно всякого барахла, Шу потребовал, чтобы она очистила чулан, а она сказала, что ничего очищать не будет, а если ему что мешает, то пусть сам выкидывает, Шу и выкинул почти все, только ошейник непонятно зачем оставил, приколола его эта штука. А теперь пригодился ошейник, воистину никогда не угадаешь, что когда пригодится. А настроение начинает подниматься! И это правильно, восстанавливать справедливость — оно и должно быть приятно.
Шу взял поганого мальчишку на поводок, отвел к нужнику и привязал рядом. По дороге Шу дважды сильно дергал, маленький подлец хрипел и спотыкался, это было приятно. А отстегать гаденыша грязной курткой, чтобы засохшее дерьмо отлетало и пачкало — еще приятнее. Вот только пачкает дерьмо не столько мальчишку, сколько пол вокруг, это непорядок.
— Подбирай! — приказал Шу. — С тебя насыпалось, подбирай, кому сказал!
Ким безропотно стал подбирать кусочки навоза в ладошку. Он уже не сопротивлялся, он сломался очень быстро, такого Шу не ожидал. На вид крупный, сильный, а внутри такой же слабак, как Тигра. Мюллер, небось, так быстро не сломался бы.
— Теперь жри, — приказал Шу.
Ким поднял голову, посмотрел недоуменно, дескать, я что, ослышался? Шу плюнул ему в лицо. Хотел попасть в глаз, попал в кончик носа. Ким дернулся и вдруг завалился на пол, уткнулся лбом в пол и беззвучно заплакал, а плечи мелко затряслись. «Если бы я был педиком», подумал Шу, «самое время было бы вдуть». Но Шу не был педиком, он просто хотел справедливости.
Шу повторил, чтобы Ким жрал говно, потом повторил еще раз, но поганец ничего не слышал, только рыдал и трясся. Как бы не задушил бы себя… Шу отвязал поводок, Ким завалился набок и затрясся еще сильнее. Шу задумался: а не падучая ли это? Скорее нет, чем да. Но как заставить его перестать трястись? Может, пнуть? Не помогает. Но приятно. Как же приятно наказывать за правое дело!
Вскоре Шу утомился пинать мальчишку — в мягких тапочках это не слишком удобно, а надевать уличные туфли Шу не хотел. Во-первых, лень, а во-вторых, так и покалечить недолго. Ладно, пора заканчивать, не дай бог опоздать к господину Сидди на ужин, подумает, что Шу пренебрегает его дружбой, а такой дружбой пренебрегать нельзя…
— Встать! — приказал Шу. — Пошел прочь! И никому ни слова, что здесь было!
Ким встал и пошел прочь. Он чувствовал себя очень странно. Наверное, Рашид Тигра тоже чувствовал что-то подобное, когда его били и унижали, а он улыбался. Есть что-то извращенно-приятное, когда ты как бы отрекаешься от обязанности хранить честь, начинаешь вести себя как животное, тупое и презренное, но зато такое свободное…
Если бы Ким был более образованным, он бы понял в этот момент, что является скрытым мазохистом. Но он не был образованным и такого слова не знал.
4
К вечеру настроение Шу немного улучшилось, а когда он явился на прием к господину Сидди, стало совсем хорошим. Очень хорошо, что из двух поганцев один сам добровольно явился на расправу, это большая педагогическая победа. А второму еще будет время отомстить как следует.
За столом у господина Сидди зашел разговор про современную молодежь, дескать, распустились, отбились от рук, никого не чтят и все такое прочее. Когда Шу был мальчишкой, он считал такие разговоры глупыми, но теперь-то он знал, что глупостью было как раз то, что он тогда считал. Молодежь действительно деградирует, и вполне возможно, что конец света действительно не за горами.
— Довелось мне однажды слышать от надежного человека такую историю, — стал рассказывать Шу. — Дело было в какой-то северной провинции зимой, там, где выпадает снег.
— А что такое снег? — заинтересовалась какая-то женщина.
Шу собрался было начать объяснять, но на женщину зашикали, дескать, не мешай слушать, и она заткнулась.
— В одном северном городе один малолетний хулиган невзлюбил одного учителя, — продолжил Шу свой рассказ. — Подговорил дружков и устроил вот какую пакость. Учитель этот все время ходил из школы домой одной и той же дорогой, а около дороги был забор, за которым можно спрятаться. Так вот, хулиганы спрятались за забором, а один стоял снаружи, и те, которые спрятались, кидали в учителя снег, а тот, кто стоял снаружи, указывал им, в какую сторону они промахиваются и как надо подправлять прицел. А учитель не видел, кто в него кидает, видел только того, кто снаружи, а он не делал ничего предосудительного и его не за что было наказывать. Представляете, в какое незавидное положение попал учитель? Какие изворотливые мерзавцы! Разве можно было представить такое в нашем поколении?
Неожиданно подал голос седой мужчина в военном мундире, Шу видел его на подобных приемах, но кто такой — не знал.
— А я бы этого парня взял к себе начальником артиллерии! — зычно провозгласил военный. — Какая прекрасная мысль! Мы привыкли, что даже дальнобойные катапульты пуляют в прямой видимости, но их можно ставить в укрытия! А о результатах чтобы докладывал особый наблюдатель…
— С катапультами не прокатит, — перебил его другой офицер, более молодой и тоже незнакомый. — У катапульты дальность выстрела маленькая, их ставят на высокую траекторию, и все равно вне прямой видимости без зелена вина не пульнешь. Чтобы пулять с наблюдателем, надо чтобы дальность была как у пороховых орудий…
— Давайте не будем обсуждать военные тайны, — вмешался господин Сидди.
Молодой офицер смутился и покраснел, сообразив, наконец, что чуть было не разгласил тайные характеристики новейшего военного изобретения.
— А в целом идея достойная, — авторитетно произнес офицер, который постарше. — Господин… гм… не имею чести…
— Шу, — представился Шу. — Просто Шу.
— Мы с ним познакомились на южном побережье, на курорте, — пояснил господин Сидди.
— Ах, господин Сидди, как вы демократичны! — неискренне восхитилась какая-то женщина.
— А я генерал Мементо, — представился седой офицер. И спросил: — Господин Шу, вы не знаете имя того мальчика?
— Не знаю, — соврал Шу. — А зачем вам?
— Вознести за него благодарственную молитву, — серьезно сказал Мементо. — Мы, ветераны, люди суеверные, особенно когда с инновациями сталкиваемся. Новые технологии ненадежны, поневоле боишься сглазить. А молитву вознесешь, и как-то успокаиваешься. Понимаете?
— Угу, — неуверенно кивнул Шу.
— Вот и хорошо, — улыбнулся Мементо. — Так как зовут мальчика?
— Не знаю, — повторил Шу.
— Врет, — прозвучало справа.
Шу посмотрел в ту сторону, и в груди у него екнуло. Там сидел знаменитый психиатр Шепард, про которого говорили, что он продал душу темным богам за искусство читать мысли. Портреты этого психиатра некоторые невежественные крестьяне покупали как чудотворные иконы.
— Господин Шу врет, — повторил господин Шепард. — Он отлично знает, как зовут мальчика. И что история случилась давно и на севере — тоже врет, это недавняя история, и случилась она у нас в столице, притом в верхнем городе, не в нижнем.
— Ах, какое падение нравов! — воскликнула какая-то женщина. — Только подумать, в верхнем городе, там же приличные дети…
— Я кое-чего не понял, — сказал господин Сидди. — Откуда в верхнем городе снег?
— Снег ни при чем, — пояснил Шепард. — Про снег господин Шу тоже наврал, на самом деле дети кидались каким-то говном… что, вправду говном?
За столом захохотали.
— Мне нездоровится, — сказал Шу и покраснел. — Я пойду.
— Любому не поздоровится, когда обосрали, — сказал офицер, который помоложе, и тоже засмеялся.
— Это было не со мной! — воскликнул Шу. — История не моя, я просто дал… гм… пересказ!
За столом снова захохотали.
— Назовите имя, молодой человек, — потребовал Мементо. — Пересказ ваша история или не пересказ — всем плевать, а с богами шутить не стоит. Я не хочу нести ответственность, если что-то испортится, оттого что боги обиделись за авторское право этого самого мальчика.
— А кстати, что такое авторское право? — спросил господин Сидди. — Мне доводилось слышать это выражение, но смысл каждый раз ускользал, а просить объяснить раньше было неудобно.
— Авторское право — очень простая и изящная концепция, — стал объяснять Мементо. — Многие думают, что это пустое суеверие, но эти люди неправы, и пусть боги их судят. Главная идея такая — каждый, кто придумал что-то хорошее и полезное, должен получать благодарность, соразмерную пользе от придуманного. Благодарность может быть любой: можно денег дать, можно услугу оказать, можно за изобретателя богам помолиться, главное — на каждое добро надо отвечать добром. А если не ответишь, пусть даже по забывчивости — жди неудачи, боги такое не любят.
— Теперь понял, — кивнул господин Сидди. — Да, генерал, мне нравится эта концепция, она разумна и справедлива. Шу, будьте любезны, назовите имя мальчика.
Шу посмотрел господину Сидди в глаза и понял, что придется говорить правду.
— Мюллер, — выдавил из себя Шу.
— О, какое интересное имя! — сказал господин Сидди. — По-моему, оно что-то означает на древнем языке.
— Мельник, — подсказал кто-то.
— О, всего-то, — разочарованно вздохнул Сидди. — Мементо, адрес мальчика вам нужен?
— Нет, не нужен, — помотал головой генерал. — Имени вполне достаточно, дальше боги сами разберутся.
— Вот и отлично, — сказал Сидди. — Шу, вы говорили, вам нездоровится. Я вас больше не задерживаю.
Шу встал и вышел из-за стола. Никто с ним не попрощался, а когда он покидал дом господина Сидди, он сообразил, что на этот раз раб-распорядитель не вручил ему записку с датой и временем следующей встречи. Дружба с племянником императора внезапно и бесславно закончилась. А во всем виноват Мюллер!
Шу остановился, задрал голову к небу и завыл. Луна была полной, Шу подумал, что со стороны он похож на оборотня.
— Мюллер — сука! — крикнул Шу и потряс в воздухе кулаками.
— Сам ты сука, — ответил ему незнакомый тенор, глубокий, звонкий и какой-то нечеловеческий.
Шу повернулся на звук и заметил в подворотне напротив смутную тень.
— Ты кто? — спросил Шу.
Тень хмыкнула и шагнула вперед, под лунный свет. Откинула капюшон и спросила, явно подразумевая что-то ироническое:
— Не узнаешь?
Шу пригляделся и не узнал. А потом пригляделся внимательнее и ахнул.
— Отец Мюллера? — спросил он. — Настоящий отец?
Вышедший из тени мужчина действительно походил на Мюллера, как отец походит на сына. Роста такого же, но в плечах шире, волосы не острижены в кружок, как принято у подростков, а ложатся волнами на плечи. Довершают облик усы и короткая бородка. Именно из-за них он не узнал его с первого взгляда, очень сильно меняют внешность усы и борода.
Незнакомец улыбнулся, кивнул и сказал:
— Мюллера в том числе.
Откинул волосы со лба, провел руками вдоль висков и сказал:
— Представь меня без бороды.
Шу долго глядел на него, затем помотал головой из стороны в сторону и решительно заявил:
— Нет, это невозможно. Да, сходство есть, но оно противоречит канонам! Боги не ходят по улицам, это ересь!
Незнакомец улыбнулся и стал еще больше похож на Птаага. У смертного не встретишь такой понимающей и милосердной (до определенного предела) улыбки, зато в какой храм ни зайдешь, там обязательно со стены Птааг смотрит и лыбится именно так. Правда, на иконах он гладко выбрит.
— Грешники тоже по улицам долго не ходят, — сказал человек, похожий на Птаага, и нахмурился, так что стало очевидно, что доброта и милосердие Птаага не беспредельны. — Почто детей обижаешь?
— Так это… — замялся Шу. — Эти дети… сами… да они сами кого угодно обидят! Знаете, что они сегодня со мной сделали?
— Знаю, — кивнул Птааг. — Отличная идея, пригодится в военном ремесле, генерал Мементо меня уже поблагодарил.
— Так это вы…
— Ничто не приходит без божьего благословения, — серьезно произнес Птааг. — А пути наши, божьи, неисповедимы, смысла не ищи, все равное не найдешь.
Шу начало трясти. До него только сейчас дошло, что он едва ли не первый подданный империи, удостоенный личной аудиенции…
— Губу не раскатывай, — сказал Птааг, прочитав его мысли. — Не ты первый, не ты последний. Люди встречаются со мной чаще, чем принято считать, они просто не рассказывают, в дурдом никому неохота. Невелика честь удостоиться божьего внимания, нечем тебе гордиться.
— Простите, — сказал Шу. — А этот… Мюллер… он вам… сын?
Птааг рассмеялся и сказал:
— Упаси другие боги! Нет, не сын. И вообще, не твое это дело, осознал?
— Угу, — кивнул Шу. — А… э…
Он хотел было поинтересоваться, за какой такой надобностью сам Птааг Милосердный соизволил заступиться за Мюллера, но понял, что прямо заданный вопрос, обращенный непосредственно к богу, прозвучал бы бестактно, и немудрено после такого угодить живьем в огненную геенну, подобно тому, как Митра и Илья угодили живьем на небо. Только одно обнадеживает — что богов человеческая бестактность расстраивает не больше, чем человека расстраивает матерно обругавший говорящий ворон. Но если сложатся определенные обстоятельства, лишится ворон головы только так, чтобы не обкладывал кого не следует.
Птааг наблюдал душевные терзания собеседника спокойно и с добродушной улыбкой. Дождался, пока затуманившийся от умственных усилий взгляд Шу чуть-чуть прояснится, и сказал добродушно:
— Верно рассуждаешь, червяк. Не по чину мне держать перед тобой ответ, а советов моих ты не заслужил. Будешь вспоминать о нашей встрече, дурилка, и не понимать, зачем я к тебе снизошел. И не поймешь, потому что ты червяк скудоумный.
Сказав это, Птааг отвернулся и сделал шаг в подворотню, и Шу понял, что еще два шага, и бог исчезнет, растворится в тени, тогда Шу набрался храбрости и отчаянно выкрикнул:
— Разрешите вопрос, ваше… гм… всемогущество…
Птааг остановился, склонил голову набок, как собака, прислушивающаяся к попискиванию крысы в помойке, и вдруг рассмеялся.
— А интересно! — сказал он, отсмеявшись. — Что-то в этом есть. Предвестник конца всего сущего, первый из восьми коней… да хоть и не первый… Знаешь, смертный, однозначно неверной твою точку зрения не назовешь. А вот об этом лучше не думай, Мюллер умрет — мир прекратится вместе с ним. Субъективным идеализмом владеешь?
— У меня в институте было посредственно по «философии», — смущенно ответил Шу.
— То-то и оно, что посредственно, — кивнул Птааг. — Тогда точно не поймешь. Все, пошел.
Но реально пошел не Шу, а Птааг. У Шу ноги будто приросли к брусчатке мостовой, каждую мышцу вроде чувствует, а пошевелить не может. А Птааг шагнул обратно в подворотню, да и растворился в тенях.
Минут через пять Шу смог сойти с места. А еще минут через десять он обнаружил себя в круглосуточной таверне. Это было разумное решение — не каждый день с тобой беседует бог, такое событие надо обмыть. Если бы он еще сказал что-нибудь разумное, чем можно похвастаться, или знак оставил… А так расскажешь кому-нибудь, а подтвердить нечем, немудрено и в дурдоме оказаться…
Этой ночью Шу напился. Такого с ним не бывало с самого выпуска, еще вчера он твердо знал, что учителю такое недопустимо, потому что мешает увлекать личным примером молодое поколение к потребному поведению. Но тогда он еще не разговаривал с богом, а как встретил бога на улице — сразу рука к стакану потянулась.
К вечеру следующего дня Шу стало казаться, что визит Птаага случился не наяву, а во сне либо в пьяном бреду. А еще на следующий день он был убежден, что не сначала к нему явился Птааг, а потом он напился, а наоборот: сначала напился, а потом явился Птааг и велел не трогать Мюллера. Мюллера, кстати, Шу больше не трогал, и Мюллер его тоже не трогал, между ними возникло негласное перемирие — Мюллер не строил пакостей Шу, а Шу не стремился воспитывать Мюллера. И когда на следующий год Мюллеру потребовалась характеристика в университет, Шу сделал ему хорошую добрую характеристику, ни словом не упомянув ни об особенностях характера, ни о прошлых безобразиях. А потом для Мюллера прозвенел последний звонок, и Шу забыл его как страшный сон.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. УНИВЕРСИТЕТ
1
В любом большом городском районе, в том числе и в верхнем городе Палеополиса, есть места более приличные и места менее приличные. Обитателям трущоб весь верхний город представляется одним сплошным раем, но это обманчивое впечатление, внимательный взгляд замечает, что роскошные дворцы стоят на высоких террасах, а дальше от вершин и ближе к побережью постройки выглядят меньше, проще и неказистее. А если пройтись взглядом с востока на запад, то в самом конце, перед заставами, взгляд спотыкается о квартал, слишком похожий на трущобу и явно неуместный в фешенебельной части Палеополиса. Это имперский университет.
Когда император Марк Философ основал это заведение, оно считалось проектом национального масштаба, и главное здание университета смотрелось не в пример солиднее — высокое, красивое, густо утыканное барельефами и скульптурами, а сверху торчал позолоченный шпиль. Но на следующий год случился пожар, барельефы и скульптуры потрескались, а центральная башенка обвалилась, ее с тех пор так и не восстановили. А потом Биф Печальный, сменивший на троне Марка Философа, заявил, что сколько золота ни вкладывай в народное просвещение, все пропьют или разворуют, а типичному студенту все равно, чем украшены стены альма-матер — прекрасными барельефами или похабными картинками. Бестолковая молодежь портит все, до чего дотянется ручонками, и это касается не только портовых оборванцев, но и отпрысков приличных семейств, в последнем Биф лично убедился, попалив однажды сына за развешиванием соплей на спинке императорского трона. Биф сократил финансирование университета вдвое, его преемник Сван Отмороженный (тот самый, что в детстве вешал сопли на папин трон) — еще вдвое, после этого обитель наук перестала быть украшением столицы и окончательно превратилась в очаг порока. При Теренсе Благочестивом университет даже ненадолго закрыли, но пришлось открыть снова, потому что ритуал обретения дипломов юношами, как оказалось, очень важен для высшего общества, и если этот ритуал отменить, последствия могут быть непредсказуемы. Кроме того, бордели и наркоманские притоны, по обычаю сосредоточенные в студенческом квартале, стали расползаться по верхнему городу, и это начало пугать обывателей.
В Палеополисе считается, что всякий юноша из приличной семьи, не являющийся ни инвалидом, ни идиотом, должен к двадцати двум годам окончить либо университет, либо военное училище. Это правило не является непреложным, но если какой-нибудь землевладелец или промышленник решится его нарушить, сэкономить на воспитании детей, он скоро заметит, что на бездипломных юношей (да и на их отцов тоже) в обществе смотрят косо. Это касается только столицы, в других городах империи университетов нет и образование там необязательно, хотя не возбраняется отправить сына за дипломом в столицу, это считается хорошим делом, так поступают многие, у кого есть деньги.
Нет никаких сомнений, что университет Палеополиса — самое демократичное место во всей империи. Здесь не обращаются друг к другу по титулам, и если сам император вдруг пожелает посетить эту часть своих владений, любой студент или профессор сможет невозбранно сидеть или даже лежать в присутствии монарха, не испрашивая разрешения. Все студенты обращаются друг к другу на «ты», а принцы, в разное время обучавшиеся в этих стенах, много раз получали по морде, кое-кому даже зубы выбивали, и никого за это не наказывали. Наказать студента трудно, городская стража допуска в университет не имеет, а если кто случайно забредет — сам тут же огребет, прямо на месте. Администрация университета не видит нужды ни в стражниках, ни в штатных палачах, как в школах. Считается, что студенчество — самый подходящий возраст, чтобы переболеть свободой и вольнодумством, а потом, выпустившись и получив диплом, навсегда забыть о дурной юности и стать нормальным имперским подданным. Но пока диплом еще не получен, бухать и развратничать можно без ограничений, а буянить — с ограничениями, но не слишком обременительными.
Университет включает в себя семь факультетов: богословия, общей мантики, астрологии, философии объективной, философии субъективной, философии натуралистической и медицины. Для нормального юноши, не глупого и не злоупотребляющего наркотиками, обучение обременительно только финансово, а мозги напрягать в ходе учебы почти не приходится. Каждый день отсиживать три часа на лекциях, а потом два раза в год вызубривать прослушанное — невелика наука. Главное — дотерпеть до конца, не спиться, не влипнуть ни в уголовщину, ни в экстремизм, получить вожделенный диплом в комплекте со значком и перстнем, и добро пожаловать в высшее общество. Дотерпеть нелегко, но оно того стоит, университетский диплом — великая вещь. Двум дипломированным людям всегда есть о чем поговорить, и если вдруг встретишь герцога или принца у дворца, и обстоятельства потребуют завести беседу, достаточно просто спросить:
— А вы, ваша светлость, зачет Слотеру по темным богам с какого раза сдали?
И теперь можно непринужденно болтать целый час и потом расстаться друзьями. Очень полезная вещь высшее образование.
Но медицинский факультет стоит особняком. Потому что образование, получаемое на медфаке, предназначено не только для приведения мозгов в порядок, но может непосредственно применяться на практике, если выпускник вдруг обеднеет и будет вынужден зарабатывать на жизнь трудом, как простолюдин. Эта практическая направленность неблагородна и сильно портит имидж факультета, из-за этого обучение на медфаке стоит дешевле всего, поступают сюда юноши менее благородные и богатые, и диплом медика ценится в обществе совсем не так, как диплом философа или астролога. Но это не означает, что медфак готовит знахарей, нет, его выпускники сами скальпелем никого не режут, даже те медики, которых жизнь заставляет работать, работают по-другому. Составляют гомотоксикологические микстуры, благословляют костоправный инструмент, налагают заговоры, самые отчаявшиеся могут заняться иглоукалыванием, но операций сам лично никто не делает и кости не вправляет, этими делами занимаются знахари из простонародья, а образованному дворянину такое непристойно.
На втором курсе медфака учились два закадычных друга, одного звали Ким, другого Мюллер. До того, как стать студентами, они были одноклассниками и уже тогда дружили. Ким был высоким, широкоплечим и неимоверно мускулистым — в последнем классе увлекся тяжелой атлетикой, а ко второму курсу раскачался так, что если встретишь в темном переулке, немудрено обгадиться. Рядом с ним Мюллер казался задохликом, хотя ничего особо дохлого в нем не было, парень как парень, не высокий, не низкий, не толстый, не тонкий, короче, ничего необычного.
Очень разные были эти парни, непохожие один на другого, даже удивительно, как им довелось так тесно сдружиться. В начале первого курса разнесся слух, что Ким и Мюллер — парочка влюбленных педиков, но долго он не продержался, потому что любому дураку ясно, что на педиков Ким и Мюллер не похожи, особенно Ким. Но все же странные они: Ким веселый, озорной и все время улыбается, а Мюллер мрачный, замкнутый и глядит исподлобья, но ходят всюду вместе, понимают друг друга с полуслова и никогда не ссорятся.
Мюллер относился к тем студентам, которых другие студенты называют ботаниками. Круглым отличником он не был, но был очень близок к тому. Сам Мюллер говорил, что никогда ничего не зубрит, а запоминает лекции со слуха раз и навсегда, дескать, у меня такая необычная способность, в детстве вообще все подряд запоминал, а теперь только лекции. Но все знали, что он врет, потому что как-то раз Мюллер поспорил с Морисом Пилой, что Морис назовет подряд сто случайных чисел, а Мюллер через час их повторит без ошибки, а реально Мюллер через час ни хрена не повторил, проспорил. А в другой раз толстожопая Пенни из борделя тети Глаши пропалила Мюллера, что тот сидит на скамейке в парке и читает ученую книгу с медицинскими картинками, а когда самого Мюллера спросили, правда ли это, он сказал, что правда, но, дескать, ничего в тот раз не зубрил, а просто из любопытства читал книгу, типа, интересно. Тим Горячее Ухо, когда услышал это, сказал, что тоже хочет посмотреть, что за чудо такое — книга, читать которую интересно. Мюллер показал ему эту книгу, но она оказалась обычным унылым медицинским чтивом. Тим обозвал Мюллера лжецом, Мюллер разозлился, откуда ни возьмись появился Ким, напал на Тима и избил, потом извинился, дескать, обознался, а Тим затаил обиду, но это уже совсем другая история.
Другой отличительной особенностью Мюллера была удачливость. На экзаменах почти всегда ему доставались легкие билеты, даже списывать не приходилось, а в тех редких случаях, когда удача отворачивалась от него, потом всегда выяснялось, что это просто показалось, а на самом деле удача вовсе не отвернулась. Например, когда они сдавали военное ремесло, Мюллеру попался убойный билет про флажковую и дудочную сигнализацию, а нормальному человеку эти коды не только запомнить, но и переписать трудно без ошибок, так что многие по ним даже шпаргалки не делали. Мюллер хотел было тянуть второй билет, а потом решил рискнуть. Не стал ничего вспоминать, а выдумал свой собственный флажковый код, очень похожий на правильный, но другой, препод-то без шпаргалки тоже не помнит, какой флажок что означает, и в итоге все прошло как по маслу, а как дошли до дудок, так Мюллер только два раза успел продудеть, дальше препод не выдержал, поставил «отлично» и прогнал, дескать, вот тебе оценка, только заткнись и больше не дуди. А что в билете был еще второй вопрос, про боевые характеристики стреломета «Скорпион» — про это препод забыл, а Мюллер напоминать не стал. А когда сдавали материалистическую философию, Мюллер провалился, и кое-кто подумал, что наконец-то ему не повезло по-настоящему, ан нет. На пересдаче препод раздал билеты и сразу вышел, в нужник, наверное, а неиспользованные билеты оставил на столе, и даже не переписал, кто что вытянул. Мюллер, не будь дурак, порылся в кучке, достал с третьего раза хороший билет, а свой, плохой, положил назад в кучку, и все прокатило. Сам Мюллер, когда его спрашивали о причинах удачливости, говорил, что никаких особенных свойств у него нет, просто он предприимчив и решителен, вот боги ему и благоволят. Но в это мало кто верил, большинство полагали, что Мюллер лукавит, а на самом деле и предприимчивость, и решительность не являются первопричинами его удачливости, а напротив, проистекают из нее. Впрочем, кто чья первопричина — ведомо только богам, да и то не факт.
Однажды Ким с Мюллером зашли в подъезд одной общаги, и Ким стал показывать Мюллеру, какой он сильный. Засунул палец в декоративное отверстие в почтовом ящике какого-то бедолаги, напрягся и выломал крышку к чертям. Мюллер тоже попробовал, но не осилил, только палец оцарапал, а потом сунул сразу два пальца в два декоративных отверстия и все-таки выломал крышку. Тогда Ким разломал третий ящик не средним пальцем, а безымянным, Мюллер понял, что не сможет так, и сказал:
— А давай их подожжем!
Ким разломал еще два ящика, они свалили почту на циновку и подожгли, и циновка тоже загорелась, потому что оказалась бумажная. Но когда она загорелась, Ким с Мюллером не испугались, а сказали друг другу, что так прикольнее, и пошли прочь. Смотреть, как пожар будут тушить, они не стали, удачливость удачливостью, но разумную осторожность никто не отменял. Налетит десяток старшекурсников-богословов — никакой Птааг не поможет.
Про свои отношения с Птаагом Мюллер никому не рассказывал. Причин тому было две — стеснялся и боялся сглазить. Стеснялся он, что качества, выгодно отличающие его от других людей, на самом деле не совсем ему принадлежат, а как бы взяты взаймы. Попросил Птаага — Птааг дал, а если в другой раз не даст? Не дай бог сглазить. Тем более, в священных писаниях есть истории, как кто-то получал от богов какую-то милость, начал хвастаться и тут же всего лишился. Там, правда, не Птааг участвовал, а Митра и еще какой-то бог, но все равно, береженого боги берегут, а небереженого стражники стерегут, как говорили в Мюллеровом портовом детстве.
Мюллер старался не злоупотреблять своей сверхспособностью. Он обращался к Птаагу нечасто и всегда как бы шутя, понарошку, дескать, не ответишь, ну и не больно-то хотелось. Не потому что Мюллер хотел выразить пренебрежение богу, совсем наоборот, Мюллер не хотел раздражать его пустяковыми просьбами, вот и обращался несерьезно. Другой бы счел на месте Мюллера такое отношение дерзостью, но Мюллер решил, что раз Птаага называют мудрым и милосердным, то пусть соответствует, его никто за язык не тянул, когда он восхвалял свою мудрость перед каким-то там пророком. А иногда Мюллеру казалось, что никакого Птаага нет на свете, а те случаи, когда он помогал своим избранникам — просто удачное стечение обстоятельств, щедро сдобренное галлюцинациями. На первом курсе после зимней сессии Мюллеру даже стало казаться, что он сходит с ума от умственного перенапряжения, тогда он пошел в библиотеку, взял книгу по душевным болезням, прочел от корки до корки и убедился, что с ума не сходит. Но когда он сдал книгу библиотекарю, Мюллеру стало казаться, что он упустил в ней что-то важное, что там могли быть дополнительные страницы, которые он случайно перелистнул, или записи между строк, или тайные закономерности в буквах и декоративных закорючках. А потом Мюллер сообразил, что последние его мысли хорошо вписываются в клиническую картину сумасшествия, а раньше, когда он ничего не знал о душевных болезнях, таких мыслей не было, а теперь появились, следовательно, книга не принесла пользы, а принесла только вред, и кто ее знает, может, она заражает безумием, подобно тому, как неправильно благословленный скальпель заражает столбняком… Кто знает, к чему привели бы его эти мысли, если бы Мюллер не отвлекся на какой-то пустяк и не забыл бы о них на время. А когда вспомнил в другой раз, страх перед безумием прошел, и Мюллер решил, что про душевные болезни читать больше не будет, и вообще на все воля божья, и нечего тут беспокоиться.
Иногда Мюллер думал, что хорошо было бы, если бы Птааг исполнял каждую его молитву немедленно и точно, как мифический пещерный джинн исполнял повеления босоногого оборванца Аладдина. Мюллер на его месте не повелел бы строить дворцы. К двадцати годам Мюллер твердо уяснил, что счастье — не состояние, а процесс, и желания надо загадывать соответственно. Не сразу гигантский дворец, а помаленьку, по чуть-чуть, чтобы каждый маленький шаг к светлому будущему приносил немножко незамутненного счастья, чтобы душа не переполнялась положительными эмоциями и не грубела, как у наркоманов, чтобы божье благословение не портило личность, а развивало. Что, однако, не запрещает время от времени потратить час-другой на низкие развлечения — набухаться или, например, поджечь что-нибудь.
Но это мечты, а в реальности Мюллер никогда твердо не знал, поможет ли ему Птааг в каждом конкретном случае. Верить верил, но твердо не знал. Потому Мюллер на Птаага надеялся, но и сам старался не плошать, соблюдал разумную осторожность, нарушал законы и обычаи не непрерывно, а от случая к случаю, а когда нарушал, старался не попадаться. И Птааг в целом ему помогал.
Одно время они с Кимом повадились воровать пирожки и вафельные трубочки у лоточников на базаре. Такое развлечение пристойно недорослям, а не двадцатилетним оболтусам, и вскоре базарные продавцы стали показывать пальцем на Кима и Мюллера и крутить пальцем у виска, но ребят это не смущало, они только смеялись. Они развлекались воровством целый день, и никто не поймал их за руку, и Ким думал, что причиной тому удача Мюллера, Мюллер думал, что помогли молитвы Птаагу, а обкраденные продавцы думали, что обидеть юродивого — все равно что прогнать удачу, так что пусть лучше два дурака воруют невозбранно.
В другой раз Мюллер шел по коридору альма-матер мимо доски объявлений и решил остановиться, почитать. И прочел, что какой-то философ, чье имя Мюллер не стал запоминать, в такое-то время в такой-то аудитории будет объявлять для одаренных студентов спецкурс по какой-то неведомой патепатике.
— Патепатика, — повторил Мюллер вслух. — Прикольно.
— Что такое? — заинтересовался подошедший Ким.
— Патепатика, — еще раз повторил Мюллер. — Для одаренных студентов.
— Может, перипатетика? — предположил Ким.
— Нет, патепатика, — сказал Мюллер. — А, нет, математика.
— Хрен редьки не толще, — сказал Ким. — Ладно, пойдем, посмотрим.
Они пришли в назначенное время в назначенное место и были сильно удивлены увиденным.
— Я не знал, что у нас учится столько ботаников, — сказал Мюллер.
— Ты не одинок, брат! — сказал Ким, хлопнул Мюллера по спине и засмеялся.
Мюллер подумал, не обидеться ли ему, но решил не обижаться, а тоже засмеялся.
Они уселись на задний ряд у окна и стали ждать. Очень долго ничего не происходило, Мюллеру стало скучно. Он выглянул в окно и сказал:
— Высоко тут.
Просто так сказал, без задних мыслей, просто чтобы поддержать разговор.
— Давай какого-нибудь ботаника в окно выкинем, — предложил Ким.
Мюллер поежился. Однажды они с Кимом перепили, и тот порывался выбросить из окна Мюллера, потом сказал, что шутил, но Мюллер не был уверен, что он шутил. С тех пор слова «выкинуть в окно» вызывали у Мюллера нервную реакцию. Хотя, с другой стороны…
— Может, стул? — предложил Мюллер.
Они поставили стул на подоконник и вытолкнули наружу. Стул падал долго и неторопливо, равномерно вращаясь вокруг горизонтальной оси, так что спинка описывала круги сверху вниз. А когда ударился о землю, не разлетелся мелкими деревяшками в разные стороны, а просто сложился с громким хлопком.
— Прикольно, — сказал Мюллер.
— Прикольно, — согласился Ким.
А потом в аудитории появился взбешенный профессор и стал орать, дескать, кто это сделал, таких студентов надо отчислять, пусть признается сам, и все такое прочее. Ботаники нервно поглядывали на Кима с Мюллером, и не будь Ким столь мускулист, может, и заложили бы. Но Мюллер помолился Птаагу, и пронесло, никто их не заложил.
Профессор покричал-покричал и утомился. Стал рассказывать про свою математику, и было это так уныло, что народ начал расходиться уже минут через пять. Ким с Мюллером покинули аудиторию в числе первых.
— Говно какое-то эта математика, — сказал Ким.
— Угу, — сказал Мюллер.
— А стул прикольно летел, — сказал Ким.
— Угу, — сказал Мюллер.
Тогда Ким понял, что Мюллер не хочет поддерживать разговор, и заткнулся.
С западной стороны университет вплотную примыкает к портовым складам, их разделяет стена верхнего города, но она совсем хлипкая, скорее символ стены, чем стена. Кое-где ее вообще нет, ушлые промышленники разобрали ее на кирпич и камень. Так что изнутри университетского городка несложно пробраться на какой-нибудь склад и что-нибудь там украсть либо нахулиганить. Разжиться ценным так не получится, ценные товары охраняют, а какую-нибудь ерунду попереть — запросто. Обычные студенты такими делами не занимаются, надо быть совсем отмороженным, чтобы рисковать судьбой ради столь сомнительного развлечения. Но Ким и Мюллер не были обычными студентами. Мюллер полагал, что в случае чего его спасет Птааг, а Ким полагал, что его спасет удача Мюллера. Они тупо не верили, что могут спалиться. Кроме того, почти все дырки в стене, что они находили, вели в никуда либо на пустые заброшенные склады, где воровать нечего.
Однажды рядом с одной такой дыркой они нашли запертый сарай, замок был хлипким, и Ким легко сломал его подобранной неподалеку ржавой железкой. Внутри сарая нашли кучу бесполезного хлама и средних размеров амфору с резко пахнущей жидкостью. Ким стал говорить, что это, наверное, жидкость для разведения колдовского огня, в котором горит железо и который не тушится водой, и с помощью этой жидкости можно устроить офигенный пожар. Мюллер засомневался, но решил попробовать, они попробовали, но это оказалась всего лишь испорченная вода, и ничего не загорелось. Мюллер предложил идти по домам, Ким согласился, но по дороге заволновался, дескать, нас будут искать стражники с собаками, надо сбить собак со следа, было очевидно, что он бредит, но Мюллер подумал, что сбивать собак со следа будет весело, и некоторое время они занимались этим дурацким занятием. Как оно делается, никто толком не знал, но все равно было весело. На следующий день Ким сказал, что они хорошо запутали след, раз их не нашли, и Мюллер согласился. Хотя это был, конечно, полнейший бред, ежу ясно, что никто их не искал, потому что никому они на фиг не сдались, а искали бы — непременно нашли, и помочь смог бы только Птааг, да и то не факт.
А потом они нашли тайник. В одном месте стена верхнего города разрушилась изнутри, как гнилой зуб, от нее остались только тонкие кирпичные стенки, наружная и внутренняя, а гравийно-земляное наполнение вымыло дождями через промоину, так что внутренность стены превратилась в нечто вроде ущелья. Посреди этого ущелья вырос дуб, из-за необычных условий он больше походил на пальму, чем на дуб — длинный голый ствол, не бугристый и не узловатый, как у нормального дуба, а почти прямой, а наверху, где уцелевшие части стены не заслоняют солнце, распустилась полукруглая шапка листвы, как у пальмы. Кима почему-то прикололо залезть на этот дуб, они залезли и нашли в кроне тайник.
— Опаньки, — сказал Ким, когда его рука наткнулась на шелестящую бумагу. — Мюллер, ползи сюда быстрей, я что-то нашел!
— Пиратское сокровище? — поинтересовался Мюллер.
— У тебя в штанах, — ответил Ким и глупо заржал. — Сверток какой-то… Ух ты!
Внутри свертка оказалась сушеная конопля. Да не та беспонтовая конопля, что растет на каждом пустыре и годится только на веревки, а драгоценная заморская конопля, которой набивают деревянную трубку или бумажный кулек, с одного конца поджигают, а с другого вдыхают дым и торчат. Но это строго запрещено, не потому, что вредно для здоровья, а правительство беспокоится, совсем нет, просто некоторые любители попыхать травяным дымом занимаются этим делом внутри собственного жилища, а иногда даже в постели, хотя каждый знает, что от этого может произойти пожар. С тех пор, как модная привычка дышать дымом распространилась в Палеополисе, она стала причиной трех больших пожаров, вот император и издал указ за потребление адского зелья сечь кнутом, а за производство и распространение — лишать свободы и продавать с аукциона на заморские плантации.
Здесь уместно отвлечься от основного повествования и рассказать об экономической обстановке в самой империи и ее заморских владениях. За последние пять лет эти самые владения достигли невиданного расцвета, теперь оттуда стали привозить не только редкости и драгоценности, но и простые повседневные товары наподобие зерна и шерсти. Гавань Палеополиса вечно забита кораблями, и это не шхуны и триремы, как раньше, а огромные толстобрюхие галеоны и сопровождающие их хищные фрегаты и бриги, красивые до невозможности, как красиво любое хорошее оружие. Почти у всех кораблей на мачте развевалось два флага: имперский и пиратский, потому что почти все капитаны до недавнего времени были пиратами, а когда император объявил амнистию, поступили на имперскую службу, и империя в одночасье обрела сильнейший в мире флот. Дисциплина, впрочем, на флоте хромала, обычным делом были массовые драки между матросами разных эскадр, а однажды два фрегата устроили артиллерийскую дуэль прямо у входа в бухту Палополиса. В тот раз император приказал повесить победивший экипаж на реях до последнего человека, но приказ не выполнили, потому что фрегат-победитель покинул гавань, а капитан-победитель цинично прокричал в матюгальник, как и на чем он вертел имперскую службу, и что отныне он будет топить все имперские галеоны, пока не получит извинения и компенсации за моральный ущерб. Но ни одного галеона он не потопил, его самого потопили вчерашние товарищи в первом же бою.
Те немногие отчаянные головы, которые переселились за море первыми и умудрились остаться в живых, стали жить как короли. Даже самый последний простолюдин в колониях имел не менее десятка черножопых рабов, и ни одному белому человеку не приходилось самому копаться в земле или пасти скотину, все бухали и веселились, а если кто и служил в военном ополчении или, скажем, бухгалтерской конторе, то не из нужды, а от скуки, потому что если все время бухать, веселиться и не делать ничего полезного, веселье приедается и для здоровья это не полезно. Жить белому человеку за морем — все равно что жить в раю, и когда эта весть распространилась в Палеополисе, в заморские земли повалил людской поток.
И когда этот поток превысил критическую величину, все изменилось. Старожилы колоний забыли свое прославленное гостеприимство, стали гордыми и заносчивыми, на новых переселенцев смотрели как на говно, даже жаргонное выражение появилось «белый мусор». Огораживали плантации колючими изгородями, а если кто-нибудь, например, примется жрать малину с наружной стороны, на такого нападали черножопые охранники, избивали и прогоняли. Ходили упорные слухи, что черножопые громилы с дубинами, когда никто их не видит, отлавливают на дорогах белый мусор, мужчин убивают и съедают, а женщин и девочек сначала насилуют, а потом тоже убивают и съедают. То и дело какой-нибудь белый нищеброд уходил в запой, не сказав жене, та поднимала галдеж, ополченцы опоясывались мечами, хватали первых попавшихся черножопых и вешали на первом попавшемся дереве, а иногда еще пытали перед тем, как повесить. А потом виновник скандала выходил из запоя, все понимали, что черножопых повесили зря, и смущались. Хуже всего, если повешенный черножопый оказывался ценным рабом знатного плантатора, так и самому недолго в петле повиснуть. Впрочем, такие случаи были редки.
Надо сказать, что заморские колонии бывают двух видов. Те колонии, что расположены от метрополии на юг и юго-восток, покрыты густейшими заболоченными чащобами, кишат гнусом и паразитами, из полезных растений там растут только экзотические пряности, а из скота живут только кролики и свиньи, а все прочие дохнут от лихорадки и паразитов. Есть там такие нездоровые места, что белый человек может жить в них только вечно пьяным, а если воздержишься от вина хотя бы на полдня — сразу заболеешь и потом в лучшем случае помрешь через неделю, а в худшем — будешь мучаться года два, а потом все равно помрешь. Единственная ценность южных колоний — черножопые дикари, неприхотливые и смирные, самая дорогая в мире скотина, мечта любого рабовладельца. До недавнего времени торговля черножопыми рабами была самым прибыльным из всех торговых занятий. Поначалу пираты-работорговцы сами совершали рейды в тропические леса, а потом кто-то догадался, что рабов можно покупать у их собственных соплеменников, расплачиваясь самогоном, и все шло отлично, пока вдруг внезапно не оказалось, что южные леса в одночасье обезлюдели.
Западные и юго-западные колонии, в противоположность южным, плодородны и климат там здоровый. Все сельскохозяйственные культуры отлично растут там, и скотина всех видов замечательно плодится, и самым первым первооткрывателям эти земли показались раем небесным, из-за этого даже случилось несколько глупых недоразумений, одного матроса, например, насмерть загрыз лесной кот, потому что матрос решил, что райские коты здесь неопасны, а сам матрос бессмертен. Любой имперский крестьянин был бы счастлив обрабатывать сверхплодородную райскую землю, но селились здесь главным образом не пираты и авантюристы, а крестьяне, которые сюда попадали каким-то образом, быстро понимали, что райскую землю не обязательно обрабатывать самостоятельно, удобнее купить рабов, и пусть они горбатятся, а ты бухай и веселись. И все шло хорошо, пока источник рабов не истощился.
Разные рабовладельцы по-разному отреагировали на это известие. Некоторые сказали своим управляющим, что рабы отныне не просто ценное имущество, а очень ценное, и беречь его надо не как раньше, а со всем тщанием. Вешать только неисправимых, а исправимых наказывать, но без фанатизма, и за каждый случай порчи имущества надсмотрщик несет персональную ответственность. И еще он несет ответственность за равномерное и справедливое распределение труда между рабами, а то заводят себе любимчиков, чтобы потрахать, а остальных эксплуатируют на убой, теперь это недопустимо. А если кого признали неисправимым, такого надо не вешать, а распинать либо сжигать живьем, чтобы воспитательное действие было эффективнее.
Но прогрессивных рабовладельцев было немного, большинство не изменили свой образ жизни ни в какой малости. Они рассудили просто: нет рабов? Надо добыть! А где? Аборигены западных земель малочисленны, нездоровы и не слишком хорошо годятся в рабы. Зато в метрополии полно всякого сброда! Вон, в столице нижний город, каждого второго можно хватать, сажать в цепи и везти за море. Да и в самих колониях до едреной матери белого отребья, порабощай не хочу.
Раньше в колониях считалось, что все белые люди друг другу как братья, и порабощать белых неприлично. Но когда потребность в рабах стала нестерпимой, этот обычай забыли в считанные недели. Вольных поселенцев повсеместно отлавливали и порабощали, а кого не могли поработить, тех убивали. Кое-кто пытался партизанить по лесам, но долго это не продлилось, армия черножопых надсмотрщиков подавляла мятежи быстро, уверенно и со зверской жестокостью. А когда плантаторы поняли, что белого мусора больше нет, а рабов по-прежнему не хватает — собрали съезд и постановили бить челом императору, чтобы предоставил живой товар в потребном количестве.
Ознакомившись с петицией, император поначалу недоумевал и ругался, а потом разобрался и обрадовался, потому что понял, как сделать, чтобы тюрьмы были не убыточны, как раньше, а прибыльны. Надо провести приватизацию преступников, распродать их из государственной собственности частным рабовладельцам. И как только император издал соответствующий указ, для городских оборванцев настали черные дни. Идешь по улице, никого не трогаешь, вдруг хряп по башке, открываешь глаза, а ты уже в трюме, и поздно уже плакать, грозить и умолять. Когда беззаконие поставлено на поток, ты хоть обвопись, никто не услышит.
Ни Ким, ни Мюллер не задумывались, чем и как рискуют, совершая свои дурацкие вылазки за стену. Про новые законы они знали, но воспринимали их только как источник анекдотов, а не как реальную угрозу для себя лично. Ким и Мюллер хорошо знали, что нынче едва ли не каждого преступника приговаривают к пожизненному рабству за морем, но сами-то они не преступники! Мало ли, кто чего нахулиганил или украл по мелочи, это ведь не считается! Преступники — не умные интеллигентные юноши, а помятые субъекты из портовых трущоб с крысиными мордами и волчьими глазами, с бритыми головами и в татуировках, с кинжалом за поясом и золотой серьгой в левом ухе. Вот это преступники, а Ким и Мюллер просто балуются, и любой судья, каким бы дураком он ни был, поймет это с первого взгляда. Кроме того, Мюллера бережет Птааг.
Однако вернемся к основному повествованию. Большой сверток с сушеной коноплей показался ребятам удачной находкой. Во-первых, траву можно употребить непосредственно, скурить, как говорят знатоки этого дела, а что останется — продать с выгодой. И отвечать за кражу не придется, потому что если кто захочет их обвинить, он должен будет сначала признать себя владельцем запретного товара, а на такое нормальный человек не пойдет. Правда, при продаже можно самим спалиться как производителям, надо хорошенько продумать, как и кому траву продавать и стоит ли вообще ее продавать или лучше самим все скурить до последней травинки.
— Курнем? — предложил Ким.
— Прямо здесь? — удивился Мюллер.
— А что? — пожал плечами Ким. — Думаешь, снаружи безопаснее?
Мюллер подумал и решил, что снаружи не безопаснее. В любой момент может явиться хозяин товара и предъявить за беспредел, но совершенно невероятно, что он заявится прямо сейчас, а дымок отсюда никто не увидит, остатки стены прикрывают со всех сторон, надо только с дерева спуститься, а внизу, под корнями, вполне можно курнуть. Да, здесь точно безопаснее, чем снаружи.
Ким оторвал от бумажного свертка широкую полосу, свернул трубку, так называемый косяк, засыпал внутрь траву, примял, раскурил, пыхнул, передал Мюллеру. Тот тоже пыхнул и передал Киму. И так далее.
2
Типичный житель Палеополиса смотрит на городскую стражу свысока. И во дворцах, и в трущобах любят рассказывать анекдоты про жадных и глупых стражников. Только когда обыватель сам сталкивается с преступным беспределом, тогда он и в глаза заглядывает, и заискивает, и подношения обещает, только потом никогда не исполняет эти обещания почти никогда. Или когда подозреваешь обывателя в незаконном промысле, тогда он тоже начинает смотреть снизу вверх, почтенным господином называет, взятки сулит… тьфу! А едва отстанешь, сразу из-за спины сново доносится, дескать, один умеет читать, другой писать, а этот вот ничего не умеет, вот и я тоже так думаю, гыгыгы…
Насколько обыватели презирают стражников, настолько и стражники презирают обывателей. Лучшие фраера подобны баранам, худшие — крысам. Наивный юноша, принимающий присягу, помимо всего прочего клянется служить и защищать, но вряд ли найдется во всей столице хоть один стражник, реально исполняющий эту клятву. Ибо для нормального человека главное в жизни — набить брюхо и потыкать в женщину. Если брюхо набито и половая жизнь хороша, тогда хочется семейного счастья и хорошего сына, а если и это есть, тогда, наверное, начинает хотеться соблюдать присягу и приносить пользу обществу. Но вряд ли во всей страже Палеополиса найдется хоть один настолько счастливый человек.
Том Заяц точно не был таким человеком. Он не голодал и с половой жизнью у него было все в порядке, но хорошую жену подобрать никак не удавадлсб. По службе стражник общается главным образом с шлюхами и прочим отребьем, а среди них пусть дураки жен ищут. А если вдруг подцепишь пригожую девицу в приличном обществе, на танцах, например, спросит она тебя, кто такой, а ты не знаешь, что ответить. Скажешь правду — сморщит носик и вежливо уйдет при первой возможности. Соврешь — все равно правда выплывет, будешь в ее глазах лжецом и мерзавцем. Чтобы стражник женился на хорошей девушке, должно случиться чудо. Время от времени оно случается, притом чаще, чем принято считать, но не слишком часто, и пока оно не случится лично с тобой, поверить в него трудно. Поэтому молодые стражники смотрят на жизнь цинично, и те, кто поглупее, топят страхи в вине и других примитивных удовольствиях, а кто поумнее — упражняются в добывании денег и укреплении авторитета. Поначалу от обоих упражнений толку немного, но проходят годы и как-то незаметно начинаешь замечать, что ты уже не мальчик, а матерый специалист, коллеги спрашивают у тебя совета чаще, чем ты у них, а взятки ты берешь настолько виртуозно, что больше не беспокоишься ни о моральном вреде, ни о других потенциальных опасностях. И вот ты уже не простой стражник, а ответственный уполномоченный, сделаешь еще один шаг наверх, глядишь, и подчиненные появятся, совсем большим человеком станешь. Но семейное счастье нельзя заменить профессиональными успехами.
К тридцати годам Том понял, что на одних взятках карьеру не сделать. Чтобы карьера пошла, начальство должно убедиться, что ты не только ловкий коррупционер, но и мастер своего дела. Взятки в городской страже берет каждый, а ловить преступников умеют далеко не все. И тем более не у всех получается ловить серьезных преступников, не карманных воришек, а, например, торговцев наркотиками в особо крупных размерах. Раньше этого вообще никто не умел, только после недавнего указа отлов наркоторговцев стал рентабельным промыслом, только мало кто это понял, да и поняли слишком поздно и не успели подготовиться к переменам. А Том все понял вовремя и подготовиться успел.
Едва прочитав про указ в газете, Том сразу направился в порт, купил пять фунтов сушеной конопли и положил в тайник. Если бы он распродал траву в розницу тем же вечером, и то неплохо бы заработал, потому как в течение дня цены на наркотики выросли втрое. Но Том не собирался размениваться на мелочи, у него был более хитрый план.
Он собрался полностью зачистить весь доверенный ему район от уличных банд. Методика зачистки была настолько же проста, насколько изящна — время от времени вбрасывать через осведомителей сведения о тайнике с наркотиками, а когда гопники пойдут на дело, брать очередную банду из засады с поличным. А взяв с поличным, зачесть вслух указ, подробно разъяснить, что кому светит, дать проникнуться, понаблюдать слезы, выслушать мольбы, а затем проявить милосердие и скостить за солидную взятку суммарный вес изъятого раз этак в сто. Это не сильно помогает, но простому неграмотному гопнику трудно поверить, насколько суров иногда бывает император, так что схема срабатывает на раз. И в итоге наркотик отправляется обратно в тайник, а гопники — в трюм галеона либо в высокую приемную с очень большой взяткой, это уж каждый сам пусть решает. Обыватели радуются, что мирная жизнь стала еще чуть более мирной, а Том получает от руководства еще одну благодарность. Последнее как раз и является целью замысла. Том не был настолько наивен, чтобы всерьез рассчитывать надолго избавить район от преступников. Он отлично знал, что на место каждого посаженного бандита приходят двое-трое из молодой шпаны, дерзкой, бестолковой и отмороженной на всю голову, так что толковый уполномоченный не вычищает из района старых урок, а наоборот, охраняет их, как в иных заповедниках охраняют оленей и фазанов, чтобы чрезмерно увлеченные охотники не истребили дичь под корень. Так и стражники, чрезмерно увлеченные сиюминутными делами, истребляют под корень все разумные силы со стороны противника, а потом приходят отморозки, заливают район кровью по колено, а виновата во всем стража. Жестокие репрессии против криминала оправданы только в особых случаях и в тщательно отмеренных дозах. Сейчас, полагал Том, один из таких случаев как раз настал. Начальство не успело разобраться, как реагировать на изменение законодательства, а в таких условиях попасть в герои легче легкого. Так что Том напряг мозг, договорился с Петром Митровером, десятником группы захвата, и они стали наращивать героизм. Схема получилась стремноватая — пришлось посвящать громил слишком во многое, а они хоть и тупые, но не настолько, чтобы не понимать, что наркотики каждый раз изымаются одни и те же. Рано или поздно кто-нибудь настучит, но на этот случай Тома подготовил сразу два альтернативных плана: свалить все на Петра либо честно признаться в формальном нарушении, дескать, дух закона выше буквы и все такое, и предложить попалившему чиновнику достойную долю в следующих операциях.
Чуть более серьезной представлялась опасность, что очередная шпана подберется к тайнику не по хитрой наводке, а случайно, и утащит весь запас заморской травы, а восстановить его теперь уже непросто, да и стремно оно теперь, вряд ли один Том занялся такими делами, обидно будет самому нарваться на такую же провокацию. А что боги любят подобные подлянки — ведомо всякому образованному человеку, в каждой втором мифе находится персонаж, который чего другим желал, то сам и получил. Так что лучше не искушать судьбу, а организовать охрану тайника, тем более что это не слишком сложно.
Тайник размещался внутри полуразрушенного участка стены, отделяющей от порта верхний город. Вход в тайник вел только один, и как раз напротив него стояла облезлая хижина гадальщика Альва по прозвищу Леший. Альв был из тех гадальщиков, что освоили профессиональную премудрость не на факультете мантики, а в припортовых трущобах, и гадают не толстопузым богачам, а хитроглазому ворью, да и сами не брезгуют дополнительным приработком. Альв приторговывал краденым, Том однажды поймал его за руку и предложил стандартный выбор: сесть в тюрьму или стать стукачом. Почти все в таких случаях выбирают последнее, и Альв не стал исключением. И теперь в задней комнате Альвовой лавки постоянно сидели двое громил, с приказом следить, не смыкая глаз и ни на миг не отвлекаясь обоим одновременно, чтобы никто не подходил к определенной трещине в древней стене, а если кто подойдет — выйти и как бы невзначай пройти мимо, громыхая доспехами. Такой встречи даже благонравные подданные избегают, а всякая подзаборная шелупонь — тем более. Надо быть полным идиотом, чтобы в подобном районе искать встречи с вооруженными громилами, пусть даже и состоящими на государевой службе.
Сегодня в лавке Альва (а точнее, в подвале под ней) дежурил Дрон Метеор, а помогал ему Купер Борода. Если бы Том увидел, как эти два стражника несут службу, он бы разгневался. Вопреки строжайшему приказу, оба громилы отвлеклись от наблюдения за объектом, и не на миг, а по меньшей мере на час. Вместо того, чтобы таращиться на свет божий сквозь узкое подвальное оконце, как два дурака, они поставили на пол три больших ведра донцами вверх, два использовали как стулья, третье как стол, и на этом столе играли в нарды. После каждой партии проигравший должен был выйти на улицу и прогуляться взад-вперед по переулку, это был как бы фант. Но как фант это работало только в первый день, потом громилы заметили, что выигравшему сидеть в подвале даже скучнее, чем проигравшему гулять снаружи, так что после каждой партии прогуляться выходили оба, и проигрыш стал символическим. Из-за этого играть стало скучно, душа просила более ярких развлечений, под конец прошлого дежурства Дрон и Купер даже обсудили, не стоит ли взять на следующее фляжку домашнего вина, но решили пока не брать, а то Заяц ведет себя странно, как будто реально верит, что громилы бдят в окошко целый день, как приказано. Если просто одурел — это еще ничего, а если провокацию задумал против братьев-громил? Он, сука, интриган известный, черт его поймет, что у него в башке вертится. Лучше до прояснения ситуации не нарушать приказы слишком вызывающе.
Если бы вместо Купера Бороды с Дроном играл, например, Пер Бедный или Тейлор Проглоти-Палка, Дрон предложил бы поиграть на щелбаны. Но Купер славился умением их отбивать, пальцы у Купера как сардельки, а гнутся будто без костей, как залепит в лоб — от одного щелбана немудрено сотрясение мозга словить. Нет, на эти шутки пусть новички покупаются.
Университетские часы пробили десять. И не успело утихнуть эхо от последнего удара, как Дрон сделал последний ход и заявил:
— Я выиграл.
— Угу, — кивнул Купер и потянулся за панцирем. — Пойду прогуляюсь. Пойдешь со мной?
— Угу, — согласился Дрон и тоже потянулся за панцирем. — Пойдем прошвырнемся.
Накинул доспех на плечи, прошелся по подвалу, попрыгал на месте, чтобы наборные пластины улеглись надлежащим образом, и выглянул в окошко, сам не зная, зачем. Почему-то захотелось выглянуть.
— Ой бля, — сказал Дрон. — Борода, гляди сюда.
Борода поглядел и тоже выругался. А потом глубокомысленно добавил:
— Не иначе, Птааг хранит. Завтра схожу в храм, принесу жертву.
— Вместе сходим, — сказал Дрон, хотя отлично знал, что никто из них завтра в храм не пойдет, сделают вид, что забыли, не в первый раз уже.
— Дурачье, — сказал Купер. — Прямо на месте решили скурить?
— Похоже, — кивнул Дрон. — Будь другом, помоги ремешки затянуть.
— А может, ну их, доспехи? — предложил Купер. — Провозимся, упустим время… Эти клоуны уже упороты, какое с них сопротивление…
— Клоуны упороты, ты прав, — согласился Дрон. — Так что не упустим время, не ссы. Ты лучше подумай, что Заяц скажет, если узнает, что мы их без доспехов брали.
— Да откуда… — начал было Купер, но сразу осекся — понял, откуда. — Ладно, боги с тобой. Давай, подтяну.
Купер подтянул ремешки Дрону, затем Дрон подтянул ремешки Куперу. Потом они надели шлемы, опоясались мечами, взяли алебарды и потопали наверх, блюсти закон и порядок.
Купер зря боялся, упоротые клоуны никуда не делись и даже не помышляли о том. Из-за стены доносились радостные вопли, переходящие в повизгивания. Если бы один голос был женский, было бы понятно, чем там занимаются, а тут оба голоса мужские, неужели педики…
Купер зажег фонарь, Дрон сделал шаг вперед. Перегородил проход бронированным туловищем, стукнул древком алебарды оземь, клацнул краем лезвия по кирпичной кладке.
— Нарушаем? — задал он риторический вопрос. — Императорский указ нарушаем? Наркоманим потихоньку? А ну траву сюда, в круг света, живо!
В круге света были не педики, это видно с первого взгляда. Вообще не шпана, богатенькие барчата, из-за стены пролезли. В самом деле, если дырка есть здесь, почему не быть другой дырке на другой стороне? Надо Зайцу сказать, пусть наймет кого-нибудь, чтобы заделали. А в целом здорово, что барчата попались! С их отцов такой выкуп можно взять!
— Борода, ставь фонарь вот сюда, — распорядился Дрон. — А сам туда, отсекай.
— А чего отсекать-то… — пробурчал Купер себе в бороду.
Но приказ выполнил четко. Приставил алебарду к стене, обнажил меч и характерным крадущимся шагом прошел вдоль стены, держа меч наготове. До прихода в стражу Купер служил в пехоте, и строевую подготовку знал не понаслышке. Хорошо, что сегодня в смене именно он, а то как бы не улизнули… И беды как бы не вышло, тот пацан, что покрупнее, очень здоровый и мускулистый, Дрон сразу не разглядел в неверном свете, а то бы еще подумал бы, стоит ли связываться… Птааг, помоги…
— Птааг, помоги! — эхом отозвался второй парень, который поменьше.
А тот, который побольше, вдруг прыгнул и в прыжке ударил ногой прямо по гарде Куперова меча. Будь на месте Купера обычный громила, не приученный к рукопашной схватке, тут бы ему и наваляли. Но Купер меча не выпустил, хотя ни уклониться, ни заблокировать удар не успел, растерялся. От второго удара уклонился, но вяло, а третий, раскрытой ладонью в переносицу — пропустил. А какой был удар! Был бы Борода без шлема, мог бы помереть на месте. А так ничего, даже не ошеломился. А барчонок дурак, стрелку на переносице не приметил, рассадил ладонь до крови, вот и конец драке. Взмахнул Купер мечом, да и пустил дурачку кровищу из розовой щеки. А затем вытаращил глаза и завопил страшным голосом:
— А ну стоять, щас кровя пущу!
Юноша не устоял на ногах, отпрянул, споткнулся, да и сел с размаху на жопу. Но Купер придираться не стал, что приказ не выполнен, не стал пускать кровя.
— Руки за голову! — приказал Купер. — Дрон, веревка у тебя?
Вместо ответа Дрон выругался. Веревку они забыли в подвале. А вернее, забыл он, прихватить веревку была его обязанность. Но это не страшно.
— Отмудохай, чтоб не убежал, потом сбегаешь, пока валяться будет, — распорядился Дрон. Подумал и великодушно добавил: — Или я сбегаю, пока эти…! А где второй?
Второй юноша бесследно исчез, как сквозь землю провалился. Не иначе, реально помог ему Птааг. А прикольно! Двое из четырех участников схватки помолились Птаагу, оба целы и невредимы, а другие двое не помолились, и у одного кровища из носа, у другого из щеки. Отличный наглядный пример божьей милости, самого упертого атеиста проймет на раз. Впрочем, атеистической ереси в Палеополисе давно уже нет, и слава богам.
Купер разразился длинной фразой, в которой пристойных слов только четыре: «он», «этот», «Дрон» и «извини».
— Ладно, ерунда, — сказал Дрон. — Клиента допросим, он быстро всех сдаст.
Юный мордоворот сделал серьезное лицо и торжественно заявил:
— Я ничего не скажу!
Дрон и Купер привычно рассмеялись, Дрон — добродушно, Купер — демонически. Им нечасто приходилось допрашивать преступников, все-таки главная работа громил — держать, не пущать и задерживать, а языком болтать они не шибко горазды. Но в жизни всякое бывает, делать допросы тоже случалось, и тактику поведения на допросах они давно отработали: Дрон играет доброго следователя, Купер — злого. Вот и сейчас они моментально разобрали роли, не сговариваясь ни словами, ни жестами. Купер выругался еще раз, очень грязно и зло, пленник даже чуть-чуть сбледнул. А Дрон добродушно сказал:
— Что, страшно? Ты еще Зайца не видел, вот кто страшен так страшен. Купер, мочи.
И Купер начал мочить.
3
Испокон веков сложилось так, что в университет Палеополиса принимают только юношей. Всякому разумному человеку очевидно, что учить девицу астрологии или мантике нет никакого толку. Заводить знакомства и связи ей самой лично не придется, у нее на то муж будет, а если не будет, то тем более не придется, ибо смысл жизни для женщины — рожать и воспитывать наследников, а все остальное вторично, с этим прислуга справится. Так что пусть себе сидит дома и шьет, а для знакомств с женихами достаточно танцев и посиделок.
До недавнего времени вышеизложенная точка зрения представлялась типичному жителю Палеополиса единственно возможной. Но несколько лет назад среди девиц высшего света распространилась мода переодеваться в мужские одежды и ездить в университет на лекции. Говорят, начало этой моде положила принцесса Дарья Кабан, знаменитая неестественной склонностью любить девочек, переодевшись в мужское платье. Но как бы эта мода ни появилась, продолжали и распространяли ее не мужеподобные извращенки, а нормальные приличные девушки. В старшем поколении многие возмущались, но разумные люди восприняли эту новость спокойно. В каждом поколении обязательно появляется хотя бы одна дурацкая мода, нынешние отцы семейств, например, в юности обожали устраивать с черножопыми рабынями дикие пляски, переходящие в оргии. Дворянские девушки, правда, в подобных безобразиях не участвовали, но не зря священных писаниях написано, что каждое следующее поколение превзойдет в разврате и извращениях отцов и матерей.
Большинство девушек, участвовавших в этом развлечении, находили его скучным и посещали лекции исключительно под влиянием моды, а не из-за потребностей в познании мира или еще чем-нибудь подобном. Некоторые девицы, наиболее легкомысленные, рассчитывали завести так романтическую интрижку, которая, если боги позволят, глядишь, перерастет в светлое чувство если не с принцем, так хотя бы с маркизом. Но реально без родительского благословения такая интрижка может перерасти только в порку. К сожалению, эту нехитрую премудрость понимают немногие юные барышни, а большинство настроено излишне романтично, чтобы ее понять.
В большом катехизисе, подписанном всеми семьюдесятью семью светлыми богами, под номером тридцать четыре идет заповедь, которую бытовым языком можно пересказать так: «Всякое извращение, доступное воображению, где-то во вселенной существует». Нет предела человеческой извращенности, и какую бы нелепость ни измыслил развлекающийся ум, обязательно найдется человек, который именно такую нелепость полюбит.
Хорошей иллюстрацией этой заповеди стали девушки, о которых идет речь. В обиходе их называют ботаничками, потому что впервые их заметили на кафедре ботаники факультета материалистической философии. Эти девушки находят противоестественное удовольствие в обязанности, которую любой нормальный юноша-студент считает обременительной, хотя и терпимой — отсиживать три часа лекций каждое утро. Стайки переодетых в мужское платье девиц залетают в лекционные залы, усаживаются на первых рядах и старательно записывают, что говорит лектор, а отдельные ботанички, самые отмороженные, даже задают умные вопросы. А когда лекции заканчиваются, и студенты идут в буфет вдуть по пиву, ботанички тоже идут с ними, и тоже пьют пиво, а в перерывах между кружками сквернословят так, что не от каждого грузчика такое услышишь. Юноши, наблюдавшие непотребство, делают вид, что не понимают, какого пола их компаньоны, и тоже не ограничивают себя в выборе слов, их это тоже прикалывает. Бывает, ботанические компании засиживаются в тавернах до глубокой ночи, и ходят упорные слух, что иногда такие посиделки перерастают в оргию. Чуть ли не у каждого студента был знакомый, чей знакомый знаком с одним из непосредственных участников такой оргии, но сам лично никто в ней, конечно, не участвовал.
На самом деле оргии так не происходят, просто ботаничка-оторва по имени Лайма и студент-раздолбай по имени Юджин однажды вечером нажрались вина сверх меры и сильно понравились друг другу, как часто бывает по пьяному делу. Лайма еще немножкр соображала, а Юджин не соображал уже ничего, и примерещилось ему, что Лайма — не переодетая в парня девица, а реальный парень, а сам он, Юджин, не нормальный парень, а гомосек, но не презренный, а вполне достойный — по пьяни чего только не примерещится. Короче, Юджин полез к Лайме целоваться, та прикололась, что все вокруг думают, что она не развратница, а педик, стала хохотать и изображать стереотипного манерного педика, короче, все здорово повеселились, но оргии не было, никто даже не разделся.
Лайме нравилось учиться. Обычный студент воспринимает слова лектора как поток бессмысленных сведений, которые нужно тупо зазубрить. Редко кто начинает интересоваться смыслом, прячущимся за учеными словами (чаще все, кстати, там не прячется ничего), и до Лаймы не было случая, чтобы девушка всерьез увлеклась университетской наукой. А Лайма увлеклась всерьез, и даже подумывала, не попросить ли отца записать ее на медфак под видом юноши. Но пока не просила, боялась, что ответом на такую просьбу может стать порка.
И вот однажды заявилась Лайма в университетский квартал, сидела в таверне, пила вино, а потом стало ей нехорошо, закружилась голова, и решила Лайма выйти проветриться. Вышла на свежий воздух, в голове просветлело, но живот скрутило так, что терпеть невозможно, так что отошла Лайма на другую сторону улицу, прислонилась к столбу, и стала тошнить. И в какой-то момент ей примерещилось, что мимо пробежал Мюллер, это такой странный парнишка, они раньше в одном классе учились, Лайма даже была в него недолго влюблена. И что глаза у Мюллера как монеты по пять золотых, будто за ним черти гонятся, и еще он поминает Птаага вполголоса, что странно — в школе он особой набожностью не отличался. Но это еще ничего, однажды, помнится, Лайме привиделось по пьяни, будто она резала колбасу на бутерброд и порезала палец, а потом смотрит — и точно палец порезала, так что видения не всегда проходят бесследно…
— Эй, чувак! — прервал ее мысли чей-то грубый голос. — Парня бегущего… тьфу, бля!
Лайма открыла рот, чтобы ответить, что парня бегущего она видела, и это не просто парень, а Мюллер из ее бывшего класса, но вместо слов к горлу подкатила тошнота, и ничего Лайма не сказала. А когда она проблевалась и снова стала готова к беседе, обладатель грубого голоса уже удалился, а перед этим он сказал кому-то другому:
— Да это лесбиянка ужратая, чего ее спрашивать!
После таких слов желание рассказать про Мюллера пропало у Лаймы начисто.
— Сам ты лесбиян! — крикнула она ему вслед и пошла обратно в таверну, продолжать веселье.
4
— Ну что? — спросил Том. — Клиент признался?
— Никак нет, — смущенно ответил Дрон. — Как ушел в отказ, так и не выходит, чего только ни пробовали, а он все упирается.
Увещевали, угрожали, в том числе пыткой, в доброго и злого играли, аж сами устали, под конец немножко по почкам…
Том нахмурился.
— Да реально совсем чуть-чуть! — поспешно воскликнул Дрон, уловив настроение начальника. — Можно сказать, погладили! По-настоящему пытать мы без вашего указания не смеем, какая там пытка, если приказа не было… Совсем немножко побили, почти не больно!
— Смотри у меня, — строго сказал Том. — Если начнет кровищей ссать…
— Да ни в жизнь! — воскликнул Дрон. — Мы с Бородой меру знаем, не впервой!
— Знаю я, каково вам не впервой, — проворчал Том.
Но проворчал беззлобно, для проформы, чтобы впредь не нарушали. Если бы старшим в паре был вместо Дрона Тед Медведь или, скажем, Билл Дубина, тогда могли и покалечить, а эти нет, эти ребята дисциплинированные, исполнительные.
— Где клиент? — спросил Том.
— На дыбе, — ответил Дрон. — Но вы не бойтесь, мы не растягивали, только привязали и все, ждем ваших указаний.
Том недовольно поморщился. В перечислении всех строгостей, которые недавний указ сулил распространителям дурманных зелий, пытки почему-то не упоминались, очевидно, тупо забыли. Исходя из здравого смысла, понятно, что пытать обвиняемого по такому делу можно и нужно, но толковый адвокат обязательно обратит внимание на процедурное нарушение, а значит, если наркоторговец подвергся пытке, пусть даже незначительной, выставлять его на суд ни в коем случае нельзя, иначе будешь сам виноват. Это, конечно, не означает безнаказанности, есть много способов наказать преступника без суда, на заморские плантации, например, можно отправить. Но в карьеру это не зачтется, так что большого смысла так делать нет. Дурацкое положение — всякого босоногого голодранца, торгующего запрещенным дурманом, приходится допрашивать, как императорского племянника, пойманного на случайном богохульстве. Не зря говорят, что постигший законы в цирке не смеется.
Том вошел в пыточную камеру (на самом деле имитацию, но подследственный этого не знает), уселся на табурет и строго произнес:
— Рассказывай.
Дальнейшие события казалось Тому предопределенными. Пойманный парнишка спросит, что рассказывать, Том скажет, чтобы рассказывал все, какое-то время они будут препираться, потом Том сделает вид, что затягивает винты на дыбе, парень занервничает и начнет рассказывать. И стоит ему только произнести первые слова, как внутреннее сопротивление рушится, будто его никогда не было, и дальнейшие слова льются потоком, только успевай записывать. Вопрос только в том, стоит ли. Не похож этот парень на портового голодранца, слишком румяный и мускулистый, даже странно, что Дрон с Купером смогли взять такого лося, не покалечив. Растерялся, видимо, не стал сопротивляться. И никакой он не профессиональный торговец, а случайный прохожий, наткнулся случайно на склад наркоты, накурился прямо на месте… наверное, потому и не сопротивления не оказал. Да, в суд его тащить не надо, лучше не связываться. Продать пиратам, и довольно, золото лишним не будет.
— Ничего я тебе не расскажу, сучий потрох, — заявил парень на дыбе.
Том встал, подошел поближе и некоторое время с интересом рассматривал преступника.
— А ты храбрый, — констатировал Том. — Как зовут?
— Поди отсоси, — ответил парень.
— Будешь выпендриваться — продам в рабство, — пообещал Том.
— Это незаконно, — сказал парень. — В мирное время нельзя никого лишать свободы кроме как по решению суда.
— Это ты верно подметил, незаконно, — согласился Том. — Так как, рассказывать будешь?
Парень задумался. «Сейчас все расскажет», подумал Том. И ошибся.
Парень вздохнул и сказал:
— Ничего я тебе не расскажу. Хочешь пытай, хочешь не пытай, ничего, кроме ругани, не добьешься. А пугать меня бессмысленно. Один раз испугался уже, хватит. Давай, начинай пытать, пидор гнойный!
— Разрешите, я ему врежу? — попросил Дрон.
— Не разрешаю, — сказал Том. — Наш почтенный собеседник сделал свой выбор. Закуй его как следует, и договорись с пиратами.
— А выкуп? — удивился Дрон.
— На твое усмотрение, — сказал Том. — Но сверх меры не усердствуй, а то ни выкупа не получишь, ни торговой цены. А я пойду, недосуг мне.
5
Про работорговые корабли говорят, что условия содержания невольников настолько ужасны, что из каждого десятка успешно пересекают море человек пять-семь, редко больше. На тех торговых линиях, где возят черножопых чернорабочих, так все действительно так, но корабли, перевозящие белых специалистов, устроены по-другому.
Рабов размещают в четырехместных каютах, называемых также морским жаргонным словом «купе». В каждой каюте стоят двухэтажные нары слева и другие двухэтажные нары справа. Между ними установлен маленький столик для еды, а под нарами есть немного места на случай, если у раба есть личные вещи. Еду раздают дважды в день, это та же самая еда, какой кормят матросов. Каюты не запирают, рабы могут ходить везде, кроме верхней палубы, и еще нельзя заходить в трюмы с ценными грузами. Когда работорговля только разворачивалась, многие пираты пробовали пихать рабов в галеоны, как селедок в бочку, но скоро стало ясно, что излишняя жестокость здесь неоправданна. Экономить на условиях содержания бессмысленно, изможденного раба надо либо продавать намного дешевле, либо тратить время и деньги на реабилитацию перед продажей. Если бы все рабоперевозчики между собой договорились, что рабы прибывают в заморские колонии только изможденными и никак иначе, тогда еще можно было экономить, но такие договоренности бывают только в сказках, а по жизни каждый пират заботится только о своей прибыли, а на товарищей по ремеслу ему плевать.
Оказавшись в трюме пиратского галеона, Ким почувствовал себя странно. Вся его жизнь перевернулась вверх дном, еще вчера он был наследником богатого землевладельца, студентом-хорошистом, перспективным спортсменом и еще более перспективным женихом для какой-нибудь богатой наследницы, симпатичной и с хорошим характером, не склонной к ботаничеству и иным мерзким выходкам. А сегодня он никто, и зовут его никак, безымянный раб он, и, странное дело, ему так даже нравится. Потому что, став рабом, он впервые почувствовал себя свободным.
Раньше он не понимал, в какой степени является рабом обстоятельств, что почти все время он играет жесткие социальные роли, от которых освобождается только когда пьяный или накуренный, да и то ненадолго. Ты богатый наследник, одевайся прилично и не ругайся матом, ты приличный студент, не плюйся жеваной бумагой из трубочки, ты воспитанный юноша, не хватай девиц за жопы. Но его никто не спрашивал, хочет ли он быть богатым наследником, приличным студентом или воспитанным юношей! Может, ему по душе скакать голому по диким лесам, может, только там он будет счастлив! А если и не будет счастлив, так придумает что-нибудь другое и станет счастлив по-любому!
Когда их с Мюллером только повязали стражники, в первый момент ему подумалось, что это никакое не счастье, а совсем наоборот, жизнь сломана, судьба загублена. А потом Мюллер позмолился Птаагу и, странное дело, об утешении молил Мюллер, а снизошло оно на Кима. Мюллер убежал в смятении, но Ким ему не судья, потому что Мюллер по-прежнему прозябает во тьме, а Ким просветлился и счастлив. Скоро путешествие кончится, их высадят в заморской земле, а там, говорят, воткнешь в землю трость, а на следующий день она уже плодоносит. Разве можно быть в таком месте несчастным? И неважно, что матросы называют Кима рабом, рабы всякие бывают, все говорят, что Кима сразу возьмут в надсмотрщики, а надсмотрщики по жизни скорее рабовладельцы, чем рабы. Материально станет победнее, зато скучно не будет, не придется каждый день мучительно размышлять, как этот самый день побыстрее убить.
Хорошо, что он не поддался на провокацию, не стал ничего говорить тому стражнику, который самый старший. Хорошо, что Птааг вовремя напомнил ту позорную историю, которую Ким так мечтал забыть все эти годы. Тогда тоже казалось, что ничего страшного нет, подумаешь, чуть-чуть поддаться, а в итоге вон как вышло. Но теперь Ким умнее, он теперь сразу решил, что не поддастся мучителям ни в какой малости, и не прогадал. Мучители, как оказалось, вовсе не собирались его пытать, на испуг брали. А если бы поддался — окончательно потерял бы самоуважение.
Получается, не уступать угрозам не сложно и не страшно. Главное — не уступать ни в чем, чуть поддашься в одном — сразу сдашь и все остальное. А еще очень важно не бояться. Это легко, надо просто на все вопросы отвечать бранью, можно даже не слушать, что именно спрашивают, услышал голос — сразу ругаешься. В таком режиме даже если и захочешь ответить что-нибудь дельное, все равно не сможешь, потому что чтобы ответить что-нибудь дельное, надо сначала услышать что-нибудь дельное, а если вопрос не расслышал, то и не ответишь.
— Совсем парню крышу снесло, — сказал Кай Мертвяк своему товарищу по путешествию, Гору Ястребу.
Гор поднял голову и посмотрел, как Ким лежит на верхних нарах и пялится в потолок.
— Да уж, — согласился Гор. — Совсем озверели легавые, черным волшебством уже не брезгуют.
— Не волшебство это, — возразил Кай. — Наркотик. Был у меня в банде один пацаненок…
Гор знал эту историю от начала до конца и мог при желании повторить ее наизусть. Уже вторую неделю они трепыхались в открытом океане, а ни карточной колоды, ни костей в купе не нашлось, так что единственным развлечением оставалось травить байки. Киму хорошо, он лежит себе и тащится сам от себя, вниз спускается только пожрать или погадить. Иногда Гор ловил себя на мысли, что тоже хотел бы отведать черной магии, но не в такой дозе, конечно, а в более человеческой, чтобы не неделю кряду валяться, как морковка на грядке, а чтобы как у нормальных людей — побалдел час-другой, и отпустило. А такого счастья, как у Кима, и даром не надо, так немудрено весь человеческий облик растерять, станешь как Аленин брат, который из козлиного копытца попил, или как этот… кстати, интересная байка…
— Слушай, Кай, а ты настоящего бесноватого когда-нибудь видел? — спросил Гор. — Не как Ким, а натурального, чтобы изо рта бес говорил чужим голосом, и все такое.
— Нет, не видел, — отозвался Кай. — Дураков видел много, а бесноватых не видел.
— Тогда слушай, — сказал Гор, и начал рассказывать байку.
6
— А все-таки зря ты им его отдал, — печально произнес Мюллер.
— Не тебе меня судить, — заявил Птааг. — Про нас, богов, не зря говорят, что мы неисповедимы.
Голос Птаага был спокоен и невозмутим, как будто они не о природе вселенной беседуют, а цены на репу обсуждают.
— Это не аргумент, а отказ от аргумента, — сказал Мюллер. — Кроме того, ты не можешь обосновать, что ты бог, а не галлюцинация.
— Это никто не сможет обосновать, — сказал Птааг. — Чтобы ты научился отличать богов от галлюцинаций, ты должен близко познакомиться и с теми, и с другими, а после такого вряд ли сохранишь здравый ум.
— Я и так его вряд ли сохраню, — вздохнул Мюллер.
— Ошибаешься, — сказал Птааг. — Резервов у тебя еще много.
— А зачем мне резервы? — печально спросил Мюллер. — Зачем мне жить дальше, какой смысл?
— Ответ на твой вопрос прост, — сказал Птааг. — Когда придет время, ты его узнаешь. И заодно поймешь, почему нельзя было узнавать его раньше.
— Ох, — сказал Мюллер. — Я уже устал ждать, когда придет время. Только и делаю, что жду. Был ребенком — ждал, когда вырасту, потом стал ждать, когда закончу школу, потом когда институт закончу, а потом что будет?
— Это уже от тебя зависит, — сказал Птааг. — Твоя судьба в твоих руках, ты сам выбираешь себе приключения. Ты их, кстати, много уже набрал, судьбы на две хватит, если не на три. И это еще не все.
— В смысле не все? — переспросил Мюллер. — Намекаешь, что во взрослой жизни маразма меньше не будет? А что меня ждет во взрослой жизни, ты знаешь? Ну, получу я этот гребаный диплом, что потом?
— Жену заведешь, — сказал Птааг. — Дети пойдут. Найдешь себе дело какое-нибудь, чтобы не скучно было.
— Какое еще дело? — возмутился Мюллер. — Может, ты еще скажешь, что я буду медициной на жизнь зарабатывать?
— Зарабатывать на жизнь тебе не придется, — сказал Птааг. — Если не случится ничего неожиданного, деньгами ты будешь обеспечен до самой смерти. А вот со скукой бороться юудет непросто… А почему ты не хочешь заняться медициной? Девчонки сидят на лекциях и не стесняются, а ты переодеться в простолюдина стесняешься. А это забавно!
— Ерунду говоришь, — сказал Мюллер и вздохнул. — Слушай, может, я ту траву не выбросил? Может, я из той стены не убегал? Может, я скурил ее всю прямо на месте, и теперь меня плющит, а Ким сидит рядом, его тоже плющит, и никакие стражники нас не спалили, а все привиделось?
— Неправдоподобно, — покачал головой Птааг. — Вселенная подобных раскладов не любит, старается избегать. Думаю, мы с тобой сейчас в основном потоке реальности.
— Разве боги существуют в основном потоке? — спросил Мюллер. — Разве они не создают свою особую реальность?
— Когда как, — ответил Птааг.
— А ты вообще существуешь? — спросил Мюллер.
— Существую, — ответил Птааг.
— А почему ты так уверен? — спросил Мюллер.
— Потому что я мыслю, — ответил Птааг. — Мыслю — значит, существую.
Мюллер не нашелся, что ответить на это. Некоторое время они молчали, затем Мюллер задвигал желваками, закряхтел, застонал и стал ругаться. А потом воскликнул горестно:
— Ну за что мне такое наказание! Как мне жить теперь, когда я лучшего друга предал? Зачем ты позволил им его схватить?!
— А что мне оставалось делать? — пожал плечами Птааг. — Ты просил спасти тебя, а не его. Тебя я спас, все нормально.
— Это ненормально! — возмутился Мюллер. — Что тебе стоило спасти и меня, и Кима одновременно?
— Я не Митра, чтобы спасать всех, — сказал Птааг. — Я не всемогущ. Радуйся, что получилось хотя бы так. Ты ведь легко отделался, я тебе говорил, что ты с огнем играешь?
— Не говорил!
— Да ну? — удивился Птааг. — А ведь верно, не говорил. Думать думал, но не говорил. Значит, сейчас скажу. Видишь ли, дорогой мой юноша, тяга к приключением — дело хорошее, но в меру. Все хорошее хорошо в меру, и тяга к приключениям в том числе. Кто ищет приключений без меры, рано или поздно доиграется. Вы с Кимом уже доигрались, ты спасся благодаря мне, а он не спасся. В следующий раз ты тоже не спасешься.
— Так мне теперь положено жить уныло, как обычному серому обывателю? — спросил Мюллер.
— Тебе решать, — ск другом конце цепи гиря.
— А гиря зачем? — не понял Мюллер.
— Чтобы не убежал, — объяснил Птааг. — Рабам, склонным к побегу, на ногу надевают гирю на цепи.
— Я никогда не стану рабом! — воскликнул Мюллер.
— Значит, станешь обывателем, — кивнул Птааг.
Некоторое время они молчали, затем Мюллер спросил:
— Ты сможешь спасти Кима?
— Смогу, — кивнул Птааг.
Мюллер просиял лицом и воскликнул:
— Так чего ж ты мне мозги конопатишь? Я-то думал, он теперь навеки в рабстве… Когда он вернется?
— Никогда, — сказал Птааг. — Я не буду его спасать. Могу, но не буду.
— А если я попрошу? — спросил Мюллер.
— Все равно не буду, — ответил Птааг. — Не всякая твоя просьба приказ для меня.
— А почему ты являешься, когда я прошу? — спросил Мюллер. — Всякий раз, когда ты нужен, ты приходишь. Почему?
— Ты все поймешь в свое время, — ответил Птааг. — А пока оно не пришло, живи без понятия. Будешь знать слишком много — жить станет слишком скучно. Настолько скучно, что захочется покончить с собой. А вот если ты не узнаешь того, что пытаешься узнать так настойчиво, жизнь твоя будет пусть не слишком долгой, но счастливой.
— Не слишком долгой — это сколько? — забеспокоился Мюллер.
— Лет сорок, — ответил Птааг. — Может, пятьдесят.
— Ух ты, — сказал Мюллер. — Сорок-пятьдесят — это нормальная долгая жизнь. Я-то думал, ты мне тридцать три отмерил…
Птааг рассмеялся.
— Нет, ты не сын Митры, — сказал он. — Твоя судьба не прописана ни в писаниях, ни в пророчествах. По крайней мере, пока.
— Тогда зачем ты со мной няньчишься? — спросил Мюллер.
— В свое время узнаешь, — ответил Птааг.
Их беседа длилась еще долго, но в итоге Мюллер так и не узнал из нее ничего нового. Все как обычно.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ВЕДЬМЫ И СТРАЖНИКИ
1
В верхнем городе Палеополиса, там, где проспект Айгуль Открой Личико пересекает улицу Гуго Ворона, стоит большой трехэтажный дом. Раньше он принадлежал какому-то героическому офицеру, а теперь владельцем дома числится дворянин по имени Бартоломей или, сокращенно, Барт. Сам Барт занимает только верхний этаж, там он обитает на пару с женой, а нижние два этажа они сдают жильцам. В недавнем прошлом Барт был преуспевающим землевладельцем, финансовый кризис поставил его на грань разорения, но в целом он легко отделался, пострадал от кризиса не столько финансово, сколько в морально. Раньше Барт был весел и доволен собой, а теперь стал печален, мрачен и тосклив. Вначале вообще был как живой мертвец, а когда стало понятно, что банкротство ему не грозит, грусть-тоска немного отпустила, но было уже поздно. Он и раньше прикладывался к вину, а теперь совсем потерял меру, стал проводить в кабаке больше времени, чем дома, опустился так, что встретишь на улице — не сразу поверишь, что перед тобой благородный рыцарь, отставной лейтенант имперской кавалерии, на вид бродяга бродягой, немытый, нестриженный, расхристанный весь, словно на паперти весь день стоял с миской для подаяния. Не раз соседи, товарищи и просто добрые люди пытались помочь его горю, как только ни пытались от пьянства отвадить: и медициной, и метафизикой, даже колдовством пробовали, но все без толку. Жалко его.
Жену Барта звали Ассолью, была она страхолюдная, что твой крокодил, но добрая, как святая Матрена. Говорят, маркиз Итай, старший законный сын герцога Дори, однажды встретил ее на улице и решил поиздеваться над страшилищем, но через две минуты так очаровался, что даже воскликнул во всеуслышание:
— Дайте мне наволочку, и я на ней женюсь!
Какой-то паж тут же протянул подходящую тряпку, но маркиз на Ассоли, конечно, не женился, потому что это было не обещание, а шутка. А чтобы почтенная госпожа не печалилась, он подарил ей золотой браслет, который она в тот же день сдала в скупку с большой выгодой.
Ассоль была очень набожна. Те, кто давно знал ее, говорили, что она и в молодости неслабо увлекалась религией, а в зрелости совсем с цепи сорвалась. Леди Грини из Сола рассказывала, что они с Ассолью как-то раз выпивали, леди Ассоль пробило на откровенность и она рассказала, что в совсем давней молодости была монахиней в южном монастыре, а потом ее выперли за дурное поведение, она покаялась и решила стойко переносить тяготы и лишения, вести праведную жизнь, и все такое прочее. Сама Ассоль, когда протрезвела, все отрицала, но так очаровательно смущалась, что всем было ясно, что по пьяни она не фантазировала, а проболталась. Леди Грини поделилась этой историей с виконтессой Холихок, с графиней Меркфиш-младшей и с кем-то еще, и все сказали, что благочестие леди Ассоли очень трогательно, и хотя светлые боги обидели ее внешностью, внутренняя красота многое компенсирует. А маркиза Рэдбери, когда услышала эту историю, сказала, что надо выдать леди Ассоль замуж за какого-нибудь благородного слепца, даже почти договорилась с отставным адмиралом Ларосом, потерявшим глаза при охране рубежей Родины, а вовсе не в пиратском налете на казенный караван, как болтают, короче, они почти договорились, а потом сэр Ларос узнал, как именно зовут его суженую, и вспомнил, что когда он был молод и зряч, у него была одна знакомая по имени Ассоль, женщина добрая и хорошая, но страховидная настолько, что с тех пор это имя убивает в нем всякую страсть. Эту проблему можно было решить, но маркиза узнала, что Ассоль, как ни странно, замужем, и весь проект увял сам собой.
Леди Ассоль принадлежит к приходу храма животворящей статуи Птаага Милосердного о пяти ногах. Статуя эта стоит во дворе храма, и всякий прихожанин может легко убедиться, что ног у нее только две, а про пять ног надо понимать аллегорически, как объясняет местный жрец Блюхер Лысый. Дескать, в прошлом была традиция именовать храмы вычурно, и вроде даже в порту есть храм имени пятидесятилетия возведения этой самой статуи о пяти ногах, и жрец-настоятель того храма, нищий и оборванный, как все портовые жители, но при этом удивительно толстопузый, однажды самолично явился поглазеть на вышеозначенную статую, и не хотел уходить, пока отец Блюхер не позвал стражу и дурного попа не вытолкали взашей.
Леди Ассоль в приходе была активисткой. Раньше она, говорят, увлекалась всякой безобидной старушечьей ерундой навроде вышивания и хорового пения, но в последнее время увлеклась охотой на ведьм. Ведьмы, надо сказать, стали в Палеополисе настоящим бедствием, дня не проходит, чтобы не напакостили. То молоко где-нибудь скиснет, то понос кого-нибудь проберет или, хуже того, половое бессилие. Ходит упорный слух, что недавний финансовый кризис тоже порожден их нечестивыми обрядами, а вовсе не министром финансов, которого, кстати, повесили по ведьмовскому навету, не из-за того, что проворовался.
Когда боги сотворяли вселенную, они обустроили ее гармонично и соразмерно, а чтобы гармония не нарушалась и впредь, придумали законы сохранения. Законов этих много, и в деталях они сильно различны, но суть у них одна: если где-то что-то прибыло, то где-то что-то обязательно должно убыть. Или, другими словами: если куда-то прибыло что-то хорошее, то, значит, куда-то рядом или прямо туда же скоро прибудет что-то плохое. Вот, например, привозят из заморских земель золото и самоцветы в огромных количествах, а увозят в обратную сторону только рабов, преступников и иные отбросы, что из этого следует? Ни один философ, к сожалению, не догадался применить законы сохранения к этой ситуации, пока не стало слишком поздно. Но законы природы работают всегда, вне зависимости от того, применяет их кто-нибудь или нет. А ученые чаще всего понимают, как применять законы, только тогда, когда применять их уже поздно. Задним числом очевидно, что боги ничем не могли не скомпенсировать товарное изобилие имперской метрополии, но когда первые ведьмы ступили на землю Палеополиса, тогда по этому поводу никто и не почесался.
За морем ведьмовство называют нечестивым словом «раста». И это самое раста настолько сильнее обычного имперского колдовства, насколько закаленная имперская сталь сильнее деревянных дубин черножопых. Это еще один закон сохранения: прибавляется в ремесле — убавляется в магии, и наоборот. Теперь любому дураку понятно, что что-то подобное должно было произойти, но тогда белокожие пираты только начинали осваивать заповедные заморские чащи, и о философии никто из них не думал, думали только о том, как побыстрее обогатиться. Вот и обогатились духовно.
Поначалу столичное общество приняло заморских ведьм как очередной вид экзотических животных. Вот слоны, вот жирафы, вот гориллы почти как люди, а вот черножопые бабы-колдуны, тоже почти как люди, а что колдуют не по-человечески, так это даже прикольно. В то время только-только прошла мода на так называемый ботанизм, когда благородные девицы переодевались в мужское платье, напивались допьяна в университетских забегаловках, и предавались разврату со студентами, изображая из себя противоестественных мужеложцев. А когда мода на старомодный разврат проходит, новомодному разврату особенно легко укрепиться в сознании народа. Так происходило со всеми большими пороками, и с растаманским ведьмовством тоже все произошло именно так. Вначале отдельные оторвы стали плясать голыми у костров, без всяких задних мыслей, просто по приколу, а потом глядишь, только ленивая не колдует по-черножопому.
Старшее поколение восприняло новую моду с омерзением. Одно дело глумиться над человеческими законами, это в определенном возрасте незазорно, но совсем другое дело — глумиться над законом божьим. Почему запрещено богохульство? Не потому, что боги обижаются на хулу, это как раз несущественно, не человечье дело заступаться за божьи обиды, у богов хватает сил самим за себя постоять, а если вдруг не хватает — какой же это бог? Нет, богохульство запрещено по другой причине. Потому что если кто какого бога похулил, пусть даже и ненамеренно, потом такому человеку у этого бога никакой милости не выпросить, потому что надо быть совсем дурным идиотом, чтобы одаривать милостью того, кто тебя хулит. Если бы богохульство не запрещалось, почти каждый юноша до того, как наберется ума, успевал бы обложить хулой едва ли не всех богов, а потом такому юноше одна дорога — в атеисты, а жить без божьей помощи — дело такое, что не всякому врагу пожелаешь. Так что в любой нормальной стране богохульство строжайше запрещено, и это касается не только явных случаев, но и косвенных, через поклонение чужеземным богам, пропаганду нетрадиционных ценностей, и все прочее тому подобное.
Короче, ведьм в Палеополисе объявили вне закона. Всякую женщину, чья ведьмовская сущность доказана, стало можно невозбранно убить или, скажем, изнасиловать, и ничего за это не будет. Но чтобы благородные устремления граждан не превращались в разбой, всякий отряд, охотящийся на ведьм, в обязательном порядке должен включать в себя сертифицированную праведницу, про которую точно известно, что она не станет никого объявлять ведьмой из корысти или мести. Ведь преследующие ведьм святые воины только называются святыми, обычно это обычные мальчишки, ищущие приключений, а в присутствии почтенной пожилой женщины такие мальчишки ведут себя намного разумнее, чем обычно. Фактически, единственная задача праведницы — обеспечивать благопристойное поведение охотников. Когда они находят ведьму или группу ведьм, чья злокозненность не вызывает сомнений, праведница отходит в сторону и в дальнейших событиях не участвует, а в спорных случаях она не столько помогает охотникам истреблять ведьм, сколько защищает случайных прохожих от их гнева. Ассоль очень любила охотничьи рейды, ходила в них два-три раза в неделю, и сколько женщин она спасла он насилия, а юношей от грехопадения — не счесть. Когда рейды прекратились, она очень жалела.
Был у Ассоли взрослый сын по имени Мюллер, одни говорят, что родной, другие — что приемный. Раньше он жил в родовом особняке вместе с родителями, а как окончил медфак университета, так сразу куда-то пропал, и теперь появляется в родном доме только с мимолетными визитами. С пьяницей-отцом он не разговаривает, да и с матерью тоже мало общается, но не оттого, что перестал любить, просто Мюллер по жизни нелюдимый, с самого детства таким был, да и Ассоль — женщина тихая и не слишком общительная. Зашел сын на полчаса, покушал маминого угощения, да и пошел себе дальше, и оба довольны, и ничего сверх того им не нужно.
Время от времени подруги спрашивали Ассоль, где живет и чем занимается ее единственный сын. На такие вопросы Ассоль никогда дельно не отвечала, всегда переводила разговор на другую тему, и подруги думали, что с Мюллером связана какая-то тайна — неравный брак или, например, черное колдовство какого-нибудь мрачного колдуна. А может, Мюллер просто педик.
Мюллер, действительно, был извращенцем, но не таким, как думали мамины подруги, а гораздо хуже. Он любил работать. Он пристрастился к этому делу еще на медфаке, когда ходил с другими студентами на экскурсии в больницу, подивиться на труд простонародных знахарей. Обычные студенты к таким занятиям относятся как ко всем другим — смотрят на профессора с умным видом и кивают каждый раз, когда он делает паузу. А самые умные студенты не только молчат с умным видом, но и придумывают умные вопросы, и в конце занятия их задают, и если вопрос задан удачно, профессор восхищается и потом ставит зачет автоматом, очень здорово. Но иногда в студенческой семье попадаются уроды, которые начинают воспринимать лекции не как изысканный спектакль, а как настоящее обучение, в котором профессор реально учит студентов чему-то дельному. Таких извращенцев не любят и отчисляют при первой возможности. А Мюллер пошел даже дальше таких извращенцев — он реально начал работать.
В один ничем не примечательный день он пошел после занятий не в таверну промочить горло, а на рынок, и купил там комплект простонародной одежды. А потом заявился в больницу Всех Святых и попросил место знахаря. Когда его спросили, сколько он желает получать за труд, он назвал смехотворно малую сумму, а когда спросили, где он научился знахарскому ремеслу — что тайно подсматривал, как проходят занятия на медфаке. Беседовавший с Мюллером главный врач по имени Ион рассмеялся и сказал, что благородная медицина к практическим лечениям отношения не имеет, а последнее годится в основном для того, чтобы вытягивать золото из богачей. Тогда Мюллер предложил Иону заняться совместным бизнесом, в котором Мюллер будет вытягивать деньги из богачей, а Ион будет учить Мюллера лечить людей по-настоящему. Ион удивился и спросил Мюллера, зачем оно ему надо. Мюллер сказал, что дал такой обет светлым богам. Ион сказал, что такие обременительные обеты богам лучше не давать. Мюллер вздохнул и согласился. Из дальнейших расспросов Ион понял, что означенный обет Мюллер дал кобы по пьяни, а на самом деле никакого обета почти наверняка не давал, и вовсе он не подсматривал, как проходят занятия, а присутствовал на них законно, просто стесняется признаться, что безденежье заставило его принять простолюдинский образ жизни. Короче, как ни пытался Мюллер навести тень на плетень, Ион все понял, но не показал, что понял, чтобы не отпугнуть претендента. Дело в том, что в больнице в то время была нехватка кадров, и Ион всерьез начал подумывать, не закупить ли черножопых рабов на рынке для обучения знахарскому ремеслу.
Вот так и начал Мюллер работать знахарем или, как стало модно говорить, врачом. Поначалу Мюллеру доверяли только самые простые дела: держать чашу с волшебной жидкостью или, например, зафиксировать пациента, чтобы анестезиолог ударил дубинкой по башке. Простые дела Мюллер делал безупречно, и тогда ему стали поручать задания сложнее: наложить заговор на язву, выдавить чирей, помолиться о скорейшем выздоровлении и тому подобное. Одно время Мюллер думал, что из-за особых отношений с Птаагом станет лучшим молельщиком во всей больнице, но ничего подобного не произошло. Птааг на молитвы Мюллера отвечал не чаще, чем на молитвы других врачей (то есть, почти никогда), а когда Мюллер при личной встрече спросил, в чем дело, Птааг заявил, что отношения человека с богом нельзя превращать в бизнес, а если бы боги отзывались на каждую молитву, все было бы именно так, а это плохо, и поэтому боги на корыстные молитвы отвечают только случайно, если плохо расслышал, например, что именно просят. Однако карьера Мюллера развивалась своим чередом, и Ион полагал, что к сорока годам Мюллер запросто сможет занять его место.
Особой чертой Мюллера был энтузиазм. Типичный врач — придавленное жизнью унылое создание неопределенных лет, ходит, бормочет, трясет амулетами, делает полезное дело, но большой симпатии ни он сам, ни его дело не вызывают. Чистильщики нужников тоже полезны общества, но это не дает им права входить в общие трактиры. А Мюллер был совсем другой. Волосы свои он не носил грязными и распущенными, как принято у знахарей, а стриг по дворянской моде. Одевался не в бесформенный балахон из некрашеной ткани, а в нормальный сюртук со штанами, почти как благородный, разве что перчатки не надевал и галстук не повязывал. На губах Мюллера играла улыбка, а когда он накладывал заговор, то не бубнил положенные слова себе под нос, а декламировал с выражением, так что любому дураку становилось ясно, что заговор, наложенный этим врачом, угоден богам в большей степени, чем обычно, и что молитва этого врача имеет намного больше шансов на успех, чем молитва обычного знахаря. Так что на недостаток пациентов Мюллер не жаловался, и другой на его месте попросил бы прибавки к жалованью. Но Мюллер никогда ничего не просил.
Мюллер любил лечить людей. Он не возлагал неоправданных надежд на свое искусство, он понимал, что медицинские технологии развились ровно настолько, чтобы применять их было чуть-чуть выгоднее, чем не применять. Если болезни не лечить, а полагаться только на божью волю, больные выздоравливают чуть реже, чем если их лечить. Эта разница невелика, но все же заметна, ровно настолько, чтобы врачи не остались без работы. А некоторые болезни, например, переломы костей, лечатся настолько хорошо, что вопрос, надо ли их лечить, вообще не возникает. Но большинство болезней поддаются лечению только лишь в редких случаях, и не всегда понятно, что стало причиной выздоровления — мастерство врача или божья воля. Поэтому старые знахари часто впадают в меланхолию и фатализм — дескать, лечи, не лечи, все равно один хрен. Но Мюллер был не таков. Каждую свою неудачу он рассматривал в первую очередь как способ чему-нибудь научиться на собственных ошибках. Доходило до курьезов, так, однажды Ион спустился ночью в мертвецкую и застал там Мюллера, который потрошил недавно умершего бродягу, как мясник потрошит корову.
— Мюллер, ты чего?! — возмутился Ион. — Ты колдун или некрофил?
В ночной тишине голос Иона прозвучал гулко и грозно, Мюллер завизжал, как девчонка, и швырнул в Иона разделочным ножом, но, слава богам, не попал. Ион понял, что кричать на Мюллера не стоило.
— Извини, не хотел пугать, — сказал Ион. — А что ты с ним делаешь? Неужели на мясо разделываешь, чтобы на рынке продать?
Не первое десятилетие по верхнему городу ходит легенда, что на мясном рынке на улице адмирала Фроста, продают под видом свинины человечину, которую добывают на ночных улицах особые разбойники, которых набирают из черножопых рабов, откормленных человечьим мясом, чтобы были злее. В последнее время легенда видоизменилась, теперь черножопых разбойников не просто кормили человечиной, но также зомбировали растамагией, которую творят специально обученные черножопые женщины, которых тоже кормят человечиной. Но образованные люди в эти сказки не верили, потому что любому, кто хоть чуть-чуть в теме, очевидно, что заготавливать человечину в промышленных масштабах нерентабельно. Слишком много придется платить разбойникам, слишком много отстегивать городской страже, а если, не дай боги, в общую кучу попадет зараженное мясо от какого-нибудь пьяницы, потом все на свете проклянешь, пока от санитарной инспекции откупишься. Так что Мюллер был твердо уверен, что байки про человечину на рынке — не более чем байки. Но объяснять Иону не стал, все равно не поймет и не поверит.
— Любопытно мне, — сказал Мюллер. — Посмотреть хочу, как там все устроено.
— А чего тут смотреть? — удивился Ион. — В книгах все расписано… Ух ты! Какого необычного цвета кишки!
— Тут болезнь какая-то, вон, глядите, воспаление, — сказал Мюллер.
Ион взял кишку в руку, стал вертеть и разглядывать.
— Действительно, похоже, — сказал он, утомившись разглядывать. — Погоди! Ты, стало быть, не в первый раз этим балуешься?
— Типа того, — кивнул Мюллер. — Если что, простите.
— Да мне-то какое дело, — пожал плечами Ион. — Ты только нормальных людей не вскрывай, а то уронят на похоронах гроб, не дай боги, а из мертвяка кишки выпадут, скажут, что колдовал, потом не отмоешься.
— Да я только так и делаю, — сказал Мюллер. — Я же не совсем дурак. А знаете, господин Ион, я узнал, отчего бывает сердечный приступ!
— И отчего же? — заинтересовался Ион.
— Там в сердце есть такие маленькие красненькие жилки, как в мясе, — стал объяснять Мюллер. — У тех, у кого сердце здоровое, сердце красное, и жилки тоже красные и широкие, как в обычном мясе. А у тех, кто помер от сердца, у тех сердце беловатое, как рыбное филе, а жилки истонченные и черно-коричневые. Вот, глядите. Я только не пойму, они действительно жиром забиты или мне кажется?
— Да боги их разберут, — сказал Ион. — Человечьему глазу такую мелочь не разглядеть. А зачем ты этой ерундой занялся?
— Из любопытства, — сказал Мюллер.
— Это понятно, — нетерпеливо кивнул Ион. — Но любопытство бывает разное. Можно любопытничать, чтобы золота добыть, или чтобы прославиться или, например, если продал душу темным богам…
— А, понял, — сказал Мюллер. — Нет, у меня любопытство пустое. Просто от скуки.
— Лучше найди бабу хорошую и трахай, пока не отпустит, — сказал Ион.
Мюллер вежливо улыбнулся и засмеялся. Ион тоже засмеялся, хлопнул Мюллера по плечу, и пошел прочь. Он так и не понял, что последними словами нечаянно угодил Мюллеру в больное место.
У Мюллера была серьезная душевная проблема — у него не стояло на шлюх. Однажды он забрел в бордель и так опозорился, что до сих пор колдобит, как вспоминается. Не надо было скупиться, выбрал бы себе бабу подороже, ничего бы такого не случилось. Но если бы случилось, было бы вдвойне обидно. Одно дело, когда не встало на жирную вонючую крестьянку, и совсем другое дело, если не стоит на писаную красавицу, обученную тысяче разных способов порадовать мужчину. В первом случае можно убедить себя, что со здоровьем все в порядке, просто баба была неудачная, а во втором случае такое не прокатывает, здесь для неудачи объяснение только одно — импотенция. А как врач, Мюллер очень хорошо знал, что эта болезнь не лечится, а всякие штучки-дрючки наподобие корня женьшеня — просто хороший способ развести лоха на бабло.
Будь Мюллер тверже духом, он бы понял, что проблему надо решать немедленно, пока она не окрепла. Накопить денег в должном количестве, заявиться в самый дорогой бордель, выбрать самую дорогую шлюху из старых либо самую старую из дорогих, и честно все рассказать. Старые опытные шлюхи — не только шлюхи, но и знахарки, от душевного недуга вылечивают только так. А если даже такая не вылечит, значит, и вправду импотент.
Но Мюллер был недостаточно тверд духом, слишком он боялся этого последнего варианта. А еще больше он боялся, что встретит хорошую девицу, предложит ей брачный союз, а потом вдруг бабах! Импотент проклятый! И скандал уже не замять, приличные девицы до свадьбы не дают, заранее проверить силы не получится. Впрочем, жениться Мюллер в обозримом будущем не собирался. Когда ты женат, продолжать двойную жизнь дворянина и знахаря будет трудно, а отказываться от любой ее половинки Мюллер не собирался. Без интересного дела комфорт утомляет, а интересное дело без комфорта утомляет вдвойне. Когда-нибудь придется выбирать, от чего отрекаться — от благородного происхождения или от дела всей жизни, и чтобы сделать этот выбор, надо определиться, достойно ли врачебное дело стать делом его жизни. Мюллер мечтал стать великим врачом наподобие Эскулапа Великого, и это не пустая фантазия, это вполне возможно. Мюллер ведь не просто для развлечения разделывает трупы, он недавно начал составлять анатомический атлас, куда более подробный, чем Эскулапов, и это не просто атлас, но и перечень типичных изменений в разных органах, а также всевозможных взаимосвязей и зависимостей, и если удастся найти самую важную, самую наиглавнейшую взаимосвязь, посредством которой старшие боги вдохнули искру жизни в мертвую материю… Птааг-то не зря советовал заняться медициной, он хоть и не самый могущественный бог, но один из самых всеведущих, зря болтать не станет. Может, и вправду Мюллеру предназначена особая судьба великого реформатора медицины…
2
Там, где проспект Айгуль Открой Личико пересекается с улицей Роксфордской Обороны, за чугунным забором стоит дворец, раньше принадлежавший графу Дельфу Патиритилапу, а теперь принадлежащий его вдове Лайме. Назвать дворцом это здание можно лишь с большой натяжкой — внутреннего двора нет, на крыше ни одной башенки, а наружная позолота вся облезла. Тысячу лет назад, во времена Гугоидов, никому и в голову не пришло бы назвать такое сооружение дворцом, да и по нынешним временам он бедноват, но формально в перечень столичных дворцов входит, а значит, дворец.
Лайме Патиритилап было двадцать пять лет, ее женская красота переживала расцвет. Лайма блистала в высоком обществе, художники рисовали с нее картины, поэты посвящали ей стихи, она была настолько прекрасна, что если бы вдруг захотела выставить себя на невольничьем рынке, то ушла бы с аукциона талантов за двести, если не дороже. Очень красива была графиня Лайма, даже среди благородных дам такие красавицы встречаются нечасто. И еще реже встречаются красавицы, наделенные острым умом и добрым нравом или хотя бы умением демонстрировать окружающим видимость доброго нрава.
В последнем умении Лайма достигла совершенства. Поэты-графоманы сравнивали ее с розой, персиком и овечкой, но мало кто догадывался, что под этой маской прячется даже не кошка, а змея, рассудительная, невозмутимая и в целом неопасная, но если вдруг соберется атаковать — смертоносная. Когда умер граф Дельф, по городу разнеслись слухи, что его отравили неведомым ядом то ли степные варвары из-за кровной мести, то ли участники недавнего казнокрадского процесса, с которого Дельф соскочил в последний момент, уплатив большую взятку. Но на самом деле графа уморила жена, и не ядом, а колдовством.
Граф Патиритилап был богат и красив, но несдержан на язык и любил распускать руки не только в эротическом смысле, но и чтобы понаказывать. Поначалу Лайму это забавляло, она любила время от времени поподчиняться могучему самцу. Но когда половина тела в синяках, а другая половина болит от веревок, это уже не весело. А когда граф случайно выбил ей передний зуб, она решила, что с нее довольно. Она приняла решение спокойно и обдуманно, не ругалась, не протестовала, вообще не изменила свое поведение ни в какой малости. Просто стала искать выходы на гильдию наемных убийц и неожиданно для самой себя связалась с черножопыми ведьмами. Вначале она не рассчитывала, что ведьмы помогут ей убить мужа, она вообще не думала об этом, пользовала черножопых подруг только для извращений, а потом извращения приелись, Лайма хотела оборвать знакомство, как вдруг поняла, что черножопых послали ей боги, хотя она никому не молилась, и не зря сказано в священных писаниях, что не всякую молитву нужно формулировать, чтобы та исполнилась.
Лайма узнала, что жрица пятого уровня по имени Мтити умеет насылать на людей порчу, и это будут не безобидные шалости наподобие того, чтобы молоко прокисло или нестояк одолел на пару дней, нет, это серьезно, так и убить можно, и никто не заподозрит, что смерть неестественна. А если кто-нибудь заподозрит, то искать станет не могучее колдовство, а неизвестный науке яд, и пойдет по ложному следу. Так и вышло.
Дельф Патиритилап заболел и умер. Дежурный провидец признал смерть естественной, Лайма вступила в наследство и в одночасье стала невероятно богата, раньше она о таком не смела и мечтать. Но мечта сбылась и заодно в жизни появилось дело, чтобы не помереть от скуки. Заморское колдовство стало для Лаймы основным смыслом праздного бытия, в которой все предыдущие цели уже достигнуты. Лайма поверила в растманство всем сердцем и фактически стала знаменем черножопых сил столицы, хотя официально считалась жрицей третьего уровня, этот титул не давал ни обязанностей, ни привилегий, только позволял время от времени плясать во славу темных богов, и все. Но до того, как Лайма примкнула к черножопому сестринству, другие светлокожие девушки такую возможность вообще не рассматривали, привыкли, что растаманством занимаются одни только черножопые, а их принято считать как бы низшими существами. И вдруг приходишь из любопытства на шабаш, и видишь среди черных жоп красивую белую женщину, этакого ангела в чертовой маске, и понимаешь: «А я ведь тоже так могу!» За следующий год армия столичных ведьм увеличилась вчетверо, и теперь шабаши, если смотреть со стороны, больше не казались кипением черного варева, черных и белых тел там теперь было примерно поровну.
Запрещенные секты — дело притягательное, но опасное. Не в такой степени, как говорит официальная пропаганда, но все же опасное. И это доставляет дополнительный кайф, особое щекочущее чувство, придающее жизни терпкий пикантный вкус. Лайма полюбила этот вкус с тех самых пор, как одноклассник Мюллер научил ее получать наслаждение, нарушая порядок. Как они тогда обкидали говном мелкого гаденыша! И ничего им за это не было, потому что боги оценили и одобрили, так же и ведьминские пляски они одобряют, потому что нет от них плясок никакого вреда, а что в словесных формулах призывают темных богов — это все ерунда, словесного бреда хватает в любой религии, вон, митропоклонники тоже по жизни не верят, что надо вторую щеку подставлять, когда по первой ударили, но если спросишь ихнего попа, типа, правда ли, что он отвечает? Конечно, правда, говорит он, так ведь в писании написано. Тьфу на них, лицемеров!
Сейчас под Лайминой кроватью стоял волшебный артефакт, упакованный в фаянсовый горшок, очень похожий на ночной, из-за этого Лайма немного нервничала, но пока боги миловали, уже семь ночей прошло, а она ни разу не перепутала. И слава богам, а то Мтити предупреждала, что если потревожить артефакт досрочно, могут быть неприятности.
До последнего времени участие Лаймы в деятельности секты сводилось только к пляскам и оргиям. Но семь дней назад, в финале очередного шабаша, когда вино выпили, траву скурили, а от любви ноет все тело и больше невмоготу, Лайма решила выпить последний кубок на посошок, да и собираться, вот тогда Мтити и познакомила ее с Агатой.
Обычно раставедьмы молоды и красивы, потому что любовь играет в их обрядах важную роль, а с немолодой или некрасивой женщиной заниматься любовью противно, так что Лайма полагала, что по достижении определенного возраста черножопые ведьмы завязывают с растаманством и посвящают себя семье, как обычные женщины. Но теперь выяснилось, что она была неправа, не все ведьмы так поступают. Вот Агата, например, старуха старухой, волосы белые, как у рыбаков с Сельдяных островов, а лицо в морщинах, как печеное яблоко, жуть! Раньше Лайма никогда не видела черножопых старух, и слава богам, кто же знал, что они так уродливы!
Старуха осмотрела Лайму с ног до головы, как покупатель осматривает рабыню, и обратилась к Мтити надтреснутым старческим голосом:
— Это та самая телка?
— Да, госпожа Агата, — почтительно поклонилась Мтити. — Красива, умна и обладает силой.
Агата пошевелила челюстью, и ее лицо стало еще более морщинистым, хотя, казалось бы, больше некуда. Лайма заметила, что на подбородке старухи растут три длинных белых волоска. В дорогих детских книжках, тех, что с миниатюрами, старых ведьм рисуют на миниатюрах предельно страховидными, но куда тем ведьмам до этой твари! Птааг свидетель, она словно из ада выползла!
— Силой боги ее не обделили, это верно, — прошамкала Агата. — А вот насчет ума не погорячилась ли ты, дочь?
— Дочь? — удивилась Лайма. — Агата — твоя мать?
— Тебе виднее, великая мать, — сказала Мтити и поклонилась Агате еще раз, проигнорировав Лаймины вопросы. — Уповаю на твою мудрость и жду решения.
— Уповаешь — это правильно, — сказала Агата и перевела взгляд на Лайму. Впилась прямо в глаза своими маленькими буркалами с красными белками и карими радужками, и спросила: — Разве ты не отреклась от светлых богов, белая дочь?
По спине Лаймы пробежали мурашки, под ложечкой екнуло, сердце дало сбой. Но она не потеряла присутствия духа, выдержала колдуньин взгляд.
— Я тебе не дочь, — заявила Лайма. — И ни от кого я не отрекалась и не хочу отрекаться и впредь.
Белые брови колдуньи прокатились по черному лбу и собрали кожу в морщинистый узор, подобный узору на панцире черепахи.
— Храбрая девочка, — сказала Агата. — Мтити, я одобряю твой выбор. Дай ей вещь.
Мтити отошла в угол и взяла с комода горшок, похожий на ночной, но без характерной ручки.
— Вот, — сказала она. — Возьми, Лайма.
Лайма не взяла горшок в руки, наоборот, спрятала руки за спину. И настороженно спросила:
— Что это?
Мтити вопросительно посмотрела на Агату, та укоризненно покачала головой и сказала:
— Это твой путь на четвертый уровень.
Лайма не шевелилась и молчала. Агата снова сложила кожу на лбу в черепаший узор и спросила:
— Разве тебе не хочется на четвертый уровень?
Лайма пожала плечами.
Пауза затянулась. Немигающий взгляд Агаты жег Лайму, но она не отводила глаз, потому что отвести взгляд значит проиграть, а это… Да что это такое, черти их всех возьми! Она сюда пришла развлечься, а ей устроили мистическую трагедию, да пошли они все к бесам и демонам!
— Стой, — тихо произнесла Агата. — Никому не давай опрометчивых обещаний, даже самой себе. И никогда не призывай чертей, даже мысленно, они реальнее, чем ты полагаешь. Возьми вещь.
Лайма протянула руки и взяла вещь. Она выполнила этот приказ бездумно, как тот человек-автомат, которого показывал на прошлой неделе заморский фокусник. И как только Лайма поняла это, она возмутилась, оскалилась, фыркнула и разжала пальцы. Вещь не выпала. Лайма посмотрела на свои руки и увидела, что пальцы не разжались, она только думала, что разжала, а реально ничего не произошло.
— Ах ты, колдунья черножопая… — прошептала Лайма и заскрипела зубами.
Агата улыбнулась, впервые за весь разговор, и улыбка у нее оказалась такая, что заморский крокодил рядом с ней — образец любви и красоты. Зубы редкие, кривые, а в глазах нет ни намека на любовь или сочувствие, одно только злобное торжество.
— Да, мы, колдуньи, такие, — сказала Агата. — Думала, раста — только пляски да оргии? Нет, милая, раста — это боль и смерть. Но не твоя боль и не твоя смерть.
Лайма вспомнила, как Мтити однажды принялась пересказывать растаманское священное писание. Все боги темные, все силы злые, нет для грешной души ни спасения, ни перерождения, загробных наград никто не сулит, радуйся, что в зомби не превратили, и довольно с тебя. Высшие силы любви не знают, смотрят на смертных в лучшем случае как на говно, в худшем — как на пищу. Такое восприятие мира испугало Лайму, она не ждала ничего подобного, обряды-то у колдуний милые и так глубоко проникнуты духом любви…
— Ну так должен же кто-то кого-то любить, — сказала Мтити, когда Лайма поделилась с ней своим недоумением. — Вас, пятколицых, светлые боги любят, вам все равно, любить друг друга или нет, а нас, черножопых, никто не полюбит кроме нас самих. Вот и любим друг дружку.
Тогда Лайма решила, что не станет задумываться над темной стороной растаманской веры, а будет вечно скользить по ее краю, где нет злобы и ненависти, а есть только чистая и всепоглощающая любовь, и неважно, светлая она или темная. И пусть Мтити считает эту любовь минутной передышкой в вечности зла, Лайме нет до того дела. Лайма не увидит зла, не услышит зла, не станет говорить о зле, и тогда зло неизбежно минует ее. На худой конец, можно помолиться светлым богам…
Мтити долго смеялась над последней мыслью Лаймы. Кому молиться — личное дело каждого, но стоит ли отвечать на твои молитвы, и каким образом — личное дело бога, которому молишься. И если ты давно и твердо стоишь на темной стороне, то для светлого бога твоя молитва — почти как плевок в бороду.
— Погоди, — перебила ее Лайма. — Какая светлая сторона, какая темная? Ты так говоришь, будто боги построились в два строя и сражаются стенка на стенку, как воины в битве.
— Все верно, — кивнула Мтити. — Ты правильно поняла суть нашей веры.
— Но тогда вы поклоняетесь не тем богам! — запротестовала Лайма. — Вредным, злобным богам, врагам рода человеческого! Которые спят и видят, как погибнет мир, как все рассуждающее и любящее сотрется с лица земли!
— И снова ты права, — согласилась Мтити. — Но что нам осталось делать, когда светлые боги отвернулись от нас? Ты родилась и выросла свободной, ты не знаешь, как бывает, когда брат режет брата, а сестра вяжет сестру как скотину и выменивает на бутыль огненной воды.
— Тебя продала в рабство сестра? — изумилась Лайма.
— Нет, наоборот, — покачала головой Мтити. — Я продала в рабство сестру, потом опохмелилась, протрезвела, пришла домой и узнала, что отец проклял меня и изгнал. Тогда я пошла к ведьмам, потому что другой дороги не осталось. А ты думала, мы здесь просто так поем и пляшем, из одной любви?
— Да ну тебя, — отмахнулась Лайма. — Ты такие гадости говоришь! Давай лучше накуримся!
Мтити не возражала. Она накурила Лайму, потом они занялись любовью, сначала вдвоем, потом присоединились какие-то парни, а потом Лайма вспомнила, с чего все началось, и подумала, что это слишком похоже на дурной сон, чтобы быть правдой.
Но это было правдой. Лайма отнесла волшебный сосуд домой и семь ночей держала под кроватью, устанавливая мистическую связь с магическим содержимым, о котором не имела никакого понятия, потому что, видите ли, не положено. Никто не дал Лайме инструкций, только Мтити пробурчала что-то непонятное насчет того, что все станет понятно, когда придет время. А сама Лайма ни о чем не спрашивала, потому что разговаривать с ведьмами ей к этому моменту стало противно.
Время пришло на восьмой день. Лайма поняла это, когда стала задвигать под кровать ночной горшок и случайно задела другой сосуд, волшебный. Руку пронзила искра, какая бывает, когда гладишь кошку против шерсти, но сильнее и не грубо-вещественная, а с особым привкусом волшебства. Лайма познакомилась с этим вкусом на растаманских сборищах, так же пахли их обычные благовония, духи и смазки. Но тогда эта нота была едва уловима, а теперь ударила Лайму в нос, как маленькая молния. Лайма поняла, что должна открыть сосуд.
Она подняла крышку и увидела, что горшок на четверть наполнен землей, из которой растет красный цветок, похожий на мак, но другой. Взялась двумя пальцами за стебель, пальцы пронзила вторая искра и стебель переломился в месте касания, но не оттого, что она его сломала, а сам по себе, по собственному хотению. Лайма вставила цветок в волосы, посмотрелась в отполированное блюдо на стене и поняла, что рабыня, укладывавшая прическу, оставила между заколками как раз место под цветок, словно все знала заранее. Ничего удивительного, Мтити, помнится, говорила, что кто-то из темных богов умеет предвидеть будущее.
Стебель пронзил волосы, коснулся кожи головы и третья волшебная искра влетела Лайме в мозг и соскочила по позвоночнику в крестец, а по дороге выбросила большой протуберанец в сердце и два поменьше в печень и селезенку. И тогда Лайма узнала, что ей предстоит сделать.
Как глупа она была! Думала, что все высокопарные слова о темных богах, Омене Разрушителе и последней битве — глупый черножопый фольклор и ничего сверх. Нет! Мир не такой добрый и милый, как хочется верить! Нельзя вечно любить и наслаждаться, рано или поздно приходит время платить по счетам. Всякой вещи есть время распускаться и время увядать, и сейчас пришло время последнего, всеобщего, ультимативного увядания. Черное становится белым, белое становится черным, и веселые неунывающие растаманки несут в мир семя разрушения. А будет этим семенем… черт его знает, если честно, что или кто, но цветок поможет понять, он для этого, собственно, и нужен.
Лайма вышла на улицу и пошла куда глаза глядят, два раба-телохранителя следовали за ней неслышными тенями. Обычно Лайма передвигалась по городу в паланкине или, в крайнем случае, в карете, а ходить пешком избегала, потому что мостовые хоть и мощеные, но неровные, ногу подвернуть только так, а после дождя появляются коварные ямы, в которую если невзначай наступишь — окунешься с головой, да не в дождевую воду, а в разбавленные нечистоты. Но сейчас надо идти пешком, иначе не получится.
Время от времени цветок посылал в мозг очередную искру, тогда Лайма сворачивала направо либо налево, а если искры не было, то шла прямо. Цветок куда-то вел Лайму, она не знала ни места назначения, ни смысла путешествия к этому месту, ей было все равно, она утратила волю, стала приложением к цветку, набором его органов, безвольным исполнителем, орудием не то разрушения, не то чего-то еще в том же духе. Сознание Лаймы онемело и оцепенело, мысли застыли, только один край сознания сохранял какую-то активность, этим краем Лайма отметила, что ее путь не выходит за пределы верхнего города, и слава богам, а то с них станется завести ее в трущобы и там принести в жертву высшим соображениям, а то и в прямом смысле принести в жертву.
Взгляд Лаймы выхватил из толпы знакомое лицо. Лайма улыбнулась и крикнула:
— Привет, Мюллер!
Обняла старого знакомого, поцеловала в щеку, а тот почему-то вздрогнул, словно его поцеловал Омен Разрушитель.
— Слава тебе, Птааг, — пробормотал Мюллер.
При упоминании светлого бога цветок дернулся и послал в мозг Лаймы импульс неодобрения.
Мюллер ласково улыбнулся и воскликнул:
— Лайма, как я рад тебя видеть! Я о тебе столько думал… Все эти годы…
— Извини, Мюллер, — сказала Лайма. — Мне недосуг, тороплюсь.
Лицо Мюллера вытянулось, он напомнил Лайме собаку, которую неожиданно отругали. Какой он жалкий, когда строит такую морду, за прошедшие годы Лайма забыла, каким Мюллер бывает, да что там бывает, он почти что всегда дурной и унылый, просто память старается сохранять хорошее и забывать плохое, вот и кажется, что старые друзья все из себя такие великолепные…
— Может, как-нибудь… поужинаем? — спросил Мюллер.
— Обязательно, — улыбнулась Лайма. — Как-нибудь обязательно поужинаем. Пока, Мюллер!
Она пошла прочь, взгляд Мюллера буравил ей затылок, но она не обернулась, хотя и хотелось. Не потому, что передумала обрывать знакомство, совсем нет, просто цветок сообщил ей, что цель ее путешествия где-то рядом, чуть ли не на этом самом перекрестке. Надо выбрать из толпы нужного человека и коснуться его цветком, и этот человек станет тем самым воплощенным разрушителем, Оменом, который запустит последний отчет, и миру останется стоять пятнадцать лет, а потом всему придет конец. Стоп!
Лайма остановилась и обернулась. В десяти шагах от нее стоял Мюллер и смотрел на нее. А красный цветок в прическе Лаймы указывал на него, потому что этот дурачок невзначай коснулся цветка, когда Лайма целовала его в щеку, дуреха! Что она натворила!
Мюллер сделал серьезное лицо и подошел к ней. Справа и слева зашевелились неслышные тени, это приблизились телохранители, почуявшие повисшее в воздухе напряжение. Мюллер щелкнул пальцами, один телохранитель споткнулся на ровном месте, другой выронил меч. Лайма вскрикнула.
— Не бойся, — улыбнулся Мюллер. — Это Птааг помогает. Ты, наверное, подумаешь, что я сдурел, но я все равно скажу. Все эти годы я столько думал о тебе, ты мне снишься не каждую ночь, конечно, но все равно так часто, так часто… Я всегда был застенчив, никогда не мог ясно сказать… Ой…
Последний возглас был вызван тем, что взгляд Мюллера упал на руку Лаймы, где сверкало обручальное кольцо.
— Я вдова, — быстро произнесла Лайма.
И сразу покраснела, потому что поняла, что произнесла эти слова слишком быстро, неразборчиво и слишком… гм… заинтересованно. Неужели ей действительно понравился этот парень? Стоп! Какое к чертям понравился?! Она коснулась его проклятым цветком, прокляла и его, и весь мир заодно, потому что запуталась… да кого волнует, отчего и почему?! В школьном учебнике она читала про последний грех, но могла ли она представить себе, что совершит его сама лично, и не с какой-нибудь важной целью, а просто так, по дурости! Боги, за что?!
— Прости, — сказал Мюллер. — Я не подумал… прости… Я такой дурак…
Он отвернулся и пошел прочь. Лайма смотрела ему вслед, и в глазах ее стояли слезы. Это не были слезы горя или слезы отчаяния, это были слезы равнодушия, такие, оказывается, тоже бывают. В считанные мгновения весь ее мир разрушился до основания, все утратило смысл, выхолостилось, и сама она стала как глиняный голем, наподобие того, которого оживляли на предпоследнем шабаше, пустая и равнодушная она стала, один только ничтожный кусочек души оплакивал эту участь. Очень-очень маленький кусочек. Совсем ничтожный.
— Прошу простить, госпожа, — сказал телохранитель.
— Прошу простить, госпожа, — отозвался эхом другой. И добавил: — Это, наверное, колдун.
— Это не колдун, — сказала Лайма. — Это хуже. Все, прогулка окончена, идем домой.
3
До недавнего времени городская стража Палеополиса пользовалась дурной славой. И в нижнем, и в верхнем городе любили рассказывать анекдоты про жадных и глупых стражников, и анекдоты эти были недалеки от истины. Действительно, стражники в массе своей глупы и жадны, так бывает в любой профессии, которая не слишком прибыльна и не уважается в обществе. Но в последние годы многое изменилось.
Первым шагом к новому порядку стал указ о запрете наркотиков. Раньше стражники преследовали только явных уголовников, но теперь каждый десятый житель Палеополиса имел основания опасаться преследований. А где опасения, там взятки, а где взятки, там уважение и престиж. Потом кто-то догадался, что наркотик можно не только изъять у наркомана, но и подбросить обычному жителю, и пусть откупается либо доказывает суду, что не преступник. И когда эта практика стала общепринятой, обыватели перестали презирать стражников, а стали уважать и бояться. Говорят, в какой-то момент общественное неудовольствие достигло императорских ушей, и владыка мира отписал в кабинет министров распоряжение, чтобы разобрались и приняли меры. Но тогда как раз столицу заполонили раставедьмы, император оценил масштаб угрозы, отозвал вышеупомянутое распоряжение, и наоборот, приказал содействовать городской страже в ее нелегком труде, ибо другого пути борьбы с заморским колдовством в природе не существует.
На первый взгляд, раставедьмы ничего плохого не делают. Легкие наркотики, умеренный разврат, ночной шум — даже по самым драконовским законам это тянет на небольшой штраф, не более того. То, что черножопые суки приносят заморское беззаконие на место традиционных нравственных ценностей — это на первый взгляд кажется совершенно незначительным. Светлые боги или темные — простому человеку все едино, лишь бы помогали в повседневных делах, а если не помогают, молитва в любом случае полезна душе, даже если бог не расслышал. А что на каждом шабаше ведьмы призывают в мир Омена Разрушителя, и стоять миру осталось по их собственным словам пятнадцать лет — этого обывателю не понять, он так далеко в будущее не заглядывает. Но император должен думать не только о ежедневных делах, но и о государственной безопасности.
Первоначально предполагалось, что ведьм будут преследовать в открытую, не скрываясь. Император издал указ, объявил растаманское движение вне закона, а пойманных с поличным повелел убивать на месте без суда и следствия. На вторую ночь после оглашения указа был намечен шабаш, его превратили в кровавую баню. Казалось, черная угроза вот-вот исчезнет, но нет, неожиданно выяснилось, что семя чужеродной религии уже успело дать первые всходы, уже появились белокожие девушки и женщины, открыто называющие себя ведьмами, и не все они бедные и ничтожные, хватает среди них богатых и знатных, кого просто так не казнишь. Поняли это, к сожалению, слишком поздно, уже когда успели замочить одну виконтессу, а изуродованный труп не спрятали, а наоборот, вывесили на улице, идиоты, в устрашение. Ну и устрашили сами себя в итоге, дебилы.
После этого конфуза император официально повелел прекратить преследовать раставедьм, но одновременно учредил особую тайную стражу, которой поручил борьбу с заморскими ведьмами и прочими угрозами нравственной безопасности. И чтобы боролись тайно, не пугая народ.
Новую стражу провели приказом как отдел старой, начальником нового отдела никто становиться не хотел, и господин Шикадам, возглавивший столичную стражу после отставки проворовавшегося господина Анкера, ткнул пальцем наугад в список кандидатов, и угодил в некоего Тома по прозвищу Заяц, которого совершенно не знал. Выбор оказался почти идеален, не иначе, боги помогли.
В тот момент Том Заяц возглавлял охрану Сингальского базара, крупнейшего во всей вселенной торгового заведения. Том прославился тем, что получил высокую должность не по наследству и не за взятку, а через честное исполнение обязанностей, это был чуть ли не единственный человек в империи, начавший службу рядовым стражником и достигший таких заоблачных высот. Злые языки распускали слух, что Том поднялся после указа о наркотиках, что он якобы не просто подбрасывал кулечки с травой в карманы прохожим, как обычные стражники, а создал целую мастерскую по производству липовых уголовных дел. Говорят, он завербовал целый десяток громил во главе с десятником, и эти громилы хватали на улицах прохожих, говорили им: «Ты наркоман!», а кто не мог откупиться, тех продавали в рабство на заморские плантации, тогда как раз был пик спроса на рабочую силу.
Сам Том все обвинения и намеки категорически отрицал. Говорил, что честно исполнял долг перед богами, начальством и Родиной, вот и поднялся. Мало кто в это верил, но все делали вид, что верят, потому что Том сделался грозен и суров, и ругаться с ним было страшно.
Жил Том в верхнем городе, на улице Очарования, в небольшом, но богато отделанном двухэтажном особняке. Три года назад Том женился на некоей Джеми Трясогузке, очень красивой дворянке из захудалого рода. Многие друзья осудили этот выбор, дескать, недостаточно знатная невеста, но Том им говорил:
— Да мне покласть, хоть дворянка, хоть крестьянка, хоть вила зеленая. Вы поглядите, какая она здоровая, умная и красивая! Каких сыновей и дочерей она мне нарожает!
Господин Кидд, бывший в то время непосредственным начальником Тома, в ответ хмыкнул и сказал:
— Если так подходить, лучше бы ты на шлюхе женился. Но чтобы здоровая.
Стражники, присутствовавшие при разговоре, охнули и приготовились хватать Тома, когда тот станет отвечать на оскорбление. Но он не оскорбился, а рассмеялся и сказал:
— Нет, на шлюхе жениться я не буду. Во-первых, здоровых шлюх не бывает, а во-вторых, они все морально неуравновешенные. И в-третьих, я их всех уже трахал, а хочется новизны!
Господин Кидд рассмеялся, хлопнул Тома по плечу и в итоге они так и не поругались. Потому что Том Заяц был человеком высоких дипломатических способностей.
Сейчас Том и Джеми воспитывали двоих детей: сына двух лет и дочь-младенца. Что из них вырастет, судить рано, но оба живы и здоровы, и жена не померла родами, и слава богам. Впрочем, со здоровьем у нее не все в порядке, со времен родов за ворота не выходит, даже на базар посылает вместо себя рабыню-домоправительницу.
Том не опровергал слухи, что его жене поплохело на вторых родах. Он справедливо решил, что пусть лучше болтают так, чем станет известна правда. А правда была в том, что Том боялся раставедьм.
Когда он только-только приступал к исполнению новых обязанностей, он полагал, что борьба с ведьмами будет таким же простым и веселым делом, как и борьба с наркоманами. Он думал не столько о том, как извести ведьминскую заразу, сколько о том, как подзаработать по ходу. Все казалось предельно простым: наловить но улицах сотню-другую черножопых баб, каждую допросить, бесперспективных продать в рабство, а с перспективных собрать показания, наловить по этим показаниям богатых дурочек, предъявить обвинения… Все организовать будет довольно трудно, но если удастся справиться, то за год немудрено и миллион поиметь.
Прошел месяц, и Том перестал думать, как поиметь миллион за год. К его огромному удивлению, черножопые ведьмы оказались вовсе не безобидными нарушительницами порядка, как все думали. Оказалось, что это мощная и эффективная организация, которая не просто организует развлекательные шабаши, но ставит целью ниспровержение всего миропорядка, и покровительствуют ей непосредственно темные боги: Кали, Рьяк и прочая мерзость, они, оказывается, присутствуют в мире не только как символы человечьих пороков, но и как злобные надмировые сущности, в прошлом лишенные власти, а теперь желающие взять реванш — уничтожить вселенную и начать заново, с нуля. Перестроить мир по собственному разумению, чтобы в нем не нашлось места ни светлым богам, ни светлым чувствам, чтобы миром правило злобное механистичное равнодушие. Ужас.
Только то спасло Тома, что враг не сразу принял его всерьез. Ведьмы, о нем наводившие справки, отнеслись к поставленной задаче спустя рукава, и не заглянули под маскировку, какую Том надевал, общаясь с государственными чиновниками. Решили, что перед ними бюрократ, маскирующийся под интригана, а то, что перед ними интриган, маскирующийся под бюрократа, маскирующегося под интригана — этого ведьмы не поняли, это для них оказалось слишком сложно. Слава светлым богам, что уберегли, а то пропал бы ни за грош, как Кай Мертвяк, и тело не нашли бы, ведь тело Кая нашли случайно, тоже светлые боги помогли, не иначе. Жаль, что избавить Кая от смерти богам стало не под силу. Ну спасибо и на том, что не дали врагу спрятать тело.
К счастью для Тома, ни рядовые ведьмы, ни их начальницы, непосредственно работающие с богами, не смыслят в оперативной работе ни черта. Они смотрят на мир просто — врага убивай, а дураку пропаривай мозги и делай другом. А завербовать человека, чтобы тот исподволь подтачивал вражью армию, разрушал изнутри — это для них слишком сложно, такому они в своих тропических лесах не обучались. Но учатся они быстро, зря люди говорят, что черножопые все глупые. Если они и глупее белокожих, то совсем чуть-чуть, дать ведьмам еще год-два, чтобы окончательно обвыклись в городе — подомнут под себя всю страну однозначно, и на императорском троне будет сидеть обезьяна в перьях и трясти голыми сиськами.
Том не собирался давать ведьмам время. Он был убежден, что решающее сражение сил добра с растаманской мразью состоится в ближайшее время, и ничейного исхода не будет. Либо секты черножопых будут полностью истреблены, либо миру придет конец. И случилось так, что именно Тома выбрали светлые боги, чтобы миру не пришел конец. Да, он недостоин, но это не повод отказываться от божьего доверия. И он не отказался, он сделал все, что в человеческих силах, а все дальнейшее в руках божьих.
Том назначил спасение мира на сегодняшний вечер. Все подготовлено, в нужный момент в десятках разбросанных по столице тайных убежищ распахнутся двери, бойцы войдут внутрь, начнется резня. Это будет именно резня, следствие разрешается проводить только в спорных случаях, если под раздачу вдруг попадет белая девица. Том надеялся, что еще не слишком много столичных жительниц успели погрузиться в растаманскую ересь по-настоящему глубоко. Потому что если это не так, то империю уже ничто не спасет.
Бахнула пушка. Обычно она стреляет раз в день, в полдень, сегодняшний вечер — исключение. Некоторые агенты доносили нечто невнятное насчет того, что ведьмы умеют читать мысли, иногда даже не входя в визуальный контакт, врут, скорее всего, но чем черти не шутят… Поэтому Том распорядился организовать дополнительный выстрел в неурочное время, чтобы все частные операции начать строго одновременно, и тогда чтение мыслей ведьмам не поможет.
Дверь бесшумно распахнулась. Свистнул кистень, хрустнули кости черепа, черножопый раб-привратник повалился на пороге лицом вниз. Рассчитывал на свободу, дурачок, не знал, что плата за предательство всегда одна, даже если предаешь плохое дело в пользу хорошего. А теперь вперед, ребята, с нами божья сила! Птааг, Митра и прочие, не оставьте в беде возлюбленных чад своих…
Двое громил с перевязанными лицами, чтобы потом никто не опознал, ворвались внутрь. Какая-то женщина вспискнула, затем захрипела, грузно осела на пол. Ну, понеслось…
Том поправил повязку на лице, провел рукой по краям ткани, вроде не сползла. Не дай боги показать лицо этим тварям хоть раз, в тот же день найдут и уничтожат, и не только тебя самого, но и семью, и всех, кто тебе дорог. Знать бы, как они всегда угадывают… Бедный Кай…
В доме загрохотало, завизжало, в окнах замерцали колдовские сполохи. Все, побоище началось, можно не скрываться.
— Стрелкам внимание! — крикнул Том.
Вовремя крикнул — в центральном окне второго этажа распахнулись рамы, в ночное небо взмыла голая баба верхом на метле. Была бы баба черная — так и улетела бы, и хрен бы кто в нее попал в темноте. А так свистнули стрелы, и полетела мерзавка с метлы вниз башкой прямо на мостовую. Но позвоночник не захрустел, повезло чертовке, то ли метла на излете дала чуть-чуть остаточной тяги, то ли из здания повеяло колдовством, короче, приземлилась ведьма не на жесткие камни, а на мягкую кучу, не то компостную, не то мусорную. Уберегли суку темные боги.
— Отставить! — рявкнул над ухом Гор Ястреб, старый товарищ Тома еще по тем наркоманским делам. — В жопу себе мушкет засунь! Насмерть только черножопых мочить, забыл, идиот?!!
— Гор, следи за окнами, — приказал Том. — Тед, Рико, пойдемте со мной, принимаем ведьму.
Они приняли ведьму без проблем. Стрела в ляжке полностью подавила волю к сопротивлению, ведьма стала как шелковая.
— Красивая баба, однако! — констатировал Тед Балалайка, когда разглядел ее в мерцающем свете факела. — Отмыть бы, да в койку… Командир, ты как?..
— Отставить, — покачал головой Том. — Кай уже отмыл одну… Кто такая?
— Лайма Патиритилап, — представилась ведьма. — Графиня.
Она дрожала мелкой дрожью, как котенок под дождем, в волосах запутались овощные очистки, а по животу стекало что-то грязное. Но все равно, как же она красива, повезло графу… как его там…
— Повезло графу, — сказал Рико Пузырь.
Голая графиня посмотрела на него как на дурака и сказала:
— Его высочество умер.
— Значит, не повезло, — сказал Рико.
— Это смотря с кем сравнивать, — сказал Том. — В кандалы и на дыбу.
— Может, лучше не на дыбу? — предложил Тед. — Может, лучше того самого… Сначала в кандалы, потом отмыть, а потом того самого…
— Того самого лучше ежу сделай или гадюке подколодной, — посоветовал Том. — Целее будешь.
— А она разве ведьма? — спросил Тед и подмигнул тем глазом, который пленница не видела. — Что-то мне кажется, она тут случайно… попала под дурное влияние…
Том повернулся к Рико и подмигнул. Тот понял и тоже включился в игру.
— Когда кажется, Птаага помяни, чтобы не казалось, — сказал Рико. — Сразу видно, что ведьма матерая. Бьюсь об заклад, она глава этого, как его…
— Ковена, — подсказал Тед.
— Я не глава ковена! — закричала ведьма Лайма. — Я всего лишь третьего… гм… вообще не ведьма.
— Проболталась! — радостно констатировал Рико. — Так и запишем в протокол — ведьма третьего уровня! Мужа, небось, колдовством уморила?
Задавая этот вопрос, Рико не рассчитывал, что попадет в точку, он просто пошутил. Но ведьма так засверкала глазами, что всем сразу стало ясно — угадал. Надо же, только вчера, казалось, появилось в столице черное колдовство, а уже одна белая баба его полностью освоила. Вовремя начали операцию, ведь когда таких баб станет тысяча, бороться с ними будет поздно. Если сейчас еще не поздно…
Тед нахмурился и вопросительно посмотрел на начальника. Том понял смысл взгляда и задумался.
— Нет, — решил он после минутного размышления. — Все-таки нет. Казнить дворянку без суда — это перебор. Тем более графиню.
— А кто узнает? — спросил Рико. — У нее на лбу не написано, что она графиня.
— Драгоценности, — подала голос пленница.
— Это дело поправимое, — сказал Тед и гнусно ухмыльнулся, но сообразил, что выходит из роли хорошего следователя и стер улыбку с лица.
— Все-таки нет, — повторил Том. — Это только кажется, что никто не видит, а реально там за каждым ставнем по глазу. А что у кого на лбу написано, будешь на дыбе палачу объяснять. Кандалы, короче.
— Как скажешь, шеф, — вздохнул Рико. — Но все-таки зря ты. Сначала в больнице освидетельствовать, потом у жреца… сколько бумажек заполнять…
— Тебе-то что? — огрызнулся Том. — Бумажки не тебе заполнять, ты неграмотный. Все, закончили обсуждать приказ, выполняем.
Бойцы еще чуть-чуть повздыхали и начали выполнять приказ. Нацепили на бабу кандалы, ручные и ножные, Рико при этом потискал ведьму за сиськи, но аккуратно, без синяков, так что Том не стал вмешиваться.
— Гляди, шеф! — подал голос Тед. — В волосах у нее, в прическе, вот здесь, что-то волшебное было.
Том поднес факел поближе к ведьминой голове, не настолько, чтобы поджечь волосы, но достаточно близко, чтобы разглядеть.
— Молодец, Тед, глазастый, — согласился Том. — Тут артефакт был.
— Ух ты, точно артефакт! — восхитился Рико. — Давай, ведьма, колись, что за артефакт!
Ведьма Лайма шмыгнула носом и затараторила, жалко и неискренне:
— Ничего не знаю, никакого артефакта не было, отпустите меня, а то…
Продолжить эту мысль, сформулировать хоть какую-то внятную угрозу она не смогла.
«Может, не графиня?» подумал Том. «Может, врет? Вдуть прямо сейчас… Нет, опасно, вдруг не врет..»
Рико тем временем шлепнул пленницу по голому заду, графиня завизжала.
— Тихо, успеешь еще, — сказал Том.
— Стало быть, успею? — переспросил Рико и демонически улыбнулся. — Передумал, командир?
— Обязательно, — улыбнулась Лайма. — Как-нибудь обязательно поужинаем. Пока, Мюллер!
— Она не оставляет нам выбора, — сказал Том и пожал плечами. — Но действовать будем по закону. Сначала документально зафиксируем ведьминскую сущность, потом отлучим от светлых богов…
— Отлично, так и сделаем, — перебил его Рико. — Все в лучшем виде сделаем, сначала бумажки, потом пытки и насилие.
— Давайте, — кивнул Том.
Графиня Лайма скорчила обиженную гримасу, но заплакать не успела, бойцы уволокли ее быстрее. Том проводил их взглядом и вспомнил, что Тед тоже неграмотный, не только Рико, так что если графиня не расколется… Нет, расколется она, и намного быстрее, чем неграмотность стражников станет очевидной. Все будет нормально.
4
В больнице творилось черт знает что. Старый Джин Моргало сказал, что не помнит такого со времен чумного поветрия, поразившего империю пятнадцать лет назад. Молодые знахари почтительно внимали и кивали, они помнили ту историю смутно и неопределенно, как помнятся детские воспоминания. Мюллер, правда, все помнил отчетливо, но у него были на то свои причины.
Сегодняшний переполох был необычен. Обычно в больницах происходит что-то подобное, когда в городе вспыхивает эпидемия либо пожар, тогда в больницу привозят заболевших либо обожженных, чтобы знахари облегчали их страдания, пока несчастные не помрут. Говорят, в трущобах нижнего города иногда случаются большие поножовщины стенка на стенку, но в приличных районах такого не бывает, здесь главные причины врачебных переполохов — заразные поветрия и пожары. Но сегодня все не так.
Сегодня вечером городская стража вступила в решительный бой с растаманской ересью. Черножопых ведьм убивают везде, где находят, и уже наубивали бесчисленно, будет бродячим собакам знатный пир. А белокожих девиц, пойманных при подозрительных обстоятельствах, свозят в больницу на освидетельствование, и набралось этих девиц столько, что знахари сбились с ног. Говорят, господин Поуп, управляющий богоугодными заведениями верхнего города, обратился в университет, чтобы направляли в больницы студентов-старшекурсников с медфака, как бы на практику. Это предложение встретило решительный отказ, дескать, не благородное это дело — у ведьм в интимных местах ковыряться. Господин Поуп возразил, что освидетельствование ведьм уже сто лет как не связано с интимными местами, а делается простым прикосновением волшебной палочки. Но господину Поупу сказали, что не его дело указывать сертифицированным экспертам, как делается освидетельствование, и если вдруг господин Поуп захочет кого-нибудь чему-нибудь поучить, то пусть идет на базар или в пивную, а в университет пусть не идет. Короче, студентов не дали, а страже все равно, они говорят, у них приказ от самого Тома Зайца выставить посты у всех выходов и врачей наружу не выпускать, пока всех ведьм не обработают.
Обработка ведьмы — дело нехитрое. Достаточно один раз дотронуться до обнаженной кожи волшебной палочкой в любом месте, и все становится ясно. Главное — не забывать, что всякое волшебство отнимает у волшебника чуть-чуть силы, и десять ведьм в день свалят с ног кого угодно. А сегодняшней ночью на каждого знахаря пришлось по двадцать с лишним. Вон, Клод Котяра не рассчитал сил и превратился из знахаря в пациента, валяется на тюфяке без чувств и переживет ли ночь — одним богам ведомо. Не догадался, бедняга, что добросовестность добросовестностью, а меру знать надо. Когда ведьмы идут потоком, вовсе не обязательно каждую проверять по-честному, ткнул палочкой куда-нибудь в платье, и хватит с нее, белые ведьмы все новообученные, колдовских правил толком не разумеют, а стражники — тем более. Просто говоришь, что виновна, а проверять никто не будет, обухом по башке, и на костер, и никого не колышет разбираться, кого казнили честь по чести, а кому не повезло. И нечего мучиться совестью, совесть не казенная, на всех не хватит.
У молодого знахаря Мюллера была еще одна, дополнительная причина не делать анализы как положено. Мюллер технически не мог сделать анализ — стоило ему взять волшебную палочку в руку, как та сразу показывала, что ее держит ведьма. Мюллер сам стал ведьмаком, и не дай боги, чтобы кто-нибудь заметил — растерзают в момент.
Мюллер не знал точно, как это произошло, но догадывался. Когда он встретил Лайму и поцеловал в щечку, он почувствовал, как в нем что-то изменилось, причем изменение пришло не из губ, а из головы, это было похоже на то, как бывает, когда трогаешь волшебную палочку, заряженную работающим заклинанием. Но как она смогла его заколдовать в тот момент? И на кой черт он ей сдался…
Вежливое покашливание прервало Мюллеровы размышления. Он поднял глаза и почти не удивился, увидев Лайму, нервно потиравшую только что раскованные запястья… Мюллер взял ее за руку и сказал:
— Пойдем.
И как бы невзначай приложил указательный палец к губам, дескать, молчи. Лайма промолчала, при этом, правда, вздрогнула, но это не страшно, тут нет палева, на ее месте любая бы вздрогнула.
— А ну пошла, сука! — поддакнул Мюллеру сопровождавший Лайму стражник, маленький и бородатый, похожий на сказочного гнома.
— А чего пошла? — заинтересовался второй стражник, длинный и тощий, как сказочный кащей. — Другие вон, прямо на месте палкой тык, и готово.
Мюллер остановился и медленно повернулся. Посмотрел длинному в глаза снизу вверх и переспросил:
— Палкой тык, значит?
— Палкой тык, — подтвердил длинный.
Мюллер вытащил из-за пазухи волшебную палочку и направил на длинного. Тот побледнел. Еще бы не побледнеть, он ведь не знает, что это только имитация, а настоящую волшебную палочку Мюллеру теперь при свидетелях в руки не берет.
— Ты чего? — испуганно забормотал бородатый. — Чего тычешь-то?
— А ты мне не указывай, куда тыкать, — сказал ему Мюллер. — Я тут подумал, ты часом не упырь?
Бородатый выпучил глаза, открыл рот и всхрапнул, как споткнувшаяся лошадка.
— Да я тебя… — начал он, но заткнулся, потому что товарищ сунул ему кулаком под ребра.
— Он не упырь, — сказал длинный, обращаясь к Мюллеру. — Давайте не будем усугублять.
— Давайте не будем, — согласился Мюллер. — Пошли, ведьма!
Они вошли в тесную комнату с ветхим столом и двумя еще более ветхими скамейками. Мюллер иронично называл ее своим кабинетом.
— Бабу на стол, — приказал Мюллер. — Отставить! Заголять не надо, просто положите на стол спиной вниз.
— Не надо меня ложить, — подала голос Лайма. — Сама лягу.
И действительно, взгромоздилась на стол, легла. Мюллер обратил внимание, что колени она целомудренно сдвинула, как школьница. Небось, на шабашах не такая скромница была…
Мюллер ткнул Лайму палочкой в шею, подержал, отпустил.
— Не ведьма, — констатировал Мюллер.
— Как не ведьма?! — возмутился гномоподобный стражник. — Ден, скажи, она на метле летала?
— Бухать надо меньше, — сказал Мюллер. — Не ведьма. Волшебство врать не будет. Ты колдовскую ауру видел? Видел или нет, не слышу ответа?!
— А ты мне не командуй, — пробормотал гномообразный.
— Так видел или нет? — не унимался Мюллер. — Не видел? А знаешь, почему не видел?
— Почему? — спросил гномообразный.
— Потому что ее нет, — заявил Мюллер. — Девица не виноватая. Чаю хочешь, девица?
— Угу, — кивнула Лайма.
— Вон отсюда, — приказал Мюллер стражникам.
Тощий стражник деланно засмеялся.
— Ну ты даешь, пацан, — сказал он. — Увидел, значит, красивую телку и решил того?
Мюллер решил, что пора переходить в наступление. Состроил гневное лицо, взмахнул палочкой, проводил убежавших строгим взглядом, покачал головой и закрыл дверь. Щелкнул кресалом, с третьего раза высек искру, разжег горелку под чайником.
— Как ты сумел? — спросила Лайма. — Я же на самом деле…
— Я знаю, кто ты на самом деле, — кивнул Мюллер. — Я теперь такой же. Твоя работа? У тебя в волосах артефакт был…
Лайма расплакалась. Уселась на край стола, спустила ноги вниз, с одной ноги свалилась туфля, а ногти на ноге неухоженные, некрашеные, даже странно, обычно богатые дворянки за собой лучше следят…
— Да насрать, — сказал Мюллер.
Сел рядом, обнял Лайму за плечи, она доверчиво прильнула к нему.
— Ну, хватит, завязывай плакать, — говорил ей Мюллер. — Сейчас тебя успокоим, умоем, доставим к мужу…
Лайма нелепо всхрюкнула и перестала плакать. Недоуменно посмотрела на Мюллера и сказала:
— Какой муж, ты чего? Я вдова. Я же тебя говорила.
Глаза Мюллера полезли на лоб.
— Вдова? — переспросил он. — Извини, не расслышал. Так, это… тогда, может… поужинаем?..
Лайма вытерла слезы, шмыгнула носом и неуверенно улыбнулась.
— Пойдем, поужинаем, — сказала она. — А тебя выпустят? Там у дверей громилы везде…
— Ох, не знаю, — сказал Мюллер. — Ну ладно, давай не пойдем. Тут у меня для дезинфекции…
Он открыл шкаф, вытащил бутыль зеленого вина и два запыленных стакана. Оглядел критически, попытался протереть рукавом донце, затем сказал:
— Да ну его, само обеззаразится…
Разлил по стаканам, один придвинул Лайме.
— Твое здоровье, — сказал Мюллер.
Они чокнулись, выпили, Лайма закашлялась. Мюллер стал хлопать ее по спине, случайно приобнял, а потом как-то незаметно случилось так, что они поцеловались. И чем больше они целовались, тем сильнее распалялись, и не будь мебель в комнате такой ветхой, наверняка потрахались бы прямо здесь. Но стоило Мюллеру попытаться водрузить Лайму на стол, как тот заскрипел, захрустел и стало очевидно, что трахаться на нем нельзя. А на полу слишком жестко, хотя если покидать одежду в кучу… нет, все равно жестко.
— А как получилось, что ты знахарем работаешь? — спросила Лайма. — Разорился?
— Типун тебе на язык, — сказал Мюллер. — Меня просто прет от медицины. Я считаю, у каждого человека должно быть дело, будь ты хоть каким богачом. Если все время жрать, бухать и трахаться, тогда тупеешь, а если начинаешь работать, пусть даже для развлечения…
Лайма захихикала и прикрыла ладошкой его рот.
— Ты всегда был долбанутым, — сказала она. Убрала ладошку, поцеловала Мюллера в губы и добавила: — Мне это нравится.
— Я тоже тебя всегда любил, — невпопад сказал Мюллер.
Лайма засмеялась и тоже хотела что-то сказать что-то доброе, но в этот момент дверь открылась и в комнату заглянул господин Ион.
— А, вот ты где, Мюллер, — сказал он. — Давай, сдавай ведьму и пойдем, аврал кончился, всех отпускают.
— Она не ведьма, — сказал Мюллер.
— Да ну? — удивился господин Ион и вытащил волшебную палочку.
— Я тебе в жопу ее засуну! — рявкнул Мюллер. Но тут же покраснел и добавил, негромко и смущенно: — Простите, пожалуйста, господин Ион, случайно вырвалось, больше не повторится.
— Гм, — сказал господин Ион и оглядел Мюллера более внимательно. Улыбнулся своим мыслям, убрал палочку и сказал: — Да, точно, не ведьма, как же я раньше не заметил…
И он удалился, бормоча себе под нос:
— Действительно, какая ведьма с такими-то сиськами… Ах, молодость…
А Мюллер с Лаймой поцеловались еще раз и пошли из больницы прочь, искать круглосуточный трактир с нумерами на втором этаже. И там их любовь достигла кульминации.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ. РАВЕНСТВО И БРАТСТВО
1
В северной части Палеополиса, где проспект Айгуль Открой Личико пересекает улицу Роксфордской Обороны, за чугунным забором стоит дворец графини Патиритилап. Дворцом это здание называют по одной-единственной причине — оно входит в высочайше утвержденный перечень столичных дворцов. Раньше, когда хозяином этого места был Дельф Патиритилап, он еще как-то следил за состоянием построек, а когда граф умер и хозяйкой стала графиня Лайма, она все пустила на самотек, ремонты делать перестала, грибок из подвалов не вытравливала и даже молебны о прочности и долголетии не заказывала. Неудивительно, что дворец обветшал. Статуи облупились, фрески облезли, что даже в ясную погоду ни черта не разберешь на них, и штукатурка на лестницах и в коридорах тоже облезла, по углам сырость, жуть!
В прошлом Лайма Патиритилап была знаменитой столичной красавицей. Художники рисовали с нее картины, скульпторы ваяли статуи, поэты посвящали ей стихи и, говорят, сам император наводил справки о здоровье графини на предмет того, не включить ли ее в свой гарем. Казалось, Лайме предопределена великая карьера, но графиня, по всей видимости, прогневала богов, и они отомстили ей по полной программе.
Все началось с того, что Лайма споткнулась на лестнице, упала и выбила о ступеньку передний зуб. На первый взгляд, ничего страшного, пару недель походила щербатая, потом сделали протез из моржового клыка, улыбка стала лучше чем была. Но это был не просто несчастный случай, это было божье предзнаменование. Типа, готовься, графиня, скоро неприятности повалят валом.
Прошло два месяца, и граф Дельф тяжело заболел. Ходили слухи, что его отравили не то понаехавшие варвары, не то чиновники-коррупционеры. Дежурный провидец признал смерть графа естественной, но это неудивительно, у провидцев почти все смерти естественные. Графиня тяжело переживала несчастье, даже ушла ненадолго в запой, а когда выбралась, повадилась ходить на растаманские шабаши. Говорили, что Лайму посвятили в ведьмы не то второго, не то третьего уровня, но это почти наверняка клевета, потому что в ночь длинных ножей, когда графиню сволокли в больницу на освидетельствование, знахарь признал ее чистой. Кое-кто, правда, говорит, что знахарь признал ее чистой не просто так, а за взятку, причем взятку эту Лайма якобы заплатила не золотом, а собственным телом. Но это клевета.
Как бы то ни было, графиня пережила ночь длинных ножей, отделавшись легким испугом. С растаманской ересью она порвала, но в высший свет не вернулась, репутация Лаймы была подпорчена, а еще она подлила масла в огонь, объявив во всеуслышание, что балы, приемы и прочие светские развлечения ей осточертели, и отныне она будет вести простой и скромный образ жизни. После таких слов ее совсем перестали приглашать на светские мероприятия, так что ей поневоле пришлось жить скромно. Лайма закрутила роман с захудалым дворянчиком по имени Мюллер, они раньше то ли в одном классе учились, то ли в детский сад вместе ходили, и, говорят, была между ними наивная детская любовь, а потом они расстались и случайно встретились через много лет, а у Лайма как раз все эти передряги, хочется моральной поддержки, короче, вспыхнула старая страсть новым пламенем, и не угасла через месяц, а превратилась в большое светлое чувство. Мюллер и Лайма поженились, стали жить во дворце Патиритилап, жили скромно, приемов не устраивали и, если верить рабам, очень много времени проводили в постели. На следующий год Лайма родила Мюллеру дочь, которую назвали Анжелой, потом у них родилась вторая девочка, которая умерла через час после родов, даже имя дать не успели, а еще через два года родился мальчик по имени Жан. Лайма за это время сильно растолстела, но привлекательности в глазах мужа не утратила, рабы в один голос говорят, что графиня и виконт-консорт любят друг друга со страшной силой и хорошо бы каждому помолить светлых богов о такой сильной любви.
Финансовое положение супругов оставляло желать лучшего. От первого мужа Лайма унаследовала солидное состояние, но кое-что пришлось раздать другим родственникам, и получилось так, что в это кое-что вошел серебряный рудник, который был для графа Дельфа основным источником дохода. Судя по всему, дальние родственники подкупили стряпчего, оформлявшего наследство, а Лайма ничего не заметила, пока не стало слишком поздно.
Сейчас Мюллер и Лайма едва сводили концы с концами. Рабов у них осталось только трое: горничная, кухарка (она же кормилица для маленького Жана) и дворник, остальных пришлось распродать. Большую часть помещений сдавали в аренду, сейчас, например, на территории дворца размещалась лавка старьевщика-антиквара, лавка зеленщика, винный погребок и два благотворительных общества. Только одно-единственное крыло о шести комнатах безраздельно принадлежало супругам. С каждым годом жизнь Мюллера и Лаймы становилась чуть-чуть скуднее, и это неудивительно — цены растут, дом ветшает, и сколько ни поднимай арендную плату, все равно за ценами не угнаться, можно, конечно, сделать ремонт, но это лучше было делать раньше, пока были деньги, а теперь суетиться уже поздно.
Виконт-консорт Мюллер имел необычное для дворянина хобби — тайно подрабатывал знахарем в одной городской больнице. В ночь длинных ножей именно он осматривал Лайму на предмет того, не ведьма ли, и именно он признал ее чистой, так что слухи насчет того, что ее освидетельствование проходило не совсем справедливо, правдивы. Но взятку она Мюллеру не давала ни золотом, ни телом, он ее спас от лютой смерти добровольно, без принуждения, потому что любил. И замуж за него она вышла не по принуждению и не из благодарности, а тоже по любви. А ведьмой она была, это факт. Более того, Мюллер тоже был ведьмаком, и никто, кроме жены, этого не знал и не подозревал о том. Среди жителей Палеополиса распространено поверье, что к колдовству способны одни только женщины, а мужчины этого таланта лишены от природы. Это неверно, мужчины-колдуны тоже бывают, хотя редко, и их колдовская сила обычно невелика. Мюллер был вполне типичным колдуном, его ведьмовская природа проявлялась только в лабораторных анализах, а применять магию себе во благо он не умел. Сколько они с Лаймой ни пробовали творить разные заклинания, в руках Мюллера ничего не работало. Впрочем, Лайма тоже была не бог весть какая ведьма, всего лишь третьего уровня.
В последние годы хобби Мюллера перестало быть просто хобби, а стало существенным источником пополнения семейного бюджета. Обычно знахари перебиваются с хлеба на молоко, а мясо едят только по праздникам, но Мюллер был не простым знахарем. Все знали, что он только прикидывается простолюдином, а на самом деле дворянин, закончил в свое время медфак с отличием, но разорился из-за кризиса и вынужден зарабатывать знахарством. В глаза ему ничего такого не говорили, чтобы не расстраивать, Мюллер старательно делал вид, что стесняется слишком благородного происхождения, а коллеги делали вид, что в это верят (а многие реально верили), и потому старательно изображали, что считают его простолюдином. Но платили Мюллеру намного больше, чем обычно платят простолюдину. Кроме того, все знали, что Мюллер пишет большой трактат, в котором собирает воедино все медицинские знания, накопленные просвещенным человечеством от начала времен. В углу кабинета у Мюллера стоял особый стол, заваленный неимоверным количеством бумаги и пергамента. У посетителей этот стол вызывал благоговение, дополнительно повышающее гонорар. И, наконец, Мюллер реально был хорошим знахарем, его пациенты выздоравливали быстрее, чем у коллег, а умирали реже.
Вопреки распространенному мнению, лечить людей совсем не трудно. Если бы Мюллер писал свой трактат не для широкой публики, а только для практикующих знахарей, трактат получился бы совсем коротким, он бы состоял только из двух правил: не берись за безнадежные случаи и не рискуй без нужды. Если Мюллер видел, что больной страдает чем-то по-настоящему опасным, Мюллер сразу говорил: извините, дескать, но эту болезнь я лечу не слишком хорошо, а такой-то лекарь — очень хороший специалист, знает толк как раз в этой болезни, очень рекомендую. После таких слов больного чаще всего тащили к указанному специалисту и именно он в итоге оказывался виноват. Реже родственники настаивали, чтобы Мюллер лечил лично, тогда Мюллер говорил, что никаких гарантий не даст, и родственникам приходилось мириться с этим. Как ни странно, после пары умерших пациентов врачебный авторитет Мюллера только укрепился, а в народе распространилось убеждение, что этот знахарь мастер угадывать, кто жилец, а кто нет. А один раз Мюллер сказал, что больной умрет, а тот выжил, после этого все стали говорить, что Мюллер такой великий мастер, что иногда может вылечить даже обреченного на смерть. Мюллер подумал тогда, что ему помогает Птааг, но проверять не стал, решил не тревожить божество из-за пустяка. Если уж беспокоить Птаага, то не из-за служебных дел, а из-за Лаймы.
Мюллер по-прежнему любил Лайму, Лайма по-прежнему любила Мюллера, и для стороннего взгляда у них в семье все было хорошо. Но у них не все было хорошо. Мюллер хорошо видел, какой глубокий след оставила в душе Лаймы та ведьмовская история. Сам-то он перенес ее на удивление легко, и даже то, что в итоге почти наверняка стал воплощением Омена Разрушителя — это его почти не волновало. Чем бы Мюллер ни стал, этим его сделал Птааг в ответ на молитву, и если светлый бог сделал Мюллера воплощенным разрушителем вселенной, значит, были на то причины. Есть много легенд, повествующих о разных людях, которые не поверили в замыслы светлых богов и сдуру встали на темную сторону. Мюллер не собирался следовать их примеру, он верил Птаагу безраздельно. А скрывать свою природу ему было несложно, не такой уж большой труд выстругать точную копию волшебной палочки и пользовать вместо настоящей.
Раньше Мюллер не знал, как мало магии применяется в реальной жизни, и насколько важна вера пассивного субъекта, что на него действуют магией, а не просто исполняют варварский танец. Имитация волшебной палочки, лишенная колдовской силы, чаще всего действует не лучше и не хуже настоящей волшебной палочки. Иногда Мюллеру казалось, что Птааг специально замутил эту тему, чтобы Мюллер узнал, как мало силы в магии и как много силы в людской вере. Но потом Мюллер думал, зачем Птаагу, чтобы Мюллер это знал, и не находил ответа. Честно говоря, он боялся искать ответ. После ночи длинных ножей Мюллер решил, что не будет больше обращаться к Птаагу без веских причин, и за прошедшие с тех пор пять лет веских причин не было ни одной. Когда родилась безымянная дочка, та, что быстро умерла, Мюллер собрался было воззвать к Птаагу, но повитуха отсоветовала, объяснила, что девочка все равно не жилец, и если вдруг выживет, то будет доживать свои дни бестолковой уродиной. Мюллер молиться не стал, девочка умерла, а потом Мюллер понял, что повитуха не просто так сказала ему то, что сказала, это на самом деле Птааг намекнул, дескать, я за тобой приглядываю, не суетись, все нормально. Мюллер понял намек и не стал принимать мелкие неприятности близко к сердцу.
А Лайма так не смогла. Не потому, что обстоятельства сложились непреодолимо, просто вначале она не захотела их преодолевать, а потом стало трудно. Жалко, что Мюллер не сразу понял, насколько важна была для Лаймы вся эта дворянская херня. Сам-то Мюллер еще в детстве приобрел здорового цинизма на всю жизнь, а Лайма всегда жила в чистом, повсюду рабы увиваются, куда ни плюнь — сразу вытрут. А как подросла, пошли кавалеры, благородные ухаживания, культура, все дела… Тогда она говорила, что все остоебенило, что она изголодалась по свободному сексу без реверансов и словоерсов, трахай меня крепче, мой любимый зверь… Эх, молодость…
А хорошо все же, что Мюллер ни черта тогда не понял. Если бы понял, не женился бы, и пошла бы его молитва сатирам под хвост. Мюллер не забывал, что Лайму ему подослал Птааг, а обстоятельства, при которых это случилось, как бы намекают: радуйся, чепушило, что вышло хоть так, а то жил бы как дурак до старости с Дунькой Кулаковой вместо жены. Если бы найти жену для Мюллера было легко, вряд ли Птааг замутил бы все это дело с ведьмами-растаманками.
Очень странно, что Мюллер узнал о раставедьмах только после того, как помолился Птаагу и встретил Лайму на улице. Позже Мюллер наводил справки, ведьмы появились в столице за год до того момента, и в их больнице каких-то ведьм не раз освидетельствовали, просто Мюллер об этом почему-то не знал. А когда он спрашивал, почему он этого не знал, все удивлялись и говорили, что у него башка из дерева. Мюллер тоже улыбался, дескать, оценил шутку, а сам думал, что верно одно из двух: либо у него башка реально из дерева, либо Птааг, когда отвечал на его молитву, изменил не только настоящее, но и прошлое, притом очень аккуратно изменио, чтобы не испортить настоящее ни в какой малости, чтобы даже очень внимательный наблюдатель не пропалил вмешательство Птаага в законы природы. Хотя кому может понадобиться палить светлого бога? И кого может бояться светлый бог? Впрочем, богов много…
Иногда Мюллеру казалось, что можно поставить специальный опыт, чтобы узнать, вмешивается ли Птааг в прошлое. Взять, например, ящик, посадить внутрь кота и положить рядом какую-нибудь волшебную хреновину, которая с некоторой вероятностью сработает и тогда кот помрет. И если такой ящик закрыть и не подглядывать, то получится, что кот с одной стороны жив, а с другой мертв, и если бы можно было выразить это двуединство какой-нибудь математикой… Или по-другому — взять очень маленький шарик, чтобы любое внешнее воздействие, пусть даже столкновение с одним-единственным кусочком света, стало бы для него существенным… Нет, ерунда все это. Как оно может помочь узнать о подвижности прошлого? Без вмешательства Птаага такой опыт не поставить, а если вмешательство неизбежно, то проще самого Птаага спросить, чем провоцировать черт знает на что. А еще лучше не спрашивать. А то спросишь, жив ли кот, а Птааг вспомнит, что включить ту самую волшебную хреновину… но тогда время смерти будет видно по степени разложения… но если довести труп до разложения, все будет ясно по одному запаху, так что открывать ящик будет не нужно, и опыт не получится… да ну ее к чертям, эту мозгодрочку!
Раньше, когда Лайма была девочкой, Мюллеру казалось, что она думает и чувствует в точности так же, как он сам, только с поправкой на женский пол. Мюллер не понимал, что сам был в то время мальчиком-подростком, а мальчики-подростки видят то, что хотят видеть, а чего видеть не хотят, того не видят. Он знал, что Лайма любит танцевать, но не придавал этому значения, дескать, все бабы дуры, а какая конкретно баба какая конкретно дура — не суть важно. И когда все подруги в одночасье бросили Лайму, перестали с ней дружить, а при случайных встречах шарахались как от чумной, Мюллер тоже не придавал этому значения.
— Да пошли они к Рьяку в жопу! — отвечал Мюллер на все жалобы жены. — Давай лучше я тебя еще раз полюблю.
И он любил ее еще раз, и она забывала все свои печали. Потом вспоминала снова, но Мюллер опять любил ее, и она опять забывала. Как-то раз Мюллер сидел в кабаке с господином Ионом и одним заезжим знахарем, так тот знахарь говорил, что есть такая философия, будто у влюбленных в сердце вырабатывается что-то вроде маковой настойки, и оттого они все время будто пьяные, а потом, когда любовь проходит, это похоже на похмелье. Мюллер тогда решил, что чувак гонит, а потом вернулся к Лайме, они перепихнулись, и он понял, что только что был как похмельный, а теперь стал как опохмеленный, и рассказал Лайме про эту философию, но она ничего не поняла и обиделась, и пришлось ее снова трахать, чтобы не обижалась. Ах, какое было время…
Мюллер подозревал, что сексуальные проблемы в юности были не только у него, но и у Лаймы, иначе непонятно, почему она так быстро к нему привязалась, и почему у них в постели все так хорошо. Неужели Птааг это тоже подстроил? Но разве под силу обычному среднему богу сделать, чтобы женщина кончала от каждого сношения, и часто не один раз? Хотя он мог с Венерой договориться…
Медовый месяц Мюллера и Лаймы длился полтора года. В середине этого срока Лайма сказала, что беременна, Мюллер сразу предложил ей пожениться, а потом понял, что именно только что предложил, и разволновался, стал говорить, мол, если ты думаешь, что это только для графского титула… Лайма заткнула ему пасть поцелуем, они перепихнулись, и она сказала, что он дурачок, если думает, что ей жалко для него виконт-консортского титула, ей для него теперь ничего не жалко, для такого любимого, а он не дал ей договорить, снова заткнул ее поцелуем, и они еще раз попытались перепихнуться, но не вышло, желание Мюллера, как оказалось, превышает возможности, и как ему только в голову пришло три раза подряд без отдыха… Молодость…
Они поженились в конце весны, сразу после годовщины успения Митры. Свадьба была скромная, друзей собралось всего человек десять, потому что Мюллер не мог пригласить коллег из больницы, они ведь не знают, что он дворянин, и тем более не должны знать, что теперь он не просто дворянин, а виконт-консорт, а его нерожденный сын (он тогда думал, что Лайма ждет сына) станет полноправным графом. А Лайма пригласила добрую сотню друзей и подруг, но почти все отказались под благовидными предлогами, она расстроилась, она не думала, что ее друзья и подруги теперь почти все бывшие, а потом перестала плакать и сказала, что ей на все наплевать, и если бы она была мужчиной, она бы этих уродов и уродиц кое на чем повертела. Мюллер посмеялся, они поцеловались и больше не расстраивались, наверное, прав был тот заезжий знахарь насчет естественных наркотиков, по-другому не объяснить, как они себя чувствовали и вели той весной.
Беременность Лаймы протекала легко, до самого конца не было никаких затруднений, молодожены трахались как кролики, без малого каждый день, и все не могли насытиться. Оказалось, что живот мешает не так сильно, как принято считать, и вышло так, что в последний раз перед родами они перепихнулись, когда роды уже начались, просто Лайма была неопытна и подумала, что вчера съела что-то не то, не поняла, что это первые схватки, еще очень слабые. Повитуха, когда стала осматривать роженицу, вляпалась, возмутилась, стала ругаться, а потом развеселилась, сказала, мол, дай боги каждому такую любовь, как у вас двоих, а потом Лайма начала вопить, и стало не до добрых пожеланий.
Рожала Лайма тяжело. Головка ребенка никак не желала выходить, повитуха бормотала про узкий таз и что мужу не следует тут быть, это типа таинство, а Мюллер обругал ее, оттолкнул, посмотрел сам и увидел, что ребенок почти вышел, надо только одну кожную складку перерезать. Сходил на двор, взял садовые ножницы, помыл в бочке, все равно грязные, но другого инструмента нет, так что окунуть в зеленое вино и помогайте, боги. Повитухе кулак под ребра, жене устное «заткнись», клац ножницами, и вот она, дочка, принимайте и обмывайте, а кто плохое подумает, тому типун на язык. А крови-то как мало! Знал бы, что будет так мало — не колебался бы. Теперь зашить рану, нет-нет, иди, тетка, к чертям, сам разберусь, а откуда разумею — не твое собачье дело, откуда надо, оттуда и разумею. Вот и все, поздравляю с дочкой, милая.
Девочка росла не по дням, а по часам, не болела ничем серьезным и даже неизбежные младенческие колики прошли у нее незаметно. А вот Лайма с каждой неделей становилась чуть-чуть грустнее. Мюллер не понимал, в чем дело, расстраивался, думал, дело в нем, только потом сообразил, что те самые естественные наркотики понемногу перестали их связывать, что они с Лаймой снова начали становиться нормальными людьми. Лайма стала замечать, что Мюллер по ее понятиям неряшлив, а Мюллер стал замечать, что Лайма по его понятиям мелочна и сварлива. Это их почти не напрягало, не мешало жить, но оно было, раньше Мюллер с Лаймой не замечали, что оно есть, а теперь замечали. Мюллер принял изменения спокойно, он ведь знал, что изменилось только субъективное мировосприятие, а Лайма не смогла понять этого, сколько Мюллер ни объяснял. Она кивала с умным видом, говорила «да-да», но ничего в своем поведении не меняла.
Лайма решила не подбирать дочери кормилицу, а кормить сама, это как раз вошло в моду. Обычно кормящие матери бесплодны, но бывают исключения, Лайма стала одним из них. У Анжелы начали резаться зубки, когда ее мама поняла, что снова беременна. Обалдела, даже немного поплакала, Мюллер ее кое-как успокоил, но не сразу и не просто, они тогда как раз узнали, что рудник ушел побочным наследникам, Лайма кричала на Мюллера, дескать, прохлопал ушами, дурачок, и наотрез отказывалась слушать, что он не при делах, он тогда ей был не муж, он вообще был никто, и в делах по наследству не участвовал никаким боком. Но Лайма не хотела его слушать, и они впервые по-настоящему поругались, со слезами и криками, но пока без рукоприкладства.
Рукоприкладство пришло, когда Анжеле исполнилось три года, а Жан начинал понемногу ходить в своем загончике с мягким полом. Ничего особенного тогда не происходило, но много разных мелочей сошлись одна к одной, и Мюллер с Лаймой как-то незаметно пересрались из-за какой-то ерунды, и она сказала что-то совсем беспредельно обидное, что-то вроде того, что он не мужик, а баба с яйцами, какую в нижнем городе показывали на ярмарке, а Мюллер почему-то обиделся, да и влепил жене ладонью по жопе, как детей шлепают, но сильнее, а она ему в морду, а он ее тоже… Потом ничего, помирились, но осадок остался.
Когда их семейная жизнь только начиналась, Мюллеру иногда казалось, что он попал в хорошую добрую сказку, не про ведьм и упырей, а про принцесс и любовь, где все чинно и благородно, как в наркоманских грезах. Но прошло время, и сказочное очарование истрепалось, как вымпел на ветру, и вот-вот развеется совсем, как дым от костра. Спасибо, Птааг, и на том, что было, но все же… А не пора ли, кстати, помолиться в очередной раз? Пять лет прошло… Пять лет… Гм…
В этот момент Мюллер впервые заметил, что величина пять лет имеет в его жизни особое значение. Каждые пять лет происходит что-то такое, что радикально ставит все с головы на ноги или с ног на голову, с какой стороны посмотреть. В последний раз это была ночь длинных ножей, любовь и женитьба. Десять лет назад… он почти забыл ту дурацкую историю с Кимом и наркотиками… интересно, как и где сейчас Ким… да неважно… Пятнадцать лет назад Птааг впервые явился во плоти, двадцать лет назад впервые ответил на молитву… А может, лучше не молиться больше никогда? Но есть ли у него свобода не молиться, не предопределено ли свыше, что каждые пять лет Мюллер молится, а Птааг отвечает и поворачивает мир всякий раз новой стороной, чтобы Мюллер… а что Мюллер? Зачем оно ему? Нет ответа. Сколько ни спрашивал он Птаага о смысле жизни, тот ни разу ничего не сказал по существу, только одно твердит: узнаешь в свое время, а когда оно придет, это время — не твое дело… Помнится, ведьмы-растаманки говорили, что стоять миру осталось пятнадцать лет, и пять из них уже прошло…
Наверное, молиться все же не стоит. Когда умерла вторая дочка, он не молился, хотя тогда стоило, но он тупо забыл, а вспомнил намного позже, а всерьез задумался над этим только сейчас… Странно, кстати, последние пять лет получились какие-то смазанные, будто он их не прожил, а прочитал или прослушал краткую сводку, как в театре, когда в начале действия выходит перед занавесом герольд и начинает вещать, типа, со времени прошлого действия прошло столько-то лет, случились такие-то события, а теперь происходит то-то и то-то, а дальнейшее, почтенная публика, извольте наблюдать воочию. Нет, когда Мюллер напрягает память, все вспоминается, но были ли эти воспоминания в мозге за мгновение до того? Если бы можно было придумать какой-нибудь эксперимент, чтобы бы точно определить… Или эликсир какой-нибудь, чтобы избавить разум и душу от бесплодных мыслей… А в самом деле, если есть эликсиры от телесных болезней, почему бы не быть эликсиру от безумия или ипохондрии? Принял пару капель, стал душевно здоровым, принял еще пару капель, перестал быть мудаком… боги, какая чушь в голову лезет…
— Да пошло оно к чертям! — воскликнул Мюллер. И быстро, пока не передумал, выпалил: — Птааг! На тебя уповаю, сделай мне хорошо, будь добр!
Птааг отозвался немедленно.
— Ну вот, наконец-то, — сказал он, и Мюллеру почудилось облегчение в божьем гласе. — А я уж боялся, не решишься, пришлось бы все заново переделывать…
— Что переделывать? — заинтересовался Мюллер.
Но Птааг не ответил.
Мюллер подумал и решил, что предыдущие божьи слова ему примерещились.
2
По улице Роксфордской Обороны шла смуглая пожилая женщина. Не старуха, просто пожилая женщина, с сединой в волосах, но не согбенная и не больная, нормальная такая тетенька в летах с прямой спиной и твердой походкой. И не черножопая ни в коей мере, просто смуглая, дед, наверное, был из степняков или бабка.
Смуглая женщина была одета в чистое и незаношенное, но скромное коричневое платье, почти без украшений, только вдоль выточек и по краю подола был вышит орнамент из абстрактных узоров. Если бы ученый-этнограф пригляделся к нему повнимательнее, то удивился бы, потому что обычно такие орнаменты позволяют определить нацию и племя с первого взгляда, а иногда даже и род определить, но на этом конкретном платье орнамент не соответствовал никакой конкретной нации, а был как бы взят от всех наций понемногу.
Ученых-этнографов в описываемое время было в Палеополисе двое, и ни один из них никогда не ходил по улице Роксфордской Обороны. А тем людям, что по ней ходили, было все равно, что где у кого вышито. Им почти все было все равно. Только один хитроглазый мальчишка заинтересовался смуглой женщиной, потому что решил, что в холщовой сумке у нее спрятано что-то ценное, и шел за женщиной два квартала, и когда она свернула в подворотню, он тоже пошел за ней, а когда она вышла, он вместе с ней не вышел. На следующее утро его нашли мертвым, и на его теле не было никаких отметин, свидетельствующих о насилии. Был бы на его месте старик, решили бы, что случился разрыв сердца, а с мальчиком в таких случаях без провидца не поймешь, отчего помер, но провидца звать не стали, потому что мать у пацана была шлюха и пьяница, а отец вообще неизвестно кто. Хорошо, на похороны тратиться не пришлось, есть в ближайшей больничке один знахарь, Мюллером зовут, он покойников бесплатно принимает для опытов. Берет особый нож, режет мертвецу брюхо и смотрит, какая там внутри требуха как устроена. А что видит, о том пишет в особую бумагу, которую потом сжигает, а дым от нее спускается в преисподнюю к темным богам, они его глотают и вместе с ним глотают души людей, о которых написано в бумаге. Поэтому к Мюллеру свозят только самых галимых мертвяков, чьих душ никому не жалко.
Смуглая женщина ничего не знала об этой стороне жизни Мюллера. Но если бы узнала, не сильно бы удивилась. Мюллер — такой человек, что ждать от него можно чего угодно, и удивляться тут нечему.
У калитки дворца Патиритилап женщина остановилась, задрала голову и оглядела здание. Раб-привратник, вскладчину купленный тремя арендаторами, спросил ее:
— Вы к кому, почтенная?
— К графине, — ответила женщина.
— А, — буркнул раб и потерял к посетительнице всякий интерес.
Женщина прошла в калитку, остановилась, хотела спросить дорогу у раба, но тот так старательно не замечал гостью, что она пошла дальше, ничего не спросив. Ноги принесли ее в общество трезвости, там ей вручили значок в виде разбитой амфоры, и объяснили, куда идти. Женщина пошла, куда сказано, и через минуту стучалась в двери жилых покоев графской четы. Она ждала, что дверь откроет рабыня-горничная, но дверь открыла сама хозяйка.
— Здравствуй, Лайма, — поприветствовала ее смуглая женщина. — Я Агата.
— Ой, — сказала Лайма и попыталась сползти по косяку на пол, но Агата удержала ее. Несильно хлестнула по щеке, потом по другой, подготовила заклинание, но пускать в ход не стала — Лайма очухалась сама.
— Вы раньше были другая, — сказала Лайма. — Черно… гм…
— Черножопая, — подсказала Агата. — И еще старше.
— Магия? — спросила Лайма.
— Нет, — ответила Агата с саркастической улыбкой. — Философия.
— Да ну! — изумилась Лайма.
— Ты мне не нукай! — рявкнула Агата. — И глупых вопросов не задавай! Магия, конечно, что же еще! У тебя с головой все в порядке?
Лайма не сразу ответила на последний вопрос. Сначала попыталась изобразить, что он был как бы риторический и ответа не требует, но Агата так пристально смотрела ей прямо в глаза, что ответить пришлось.
— Да, с головой хорошо, — сказала Лайма. — А что?
— Плохо выглядишь, — заявила Агата. — Разожралась поперек себя шире, морда опухшая… Бухаешь?
— Да куда там бухаешь… — неискренне улыбнулась Лайма и неопределенно мотнула головой.
Под суровым взглядом Агаты улыбка Лаймы потускнела и растворилась без следа.
— Мама, кто пришел? — послышалось из внутренних комнат.
И одновременно Агата спросила:
— Так и будешь держать меня на пороге?
— Заткнись! — крикнула Лайма. И добавила, слегка смутившись: — Это не вам, госпожа Агата, это дочке. Анжи ее кличут. Проходите, пожалуйста, госпожа.
— Еще бы ты мне такое сказала, — хмыкнула Агата и вошла внутрь.
Они прошли на кухню. Лайма заварила чай, из внутренних комнат прибежала девочка Анжи, гостья улыбнулась ей ласково, и они стали болтать о той ерунде, о какой взрослые обычно болтают с малознакомыми детьми. Слава темным богам, госпожа Агата повеселела, не впала в гнев. Но зачем она пристает к девочке?
— Анжи, иди поиграй, — строго сказала Лайма. — Маме надо поговорить с тетей.
Девочка ушла. Лайма повернулась к Агате и спросила:
— Что вам нужно от моей дочери?
— Ничего, — ответила Агата и добродушно улыбнулась. — Темным богам тоже нет дела до твоей дочери. Омен дома?
Когда Агата назвала это имя, Лайму перекосило, будто случайно съела пригоршню незрелого крыжовника. Агата рассмеялась, Лайма опустила глаза.
— Нет его дома, — сказала она. — Работает.
— Работает? — переспросила Агата. — А на кой? Мне казалось, старый граф обеспечил тебя на всю жизнь. Неужели успела просрать? Что, правда? За так мало лет?
Лайма вздохнула и ничего не ответила.
— Когда он придет? — спросила Агата.
Лайма наморщила лоб, посмотрела за окно, но день был пасмурный, и определить время по солнцу не представлялось возможным.
— Скоро, наверное, — неопределенно сказала Лайма.
— Тогда готовь ужин, — распорядилась Агата. — Когда муж приходит домой, на столе должен ждать ужин.
— Угу, — кивнула Лайма. — А вы… зачем пришли?
Агата нахмурилась и сказала:
— Не тебе требовать у меня отчета. Но в виде исключения отвечу. Я пришла поговорить с твоим мужем.
— О чем? — спросила Лайма.
Складка между бровями Агаты стала еще чуть-чуть глубже.
— Не тебе требовать у меня отчета, — повторила она. — Но я отвечу еще раз. Мы поговорим о философии.
— О философии? — переспросила Лайма. — А зачем?
Агата вздохнула и начала говорить:
— И в третий раз повторяю тебе, дуре…
— Да-да, я поняла, не мне требовать отчета, я поняла. — перебила ее Лайма. — Но вы пришли в мой дом, и я должна знать…
— Ты ничего не должна! — перебила ее Агата. — Ты жалкая ведьма третьего уровня, ничтожная рядовая служанка! Тебя за язык не тянули приносить клятвы темным богам! А раз поклялась добровольно — будь любезна, исполняй!
— Я думала, это игра, — сказала Лайма.
— Баран тоже думал, пока не зарезали, — сказала Агата.
Хлопнула входная дверь. Из прихожей послышалось:
— Лайма, я дома!
Из внутренних комнат завопил звонкий детский голосок:
— Папа, папа! Мама, папа пришел!
— Для него я твоя старая подруга, — сказала Агата. — В разговор не лезь. Поняла?
Лайма набычилась и ничего не ответила.
— Да, я в курсе, твой дом, твои правила и все прочее, — сказала Агата. — Но я многого не прошу, хотя могу, причем не только просить, но и требовать.
Агата распустила застежку сумки и показала конец волшебной палочки. Лайма нервно сглотнула и промычала нечто невнятное.
— Вот и ладненько, — кивнула Агата. — А теперь представь меня мужу.
— Привет, — сказала Лайма мужу, который как раз вошел в кухню. — Это леди Агата, моя давняя… гм… знакомая.
— Здравствуйте, леди Агата, — сказал Мюллер и поцеловал ей смуглое запястье. — Вы растаманка?
Агата вздрогнула от неожиданности. Мюллер улыбнулся и сказал:
— Вижу, угадал.
— Как? — спросила Агата.
— Запах тела, — объяснил Мюллер. — У черножопых он другой. Внешность вы изменили, а запах оставили. И еще мне показалось, что вы старше, чем кажетесь.
— Это не имеет значения, — заявила Агата.
Не успел разговор начаться, а она уже впала в растерянность, это ее напугало.
— Смотря что вы имеете в виду, — сказал Мюллер. — Если возраст — то действительно, а религиозная принадлежность как раз имеет значение, очень даже большое. Если честно, меня удивил ваш визит, сегодня я ждал чего-то другого.
— А чего вы ждали? — спросила Агата. — И почему вы ждали чего-то именно сегодня?
Мюллер улыбнулся и ответил:
— Я с утра молился Птаагу. Он обещал, что поможет. А Птааг — бог светлый, так что я ждал чего-то более… гм… другого.
— Так прямо и сказал, что поможет? — настороженно спросила Лайма. — Ты его голос ушами слышал или только в голове?
— Ушами, — ответил Мюллер. — Не бойся, милая, я не сошел с ума.
— А ты часто слышишь голоса богов? — спросила Лайма.
— Каждые пять лет, — ответил Мюллер.
— Это не страшно, — сказала Лайма.
— Как сказать, — заметила Агата. — Рьяк мне кое-что говорил про тебя, а теперь выходит, что Птааг решит поддержать его против братства людей…
— Против чего? — удивленно переспросил Мюллер.
— Против братства людей, — повторила Агата. — Только не делай вид, что ничего не знаешь об этом.
Мюллер недоуменно посмотрел на Агату, затем на Лайму и снова на Агату.
— Я ничего об этом не знаю, — сказал Мюллер. — Агата, расскажи, пожалуйста.
Агата нахмурилась. Лайма ткнула мужа в бок и прошипела:
— Обращайся почтительно, а то…
— В муху превратит? — поинтересовался Мюллер.
— Не паясничай, — сказала Агата. — Ты не можешь ничего не знать о братстве людей. Свобода, равенство, отмена сословных различий… Что, совсем-совсем не слышал? Не может быть!
— Ты лучше скажи, какая мне польза от вашего братства, — потребовал Мюллер.
— Польза? — переспросила Агата. — А причем тут польза? Думаешь, весь мир вращается вокруг твоей пользы? Лайма, он у тебя точно не сумасшедший?
— Зубы мне не заговаривай, — сказал Мюллер. — Сначала объясни, какая польза, а потом…
— Да самая прямая! — воскликнула Агата. — Глупо говорить об этом впрямую, но раз ты настаиваешь… Я заметила, вы с Лаймой почти всю жилплощадь в аренду сдаете, вы уже разорились или пока еще нет?
Лайма нечленораздельно крякнула. Мюллер тоже крякнул и сказал:
— Типун тебе на язык, ведьма.
Лайма попыталась еще раз ткнуть его в бок, но он парировал локтем. Агата сделала вид, что ничего не заметила.
— Да пусть даже не разорились, — сказала она. — По-любому, богатством ваша семья не обременена, да и счастливыми вы не кажетесь. Значит, должны быть за революцию.
— За что должны быть? — переспросил Мюллер.
— За революцию, — повторила Агата. — Потому вы обездоленные. Нынче все обедневшие дворяне стали обездоленными, раньше привыкли возвышаться и властвовать, а теперь власть не у того, у кого меч длиннее, а у того, у кого кошелек толще. А надо, чтобы власти не стало никакой, чтобы все были друг другу равны, как братья и сестры в доброй семье.
— Удивительно, — сказал Мюллер. — Ты подозреваешь в сумасшествии меня, а у самой в башке творится черт знает что! С каких пор люди равны? Человек человеку не друг, а волк!
— Разве это хорошо? — спросила Агата. — Разве ты не хочешь жить в мире, где каждый встречный — друг? Где можно выйти в город без кинжала и вернуться к ужину живым? Где собственность на средства производства принадлежит всем вместе и никому в отдельности?
Мюллеру показалось, что он неправильно расслышал.
— Чего-чего? — переспросил он. — Собственность на какие средства?
На этот вопрос неожиданно ответила Лайма.
— Это самая главная фишка в их проповедях, — сказала она. — Ты шутишь, это невозможно не знать! На каждом углу об этом больают!
Мюллер негодующе фыркнул и сказал:
— Не знаю, о чем болтают на каждом углу, а у нас в больнице…
И понял, что попалился.
— В больнице? — переспросила Агата. — В какой больнице? Погоди…
Она демонически рассмеялась.
— Зря смеетесь, — сказала Лайма. — Там все не так было, там не…
Голос Лаймы оборвался на полуслове. Мюллер посмотрел на нее и увидел, что рот Лаймы замер в полуоткрытом положении, глаза остекленели, жестикулирующие руки тоже замерли…
— Здравствуй еще раз, — донеслось из-за спины.
Мюллер обернулся и увидел две вещи. Во-первых, Агата замерла точно так же, как Лайма. А второй вещью был Птааг, если, конечно, можно назвать вещью светлого бога.
— Я остановил время, — сообщил светлый бог. — Надо поговорить без помех.
— Давай поговорим, — согласился Мюллер. — А о чем?
— О будущем, — сказал Птааг. — Во-первых, о твоем личном, а во-вторых, о будущем всей вселенной. Ты уже понял, как они связаны?
— Я Омен? — ответил Мюллер вопросом на вопрос.
— Это зависит только от тебя, — сказал Птааг. — Если оно вообще зависит от чего-нибудь.
— Ты о чем? — спросил Мюллер. — Ты прости, но я реально не понимаю. Хочешь намекнуть, что мои решения меняют мир? А разве не боги меняют мир, разве ты сам не делаешь это прямо сейчас?
— Я только инструмент, — сказал Птааг. — И моя работа начинается с твоего желания. Если бы ты сегодня утром не помолился, сейчас ты не встретил бы Агату, и в империи не назревало бы никакой революции.
— Кстати, насчет революции, — сказал Мюллер. — Не находишь, что это некрасиво? Слишком неправдоподобно, раньше ты устраивал свои дела изящнее.
— Да ладно, сойдет, — отмахнулся Птааг. — Ты человек ученый, рассеянный, имеешь право многое не замечать. Никто ничего всерьез не заподозрил, а от твоих собственных подозрений избавиться по-любому невозмоэно, ты ведь центральный субъект, но ты подошел к метаморфозе на три четверти, так что не бери в голову.
— Кто я? — переспросил Мюллер. — Какой еще субъект? К какой метаморфозн я подошел и что это за три четверти?
Птааг ничего не ответил, только пренебрежительно потряс головой, дескать, не стоит внимания, ерунда.
— Что все это значит?! — не унимался Мюллер. — Если у меня есть необычные способности, я должен о них знать! Я действительно Омен Разрушитель?
— Пока не определено, — ответил Птааг. Помолчал и добавил: — Но вполне вероятно.
— Какого черта? — возмутился Мюллер. — Я не хочу разрушать мир! Он мне нравится, я его… гм… люблю… Ты зачем мне сейчас явился?
— Так положено, — ответил Птааг. — У богов тоже есть правила. Когда субъект готов подняться на повышенный уровень бытия, ему задают вопрос.
Он сделал многозначительную паузу, дескать, догадайся, чего от тебя ждут, и вставь правильную реплику. Мюллер догадался и вставил правильную реплику.
— Какой вопрос? — спросил он.
Птааг одобрительно кивнул и стал отвечать:
— Вопрос в том, готов ли субъект подняться на повышенный уровень бытия по собственной воле. Формулировать его можно по-разному, иногда субъекту вручают два артефакта, иногда вопрос инкапсулируют в гадание или какой-нибудь другой ритуал. Но твоя вселенная проста, как три гроша, здесь положено спрашивать голосом прямо в лоб.
Мюллер нервно хихикнул и сказал:
— Хорошо, что голосом, а не чем еще.
— Ну так как? — спросил Птааг. — Ты готов подняться на повышенный уровень по собственной воле?
— А что мне с этого будет? — спросил в ответ Мюллер.
— Гм, — сказал Птааг. Помолчал и добавил: — Не знаю, как тебе объяснить, чтобы ты понял. Разве что самыми общими словами. Если коротко, ты станешь жить более полной жизнью. Как-то так.
— Как бог? — спросил Мюллер.
— Нет, — покачал головой Птааг. — Боги — это общесистемный уровень бытия, туда снизу попасть никак нельзя, там надо изначально возникнуть. Если только не… но это неважно.
— Да ладно тебе тень на плетень наводить, — сказал Мюллер. — Я уже догадался, что есть какая-то прореха в ткани бытия, через которую можно… погоди… Омен Разрушитель — это оно?
— Не исключено, — кивнул Птааг. — Каждый субъект повышенного уровня чуть-чуть снижает стабильность вселенной, в которой он завелся. А если он начинает действовать безответственно, то может и ядро рухнуть. Но я полагаю, ты избежишь этого соблазна.
— Погоди, — сказал Мюллер. — До меня только сейчас дошло. Существуют другие миры, кроме того, в котором мы живем? Я могу выбраться наружу?
— Можешь, — кивнул Птааг. — И выберешься в конце концов, если не обрушишь ядро до того времени. А я не выберусь, потому что привязан к своей вселенной до конца времен. Если только… нет, это невероятно… да и не нужно…
— Хорошо, пусть не нужно, — перебил его Мюллер. — Если я выберусь за пределы бытия, что я там увижу?
— Как что? — удивился Птааг. — Другое бытие, конечно. А что ты ожидаешь там увидеть?
— Откуда мне знать? — пожал плечами Мюллер. — О множественности миров ты мне рассказал только что, откуда мне знать, как оно устроено? Говоришь, типа, другое бытие, а какое оно из себя? Стоит мне рваться прочь от этого мира или лучше, наоборот, держаться за него потому что лучше не будет? И что случится с моей вселенной, когда я выберусь наружу?
— Как устроено другое бытие, мне неведомо, — сказал Птааг. — Стоит ли тебе к нему стремиться — решать тебе. А что станет с вселенной без тебя — очевидно. Она схлопнется.
— Схлопнется? — переспросил Мюллер.
— Схлопнется, — подтвердил Птааг. — Коллапсирует. Ляжет в архив. Перестанет быть. Сам подумай, зачем ей быть без тебя?
— Не понял, — сказал Мюллер. — Ты во мне манию величия воспитываешь? Намекаешь, что я — единственная причина существования мира?
— Ты слишком упрощаешь, — покачал головой Птааг. — Но с поправкой на рамки твоего разумения… да, твой ответ можно признать верным.
— Тогда почему вокруг столько говна? — спросил Мюллер. — И почему я не супергерой с суперспособностями, а обыкновенный нытик? Почему мне выпало нищее детство? Почему в моей судьбе так много бреда и дурацких совпадений?
— Люди находят наивысшее удовольствие в росте и развитии, — ответил Птааг. — Какой интерес родиться супергероем? Только восставший из грязи по-настоящему ценит чистоту.
— Какую, твою мать, чистоту?! — возмутился Мюллер. Обвел рукой застывшую картинку вокруг себя и закричал в гневе: — Вот это говно — чистота? Все эти ведьмы, братства, революция, кто всю эту дрянь вообще придумал?!
— Создатель, — ответил Птааг. — Творец. Бог богов. А что?
Мюллер выругался, сплюнул на пол и растер тапочком, как делал в нищем портовом детстве. Он вспомнил, как господин Ион рассказывал, что у людей, испытавших сильное душевное потрясение, или у тех, у кого начало проявляться безумие, часто восстанавливаются забытые детские привычки. А может, сумасшествие уже развилось в полной мере? Может, вокруг не огромный мир, а маленькая лечебница для душевнобольных или вообще притон для потребителей дурмана? Или, может, в том другом бытии, о котором говорил Птааг, для балдежа пользуют не дурман, а… ну, скажем, волшебный артефакт наподобие палочки, втыкаешь ее, например, в задний проход, и пока она там торчит — испытываешь приключение. А чтобы было интереснее, можно разбить приключение на короткие эпизоды, скажем по одному дню каждый, между ними изобразить большие интервалы, по несколько лет, заполнять их ложной, выдуманной памятью…
Его мысли прервал Птааг.
— Ну так как? — спросил бог. — Что ответишь?
Мюллер не сразу понял, о чем тот спрашивает.
— В смысле ответишь? — переспросил он. И сразу вспомнил: — Ах, да, повышенный уровень. А что я должен ответить?
— Да или нет, — сказал Птааг.
— Да насрать, — сказал Мюллер.
— Значит, да, — сказала Птааг и исчез.
Рот Лаймы зашевелился и она продолжила рассказывать Агате, как пережила длинных ножей. Но Мюллер ее не слушал.
3
Том Заяц шел по вечернему городу. Впервые за целый год он шел по улице пешком, не ехал верхом или в паланкине, а топал на своих двоих по грязи, как последний простолюдин. Он раскраснелся и дышал с натугой, знал бы, что тело настолько отвыкло от нагрузок — наплевал бы на безопасность, сел бы на лошадь… хотя нет, не сел бы. Он всегда высоко ценил свою жизнь. Пять лет назад, когда столицу наводнили черножопые растаманки, он на какое-то время подумал, что все, пришел конец его беспутной жизни, но нет, обошлось, ночь длинных ножей прошла без сучка, без задоринки, город отразил налет темных богов, а сам Том так поднялся в иерархии придворных чиновников, что до сих пор самому не верится. Тайным советник императора по особым поручениям — это не хухры-мухры.
Тогда Том решил, что жизнь удалась, все, чего можно достигнуть, уже достигнуто, можно расслабиться и почить на лаврах. Но он был неправ, почивать на лаврах никогда нельзя. Жрецы не зря наперебой талдычат в мотивационных проповедях для нижних чинов: с привилегиями приходит ответственность, кому больше дается, с того больше спрашивается, никогда не теряйте бдительности, сучьи дети. И это правильно, а Том, сучий сын, потерял бдительность, расслабился и теперь вот-вот огребет по полной программе.
В поперечном переулке мелькнула тень, Том сунул руку под плащ, обхватил рукоять шпаги вспотевшими пальцами… Нет, померещилось. То ли на дереве ветка качнулась, то ли в окне лампой мигнуло, Дожить бы до утра…
Когда новая напасть только-только коснулась империи, Том счел братство людей очередной унылой сектой, не такой опасной, как ведьмы-растаманки, а обычной, одной из тысяч неотличимых одна от другой и в целом безобидных. Все сектанты проповедуют равенствр и братство, разница только в том, что у одних оно братство достигается в раю по итогам страшного суда, а у других — во вселенском разуме на выходе из цепочки перерождений. И когда Том узнал, что братья-революционеры говорят о равенстве и братстве не где-то там после смерти, а здесь и сейчас, он рассмеялся и воскликнул:
— Экие затейники!
Если бы он знал тогда, насколько они затейники… Был момент, когда революцию можно было придушить десятком агентов, но не заметили, не поняли, проморгали, и теперь о победе над заразой речь уже не идет, и улизнуть остался один последний шанс ускользнуть, очень маленький, надо признать…
Свистнула стрела, пробила полу плаща. Том выхватил пистолеты, по одному в каждую руку, взвел курки большими пальцами, выстрелил в темноту с правой руки вправо наобум, а с левой влево наобум. А сам побежал прямо к кирпичному забору, пока враги ошеломлены новомодным оружием, только бы не оказалось там наверху ни битого стекла, ни колючей проволоки, помогите, боги, молю вас, ко всем обращаюсь, к светлым, темным, любым…
Острого и колючего наверху нет, спасибо богам, помогли. Теперь прыг на другую сторону, в кусты бесшумно… нет, отставить! Раньше Том бесшумно в кусты хорошо умел, а теперь отпрыгался, засранец, жирный стал и неловкий, хруст стоит, как от медведя, да и дыхание такое, что как бы из-за стены не расслышали… нет, не расслышали, вроде, галдят, суетятся… слава богам, профессионалов не наслали, те бы не стали суетиться, тех Том вообще не заметил бы до последнего мига… повезло, что трезвый был, редкий случай в последнее время…
Руки трясутся, плохо. Как шпагу держать? Впрочем, убийц промелькнуло в отблеске пламени не меньше пяти, так что шпагу в руке можно не держать, найдут — убьют однозначно, и если хотя бы одного получится поцарапать, и то будет удача. А что это стучит, кстати? Сердце или зубы? Да наплевать…
А как безобидно все начиналось… Борьба за всеобщую трезвость, ликвидация безграмотности, чтобы рабы и свободные ремесленники были не как заморские дикие обезьяны, а чтобы стали чинными и благопристойными, и в личное время не вино бухали, а книжки читали, что в этом плохого? Том не верил, что из этого выйдет что-то путное, но прошение принял благосклонно, дескать, пусть попробуют, а мы посмеемся. А у них как поперло…
Он понял, что происходит что-то не то, когда братство людей начало громить таверны. Собирали шествие с хоругвями, входили в зал чинно и благопристойно, жрец призывал к покаянию, все честь по чести. Теперь-то все уже знают, к чему идет дело, теперь все кончается быстро и просто — публика кается, каждый получает на шею волшебную печать, и добро пожаловать в общество трезвости, отныне бухать можно только за особые заслуги, а то без головы останешься в момент, с боевой магией шутить можно только один раз. А если запишешься в братство людей — каждый седьмой вечер позволят остограммиться по командирскому благословению, если за прошедшую семидневку ничего не нарушил. Но это сейчас, а раньше такие битвы бывали, до полусотни покойников из одного трактира выгребали за вечер. А дворяне только смеялись, и Том им поддакивал. Дескать, заживем как в раю, будет кругом одна сплошная благопристойность…
О, дырка в заборе! Ну-ка, посмотрим, что там с другой стороны… Ой, как плохо, шлюхи! Угораздило же! Шлюхи — самые отчаянные и злые бойцы революции. Особенно те, кто подцепил заморскую сыпь, им терять нечего, кроме подкожных паразитов. Ничего не боятся, суки, настоящие фанатички, вдолбили себе в голову, что смерть ради равенства смывает все грехи, такое творят, что даже если во всех рассказах хотя бы десятая доля правдива… а пистолеты уже разряжены…
— Пойду проверю, чего там шебуршится, — прозвучало из-за забора.
Том отпрянул от дырки, и вовремя — в заборе скрипнуло, и целая секция выдвинулась, намереваясь ударить Тома в лоб. Он не сразу сообразил, что это калитка, он ее в темноте не заметил, а то, что показалось случайной дыркой, обернулось замочной скважиной.
А удачно получилось — никак не ждала сучья дочь встретить врага прямо за дверью. Остолбенела, как статуя Кали, и даже не вскрикнула, когда Том проткнул ей сердце, только зашипела еле слышко и осела на траву. Какой молодец, не разучился еще фехтовать, кто бы мог подумать…
— Ну кто на новенького? — радостно завопил Том.
На новенького прилетел камень из пращи, прямо в лоб. На этом последнее приключение Тома Зайца закончилось.
4
Если случайного путника после заката занесет в какой-нибудь благопристойный район Палеополиса, путник обязательно обратит внимание, что почти во всех окнах горит свет, а на улицах нет прохожих. В последние годы в империи распространилась мода ужинать поздно, при лучинах либо свечах, смотря по достатку обывателя. А что на улице нет прохожих — неудивительно, ведь какой дурак будет бродить снаружи, когда внутри еда стынет!
Но сегодня все не так. Та абстрактная революция, о которой говорили братья людей все последние годы, и о которой Мюллер ничего не знал до самого ее начала, эта самая революция свершилась. Братья людей вышли на улицы, вместе с ними вышли их друзья и приятели, затем вышли друзья приятелей и приятели друзей, толпа набрала критическую массу, и тогда в нее стали вливаться случайные прохожие и любопытствующие зеваки. А часа через три к толпе начали присоединяться наиболее трусливые подданные императора, которые боялись, что тем, кто не присоединился, придется потом объяснять, почем не присоединился. Этих подданных легко отличать от других — они особенно громко орут революционные лозунги, а глаза у них круглые от испуга. Казалось, весь город вышел на улицу, все стало наоборот — окна закрыты ставнями, темнотища, а народ бродит, галдит, все возбужденные… что-то будет…
Говорили, что сто тысяч братьев людей покинули верхний город и пошли на штурм цитадели, и из нижнего города еще сто тысяч тоже пошли на штурм цитадели. И в течение ночи они захватят императорский дворец и посадят на трон самого-самого старшего брата людей, и начнется новая династия. Либо, как вариант, никакой династии отныне не будет, кто-то говорил, что братья людей обещали переизбирать каждого императора каждые четыре года, даже если он ничем себя не запятнал, но в это верится с трудом. Проще поверить, что после революции реки потекут молоком, а урожайность зерновых удвоится.
Изнутри толпы казалось, что она управляема не более и не менее, чем, например, стая скворцов. Всякому образованному человеку известно, что любое большое скопление живых организмов управляется непосредственно божьей волей, и скворцы в большой стае с божьей помощью заклевывают ястреба, а быки в стаде запросто поднимают на рога матерого льва. Но сегодняшняя толпа управлялась не только богами. Если приглядеться к происходящему внимательно, можно заметить, что к некоторым бунтовщикам время от времени тихо и незаметно подходят другие бунтовщики, похожие на посыльных, передают какие-то вести, выслушивают распоряжения и растворяются в толпе так же тихо и незаметно, как явились из нее минуту назад. Это подозрительно — в Палеополисе каждая собака умеет отличать вельможу и чиновника от обычного подданного, и если какой-то оборванец начинает командовать, это привлекает внимание. Говорят, в древности император Харон любил выходить по ночам в простонародном платье, бродить по городу и узнавать, как идут дела, но однажды его случайно зарезали стражники, и с тех пор ни императоры, ни вельможи никогда больше так не делают, так что общественное положение каждого прохожего легко узнается по одежде. И еще в реальной жизни вельможа не бывает женщиной, а если вдруг все же бывает, как, например, ханша Мотоко, то такие женщины скромно не одеваются и тихим голосом не разговаривают. А такая скромная полуседая тетенька, как та, что отзывается на имя Агата, никак не может быть вождем революции, не бывает таких вождей.
Но на самом деле госпожа Агата все-таки входила в узкий круг вождей революции. Она не была главным ее предводителем, но и в числе последних тоже не была, так понял Мюллер из обрывков подслушанных разговоров Агаты с посыльными. А вон те воины и еще вон те тоже непохожи на случайные элементы толпы, держатся рядом как приклеенные… Выходит, доверяют Мюллеру, раз пустили внутрь охранного круга… за него Птааг, еще бы они не доверяли… хотя Агата упоминала Рьяка, а они с Птаагом извечные враги… впрочем, это люди говорят, что они враги, а какие реально у них дела между собой, ни один черт не разберет. Может, правы еретики-атеисты, когда говорят, что нет никаких богов, кроме тараканов в голове верующего?
Толпа помаленьку организовывалась. Какие-то люди передавали друг другу значки и хоругви с символикой братства людей, кто-то всучил Лайме большое красное знамя, та стала искать, кому бы его передать, никого не нашла и уронила в грязь, на нее зашикали, стали бросать грозные взгляды, Лайма виновато улыбнулась, дескать, случайно выронила, подобрала тряпку, обтерла собственным подолом и пошла дальше с приклеенной к губам неживой улыбкой.
— Больше так не делай, растерзают, — посоветовал ей Мюллер. — Они сегодня с ума все посходили.
— На, держи сам, раз такой умный, — огрызнулась Лайма и вручила знамя мужу.
Мюллер поднял его высоко над головой, стал размахивать и кричать:
— Ура, товарищи! Наше дело правое, мы победим!
Подошла Агата, спросила:
— Чего орешь?
— Хочется, — объяснил Мюллер. — Настроение такое, хочется поорать что-нибудь энергетическое.
— Какое еще энергетическое? — удивилась Агата. — При чем тут энергия? Энергия — простая физическая характеристика, мера способности к изменению бытия… а, я поняла. Да, красивая аналогия, мы здесь как бы энергией заряжены, как пороховой заряд перед тем, как взорваться.
— Куда мы идем? — спросила Лайма.
— На площадь, — ответила Агата. — Там в конце улицы площадь, не помню как называется…
— Птаага в челноке, — подсказал Мюллер. — Пошляк он и позер.
— Кто? — не поняла Лайма.
— Птааг, — сказал Мюллер. — Все важнейшие ориентиры называет своим именем, никак не может удержаться. Сначала храм, потом другой храм, теперь вот площадь…
— Какой храм? — удивилась Лайма. — Какой другой храм? Ты точно не бредишь?
— Неважно, — махнул рукой Мюллер. — Это давно было.
— Потом Ты расскажешь мне всю историю, — сказала Агата Мюллеру. — Полностью, до самой последней мелочи.
В словах Агаты не было вопросительных интонаций, она не спрашивала, а как бы сообщала о неизбежном будущем. Это не понравилось Мюллеру, сразу вспомнился классический детский вопрос: если сойдутся в драке Рьяк и Птааг, кто кого одолеет? Классический ответ утверждает, что все зависит от времени суток, но сейчас ночь! Впрочем, Мюллеру довелось слышать ересь, что светлые силы наиболее активны именно по ночам, потому что в светлое время, когда у них и так вся власть, повышенную активность проявлять незачем, а вот ночью как раз самое время вести борьбу с силами тьмы.
— Долой вертикаль власти! — закричали впереди. — Долой! До-лой вер-ти-каль! До-лой! Вся власть кагалам!
— Что такое кагалам? — спросил Мюллер.
Лайма попыталась в очередной раз ткнуть его локтем в бок, дескать, не притворяйся дурачком и не провоцируй. Мюллер привычно увернулся.
— Кагал — это что-то вроде военного совета, но в мирное время, — объяснила Агата. — У нас в братстве кагалы собирают каждый седьмой день, вначале обсуждают текущие дела, потом поведение членов…
— Чье-чье поведение? — переспросил Мюллер. — Мне послышалось или…
Лайма недовольно крякнула, дескать, когда же ты перестанешь играть со смертью, и ответила вместо Агаты:
— В братстве людей считают по членам. Свиней в хлеву считают по головам, крыс в ловушках по хвостам, а людей в братстве по членам.
— А женщин? — спросил Мюллер. — Их в братстве за людей не считают?
— Совсем наоборот! — воскликнула Лайма. — Женщины в братстве равноправны почти во всем! Есть член, нет члена — не важно! Это просто фигура речи, вот, например, если бесхвостый хомяк попадется в ловушку с крысами, его ведь тоже посчитают как хвост, верно?
— Да наплевать, — отмахнулся Мюллер. — Мне, если честно, все равно, я просто так болтаю, язык занять.
— Хочешь язык занять — в жопу засунь, — невежливо посоветовала Лайма.
Мюллер сделал вид, что не расслышал.
— Агата, а что будет на площади, когда мы придем? — спросил он.
— Встреча, — лаконично ответила Агата.
— Кого с кем? — не понял Мюллер.
Лайме снова пришлось придти на помощь своей бывшей госпоже.
— Встречами в братстве принято называют большие собрания, — объяснила Лайма. — Все собираются вокруг возвышения, туда поднимается докладчик и говорит что-то важное, а все слушают.
— А, понятно, — сказал Мюллер. — А кто сегодня докладчик? Ты?
— Докладчик сегодня ты, Мюллер, — сказала Агата.
Вначале Мюллеру показалось, что она шутит. Он пристально посмотрел на нее и спросил:
— С какого это?
— Рьяк приказал, — объяснила Агата.
— Прикольно, — сказал Мюллер. — А Рьяк не говорил, что именно хочет услышать?
Агата отрицательно помотала головой.
— Я и не рассчитывал, — сказал Мюллер. Помолчал немного и добавил: — Выходит, боги договорились. Хотелось бы знать, чего они хотят от меня…
— А ты разве не знаешь? — удивилась Агата. И обратилась к Лайме: — Ты ему не сказала?
— Насчет конца света? — уточнил Мюллер. — Сказала, по ее словам выходит, что я Омен Разрушитель. Но я непохож на Омена. Да был бы даже похож, какое мне дело до революции? Вы ребята грозные, но на орудие судного дня не тянете. При всем уважении.
— Не тебе и не мне решать, на что мы тянем, а на что нет, — заявила Агата. — Это божье дело.
— Да насрать, — сказал Мюллер. — Слушай, а все-таки, что я должен, по-твоему, сказать этим людям?
— Что хочешь, — сказала Агата и пожала плечами. — Рьяк не уточнял. Я поняла по контексту, ты сам поймешь, о чем говорить.
— Зашибись, — констатировал Мюллер. — Тогда я расскажу, что все беды оттого, что власть в руках феодалов, а философия как бы в загоне. А если власть будет в руках философов, а феодалы будут в загоне, то все станет зашибись, потому что…
— Заткнись, козлина! — не выдержала Лайма. — Не слушайте его, госпожа Агата, он сам не понимает, что несет!
— Твой муж вправе нести что угодно, — спокойно произнесла Агата. — И что бы он ни нес, никто не вправе вмешиваться. Даже я. Так сказал Рьяк.
Мюллер улыбнулся и спросил:
— Даже если я прокляну всю вашу революцию?
— Даже если ты проклянешь лично меня, — сказала Агата. — Такова воля богов, а с богами не шутят. Особенно с темными.
— Истинно великий человек шутит с чем угодно, — возразил Мюллер.
— Ты прав, — согласилась Агата. — А ты уверен, что ты достаточно велик?
— Это не мне решать, это дело божье, — сказал Мюллер. — А забавно получится, если власть будет у философов! Каждого чиновника станут проверять на ученость, в правители станут брать только тех, которые написали эти…
— Дипломы? — подсказала Лайма.
— Диссертации, — поправила ее Агата.
— Да, диссертации, — кивнул Мюллер. — А что? Захотел стать деревенским старостой — напиши какой-нибудь трактатишко, пусть даже захудалый, претендуешь возглавить волость — пиши трактат больше и солиднее, а уездный предводитель трактатом не обойдется, тут уже диссертацию подавай.
— Забавный бред, — сказала Лайма.
— Забавно будет, когда он станет былью, — сказал Мюллер. — Как думаешь, Агата, Рьяку с Птаагом по силам так сделать?
— Рьяку с Птаагом любое по силам, если они заодно, — заявила Агата.
— А ты потребуй, чтобы нас от налогов освободили, — предложила Лайма. — Пусть издадут революционный указ или как оно у них называется…
— Декрет, — подсказала Агата.
— Да, декрет, — кивнула Лайма. — Пусть издадут декрет, чтобы все дворяне не платили налогов, как в древности…
— Не пойдет, — перебила Агата. — Если как в древности, то какая же это революция?
— Лучше пусть философы налогов не платят, — подал голос Мюллер. — Все философы, в широком смысле, не исключая астрологов, гадальщиков…
— И медиков! — радостно воскликнула Лайма.
— Да, и медиков, — кивнул Мюллер. — Или даже так: пусть революционное правительство само платит медикам пенсию.
— Всем медикам? — спросила Лайма.
Мюллер немного подумал и утвердительно кивнул.
— А не слишком ты размахнулся? — спросила Агата.
— А что, жалко? — огрызнулся Мюллер.
Агата немного подумала, состроила недоуменно-брезгливое лицо и пожала плечами.
— Да вроде нет, — сказала она. — Медиков не так много, золота всем хватит.
— Тогда надо платить пенсию всем образованным людям, — уточнил Мюллер. — А то астрологи и гадальщики нас, медиков, на столбах развешают.
Агата покачала головой и сказала:
— На всех образованных золота не хватит. Да и не нужно это, мне говорили, что в университете студенты весь срок обучения балду гоняют, только единицы чему-то учатся, а в целом образование формально. Разве не так?
— Все так, — кивнул Мюллер. — Да, ты права, Агата. Но мы отделим агнцев от козлищ! Возьмем сотню достойных ученых людей и образуем из них ученые советы. И пусть эти советы проверяют других людей, претендующих на ученость, и присваивают им титулы… ну, например, если сильно ученый — то граф, если не очень, но более-менее — барон…
— Не пойдет, — возразила Агата. — Дворянство восстанет. Надо для ученых другие титулы придумать, не дворянские, а конкретно ученые. Например, сильно ученый — доктор, а если не очень сильно…
— Кандидат в доктора, — подсказала Лайма.
— Хреново звучит, — поморщилась Агата. — Но если ничего лучше не придумается, тоже сойдет. О, уже пришли! Давай, Мюллер, полезай на трибуну, провозглашай эру учености.
И Мюллер полез на трибуну провозглашать эру учености.
5
Мюллер сидел перед камином в уютном кресле. В соседнем кресле сидела Лайма, на руках у нее дремал маленький Жан. Было тепло, тихо и уютно.
Лайма протянула руку, взяла бокал и пригубила.
— Ты осторожнее, а то молоко испортится, — предупредил жену Мюллер.
— Да куда уж… — неопределенно отозвалась Лайма и махнула рукой. — Я вот думаю, может, совсем перевязаться? Сил уже нет себя ограничивать, а если по капельке — даже тяжелее, чем совсем не пить. Может, ты попросишь Птаага, чтобы он избавил… ну, понимаешь…
Мюллер посмотрел на жену и состроил брезгливую гримасу.
— А жир тебе с жопы не отсосать? — спросил он. — А то чего мелочиться, Птааг хоть и не всесилен, но могуч, чего ему стоит…
Лайма вздохнула и сказала:
— Когда ты так говоришь, я таким говном себя чувствую…
— А когда я молчу, разве нет? — спросил Мюллер. — Жрешь в три горла, бухаешь… Милая, пойми меня правильно, я тебя люблю в любом виде, я когда на тебя смотрю, по-любому вижу ту девчонку, с которой вместе мы Шу говном обкидывали и потом…
— Ах, — вздохнула Лайма и отхлебнула еще вина. — Какие мы тогда были молодые, глупые… А ты не знаешь, что теперь с Кимом? Может, собраться как-нибудь вместе, посидеть в таверне…
Мюллер помрачнел. Взял бутылку, налил себе вина, поколебался, долил жене тоже. Сделал большой глоток и сказал:
— Ким доигрался, еще давно. Помнишь, городская стража наркоманов гоняла?
— А вы разве употребляли? — удивилась Лайма.
— Тогда все употребляли, — сказал Мюллер, при этом на лице его промелькнула улыбка, но сразу погасла. Он продолжил: — Кима продали в заморское рабство.
— Ох, горе-то какое… — вздохнула Лайма. — А ты за него Птаагу молился?
Мюллер помрачнел еще больше.
— Молился, — кивнул он. — Но Птааг сказал, что поможет только мне. Он сказал, что он не Митра, чтобы спасать всех подряд.
— Разве Митра спасает всех подряд? — удивилась Лайма.
— Вот уж не знаю, — пожал плечами Мюллер. — Я Митре молился только два раза в жизни, оба раза без толку. Я вообще не люблю молиться, дурное это дело.
— Не скажи, — возразила Лайма. — В ночь длинных ножей Птааг меня от костра уберег.
— Гм, — сказал Мюллер и отхлебнул еще.
— Извини, — сказала Лайма. — Я не то имела в виду, я помню, что от костра меня ты уберег, а что с божьей помощью, так это дело десятое. Я другое имела в виду, что без Птаага… не знаю, как объяснить…
Мюллер не стал говорить ей, что она неправильно поняла его хмыкание. И тем более не стал говорить о давних своих подозрениях, почти забытых, но сегодня снова поднявшихся из небытия. Теперь Мюллер был почти уверен, что если бы не давняя молитва Птаагу, была бы сейчас Лайма по-прежнему замужем за старым графом, и не было бы в империи никаких растаманок, и ночь длинных ножей тоже не состоялась бы, и не пришлось бы Лайму ни от чего спасать. И была бы она теперь не жирная и вечно похмельная корова, а черт его знает, какая она была бы, у них ведь с графом тоже не все ладно было, не зря она о том времени ничего не рассказывает, только изредка прорывается такая подсердечная злоба…
— Да ладно, не бери в голову, в целом все хорошо, — сказала Лайма. — Если Агата не обманет, мы теперь не разоримся. А как думаешь, твоей пенсии хватит, чтобы все налоги самим платить, без арендаторов?
— Ты губы не раскатывай, — посоветовал ей Мюллер. — На Птаага надейся, а сама не плошай, а то получится, как с тем мужиком, который золотую рыбку поймал и давай загадывать желания одно за другим. Нельзя требовать от богов слишком многого. Тебе от них что нужно? Хлеб насущный да избавление от лукавой чертовщины, а остальное приложится. В жизни что главное? Делать что должно, и пусть свершается что суждено. А как конкретно боги превращают что должно в что суждено, и какие боги этим заняты — неведомо и потому несущественно. Это как если, допустим, посадить в ящик кота и положить рядом пузырек с ядом, который либо разобьется, либо не разобьется…
Лайма внезапно расхохоталась, Мюллер аж осекся от неожиданности.
— Что такое? — спросил он.
— Да так, ничего, — ответила Лайма и утерла нос тыльной стороной руки.
В последнее время она все чаще забывала о дворянском воспитании и вела себя как простолюдинка. Временами Мюллер начинало казаться, что не только у него детство прошло среди портовых нищебродов. Похоже, Лайма тоже скрывает какую-то тайну.
— Ты так говоришь, будто в мире нет объективной реальности, — сказала Лайма. — Будто нет иной правды, чем та, что в глазах смотрящего. Это очень забавно — думать, что кот в ящике и жив, и мертв одновременно, а если еще придумать ученую филисофию, чтобы записать бытие кота сакральной формулой, типа, на такую-то долю жив, на такую-то мертв… Но тогда получается, что люди тоже боги. Ты — бог, я — богиня, Анжи — тоже богиня, только маленькая, и даже Жан если еще не бог, то скоро станет. Даже самый последний нищий на базаре — бог! Потому что у каждого человека глаза видят какую-то свою правду, а в твоей системе рассуждений видеть реальность — все равно что порождать ее, а значит, всякий человек — бог.
— Я думал над этим, — сказал Мюллер. — Есть один способ устранить противоречия. Допустим, правда действительно в глазах смотрящего. Но с чего ты взяла, что каждая пара глаз одинаково значима? В детской у нас валяются пупсы с костяными глазками, они похожи на маленьких людей, но они не люди, они имитация. Что, если нищие на базаре — тоже имитация людей, только более правдоподобная?
— А реальны тогда только мы с тобой? — спросила Лайма. — Нет, реальна только я, а ты нет, твой образ мне дан только в ощущениях. Если каждый человек убежден в собственной реальности…
— Не каждый, — перебил ее Мюллер. — Только тот, кто реален по-настоящему, может быть в убежден. А тот, кто на самом деле имитация, ни в чем не убежден, он только имитирует убежденность… гм…
— Тогда нет разницы между реальным человеком и имитацией, — сказала Лайма. — Если нельзя отличить одно от другого…
— Нельзя отличить человеку, — уточнил Мюллер. — Если представить, что боги имеют какой-нибудь априорно заданный безошибочный критерий…
— Но если ты не веришь в реальность, с чего ты взял, что боги существуют? — спросила Лайма. — Если ты убежден только в своем существовании, а все остальное дано только в ощущениях…
— Да, об этом я не подумал, — кивнул Мюллер. — Ладно, неважно, это просто фантазия. Прости, я тебя слишком напрягаю.
— Не надо меня жалеть, — сказала Лайма. — Я еще не совсем пропила мозг. И вовсе я не глупая!
— Конечно, не глупая, — согласился Мюллер.
Допил вино, поставил пустой бокал на столик, обнял и поцеловал жену. Младенец у нее на руках тихо пискнул, дескать, хватит тискаться, дайте поспать.
— Пойду, уложу Жана, — сказала Лайма. — Я тебя люблю.
— И я тебя люблю, — сказал Мюллер, и они поцеловались еще раз.
А потом Лайма пошла укладывать Жана, а Мюллер налил себе еще вина. Он подумал, что они вовремя закончили разговор. Если бы Лайма продолжила свою последнюю мысль, она бы додумалась спросить Мюллера, верит ли он в реальность собственной жены. Хорошо, что она не спросила об этом. Плохо, что когда-нибудь спросит. Но что тут поделаешь…
Мюллер допил вино и пошел в спальню.
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
1
Есть в верхнем городе Палеополиса одна больница, именуемая больницей Всех Святых. Никто толком не знает, что эти слова означают и означают ли вообще хоть что-то конкретное, их употребляют не задумываясь, надо ведь как-то отличать одну больницу от другой. Раньше эта больница была ничем не примечательна, но теперь она самая знаменитая в столице. Именно в ней работает Мюллер Премудрый, величайший мастер-медик всех времен и народов. Даже придворные лекари не брезгуют спускаться из цитадели в верхний город, чтобы посоветоваться с Мюллером, если вдруг какая наложница вдруг, не дай боги, серьезно заболеет. А еще говорят, что в проошлом году в императорском гареме была эпидемия хламидиоза, и тогда Мюллера тайком провели во дворец, и он всех вылечил. Но это почти наверняка вранье, невозможно поверить, чтобы нормального здорового мужчину выпустили из гарема живым и некастрированным.
Богиня славы обратила свой взор на Мюллера около шести лет тому назад. Тогда Мюллер начал писать большой трактат, обобщающий и систематизирующий все, что придумано медицинской наукой от сотворения мира до настоящего времени. Подобные трактаты сочиняли и раньше, но в отличие от предшественников, Мюллер не ограничивался теоретическими выкладками, но также описывал собственные опыты, которые ставил на природных объектах. Вот, например, если нужно определить смертельную дозу какой-нибудь травы, что делает нормальный медик? Идет в библиотеку и изучает труды классиков, пока не найдет искомую цифру. А что делает Мюллер? Покупает в порту десяток рабов, и всем дает выпить яду, каждому свою дозу. А потом смотрит, кто умер, а кто нет, и исходя из этого точно определяет смертельную дозу. И другие свои опыты он ставит таким же образом. Самый знаменитый опыт он устроил над прокаженными — собрал в одном месте сразу двести штук и принялся лечить каждого по-своему. Из этого конкретного опыта ничего хорошего не вышло, все больные умерли, причем намного быстрее, чем если бы их вовсе не лечили, но Мюллер не расстроился, а объявил во всеуслышание, что отрицательный результат — тоже результат, и ради вывода, что современная медицина проказу лечить не умеет, двести больных, которым все равно когда-нибудь помирать — не слишком высокая цена.
Мюллер считал, что все пары болезнь-лекарство можно разделить на два рода. Болезни и лекарства первого рода тесно связаны одно с другим в народной молве и ученых трудах, но на практике лекарство от болезни не помогает. А болезни и лекарства второго рода могут быть никак между собой не связаны, но одно от другого помогает. Вот, например, перемежающаяся лихорадка, все философы в один голос твердят, что лечения от нее нет, а Мюллер нашел сразу два снадобья: кору хинного дерева и зеленое вино. Вино, правда, только с натяжкой можно считать лекарством, потому что его надо принимать не после того, как заразился, а до, и годится оно только для коротких поездок в нездоровые местности, а если живешь там постоянно и принимаешь вино каждый день, оно сведет в могилу быстрее, чем лихорадка. Но это не очень важно, важнее, что все думали, что единственное лекарство от лихорадки — ненадежная молитва, а Мюллер нашел два других лекарства, и оба вполне надежны, хотя и имеют противопоказания. Со временем Мюллер начал подозревать, что лекарство найдется от любой болезни, надо только иметь в достаточном количестве рабов для опытов. Но для практических задач это количество, к сожалению, обычно запредельно. Вот если бы можно было представить материю в виде комбинации каких-нибудь элементарных первооснов, и выстроить из них упорядоченную таблицу, чтобы из химических свойств этих самых первооснов выводились свойства составных веществ… эх, мечты…
В позапрошлом году господин Слотер, тот самый, что во времена мюллеровой юности был профессором, а теперь стал деканом медфака, так вот, господин Слотер лично посетил больницу Всех Святых и пригласил Мюллера преподавать в университете. Мюллер стал первым практикующим знахарем, получившим такое приглашение, и, по всей видимости, первым в истории университета профессором, который умел не только словоблудить, но и делать что-то полезное руками. Говорят, назначение Мюллера обсуждали при дворе, и одни говорили, что это пример прискорбного падения нравов, а другие говорили, что так этому знахарю и надо — раз уродился гениальный, так делись гением с народом и не жужжи. Вроде даже сам владыка вселенной что-то изволил проронить по этому поводу, но что именно, слухи не доносят.
Получив предложение читать лекции, Мюллер испугался. Он с детства не любил выступать перед большой аудиторией, и, кроме того, скептически относился к новомодной идее учить студентов чему-то полезному, как будто пять лет студенчества не просто приносят в жертву на алтарь науки и просвещения, а пребывание студента в университете будто называют обучением не только по традиции, но якобы есть здесь скрытый смысл. Мюллер хотел бы в это поверить, но он хорошо помнил, каков был сам в студенческой юности, и каковы были его товарищи. И воспоминания говорили Мюллеру, что требовать от студентов чему-то реально учиться не то чтобы бессмысленно, но если подходить к этому серьезно, придется отчислять не менее трети, иначе остальных не запугать, но если отчислить каждого третьего, это возмутит власти и обрушит цены на обучение. Так что лучше не суетиться, и пусть все идет как идет.
Так Мюллер и стал относиться к своим занятиям. Обычно молодые профессоры пишут для каждой лекции подробный конспект, чтобы не сбиваться с мысли и не путаться, но все равно сбиваются и путаются, а потом, когда понимают, что сбиваются и путаются — начинают смущаться, от смущения сбиваются и путаются еще сильнее, и так далее. Но Мюллер конспектов не готовил и, бывало, поднимался на кафедру, сам не зная, о чем будет говорить в следующую минуту. Обычно профессоры стараются излагать свои лекции высокопарными книжными словами, у них принято считать, что кто говорит понятно, тот лох. Но Мюллер в этом негласном соревновании не участвовал, он произносил лекции простыми словами, будто рассказывал друзьям что-то занимательное, а когда видел, что студенты скучают — рассказывал анекдот. Поначалу студенты воспринимали Мюллера как забавного психопата, но потом привыкли и в каком-то смысле даже полюбили. Особенно когда он стал проводить мастер-классы.
Типичный мастер-класс профессора Мюллера проходил так. Посреди лекционного зала ставили стол, на него клали смердящий труп какого-нибудь бродяги, и Мюллер, читая очередную лекцию, показывал то, о чем говорил, прямо на трупе. А если было нужно, брал в руку нож и резал мышцы, либо брал топор и отрубал конечность, а однажды одному трупу вскрыл брюхо, вытащил печень, разрезал, а там внутри оказались червяки-паразиты, Мюллер обрадовался, запрыгал как сумасшедший, выхватил из печени кусок и подбежал поближе к первым рядам, чтобы студенты могли лучше разглядеть, а тогда как раз ненадолго вернулась мода на девиц-ботаничек, которые переодевались в юношей и незаконно слушали лекции, короче, червяки стали падать на столы, расползаться, визгу поднялось немеряно. Хорошо одно — после того случая мода на ботанизм прошла навсегда, и за это многие чиновники сказали Мюллеру большое искреннее спасибо.
В империи за последние годы многое переменилось. Пять лет назад случились народные выступления, после них император отменил сословные привилегии, тогда все это восприняли как сиюминутную причуду, никто не верил, что равенство и братство пришли всерьез и надолго, думали, императора переубедят либо свергнут, но скептики оказались посрамлены. Общество равных возможностей, провозглашенное высочайшим указом, действительно сформировалось, и претендентов на государственные должности отныне больше не спрашивали о роде и классовом происхождении. В университете появилось так называемое бюджетное отделение, официально туда принимали низкорожденных детей, показавших успехи в науках, но на самом деле там учились дети пиратских капитанов и бригадиров портовой мафии. Но вслух об этом не говорили, а с теми, кто нарушал этот негласный запрет, происходили несчастные случаи.
Мюллер перестал скрывать свое дворянское происхождение. То, что раньше считалось постыдным и даже немного презренным, теперь стало вполне достойным. Многие молодые люди открыто восхищались профессором Мюллером. Высокородный сын бил баклуши в университете, пока высокородный отец-пьяница растрачивал семейное состояние, и вот, наконец, отец растратил все до последнего гроша, и что сделал сын? Впал в уныние и запил? Нет, не на такого напали! Сын послал к чертям замшелые предрассудки и пошел работать в больницу знахарем, а там встретил оклеветанную богатую наследницу, избавил от несправедливого навета, она его полюбила, они поженились и стали жить, как у Птаага за пазухой. Чем не сюжет для нравоучительной сказки? А потом, когда подлые сонаследники супруги разорили Мюллера повторно, впал ли он в уныние? Как бы не так! Как раз начиналась революция, а у Мюллера уже отрос солидный научный авторитет, и когда революционеры предложили ему особую пенсию за ученость, другой бы согласился и стал бы жить припеваючи, но Мюллер не таков! Он потребовал, чтобы пенсию платили не только ему, но и всем другим ученым людям, и так оно и вышло, и авторитет Мюллера вырос немеряно. В народе стали ходить байки, что Мюллер не только ученый медик, но еще и пророк, отмеченный божьей печатью. Якобы детство у него прошло в нищете, а когда была революция, он ее не только одобрил, но и лично поучаствовал, кричал речь на какой-то ритуальной встрече, и еще говорили, что он время от времени беседует с богом Птаагом, но это уже ни в какие ворота не лезет, полнейший бред.
К тридцати пяти годам Мюллер стал почтенным и уважаемым человеком, предметом восхищения едва ли не всех столичных студентов. Подобно древним пророкам, за которыми ходили толпы восторженных учеников, Мюллер тоже обзавелся свитой, но в ней большинство составляли мистически настроенные психопаты, а толковый человек был только один — пятикурсник по имени Константин. Мюллер любил его и ценил, а после выпуска собирался взять к себе как бы подмастерьем, наподобие того, как цеховые мастера берут в помощники толковых учеников, потом женят на них своих дочерей, Анжи, правда, еще рано думать о замужестве, но чем боги не шутят…
Насколько хорошо складывалась научная и общественная карьера Мюллера, настолько дурна и беспросветна была его личная жизнь. Потому что его любимая жена, его ненаглядная Лайма стала горькой пьяницей.
Это произошло незаметно, как бы невзначай. Все началось, как ни странно, с изменений фигуры. Первые роды никак не отразились на Лайме, но после вторых и особенно третьих она располнела, перестала быть стройной прелестницей, а стала нормальной такой солидной женой, не жирной, но в теле, есть за что подержаться. Мюллеру такая жена нравилась даже больше, чем худосочная девочка-персик, но Лайма из-за своей фигуры переживала и расстраивалась. Стала нервной и дерганой, а стоило Мюллеру сказать что-нибудь ласковое наподобие «ути-пути толстопузик мой милый» — либо зверела и била посуду, либо принималась рыдать. Поначалу Мюллера это забавляло, некоторое время он жену даже травил этим, а когда понял, что творит жестокость — раскаялся, извинился, но осадочек остался, Лайма убедилась, что муж ее больше не любит, потому что она жирная и страшная. Мюллер пытался переубедить ее, но все было бесполезно, она твердо решила похудеть, стала бегать кругами по саду, прыгать через скакалку, как маленькая девочка, одно время даже пыталась ограничивать себя в еде, но не вышло — чем больше занималась упражнениями, тем больше жрала. В итоге Лайма не похудела, наоборот, потяжелела на пять фунтов, потому что жир у нее стал превращаться в мышцы, а они тяжелее, чем жир. Лайма стала походить на здоровую краснощекую крестьянку, Мюллер ей говорил, что она прекрасна, и такая нравится ему даже больше, чем раньше, но она не верила, злилась, плакала без причины, ругалась и обижала мужа, детей и рабов, и со временем они тоже стали злиться в ответ. И тогда Лайма окончательно убедилась, что никто ее не любит, и кругом одни сволочи. В качестве последнего средства она восстановила фигуру колдовством, это действительно помогло, но отношение окружающих не изменилось, и она решила, что колдовство работает не как заявлено в рекламе, а только лишь наводит иллюзию для нее самой, а для окружающих она по-прежнему жирная и страшная. Она не понимала, что окружающие отворачиваются от нее не из-за внешности, а из-за поведения. Муж, правда, пока еще любил ее по старой памяти, но с каждым месяцем это становилось чуть-чуть менее заметно. Жизнь Лаймы становилась труднее, печальнее и беспросветнее, и в какой-то момент она поняла, что во всем мире осталась только одна вещь, которая радует ее хоть чуть-чуть — вино. И она стала напиваться не от случая к случаю, а целенаправленно. Вначале стакан за ужином, потом стала добавлять стакан на ночь, чтобы лучше спалось, потом два-три стакана в промежутках, и, наконец, стакан утром, чтобы голова не болела.
Первый год Лайминого алкоголизма был довольно приятным. Лайма перестала заниматься самоедством, стала спокойнее, доброжелательнее. Муж, дети и рабы вздохнули с облегчением — злобная мегера превратилась в нормальную добрую женщину, даже чуть добрее, чем раньше. На ногах, правда, стоит не очень твердо, но это даже забавно.
Время шло, и вечное легкое опьянение Лаймы перестало быть легким и забавным. Все чаще один маленький стаканчик приводил к тяжелой попойке, все чаще Лайма приставала к рабам, чтобы они тоже с ней выпили, а потом совсем теряла контроль, и несколько раз даже изменяла мужу с разносчиками пирогов. А муж ничего не замечал, он был слишком поглощен своей наукой, допоздна засиживался то в больнице, то в университете, домой приходил поздно, наскоро ужинал и сразу валился спать. Одно время черножопая горничная по прозвищу Блэки пыталась открыть Мюллеру глаза на гнусное поведение жены, но в итоге добилась лишь того, что Мюллер ее трахнул. После этого случая рабы больше не вмешивались в семейные дела хозяев, и правильно, не рабское это дело. А дети Мюллера и Лаймы были слишком малы, чтобы понимать, что происходит.
А потом у Лаймы стало сдавать сердце. Явных угрожающих признаков не было, под соском не болело, но стала побаливать левая рука, и за грудиной то и дело появлялась тяжесть, будто съела что-то большое и оно там застряло. И еще подниматься по лестнице стало тяжелее, чем раньше, но не как старухам, у которых ноги не переставляются, у Лаймы-то ноги переставлялись без проблем, зато дыхание перехватывало, и потом, на верхней площадке, становилось как-то нелепо: сердце бьется часто-часто, будто из груди хочет выпрыгнуть, левая рука немеет, а за грудиной словно бурдюк надули. Из-за этого Лайма стала избегать лестниц, однажды даже предложила мужу перенести спальню на первый этаж, но тот не понял, стал ругаться, дескать, совсем мозги пропила, первый этаж для прислуги, что люди подумают? Лайма тоже стала ругаться, а потом они оба забыли, из-за чего поругались, и принялись ругаться просто так. Все чаще и чаще они ругались просто так.
Однажды Мюллер пришел домой, а жена не вышла его встретить. Мюллер не удивился, это у них стало обычным делом. Пошел на кухню, поужинал, потом на кухню зашла Блэки, принялась крутить толстым задом, Мюллер подумал-подумал, да и затащил горничную в ее каморку, и трахнул. Раньше он так не делал, когда Лайма дома, а теперь подумал: а почему, собственно? По всему видно, нажралась до невменяемости, валяется в спальне поперек кровати, храпит, как дракон, и дома присутствует только физически, а душевно пребывает в пьяных фантазиях. Потом Мюллер с Блэки долго валялись на Блэкиной лежанке, душевно болтали и занимались всякими непристойностями. Потом он ее еще раз трахнул, вернулся на кухню, выпил стакан вина, а потом решил, что поздороваться с женой все-таки надо, и пошел в спальню. И увидел, что она умерла.
Пьяницы чаще всего умирают от несчастных случаев. Начинают блевать, лежа на спине, и захлебываются, или в бане падают мордой в тазик и тоже захлебываются, или выходят на балкон и наворачиваются через перила, или скатываются с лестницы и ломают шею. Реже пьяницы травятся некачественным пойлом, и еще реже умирают от естественных причин. Лайма стала одним из последних случаев, самых редких.
Она лежала на спине, но лицо ее было чистым, она не захлебнулась блевотиной, нет. Видимо, спала, а потом что-то случилось, открыла глаза и больше не закрывала, так и умерла с открытыми глазами. По всему видно, смерть была мгновенной и безболезненной.
История болезни Лаймы промелькнула перед внутренним взором Мюллера. Раньше он не понимал, что это история болезни, а теперь понял. Жалобы на вечное утомление, одышка после подъема по лестнице, он думал, дурак, это все от пьянства, а нет, это сердце сдавало, а он не замечал дурень. Как же грустно…
Мюллер сел рядом с женой, положил руку на ее голое колено, оно было холодным и твердым, как лед. Мюллер вскрикнул и отпрянул, на мгновение он почувствовал себя некрофилом, это было отвратительно. Он опустил голову, хотел спрятать лицо в ладонях, но не смог прикоснуться к лицу теми пальцами, которыми только что касался мертвой ноги, обычно он спокойно относился к мертвецам, но Лайма — не мертвец, она не может быть мертвецом, она любимая, ненаглядный толтопузик, алкашка чертова, так говорить неприлично, но кому теперь какое дело…
Мюллер разрыдался. Он сидел и рыдал, вначале беззвучно, а потом стали прорываться отдельные всхлипывания, а потом уже не отдельные, а все чаще, все громче…
На лестнице послышались шаги.
— Прочь! — закричал Мюллер. — Все прочь!
Против ожиданий, его голос не был ни сдавленным, ни осипшим, как бывает, когда плачешь. Голос Мюллера звучал в совершенно обычным образом. Да и разум Мюллера не чувствовал себя ни сдавленным, ни замученным. Даже какое-то облегчение чувствовалось — раньше боялся, что жена умрет, хоть и не отдавал себе отчета, что боится, а теперь уже нечего бояться, все уже случилось. Теперь надо не бояться, а реагировать. Но как? Да никак! Раньше Мюллер не задумывался, но от Лаймы никакой пользы уже давно нет, ходит по дому как бухой призрак, без нее даже легче…
И тут Мюллер вспомнил, как в школе она сидела на одну парту ближе к доске, а он плевал ей в волосы жеваной бумагой, а она злилась, и потом, в ночь длинных ножей насмерть перепуганная ведьмочка с огромными глазищами, и медовый месяц, и дети, и…
— Господи, Птааг! — взмолился Мюллер. — Ну зачем ты так?! Не надо так, Птааг, как угодно, но только не так! Умоляю, верни как было, очень тебя прошу!
Снова шаги на лестнице, теперь удаляющиеся. Мюллер уже забыл, что за дверью кто-то стоит, рабыня какая-нибудь. Ну и черти с нею, и бесы, и демоны до кучи, наплевать на всех рабов, принести бы их всех в жертву, чтобы милая Лайма снова была жива, чтобы снова стала тонкая, милая и трезвая, понятно, что по жизни такому не быть, такое даже богам не всем под силу, то-то он не появляется, раньше всегда появлялся, стоит только позвать… А кстати! Ровно пять лет прошло со дня революции плюс-минус месяц, вон, за окнами вся улица флажками увешана, а Птааг каждые пять лет… Нет, не по силам ему, иначе уже проявился бы. Ну и черт с тобой, Птааг, гори в аду, бесполезная тварь!
Мюллер истерически расхохотался, перевел взгляд на Лайму, наклонился, встал на колени, протянул руку, погладил холодный лоб. На этот раз некрофильских мыслей не возникло. Ничего странного, у живых людей лоб всегда холоднее остального тела, а колени обычно теплые, и когда касаешься мертвого лба… Что за чушь в голову лезет!
Мюллер вздрогнул, дернулся, потревоженный труп тоже дернулся и с шипением выдохнул. Другой человек на месте Мюллера испугался бы до усрачки, а Мюллер, наоборот, успокоился. Он привык к посмертным выдохам и отрыжкам, и к каловой вони… а где она, кстати? Повезло в нужник сходить перед самой смертью? Да, наверное. Впрочем, чего гадать? Вскрытие покажет. Вскрытие. Покажет.
Лаймы больше нет, понял вдруг Мюллер. То, что лежит перед ним, не Лайма, а сколько-то фунтов свежего неразделанного мяса вперемешку с костями и требухой. Но не Лайма, Лаймы больше нет. А тело надо вскрыть, посмотреть, отчего оно умерло, когда было Лаймой. Коллеги удивятся, что он мертвую жену режет, и рука не дрожит, хотя нет, не удивятся, они ко всему привыкли. Как бы ее в больницу доставить… а зачем? Можно прямо здесь вскрыть… нет, кровища все зальет, нехорошо, лучше в подвале, там как раз стол подходящий и запасной набор инструментов… даже два набора на самом деле… позвать рабов… а можно и не звать, тут маленький лифт для угля, чтобы печку топить, посадить тело на ведро, привязать, чтобы не отвалилось… вот этим шарфиком, например… Какая тяжелая! Надо же было так отожраться… может, все-таки позвать рабов? Нет, если ноги по полу волочить, не так уж и тяжело получается. Главное помнить, что это только тело, а самой Лаймы никогда больше не будет.
В какой-то момент Мюллеру показалось, что сейчас он упадет и начнет кататься по полу в конвульсивных рыданиях. Нет, не упал. Наоборот, стал спокоен и рассудителен, эмоции будто отрезало, смотрит на себя как бы со стороны, идет такой спокойный, как слон… Теперь шарфик повязать… нет, не на шею, это перебор, мы хоть и не верим, что глумление над трупом гневит богов, но так делать по-любому не будем, лучше за запястья, это тоже глумление, будто с трупом садизмом занимашься, при жизни-то они с Лаймой этим делом не занимались, однажды попробовали, чуть не подрались, потом хохотали как ненормальные… было время… А теперь нет больше времени и не будет, теперь Мюллер остался один… один…
Он сел на пол, привалился к стене и зарыдал.
2
За прошедшие годы господин Ион сильно переменился. Раньше он носил высокие сапоги на толстой подошве, чтобы грязь не заливалась внутрь, когда бредешь по тротуару в дождь, а теперь носил короткие щегольские сапожки на высоком каблуке, чтобы удобнее пихать ногу в стремя. Господину Иону почти не приходилось ходить пешком, разве что если захочется прогуляться по хорошей погоде. Но такого странного хочется нечасто.
Раньше господин Ион не выделялся в городской толпе, человек как человек, свободный, это сразу видно, но не родовитый и не особенно богатый. А теперь совсем другое дело! Как нарядится в парадный камзол, как нахлобучит берет со страусовым пером — сразу видно, дворянин! Не потомственный, правда, но это дело поправимое, вот допишет Мюллер свой трактат, как начнет ученая общественность петь дифирамбы, как посыплются из императорского дворца награды, тут уж не зевай! Впрочем, прозевать такое будет непросто, заслуги Иона неоспоримы — не возьми он Мюллера в знахари, так и прозябал бы Мюллер очередным разорившимся дворянчиком, пока не спился бы. Или пока кто-нибудь другой не взял бы его в знахари, и тогда упала бы вся благодать не на больницу Всех Святых, а на какую-нибудь другую больницу, не приведи господи. Хорошо Ион сделал, что не прогнал Мюллера, пока тот был молод и ничем не знаменит. Вовремя заметил, что парню суждено большое будущее. Какой же Ион молодец!
Здесь надо отметить, что воспоминания Иона о первой встрече с Мюллером с каждым годом становились все более подробными и развесистыми. Первоначальное содержание той беседы давно улетучилось из памяти Иона, и если бы кто-нибудь сказал ему, что Мюллер фактически предложил Иону организовать мошенническую шайку, типа, я буду делать вид, что лечу людей, и вытягивать из них деньги, а ты учи меня лечить людей по-настоящему, так вот, если бы кто-нибудь Иону такое сказал, Ион возмутился бы, стал бы кричать, размахивать руками, притом искренне, он ведь уже давно решил, что все было иначе. Пришел парнишка с огнем в глазах, Ион сразу понял — великий знахарь получится из этого парня! И не было никакого мошенничества, Ион всегда верил в великую силу медицины, не когда Мюллер стал действующие лекарства придумывать, но и раньше тоже верил, с самого начала, никогда Ион не считал медицину просто способом облегчать чужие карманы. И когда Мюллер предъявил то самое первое лекарство от лихорадки, Ион вовсе не стал глупо смеяться и говорить, дескать, мы теперь с лохов станем сдирать вдесятеро, и неправда, что Ион не сразу поверил, что лекарство реальное, Ион прозорливый, он сразу поверил, не зря ему боги благоволят!
Ион не догадывался, что Мюллер был убежден, что Иона одолевает преждевременное старческое слабоумие, и что Мюллеру иногда хотелось отделить голову главврача от шеи и посмотреть, к какому из двух видов это слабоумие относится: когда сонные артерии забиваются жирной дрянью или когда само мозговое вещество разжижается, скукоживается и загнивает. В такие моменты Мюллер глядел на Иона характерным внимательно-испытующим взглядом, и Ион думал, что этот взгляд выражает уважительное почтение.
Но нельзя сказать, чтобы Ион завидовал Мюллеру. Нет, нет и еще раз нет! Не зря говорится в писаниях, что если боги что-то дают, то что-то другое обязательно отнимают. Да, Мюллер великий ученый, снискавший всемирную славу, но по жизни он почти сумасшедший! Иногда ему удается спасать обреченных на смерть, но видели бы люди, с каким лицом он мертвяков режет! А если найдет в мертвяке что-нибудь научно значимое… Брр…
В куртуазных беседах ученость иногда сравнивают с благовонием, а иногда со светом фонаря, разгоняющего тьму невежества. Оба эти сравнения справедливы, и оба глубже, чем кажутся на первый взгляд. Помимо прочих смыслов, метафоры намекают, что все хорошо в меру: и запах, и свет, и ученость. Если нечаянно сунешь нос прямо во флакон с благовонием, потом целый час будешь чихать, пока не прочихаешься. Аналогично, если приблизить глаза к фонарю вплотную, потом будешь долго моргать, пока не проморгаешься, а в малых дозах и благовоние, и свет очень даже приятны и полезны. Так и ученые мужи — издали кажутся достойными всяческого подражания и почитания, а посмотришь вблизи — говно говном, прости господи. Поэтому общаясь с гением, важно держаться на оптимальном расстоянии, не приближаться слишком близко. Но не слишком далеко, чтобы не уклониться невзначай от золотого дождя, изливаемого на гения богами и владыками. Многие недооценивают этот дождь, но Ион не из их числа, Ион знает, что Мюллер обеспечивает от четверти до половины дохода всей больницы, это как курица, несущая золотые яйца, такой субъект имеет полное право иметь странности.
А странностей у Мюллера хватает. Традиционную знахарскую мантию не носит, ходит по больнице в обычной повседневной одежде. А когда занимается хирургией либо трупосечением — одевается в особый халат, который некогда был белого цвета, а теперь весь в бурых пятнах, волосы обматывает банданой, ходит по больнице как пират, людей пугает. Со временем, впрочем, люди к нему привыкли, перестали пугаться и стали воспринимать встречу с Мюллером как доброе предзнаменование. Одно время среди пациентов даже появилась мода падать перед Мюллером на колени либо ниц и просить благословения. Мюллер от этого зверел, начинал ругаться, мог отвесить пощечину, а пациенты только радовались, потому что именно брань и тумаки они считали в данном случае благословением. Дикие люди, что с них взять.
А еще Мюллер имел дурную привычку, разрезав мертвяка и найдя внутри интересную деталь, тащить ее из подвала к себе в кабинет не в обход по темным лестницам, а прямо через отделения. Сколько раз бывало: стоит очередь к знахарю, из кабинета камлание слышится, пациенты все такие серьезные, губами шевелят, молятся, тоже готовятся болезнь изгонять, как вдруг появляется не то пират, не то палач, весь в кровище, а на плече держит отрезанную человеческую ногу, и насвистывает себе под нос что-то веселое. В прошлом году одна бабка увидела Мюллера в таком виде, ахнула, упала, где стояла, и собралась помирать. Но Мюллер не растерялся, напрыгнул на бабку, стал мять ей грудь и целовать в губы, бабка закашлялась, задергалась и ожила. А Мюллер подобрал отрезанную ногу и потопал дальше по своим делам. А бабка встала, покряхтела немного и вдруг завопила, что в спине у нее ничего не болит, не хрустит и не сводит, и что великий знахарь ее исцелил, притом, что необычно, бесплатно. Произнеся эти слова, бабка осеклась, задумалась, а потом как-то резко пошла прочь. Так и свалила, ничего не заплатив.
А с женой Мюллеру не повезло. В юности, говорят, госпожа Лайма была красавицей и умницей, но сейчас в трудно поверить. Жирная, страшная, вечно поддатая, всем недовольна, ужас! Другой бы на месте Мюллера давно уже прогнал взашей такую мымру, а он как блаженный, ничего не ценит, кроме научного призвания, пропадает в больнице днями и ночами, и нет никакого дела до сварливой брани. Сам Ион не потерпел бы такую жену ни дня, сходил бы на конюшню, взял бы вожжи, да и научил бы благоверную уму-разуму. Да и не возникли бы такие проблемы у Иона, женщины ведь от чего звереют? От невнимания. А если каждый день уделять жене чуть-чуть внимания, за жопу, например, ущипнуть после завтрака, тогда все будет хорошо.
Другой проблемой Мюллера была рассеянность. Сам он не считал ее проблемой, он следил за временем только пока был молод, а как возмужал и заматерел, вообще перестал на часы смотреть, дескать, не мое это дело. Как увлечется чем-нибудь, бывает, пропускает до десяти лекций кряду, а студенты только рады. Бродят по университету, играют в всякие дурацкие игры, а однажды попойку закатили прямо в учебное время, попались ректору, тот возмутился, дескать, где профессор? А профессор сидит в больничном подвале и режет очередного мертвяка, а про занятия забыл начисто. Ректор тогда нажаловался в императорскую канцелярию по делам просвещения, а оттуда пришла указивка с печатью, что, дескать, на главврача больницы Всех Святых отныне возлагается обязанность следить, чтобы Мюллер не пропускал лекции. Будто главврачу больше делать нечего! Однако приходится следить, там же все-таки печать императорской канцелярии…
Вот и сейчас до лекции осталось чуть больше часа, а Мюллерова пролетка как стояла у подъезда, так и стоит, и хозяина нигде не видно. Небось опять в кабинете засел, бумагу пачкает. Хорошо, что дом ему поставили прямо напротив университета, не надо далеко ходить.
— Джесси! — позвал Ион. — Джесси, а ну иди сюда, живо! Выпорю!
Нет, не дозовешься. Рабы нынче пошли не как раньше… Ну ничего, разок можно и ногами дотопать.
В кабинете Мюллера не нашлось, на кухне тоже, и рабы понятия не имеют, где хозяин, все как один. Неужели опять в подвале кого-то режет? И точно, режет. Женщину, немолодую и жирную, лицо скальпом закрыто, брюхо вскрыто, внутренности кучкой в тазике, грудная клетка тоже вскрыта, сердце на столе, нездоровое, кстати, сердце, не красное, а серое какое-то. Помнится, Ион с Мюллером однажды бухали, Мюллера пробило поделиться знахарской премудростью, стал рассказывать про сердечные приступы и рассказал много интересного. Оказывается, сердечный приступ чаще всего случается не просто так, типа, остановилось сердце ни с того, ни с сего, и помер человек, обычно не так. Перед тем, как сердце остановится, кровяные прожилки в сердечном мясе забиваются всякой дрянью, мышца становится не красная и упругая, а серая и дряблая, потом проходит сколько-то времени, и раз! Остановилось. Вот и с этой теткой, по всему видно, так вышло. Жалко тетку.
— Привет, Мюллер! — поздоровался Ион.
Мюллер вздрогнул. Он когда погружается в работу, от всего окружающего отрешается, ничего не замечает, кроме разделанного тела, а когда зовут — пугается. Однажды Ион попробовал не окликать Мюллера голосом, а неожиданно хлопнуть по плечу, но вышло еще хуже — Мюллеру почудилось, что мертвец ожил и нападает, Мюллер как завизжал, как замахал скальпелем, Ион едва увернулся. Нет уж, пусть лучше Мюллер пугается. К тому же, это забавно.
Но сегодня Мюллер испугался слабо и как-то неуверенно. дернулся, зыркнул туда-сюда и пробормотал негромко и монотонно:
— А, это ты…
— У тебя через час лекция, — сообщил Ион.
Мюллер спокойно, но в грубых выражениях объяснил, что на лекцию не пойдет.
— Что, интересный случай? — спросил Ион.
— Да нет, не особо, — ответил Мюллер и пожал плечами. — Приступ как приступ. Еще печень увеличена от пьянства, вон, гляди, — он нагнулся, порылся в тазике, нашел нарезанную ломтями печень, выложил на стол один ломоть, затем другой. И продолжил тем же ровным голосом: — Жировое перерождение видишь?
— Угу, — неуверенно кивнул Ион.
Никакого жирового перерождения он не видел, но Мюллер лучше знает, он ведь гений.
— Начальная стадия, — сообщил Мюллер. — С такой печенью жить да жить. Как думаешь, лет пять с такой печенью можно прожить?
— Не знаю, — пожал плечами Ион. — Наверное, можно.
— А десять? — спросил Мюллер.
Ион задумался.
— Нет, — сказал он после долгой паузы. — Думаю, десять лет с такой печенью не прожить.
— Вот и я так думаю, — кивнул Мюллер.
Бросил печень обратно в тазик, взял в руки надрезанное сердце, покрутил, тоже бросил в тазик.
— Ну, все ясно, — сказал Мюллер. — Пора заканчивать.
Протянул руки к голове покойницы, взялся за скальп, стал натягивать обратно на пустоголовый череп. Стало видно лицо женщины, Ион глянул на него и ахнул:
— Да это же Лайма!
— Да, Лайма, — согласился Мюллер. — Ночью во сне померла. Прихожу утром, думаю, чего не встает, а она холодная.
— Лайма, — повторил Ион.
— Хорошая смерть, — сказал Мюллер. — Раз, и готово, и мучиться не надо, не как при гангрене или, скажем, при раке. Тоже хочу так помереть, без страданий. А ты, Ион?
— Чего? — автоматически переспросил Ион. — Ах да…
Он смотрел на лицо Лаймы, расплывшееся от переедания, но не уродливое, нет, из всей ее фигуры лицо сохранилось лучше всего, красные щеки, красный нос — ерунда, это ее почти не портит, и тонкие фиолетовые ниточки вдоль кровеносных жил… Она даже красивее стала, чем при жизни, что-то в ней появилось будто бы не от мира сего…
— Да, ты прав, я тоже заметил, — сказал Мюллер.
— Я вслух говорю или ты мысли читаешь? — спросил Ион.
— Вслух, — объяснил Мюллер.
Они помолчали. Затем Ион сказал:
— Не ходи сегодня на лекцию.
— Не пойду, — кивнул Мюллер.
— А я бы не смог свою жену так разрезать, — сказал Ион.
— Я тоже, — сказал Мюллер. Перехватил изумленный взгляд товарища и пояснил: — Здесь не Лайма лежит, это только плоть, сарк, как древние говорили. Лаймы больше нет.
— Все равно я не смог бы, — сказал Ион. — Страшно. Да и боги…
— Чего боги? — не понял Мюллер.
— Разгневаются, — сказал Ион. — Ну, могут разгневаться, это же все-таки… Не хочу пророчить…
— Да ну, забей, — отмахнулся Мюллер. — С богами у меня все схвачено. Птааг мне помогает, тем более как раз пять лет прошло…
— Чего? — переспросил Ион.
— Не бери в голову, ерунда, - сказал Мюллер. — Долго объяснять, да и не нужно. Это наше с Птаагом дело, только нас двоих касается. Птааг добрый, меня любит, все сделает, как надо.
— А как надо? — спросил Ион.
— Не знаю, — пожал плечами Мюллер. — Такие вещи узнаешь только задним числом. Боги на то и боги, что непостижимы. Вот, помнится, однажды….
Мюллер отошел от стола в угол, к умывальнику, стал намыливать руки. Сколько же на них кровищи, слизи всякой, мясных ошметков… А он стоит и не замечает… Впрочем, на его месте… не приведи боги оказаться…
Губы Мюллера шевелились, рот открывался и закрывался, Мюллер рассказывал какой-то занимательный случай. Ион слушал и ничего не слышал. Ему показалось вдруг, что все вокруг ненастоящее, что он больше не главврач Ион, личный дворянин (хотя после революции уже не важно, личный или потомственный), а какой-то сказочный персонаж, чья единственная функция — стоять с выпученными глазами и оттенять Мюллерово горе, как на сцене второстепенные актеры стоят с такими же дурнысм глазами, а примадонна умерла, герой-любовник рыдает либо, наоборот, пытается вести себя как обычно, вот как Мюллер сейчас, хотя нет…
В какой-то момент Ион заметил, что Мюллер больше не моет руки, а стоит, как застывшая статуя с остекленевшими глазами, уставившись в одну точку, а из уголка рта стекает слюна. Неужели удар хватил? Что он только что говорил про непостижимость богов? Все схвачено, да? Жили и умерли в один день, как в сказке? Но в сказках благородный герой не выпускает любимые кишки в тазик. В сказках цветочки, птички, бабочки…
Краем глаза Ион уловил движение, повернул голову и тоже застыл как статуя.
Лайма больше не лежала на спине, улыбаясь грязному потолку распоротым животом. Теперь Лайма лежала на боку, одной рукой она держала тазик, а другой рукой запихивала свои внутренности обратно в живот. Какой-то мелкий орган, не то почка, не то селезенка, выскользнул из окровавленных пальцев, заскользил по выскобленному столу, скатился на пол, улетел прочь, Лайма не заметила.
— Вуду, — прошептал Ион. — Раста… Зомби…
Вспомнились нелепые росказни, что она якобы была ведьмой… нет, бывших ведьм не бывает… да какие к чертям росказни?! Он сам лично присутствовал при той встрече Мюллера с Лаймой, Мюллер клялся, что она чиста, но нему любому дураку было видно, что она нечиста, прельстила, сучка, парня мордашкой и сиськами, Ион тогда пожалел их, не стал перепроверять, подумал, раз крови на руках у нее нет (была бы кровь — не поволокли бы в больницу, на месте порешили бы), так пусть сами промеж собой разбираются, сколько можно смотреть, как эти дуры-малолетки в пламени визжат дурными голосами… Однако, удивительно, как забытая история прорастает в памяти, словно диковинный цветок или фигура-фрактал, о каких рассказывал один заезжий дервиш, только что, казалось, ничего не было в памяти, кроме нескольких общих слов, и вдруг — бабах! Целый букет подробностей. Мюллер и Лайма, молодые, напуганные и счастливее всех на свете, а сами еще не знали, что счастливые…
Лайма закончила возиться с тазиком, она теперь больше не улыбалась вскрытым животом и не было у нее вскрытого живота, нормальный у нее живот, целый, ни раны, ни шрама, и меньше стал, чем раньше… ах да, вот валяется лишний жир и лишняя кожа, эти свои детали она не стала приделывать обратно, фигуру бережет…
Иона вытошнило. Сразу, без предисловий, без надсадного кашля, без изжоги, как брызнуло из горла, да как далеко…
— Милая, мозг забыла, — прозвучал в тишине голос Мюллера.
Лайма к этому времени уже натянула скальп на свод черепа, и теперь взбивала руками каштановые волосы, когда-то очень пышные, да и теперь в целом неплохие, учитывая возраст…
Лайма охнула, схватилась за голову, стрельнула глазками в мужа, виновато улыбнулась и пожала плечами, дескать, и вправду забыла, прости.
— Как же ты без мозга, любимая? — спросил ее Мюллер.
— Она не без мозга, — прозвучал чей-то голос. — Будь она без мозга, она бы не шевелилась и не улыбалась. И речь бы не понимала.
— И то верно, — улыбнулся Мюллер. — Спасибо, Ион, вразумил. И тебе спасибо, Птааг, а я, дурак, не поверил, что ты поможешь.
В этот момент Ион понял две вещи. Во-первых, голос, который только что прозвучал, принадлежал ему, Иону. А во-вторых, он, Ион, только что наблюдал чудо. И никакая это не черная магия, да простят боги грамматики невольный каламбур. ЭтоЮ скорее, обратное явление, святая благодать светлых богов в лице Птаага, да святится что-то там у него, никогда не помнил, как к каким богам надлежит обращаться…
— Ой! — завизжала Лайма. — Где я, кто я, почему здесь, почему голая? Откуда кровь? А это что за дерьмо?
Ион захохотал, надрывно и довольно глупо. Хотел было произнести, дескать, из тебя натекло, красавицв, но губы не послушались, и правильно, что не послушались, нельзя говорить такие гадости благородной даме, пусть даже и ведьме. А в особенности ведьме, потому что…
Ион не смог додумать мысль до конца, Лаймин визг стал еще оглушительнее, хотя, казалось, куда больше… Лайма смотрела на Мюллера, визжала, пыталась прикрыть ладонями интимные места, но только размазывала грязь и кровищу. Мюллер подобрал с лавки какую-то тряпку, встряхнул, кинул Лайме, та замолчала, стала заворачиваться.
— Извините, — невпопад пробормотал Ион.
— Ерунда, не бери в голову, — махнул рукой Мюллер. — Птааг — он такой, любит злые шутки. Сначала злит, потом привыкаешь. Ты тоже привыкнешь.
— Ой, а это что?! — взвизгнула Лайма.
Она стояла на одной ноге, как цапля, а другой ногой брезгливо трясла в воздухе, с босых пальцев капала беловатая слизь.
— Не кричи, любимая, это мозг, — ответил ей Мюллер. — Он тебе больше не нужен. Давай приберемся…
Он опустился на четвереньки, подобрал с пола какую-то тряпку, вытер Лайме ногу, сходил то за веником и совком, запихал мозг в совок, это оказался не целый мозг, а только одно полушарие, а куда второе делось, может, оно у Лаймы в голове, может, человеку достаточно половины мозга, чтобы нормально соображать?
— Тише, — сказал Мюллер, и Ион понял, что последний вопрос произнес вслух. — Не нервируй мою благоверную. Ей и без того нелегко пришлось. Хлебни лучше зелена вина.
Он открыл дверцу комода, стоящего рядом с разделочным столом (прозекторским, вот как он правильно называется, вспомнил Ион), вытащил зеленоватую бутылку, стакан…
— Ты тут бухаешь? — изумился Ион.
— Да, бывает, — улыбнулся Мюллер странной улыбкой. — Я однажды заметил, что если перед вскрытием не выпить за успех, потом целый день поносом маешься, а если выпить — то не маешься.
— Странно, — сказал Ион. — Какому богу может быть угоден такой ритуальный жест?
— Вот и я тоже диву даюсь, — кивнул Мюллер. — Что особенно интересно, жест именно ритуальный, и именно такой. Никакие молитвы не помогают. Хоть до посинения обмолись, все равно пока зелена вина не выпьешь, от поноса не избавишься. И если пить не зеленое вино, а красное либо белое — тоже не избавишься. И пиво не работает. Странно, правда?
— Угу, — подтвердил Ион.
А потом посмотрел на перепачканную в кровище Лайму, на ее голову, ставшую без мозга немного несимметричной, на ее шальные глаза, и вдруг захохотал. Дико, надрывно, солдаты говорят, так бывает на поле боя — отрубят человеку руку или ногу, а он смотрит на свою рану, хохочет и приговаривает какую-нибудь нелепицу, вот как Ион сейчас приговаривал:
— Странно! Ой, странно! Красное нет, а зеленое да, вот уж странно!
Мюллер обнял Лайму за талию и тихо сказал ей:
— Пойдем наверх, милая.
— А как же он? — спросила Лайма, указав глазами на Иона.
— А его оставим, — сказал Мюллер. — Ему надо успокоиться. Он муж простой, к чудесам непривычный… Пойдем, выпьем по стаканчику для успокоения нервов.
— Нет, — покачала головой Лайма. — Ты мне не поверишь, но я…
— Больще не пьяница? — догадался Мюллер. — Ну почему же не поверю? Птааг — бог правильный, понятия разумеет, пацан сказал, пацан сделал. Обещал, что будет хорошо, и так и стало.
Ион сидел на полу и провожал их взглядом, пока они поднимались. А потом тоже встал и пошел вверх по лестнице, но не в жилые покои, а к наружной двери. И потом в таверну, потому что нужна совершенно невероятная стрессоустойчивость, чтобы после такого не выпить.
3
В год, о котором идет речь, на выпускном курсе медфака учился студент по имени Константин. Был он высок ростом, но некрасив — телом не мускулист, а мосласт, а лицо имел женственное, с круглыми румяными щечками, на которых не росла щетина, да и на подбородке она тоже плохо росла. В движениях Константин был неловок, в беседах с девицами стеснителен, и не отличался выдающимися достоинствами ни в хмельном питии, ни в кулачном бою, ни в азартных играх. Рода Константин был небогатого и не слишком благородного, так что неудивительно, что его так к высокой науке. Некоторые юноши завидовали, что сам Мюллер Премудрый его выделил, взял в ученики, но тут надо не завидовать, а сочувствовать. Будь на месте Константина нормальный юноша, не обделенный обычными талантами, ему бы и в голову не пришло проявлять все те извращенные качества, из-за которых Мюллер взял его в ученики. Заняться хирургией по доброй воле — это какое извращенное сознание надо иметь! Ладно Мюллер, он признанный гений, но Константин-то нет!
Но сам Константин втихмомолку считал себя таким же гением, как Мюллер, даже чуть большим, потому что Мюллеру тридцать пять лет, а Константину только двадцать два, но знаний у них одинаково, а умений у Константина даже побольше. И сам Мюллер иногда это признает, не раз он в сложных операциях доверял Константину делать надрезы и швы, и ученик учителя не подводил. Впрочем, пару раз подводил, но такое со всеми хирургами случается — режешь, режешь, вдруг раз, рука соскользнула и зарезал насмерть. Но в этом нет ничего страшного, главное — не забывать, что на все божья воля, и что всякий исход следует принимать с пониманием и смирением. Но выводы из своих ошибок тоже надо делать. Зарезал одного — несчастный случай, зарезал двоих при сходных обстоятельствах — повод задуматься, что что-то не так.
В последнее время Константина стал волновать один вопрос — почему у него пациенты чаще умирают после операций, чем у Мюллера? И он, и Мюллер и руками все делают одинаково, и богам одинаково молятся, а больные у Мюллера умирают реже. Константин не поленился, завел себе талмудик, стал записывать, кто сколько раз кого оперировал, по какому поводу, как каждый больной выздоравливал, через какое время окончательно выздоровел либо умер. Мюллер когда увидел, стал смеяться, дескать, мне помогает Птааг, а тебе никто не помогает, потому у тебя и помирают чаще, а других причин нет. Константин задумался над этими словами, а потом решил, что Мюллер, похоже, но все равно надо проверить, нет ли здесь какой другой причины. Ведь если верить священным писаниям и народным сказкам, то когда боги кому-то помогают, чаще всего это происходит так, чтобы со стороны казалось, что никакой божьей помощи нет, а есть случайное стечение обстоятельств, которое, конечно, по жизни тоже есть, но не само по себе, а потому, что боги так подстроили. И если понять, какое стечение обстоятельств боги подстраивают Мюллеру и подстроить такое же себе… ничего, скорее всего, не получится, но попробовать можно.
Будь на месте Константина нормальный студент, ему бы и в голову не пришло вмешиваться в божьи дела и тем более пытаться их обмануть, подстраивать какие-то обстоятельства не по тому поводу, по какому надо. Но Константин был не вполне нормален, он относился к богам с гораздо меньшим пиететом, чем принято в образованных слоях общества. В каждом поколении есть небольшая доля людей, склонных к атеизму. Большинство их под влиянием воспитания или жизненных переживаний рано или поздно склоняются к религии, но попадаются и такие, на которых боги, как говорится, махнули рукой. Такой человек подобен плывущему по реке говну — ничего яркого с ним не происходит, но течение мало-помалу размывает очертания личности, стирает индивидуальность, превращает душу в нечто настолько бесформенное, что богам с такой душой возиться даже как-то неприятно. А потом однажды снисходит на человека странное настроение, хочется ему философствовать, оглядывается он по сторонам и вдруг понимает: нет во вселенной богов, не нужна эта гипотеза, чтобы объяснить многообразие мира. Люди, которые поглупее, сразу начинают кричать о своем открытии во всеуслышание, и заканчивают плохо — на ноже фанатика либо на костре. А те, кто поумнее, сначала задумываются, что это открытие и до них, надо полагать, многие делали, но никто вслух не кричал, а почему? И подумав над этим, человек перерастает желание делиться открытием с окружающими, а начинает развиваться, так сказать, вглубь, он теперь изучает вселенную не для хвастовства, а для собственного удовольствия, и важнейшим удовольствием становится познание само по себе, а не сопутствующие ему блага. Вот Мюллер, например, будь он заинтересован в признании, разве стал бы возиться над одним-единственным трактатом столько лет подряд? Порезал бы текст на мелкие кусочки и каждый месяц публиковал бы очередной кусок как отдельный маленький трактатик, славы получилось бы несравнимо больше. А еще можно публиковать один и тот же текст несколько раз под разными названиями, только надо каждый раз чуть-чуть его переделывать, чтобы не было совсем точного совпадения. Но Мюллер так не делает, а почему? Потому что не он гоняется за славой, а слава гоняется за ним. Мюллер — муж истинно благородный, и Константин, когда завершит обучение, тоже станет таким же благородным, как Мюллер… собственно, он уже и есть благородный в хорошем смысле…
Но была в Мюллере одна черта, которая Константина не то чтобы раздражала, но беспокоила. Мюллер был чуть-чуть сумасшедший, не такой, как те, что сидят в дурдоме, но голоса в голове слышал. Правада, не ежедневно, а изредка, как-то он обмолвился, что галлюцинации на него накатывают раз в пять лет, как по расписанию. Симптомы Мюллера не ограничивались голосами в голове, еще ему являлся Птааг во плоти и вел беседы, это плохой признак, но, с другой стороны, если при каждом приходе является только одна галлюцинация, притом каждый раз одна и та же — это хороший признак. Однажды Константин описал господину Иону случай Мюллера с изменениями, чтобы тот не догадался, о ком идет речь, господин Ион спросил:
— А у того человека есть по жизни проблемы из-за психики?
— Не знаю, — растерялся Константин. — Вроде нет.
— Нет проблем — нет болезни, — отрезал господин Ион и пошел дальше по своим делам.
Константин подумал и решил, что господин Ион прав. Если от болезни нет проблем, какая же это болезнь? Каждый человек имеет право самовыражаться и самоудовлетворяться как считает нужным, и пусть его судят боги, не люди. Никогда нельзя исключать на все сто, что галлюцинация Птаага, явившаяся Мюллеру — сам Птааг, пожелавший вдруг пошутить.
Ну да боги с ним, с Птаагом, да простит он невольный каламбур. Речь сейчас не о том. Речь о том, что Константин, похоже, все-таки обнаружил, в чем секрет Мюллера, почему у него так редко помирают больные. И это привело Константина в такой восторг, что с ним не сравнится никакая выпивка и никакая женщина. Константин шел по коридору больницы с горящим взглядом, размахивал талмудиком, а больные и знахари шарахались с его пути. Многие уже знали, к чему приводит такое настроение Мюллерова подмастерья — зажмет в углу, да как начнет излагать научные откровения, бывает до получаса нудит, и черта с два от него отделаешься — хватает за рукав и нудит дальше. Говорят, какая-то рабыня один раз вырывалась от него, вырывалась, и пока они боролись, Константин возбудился, да и изнасиловал несчастную. Потом извинился, но осадочек остался. Но другие говорят, что это глупая байка, а по жизни Константин никого никогда не насиловал ибо застенчив.
Так вот, шел Константин по коридору, и коридор перед ним пустел, словно невидимая сила расталкивала людей с его пути. Только один человек не ушел с пути Константина, это был главврач больницы господин Ион.
Если бы Константин был чуть менее потрясен собственным открытием, он бы сразу заметил, что господин главврач сегодня сам на себя не похож — глаза выпучены, рот раскрыт, а нижняя губа мелко трясется, будто случайно попробовал белены вместо мяты. Но Константин сейчас не замечал ничего.
— Здравствуйте, господин Ион! — поприветствовал он главврача. — Знаете, что я только что обнаружил?
Господин Ион отрицательно помотал головой, а глаза его были пусты, как у дохлой рыбы.
— Я узнал, почему у господина Мюллера одни больные умирают, а другие нет! — провозгласил Константин.
Господин Ион вздрогнул и непроизвольно отодвинулся. Взгляд у господина Иона стал такой, будто Константин только что провозгласил что-то наподобие: «Хочу признаться, я педонекрофил!» или «Давайте возьмем баб и пойдем в храм Иеговы, устроим кощунственный танец вокруг алтаря!»
— Вот, смотрите, — продолжал Константин. — У меня в талмудике записано…
— Тише, — прервал его господин Ион. — Не здесь. Пойдем в мой кабинет.
— А почему не здесь? — удивился Константин. — Впрочем, вам виднее…
Они прошли в кабинет господина Иона и уселись за чайный столик. Константин стал заваривать чай, а Ион вздохнул и неожиданно спросил:
— А ты смог бы сделать вскрытие трупу собственной жены?
— Чего? — не понял Константин.
— Вскрытие, — повторил Ион. — Трупу собственной жены. Смог бы сделать?
— Не знаю, — растерялся Константин. — Откуда мне знать, я не женат… А какое это имеет значение?
— Никакого, — сказал Ион и снова вздохнул. — Так что ты хотел рассказать?
— Я раскрыл секрет, почему у Мюллера одни больные умирают, а другие нет, — напомнил Константин. — Думаете, он продал душу темным богам?
Ион вздрогнул и сделал жест, отгоняющий нечистую силу. Константин про себя улыбнулся — такой почтенный муж, а такой суеверный — смешно.
— Не берусь судить определенно, я не жрец, — продолжал Константин. — Но даже если почтенный господин Мюллер и продал душу темным богам, — от этих слов Ион еще раз вздрогнул, — то к сути вопроса это не имеет отношения. А знаете, что имеет отношение к сути вопроса?
— Не тяни кота за хвост, — посоветовал Ион.
— Не буду, — кивнул Константин. — Дело в следующем. Перед тем, как вырезать какой-нибудь орган живому человеку, господин Мюллер иногда идет в морг и тренируется на трупе, делает ему ту же самую операцию. А иногда нет. И все эти операции господина Мюллера делятся на три группы, именно на три, не на две, это важно. В первую группу входят операции, которые он делает без тренировки, в этой группе помирает каждый четвертый пациент. Во второй группе операции он делает сразу после тренировки, без перерыва, здесь помирают четверо из пяти. А в третьей группе господин Мюллер сначала тренируется, потом обедает, и уже после обеда делает операцию. Так вот, в третьей группе вообще никто пока не помер! Как это объяснить?
— Не знаю, — пожал плечами Ион. — А как, по-твоему?
— Я тоже не знаю, — сказал Константин. — Я думал, вы подскажете. Основная идея, по-моему, очевидна — после тренировки нужно время, чтобы боги помогли субъекту закрепить навык в должной степени… Но разве важно, почему что-то происходит так, а не иначе? Главное то, что оно происходит! Я узнал, как свести смертность при операциях к нулю! Давайте введем правило, чтобы каждый больной доставлял в больницу труп…
— Не напасешься, — хмыкнул Ион.
— Ну, может, не совсем уж каждый, а только желающие, — поправился Константин. — А кстати! Кто сказал, что труп должен быть человеческим? Может, достаточно будет собаку порезать! И не обязательно мертвую! Тут, скорее всего, есть элемент жертвоприношения, боги потому не забирают жизнь пациента, что перед тем они уже как бы забрали жизнь трупа, которому сделали операцию!
— Не сходится, — возразил Ион. — Если все так, должно получаться, что пауза не нужна. Наоборот, резать больного сразу после тренировки должно быть полезнее, чем после перерыва на обед. Чем больше времени проходит после тренировки, тем больше вероятность, что боги отвлекутся или вообще забудут…
— А может, наоборот? — предположил Константин. — Во время тренировки боги напрягаются… нет, все равно не получается. Не понимаю…
— А тут нечего понимать, — отрезал Ион. — Боги на то и боги, что непостижимы. Нечего понимать. Мистические обряды нельзя дробить на части, их нужно рассматривать как единое целое и никак иначе. А ты молодец, что подметил закономерность. Не просто принести труп в жертву, но подождать, пообедать, руки помыть…
— Руки помыть! — внезапно закричал Константин и хлопнул себя по лбу. — Вот в чем дело, господин Ион, как же я сам не догадался! Руки помыть! Перед обедом каждый человек моет руки!
— Ну, положим, не каждый, — заметил Ион.
— Если перед тем резал труп — каждый, — возразил Константин. — И после обеда, скорее всего, тоже помоет. Точно вам говорю, господин Ион, именно в помытии рук собака и зарыта! А боги вообще ни при чем! Может, их и вовсе нет, богов этих!
Господин Ион от этих слов затрясся как в лихорадке и посмотрел на Константина так, будто всерьез ожидал, что того сейчас ударит молния или случится иное вредное чудо. Это было неожиданно, раньше Константин не считал главврача религиозным фанатиком.
— Да вы не бойтесь, господин Ион, — примирительно произнес Константин. — Никто лично не видел, чтобы боги наказывали людей за богохульство, всегда говорят, типа, у одного знакомого был знакомый, которого боги наказали, короче, брехня все это, в наше время чудес не бывает…
Пока Константин произносил эти слова, господин Ион постепенно краснел, и в конце концов взорвался.
— Заткнись пасть, идиот! — заорал он. — Дурак, тупица, полено, осел! Беду накличешь!
— Да точно вам говорю, господин Ион, — продолжал Константин. — Помните, я рассказывал про такие маленькие как бы капельки, которые плавают в грязи во множестве, одни как бы пожирают других, и из окружающей среды всякую дрянь тоже жрут, растут, размножаются…
К этому времени терпение Иона взорвалось повторно.
— Пошел прочь, уродище! — закричал Ион и ударил кулаком по столу, так что в буфете посуда зазвенела. — Чтоб я тебе больше не видел!
Константин не стал спорить с почтенным господином. Встал и пошел прочь. Вышел на крыльцо, постоял, подумал и решительно направился к дому своего учителя. Невежливо являться к профессору без приглашения, но великое открытие — более чем достойный повод. Господин Мюллер сразу все поймет, порадуется за ученика, он же гений, господин Мюллер, а значит, у мный, точно все поймет, не может не понять…
С этими мыслями Константин пересек улицу, поднялся на крыльцо профессорского особняка, вежливо постучал в дверь специальным молотком, не дождался ответа и вошел внутрь. Так повелось, что Мюллеровы рабы испокон веков пренебрегали своей обязанностью встречать гостей, а хозяевам было все равно, так что гостей в доме Мюллера никто не встречал, просто дверь не запирали, типа, входи, кто хочешь. Если бы дом Мюллера был богаче, чем был, так долго не продлилось бы, но Мюллер искал богатств научных, не вещественных, так что пока обходилось.
— Господин Мюллер! — позвал Константин. — Господин Мюллер, вы где?
Из гостиной донеслись неразборчивые голоса. Константин прошел туда и увидел, что в кресле у окна сидит господин Мюллер, совершенно пьяный, а кресле напротив — госпожа Лайма, совершенно трезвая. Странно такое наблюдать — Мюллер пьяный, Лайма трезвая, прямо не верится.
— Заходи, садись, угощайся, — сказал Мюллер.
Снял с полки бокал, наполнил вином, не крепким зеленым, какое обычно пьет гсопожа Лайма, а обычным красным, подвинул Константину. После такого жеста уклониться от угощения было бы совершенным непотребством, так что Константин подвинул стул, куда указано, взял бокал и отхлебнул. А потом отхлебнул еще раз, а потом выпил все залпом.
— Силен парень, — прокомментировала Лайма.
— Наливай еще, — распорядился Мюллер.
Константин взял бутылку, налил хозяину, собрался налить Лайме, но заметил, что перед ней бокал не стоит.
— Ей не надо, — объяснил Мюллер. — Она свое уже выпила.
— Кажется, я понимаю, — неуверенно произнес Константин. — Госпожа Лайма бросает пить, верно?
— Неверно, — покачал головой Мюллер. — Госпожа Лайма бросила пить отныне и навсегда, правда, милая?
— Угу, — подтвердила Лайма.
— А еще она похудела на двадцать фунтов, не замечаешь?
— Ой! — сказал Константин. — И то верно. Извините, сразу не заметил. Мои поздравления, госпожа Лайма. А это за сколько времени?
Они переглянулись и стали хихикать, будто Константин сказал что-то смешное.
— Я не знаю, — сказала Лайма. — Сколько это продлилось?
— Не знаю, — пожал плечами Мюллер. — Я за временем не следил, был напуган.
— А что случилось? — спросил Константин.
Мюллер и Лайма переглянулись. Лайма покачала головой, Мюллер кивнул.
— Неважно, — сказал он. — Зачем пришел?
— Я сделал великое открытие! — заявил Константин. — Помните, я вам показывал в микроскопе маленькие живые капельки? Так, оказывается, именно они вызывают воспаление в ранах! Если помыть руки перед тем, как лезть в рану… да и саму рану, наверное, тоже полезно помыть…
— Думаешь, это Птааг? — невпопад спросила Лайма.
— При чем здесь Птааг? — не понял Константин. — Хотя… Эти капельки — они запросто могут быть тоже божьими твореньями… но я не уверен…
— Может, и Птааг, — ответи Лайме Мюллер. — Он, сука, неисповедимый, его не поймешь. Но я об этом его не просил, я только про тебя просил…
— Ой! — восскликнул Константин. — Госпожа Лайма, у вас рукав испачкался. Позвольте я вытру…
Лайма попыталась отдернуть руку, но недостаточно энергично, Константин успел ухватить ее за рукав.
— Ой, — повторил Константин. — Тут кровь… и слизь какая-то, мозги, что ли… А что у вас случилось?
Лайма вырвалась, вскочила и выбежала из комнаты.
— Пошел прочь, — сказал Мюллер Константину.
— Господин Мюллер! — воскликнул Константин. — Зачем вы так? Я ведь великое открытие сделал! Помните, мы с вами спорили, почему у меня больные мрут чаще, чем у вас? Так я нашел объяснение, боги тут ни при чем! Нормальное материалистическое объяснение…
— Давай лучше выпьем, — перебил его Мюллер. — Наливай.
Константин разлил вино по бокалам, они выпили.
— Ма-те-ри-а-лис-ти-чес-ко-е, — произнес Мюллер по слогам. Засмеялся чему-то своему и добавил: — Да, они такие.
Константину почему-то стало страшно.
— Я, пожалуй, пойду, — сказал он. — Лучше в другой раз.
— Это верно, — согласился Мюллер. — В другой раз точно лучше. Погоди! У тебя жена есть? Нет? А ты представь себе, что есть. Вот, допустим, у тебя есть жена, и, допустим, она умерла. Ты бы стал делать ей вскрытие?
— Не знаю, — растерялся Константин. — Это новомодная логическая задача? Господин Ион только сегодня спрашивал…
После этих слов Мюллер почему-то стал хохотать как сумасшедший.
— Новомодная задача, — повторил он, когда к нему вернулся дар речи. — Ну ты и сказанул! Новомодная, твою мать, ха-ха-ха!
— Я в другой раз зайду, — решительно заявил Константин.
Встал и вышел.
Мюллер проводил его жизнерадостным смехом. Затем крикнул:
— Эй, Лайма! Как думаешь, может человек жить без мозга? Ха-ха-ха!
Из спальни донеслись рыдания.
Мюллер перестал смеяться и пробормотал:
— Что-то я увлекся.
Взял со стола бутылку, отхлебнул из горла, закусил долькой яблока. Некоторое время неподвижно сидел, собираясь с мыслями, затем вздохнул и пошел в спальню успокаивать жену.
4
Они сидели перед камином и молчали. Время от времени Лайма тянулась к столику, куда раньше ставила вино, но сейчас там не было вина, а была чашка чаю. Лайма каждый раз удивлялась этому, хмурилась, испуганно-растерянно улыбалась, вздыхала, Мюллер гладил ее по колену, она вздыхала еще раз, прикрывала глаза и впадала в полудрему. Потом ее рука снова тянулась за вином, и весь цикл повторялся заново.
На очередном повторении Лайма встряхнулась и сказала:
— А помнишь, когда была революция, мы вот так же сидели в этом же самом месте, только у меня на руках Жан дремал, он совсем маленький тогда был. а перед тем Агата водила нас на ту встречу, ты кричал перед толпой про справедливость, а потом мы сидели, как сейчас, а я жаловалась… гм…
— Обещанного три года ждут, — процитировал Мюллер народную пословицу. — А богов, получается, ждут не три года, а пять. Ты только снова квасить не начинай, а то надоест Птаагу тебя спасать, что будем делать?
Лайма вздохнула.
— Прости, милая, — сказал Мюллер и погладил жену по руке. — Нервный я стал и неадекватный. Бывает, сам не понимаю, что говорю. Знаешь, как было страшно, когда ты умерла?
— Вот уж не знаю, — сказала Лайма и нервно хихикнула. — Даже думать боюсь. А я точно была мертвая?
Мюллер открыл рот, чтобы ответить, но Лайма приложила ладонь к его губам и быстро сказала:
— Нет-нет, не отвечай, не надо! Пока слово не сказано… Ты тогда говорил, реальность только в глазах смотрящего, другой реальности нет. И кого ни возьми, любой может оказаться не настоящим человеком, а имитацией, чтобы другие… ну, ты помнишь… Я тогда не поняла, а теперь начинаю понимать, кто из нас настоящий, а кто нет…
— Вот только не делай поспешных выводов, — сказал Мюллер. — То, что произошло, еще не означает…
— Сам выводов не делай! — перебила его Лайма. — Если это не означает, то что означает тогда? Я ведь мертвая была! Ты мне скажи, человек без мозга мыслить может?
— С божьей помощью человек все может, — сказал Мюллер.
Лайма поморщилась и воскликнула:
— Давай только без демагогии! Ты не на встрече революционеров! Это же уму непостижимо! Если мой мозг заспиртован у тебя в банке, тогда что у меня в башке?
— Не знаю, — пожал плечами Мюллер. — А ты уверена, что хочешь знать ответ?
Лайма протянула руку за стаканом, тронула чашку с чаем, удивленно подняла брови, затем вздохнула.
— Твой мозг — не самое странное в мире, — сказал Мюллер. — Ты никогда не задумывалась над странностями истории нашей Родины?
— Нет, — покачала головой Лайма. — А что там странного?
— Империя существует много тысячелетий, — сказал Мюллер. — И большую часть этого времени ничего не происходило. Императоры сменяли один другого, набегали степняки и пираты, восставали провинции, но принципиально нового ничего не происходило. А лет тридцать назад оно начало происходить. Вечный мир со степняками — раз, пиратское гнездо прямо в Палеополисе — два, колонизация заморских владений — три, революция — четыре.
— Растаманок забыл, — вставила Лайма.
— Растаманок не забыл, — возразил Мюллер. — Они не принципиально новые, раньше похожих ересей было полно. И волшебство творили, и конец света пророчили…
— Думаешь, пророчество про Омена ложное? — спросила Лайма. — Все сходится…
Мюллер вздохнул и некоторое время молчал. Затем сказал:
— Ты права, сходится. И знаешь, что меня больше всего беспокоит? Две вещи. Во-первых, все то, что я перечислил, происходило через равные интервалы времени — через пять лет.
— А вот и нет! — возразила Лайма. — От плавания «Джунфлавера» до революции прошло лет десять или даже одиннадцать.
— А это вторая вещь, которая меня беспокоит, — сказал Мюллер. — Каждые пять лет в моей жизни случается какое-то потрясение, я молюсь Птаагу, и тогда в моей жизни происходит чудо и все это сопровождается каким-нибудь потрясением в империи. И всегда одно привязано к другому. Накануне последнего набега степняков я был в Роксфорде.
— Ух ты! — воскликнула Лайма. — Как тебе повезло! Погоди… Ты же совсем маленький тогда был…
— Пять лет, — кивнул Мюллер. — Тогда я помолился Птаагу в первый раз.
— Чтобы он спас тебя от набега? — спросила Лайма.
— Не совсем, — покачал головой Мюллер. — Все было сложнее, но получилось именно так, как ты говоришь. Он действительно спас меня, но иногда мне кажется, что набег степняков тоже устроил он. Чтобы прикрыть мое бегство из Роксфорда.
— Как прикрыть? — не поняла Лайма. — От чего?
— Не бери в голову, — махнул рукой Мюллер. — Долго объяснять, да и не нужно. Наверное, ты права, у меня бред, мания величия. Каждому хочется верить в свою исключительность и все такое прочее… Но ты была мертва! Твой мозг заспиртован в банке! Это чудо, его нельзя игнорировать! И раз оно совершилось по моей мольбе, значит, я избран Птаагом! Для чего?
Лайма ничего не ответила на этот вопрос, только вздохнула.
— Вот именно, — кивнул Мюллер. — Если я избран для чего-то другого, зачем Птааг наслал на Палеополис растаманскую ересь с пророчеством про Омена? Если верить твоим бывшим подругам, миру осталось стоять пять лет. Следующее чудо станет последним.
— А что потом? — тихо спросила Лайма.
— Ничего, — пожал плечами Мюллер. — Времени не будет, и ничего другого тоже не булет. Конец света.
Лайма протянула руку, тронула чашку с чаем, вздрогнула, некоторое время неподвижно сидела, затем спросила:
— А зачем нужна я? Только чтобы донести пророчество до тебя?
— Думаю, не только, — сказал Мюллер. — Тот самый длинный период в одиннадцать лет, знаешь, какое чудо было посреди него?
— Какое? — спросила Лайма.
— Шу, — ответил Мюллер. — Помнишь этого урода? Мы его однажды обкидали навозом, из-за забора, Руби сидела снаружи, корректировала прицел… Помнишь?
— Не уверена, — сказала Лайма. — Что-то такое припоминаю, но очень смутно… А это разве не сон был?
— А сейчас разве не сон? — ответил ей Мюллер.
Лайма протянула руку, коснулась чашки, вздрогнула.
— Если это сон, то пора проснуться, — сказала Лайма. — Я так устала…
— Не теперь, — мягко сказал Мюллер. — По пророчеству все случится через пять лет. Я тоже устал, но придется потерпеть.
— Дети, — сказала Лайма. — Анжи будет четырнадцать, Жану одиннадцать. Что с ними станет?
— Думаю, ничего, — сказал Мюллер. — Конец света, все прекратится, ни с кем ничего не станет. Но я могу ошибаться. Может, я сошел с ума и все чудеса, что я вижу — просто бред?
— И я тоже бред? — спросила Лайма.
— Нет, — сказал Мюллер и притянул Лайму к себе, она положила голову ему на плечо и вздохнула. — Ты моя единственная любовь, ты не бред.
— Да ну, так уж и единственная! — деланно возразила Лайма.
— Так и есть, — серьезно сказал Мюллер. — Я никого не любил, кроме тебя. Так уж вышло. Я никогда не собирался хранить верность, не ставил себе цель стать хорошим семьянином, оно само получилось. Не знаю почему.
— Птааг покровитель семьи среди прочего, — заметила Лайма.
— Да, точно, — кивнул Мюллер. — Может, Птааг потому покровитель семьи, что мне не хочется тебе изменять? А если бы я тебя не любил, Птааг оказался бы покровителем блядства?
— У тебя мания величия, — сказала Лайма. — И вообще, ты меня утомил. Давай лучше выпьем. Ой…
— Пойдем в спальню, — предложил Мюллер. — Натуральные наркотики — самые лучшие.
— Гм, — сказала Лайма. — А ты думаешь…
Мюллер не стал дожидаться, когда она сформулирует вопрос.
— Думаю, — кивнул Мюллер. — Не забывай, сегодня день чудес. Седьмой день чудес в моей жизни. Даст бог, не последний.
— И не предпоследний, — добавила Лайма.
— Даст бог, не предпоследний, — согласился Мюллер.
Но про себя подумал, что это очень сомнительно.
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. ПОСЛЕДНЕЕ ЧУДО
1
В каждом имперском городе есть городская управа. В каждом городе она называется по-своему: где-то ратуша, где-то дума, где-то так и называется — управа, а в стольном граде Палеополисе ее называют древним эзотерическим словом «мэрия». Возглавляет мэрию градоначальник, именуемый «мэр», но он управляет городом не непосредственно, а с помощью тридцати трех советников, из которых каждый отвечает за какую-то одну отрасль городского хозяйства. Лурид, например, отвечает, за отлов преступных элементов, Биголо — за раздачу квот на рыбную ловлю, а Баргельд — за лесное хозяйство в городских окрестностях. А за медицину отвечает некто Ион.
Раньше этот советник был главврачом в больнице Всех Святых в верхнем городе, в той самой, где всю жизнь проработал Мюллер Премудрый, самый знаменитый целитель всех времен и народов. Именно Ион первым заметил в Мюллере гения, выделил талантливого юношу из серой массы рядовых знахарей и создал условия для научной работы. Когда император вручал Мюллеру звезду Паллады, Мюллер произнес краткую речь, и упомянул в этой речи среди прочего, что без Иона никогда бы не стал тем, кем стал. После этого император обратил благосклонное внимание не только на Мюллера, но и на Иона, и придумал для него особую должность советника столичного мэра по медицине, и вроде даже неофициально сказал Иону, что если тот не облажается в масштабах столицы, то потом такая должность появится и в общеимперском правительстве.
Став важным чиновником, Ион стал повсюду надевать официальную мантию, не только в присутственные места, но и в обычной обстановке. Сам он объяснял это так: вдруг меня мэр срочно вызовет, а я не одет. Но многие полагали, что ему просто нравится быть солидным и важным. Телефон, например, у Иона огромный, в пол-ладони, отделанный золотой инкрустацией с орнаментом из самоцветов. А разве станет нормальный человек, не склонный к самолюбованию, повсюду таскать с собой подобное чудо?
О телефонах стоит рассказать подробнее. Эти артефакты вошли в моду совсем недавно, буквально пару лет назад. И это изобретение оказалось настолько удачным, что невозможно поверить, что совсем недавно их не было в природе как класс. Обращаться с телефоном просто: берешь артефакт в руку, мысленно концентрируешься, думаешь о нужном человеке, мысленно произносишь заклинание, и если у того человека есть такой же волшебный артефакт, тот второй телефон начинает как бы вибрировать, испускать особую эманацию, побуждающую хозяина взять его в руку, и тогда между разумами участников устанавливается волшебная связь, и можно обменяться мыслями на любом расстоянии. Субъективно этот мыслеобмен воспринимается как голос в голове, такой же, как у безумцев и святых. Собеседник слышит твои мысли, но не все, а только те, которые ты сознательно хочешь передать и мысленно произносишь про себя, чтобы тот услышал. А если какую-то мысль хочешь скрыть, то он ее и не услышит, и даже не догадается, что она была. Ходят, правда, слухи, что ловкий колдун может в телефонном разговоре вытягивать из разума собеседника в том числе и тайные помыслы, сами колдуны говорят, что это неправда, но кто их знает, может, врут.
Раньше в народе было распространено суеверие, что колдовство — дело плохое, боги его не одобряют, и если этим делом будет заниматься слишком много людей со слишком большим усердием, то произойдет какое-то большое несчастье, чуть ли не конец света. Особенно сильно распространилось это суеверие пятнадцать лет назад, когда столицу наводнили ведьмы-растаманки. Даже император перепугался, велел городской страже принять меры и в итоге состоялась ночь длинных ножей, говорят, в эту ночь вырезали больше тысячи ведьм, скорее всего, преувеличивают, но все же. Раньше люди были дикие, суеверные — ужас! Говорили, будто от ведьминского колдовства вот-вот настанет конец света, целую теорию построили, дескать, явится Омен Разрушитель, примется подтачивать ткань бытия, чем бы они ни была, и через сколько-то там лет придет конец всему. По одной версии, что интересно, конец всему ожидается в этом году, чуть ли не на будущей неделе. И ведь находятся люди, верящие в такой бред! Сколько уже бывало разных пророков, чего они только ни обещали! Народу давно пора привыкнуть к обману, приобрести иммунитет, как говорят ученые-медики. Да куда там…
Слава богам, имперский народ помаленьку цивилизуется, отбрасывает один за другим пережитки прошлого, избавляется от суеверий. Пятнадцать лет назад ведьмам вспарывали животы и сжигали живьем на кострах, а теперь ведьма — нормальная уважаемая профессия. Впрочем, женщин среди них немного, чаще эту профессию выбирают мужчины, а они никакие не ведьмы, а волшебники, а если говорить просторечно — колдуны. Но преследованиям они больше не подвергаются, в каждом городском конце у них своя гильдия, а в управе — особый советник по чародейству и волшебству. И вообще, мир стал добрее и терпимее. Если вспомнить, сколько разных меньшинств раньше преследовали: ведьм и колдунов, пидоров и гомосеков, абстрационистов и экспрессионистов… Дикие были люди, нецивилизованные и нетолерантные. Говорят, в других городах еще сохраняются пережитки прошлого, но это временно. Империя отстает от своей столицы всего лишь на несколько лет. Пройдет совсем немного времени, и по всей стране установится торжество прогресса, справедливости и терпимости. Если только к тому времени не произойдет конца света, ха-ха.
Господин Ион в конец света не верил, но допускал, что в народных опасениях есть рациональное зерно. Во-первых, магия не проверена временем, не изучена в достаточной степени, вдруг она таит жуткие сюрпризы? Помнится, один ученый поместил крыс в заколдованную клетку, а они как начали помирать одна за другой! Ион тогда разволновался, созвал комиссию, попросил Мюллера стать председателем. А в итоге получился пшик, Мюллер расспросил ученого, как тот ухаживал за крысами, и оказалось, что он кормил их каким-то негодным дерьмом, чуть ли не ядовитым, и не удивительно, что крысы дохли. Говорят, что когда Мюллер разобрался в этом деле, он сделал умное лицо и сказал:
— Пожалуй, в любом научном опыте нужно делать особую контрольную группу, которая будет во всем подобна основной группе, кроме сути опыта.
А потом подумал еще немного и добавил:
— Но в опыт по сифилису контрольную группу вводить не буду, а то рабов не напасешься.
Однако не будем отвлекаться на байки, вернемся к основному рассуждению. Помимо непроверенности магии временем, против нее есть еще одно соображение. С тех пор, как император снял запрет с магических практик, в столице сильно выросло количество сумасшедших. Не сказать, что они кишмя кишат, но разница заметна, каждый день встречаешь двух-трех. И это только те, чье безумие очевидно, а сколько скрытых случаев? Ион в прошлом месяце приказал десяти клеркам выйти на улицу, задавать прохожим вопросы и подсчитывать тех, в ответах которых есть признаки безумия. И оказалось, что сумасшедших в Палеополисе неожиданно много, едва ли не каждый сотый житель чокнулся. Никто, конечно, не говорит, что причина безумия кроется конкретно в колдовских практиках, это доказывать надо, но все равно как-то страшновато становится. Особенно когда попадется на глаза совсем конкретный отморозок… вон типа того например! Идет такой важный, серьезный, прохожие только успевают шарахаться. О чем он думал, когда красил штаны в такой цвет? И где такую краску нашел, она, должно быть, дорогая безумно… Можно подойти и спросить, безумцы — они не тупые, они чокнутые, это другое, на простые бытовые вопросы они обычно адекватно отвечают. Но лучше не подходить. А то померещится что-нибудь, как начнет руками размахивать, огрести — только так. Опасным он не выглядит, но все же… Может, лучше на другую сторону перейти? Нет, слишком много чести для придурка.
Сумасшедший приблизился, и Ион понял, что недооценил степень его безумия. Он мало того что покрасил штаны в небесно-голубой цвет, так еще прошил их суровыми нитками, какими моряки прошивают паруса, украсил соединения швов бронзовыми заклепками, а что с туфлями сотворил — вообще уму непостижимо! И где он только нашел такие пигменты, тут краски на десять золотых, не меньше… Странно, что издали не разглядел, сдает зрение, надо при случае спросить Мюллера, не придумал ли тот лекарство от близорукости. Или хотя бы механическое устройство наподобие костылей, но не для ходьбы, а для зрения. Если, например, взять две лупы для чтения и как-нибудь установить каждую перед глазом… Ион однажды попробовал, но видно стало только хуже. Но если установить их как-нибудь иначе, под другим углом, например, или взять какие-нибудь необычные лупы…
Ох! Все-таки стоило перейти на другую сторону. А еще лучше не ходить пешком, а потребовать лошадь, ничего, что идти всего полмили, сказал бы, что не хочу авторитет ронять, ни кто бы и слова поперек не сказал. А теперь объясняйся с этим козлом…
Безумец улыбнулся до ушей и сказал:
— Здравствуйте!
И вытянул перед собой руку, как бы собрался ухватить Иона за что-то невидимое. Намекает на гипертрофированность мужского достоинства собеседника? Если так, то очень затейливая мания, Мюллеру будет интересно…
— Здравствуйте, — отозвался Ион.
— Мой телефон не работает, — сообщил безумец.
— Бывает, — кивнул Ион.
Большинство знахарей-психиатров склоняются к тому, что когда ведешь с сумасшедшим бытовой разговор, и собеседник говорит странное, лучше не противоречить. Это не такое жесткое правило, как не гладить бешеную собаку, если его нарушишь и заспоришь с сумасшедшим, ничего страшного, скорее всего, не произойдет. Но есть небольшой риск, что случайно ткнешь его словом точно в манию, и тогда чинная беседа мгновенно перетекает в безобразную перебранку, а то и в драку. По жизни так редко бывает, но иногда все же случается.
— Товарищ, посмотрите, пожалуйста! — воскликнул безумец. — Вот, глядите!
И вытащил из кармана своих голубых штанов нечто похожее на телефон. Но это был не телефон. Телефон — просто кусок камня, чаще всего полудрагоценного, с наложенным заклинанием. А безумец держал в руке что-то совсем нелепое, не то деревяшку, не то стекло разрисованное, не то смолу застывшую, и вдруг этот нелепый предмет осветился изнутри колдовским светом и отобразил на своей поверхности…
Ион зажмурился и помотал головой, отгоняя наваждение. Затем открыл глаза. Наваждение не исчезло.
— Зачем вы так делаете? — спросил безумец Иона. — Только не убегайте! Кого я ни спрашиваю, все убегают и никто ничего не объясняет! Почему никто не хочет со мной говорить?
Он протянул руку, намереваясь ухватить Иона за рукав, Ион увернулся. Но убегать не стал, ему пришла в голову лучшая идея.
— Пойдемте, товарищ, — сказал Ион. — Я знаю место, где вам все разъяснят.
— А меня выслушают? — настороженно спросил безумец.
— Внимательнейшим образом, — заверил его Ион. — Пойдемте.
Так получилось, что описываемая встреча произошла совсем рядом с больницей Всех Святых, той самой, которой Ион раньше заведовал, а теперь ей заведовал Мюллер, об этом уже говорилось выше. Так вот, Ион давно хотел заглянуть в альма-матер, да все не было повода, а теперь повод появился, так что чего бы не заглянуть? Псих вроде неопасный… хотя приглядывать за ним, конечно, надо.
— Идти далеко? — спросил псих.
— Здесь рядом, — ответил Ион. — Сразу за углом.
— Тогда пойдемте, — согласился псих. И тут же спросил: — А все-таки, почему мой телефон не работает? И почему вы зажмурились, когда я вам его показал?
Знахари-психиатры рекомендуют в таких случаях сохранять спокойствие и стараться не поддерживать предметный разговор, уводить беседу на общие темы либо вообще не отвечать. Но сейчас Ион решил нарушить рекомендацию. Приемный покой в двух шагах, разбушеваться безумец не успеет, а если даже успеет, позвать на помощь можно уже отсюда, так что бояться нечего.
— А почему вы считаете, что ваш телефон должен работать? — спросил Ион психа.
— Здесь семь полосок, — заявил сумасшедший. — Вот, глядите!
Он ткнул пальцем в угол светящегося поля, там действительно светилось несколько горизонтальных полосок, может, и вправду семь, Ион не стал пересчитывать. Знахари не рекомендуют слишком пристально всматриваться в колдовские мороки, от этого зрение портится. Может, Ион потому и стал плохо видеть… хотя не так уж часто он разглядывает мороки…
— Видите семь полосок? — не унимался безумец.
— Да, что-то такое вижу, — не стал возражать Ион. — А почему вы считаете, что ваш телефон должен работать?
Безумец посмотрел на Иона таким взглядом, будто безумен вовсе не он, а совсем наоборот.
— Ну как же! — воскликнул он. — Чем больше полосок, тем сильнее сигнал! Разве непонятно? Да вы издеваетесь!
— Нет-нет, ни в коем случае! — воскликнул Ион. — И в мыслях не имел издеваться! Давайте ускорим шаг.
— Полоски говорят, что сигнал есть, — не унимался безумец. — А сигнала нет! В чем дело?
— Вам сейчас все объяснят, — пообещал Ион. — Вот в том подъезде, там есть специально обученные люди, они очень хорошо умеют объяснять…
— А что там на вывеске написано? — неожиданно спросил безумец. — Хотя нет, сам могу прочесть. Дур-дом. Дурдом. Дурдом?
— Санитары, на помощь! — закричал Ион.
— Ах ты сучара! — закричал псих.
Но напасть на Иона не успел — выскочили санитары, приняли клиента, скрутили, утащили внутрь. Один санитар сказал Иону спасибо. Ион покачал головой и пошел дальше, к административному корпусу.
2
Между больницей всех святых и университетом стоит большой особняк, облицованный серым мрамором и украшенный портиком с колоннами. Здесь живет Мюллер Премудрый, самый великий лекарь всех времен и народов. Говорят, ему повезло, что его дом стоит близко и к больнице, которой он заведует, и к университету, в котором он преподает. Но на самом деле никакой удачи здесь нет и вообще ничего случайного нет. Когда Мюллер был никому не известным юношей, его отец разорился и Мюллер стал искать, где заработать, тогда первым делом он пошел в район, который знал лучше всего, то есть в район университета, а там как раз стоит больница всех святых, и Мюллера сразу взяли на работу, а в других больницах свои услуги просто не успел предложить. Есть, правда, глупая байка, что больница и университет якобы не всегда стояли на своих нынешних местах, а только с тех пор, как Птааг поменял географию верхнего города, а он это сделал не только в настоящем времени, но и на несколько лет назад в прошлое, но не слишком далеко, так что старожилы якобы еще помнят старую географию. Эту байку запустила жена Мюллера Лайма после того, как бросила пить, она тогда страдала от хмельного воздержания и ей в голову лезла всякая чушь. Потом она говорила, что никогда не говорила такого, но это неправда, слишком многие запомнили эти нелепые слова, воистину удивительно, какие бредни порой рождаются в мозгах пьяниц, страдающих от воздержания. Одни воображаемых чертей гоняют, а другие такую ахинею несут, что просто диву даешься!
Говорят, запойному пьянице невозможно избавиться от своей пагубной привычки раз и навсегда, а если уж избавляешься, то в рот нельзя брать ни капли, рюмку выпил — снова пьяница. Лайма стала исключением из этого правила. Только первый год после завязки она совсем не употребляла хмельного, а потом стала помаленьку выпивать по праздникам, друзья и знакомые подумали: теперь точно сопьется, ан нет. До сих пор так и выпивает, хочет — пьет, не хочет — не пьет, будто ни разу в жизни не уходила в долгий запой. Психиатры сначала удивлялись, говорили, что это единственный известный случай за всю историю медицины. А потом перестали удивляться, привыкли.
А еще Лайма похудела. В молодости она была стройной и очень красивой, а потом отожралась и обрюзгла, а как бросила пить — снова похудела. И сразу будто десяток лет с себя сбросила, сорок лет женщине, старуха старухой, а на вид больше тридцати не дашь. Пару раз бывало даже, что выпившие пираты приставали к ней на улице, дескать, пойдем, красотка, повеселимся, для другой женщины это могло плохо кончиться, но Лайма называла имя и возраст, пираты извинялись и уходили. Некоторые брезговали возрастом, но большинство боялись ее мужа, о котором ходили слухи, что он колдун такой страшной силы, что якобы даже заколдовал самого Птаага Милосердного, так что стоит Мюллеру щелкнуть пальцами, как откуда ни возьмись является Птааг, Мюллер ему приказывает, и Птааг все исполняет, что Мюллер приказал.
Бросив пить, Лайма стала религиозной, завела привычку ходить в храм чуть ли не каждый день, а раньше светлых богов ни в грош ни ставила, одно время даже примкнула к ведьмам-растаманкам, которые поклонялись Рьяку Темному и призывали конец света. Но это продлилось недолго, Лайма вовремя одумалась, не успела погубить душу, и в ночь длинных ножей не понесла иного ущерба, кроме морального. Кое-кто, правда, говорит, что душу она все же погубила, а оправдали ее только потому, что ее чистоту засвидетельствовал лично Мюллер, а она перед тем у него купила жизнь и свободу тем способом, каким падшие женщины покупают себе все необходимое. А потом неискупленный грех стал тяготить душу, а покаяться перед светлыми богами Лайма постеснялась и оттого начала пить. В конце концов кто-то из светлых богов смилостивился над тупой овцой и устроил чудо — Лайма исцелилась от пьянства, раскаялась в грехах и стала примерной такой богобоязненной тетушкой. А еще говорят, что это чудо устроил конкретно Птааг, и не по собственному желанию, а потому что Мюллер его заколдовал, но это полный бред, ни в какие ворота не лезет. Здравомыслящие люди в эту дикую историю не верят, но слух такой ходит, и небольшая доля правды в нем есть, какое-то божье чудо с Мюллером и Лаймой точно случилось. Потому что Лайма в первые недели своей трезвой жизни при каждом упоминании Птаага прикольно дергалась, и при слове «чудо» тоже дергалась, это неспроста.
Некоторые говорят, что чудесное избавление Лаймы от винной зависимости — никакое не чудо, а побочный эффект редкой душевной болезни. А то, что психиатры отрицают, что Лайма сумасшедшая, так это оттого, что ее муж — главврач больницы, а чтобы подозревать жену главврача в безумии, надо самому быть немного сумасшедшим. Но сами психиатры говорят иначе, они говорят, что если душевная странность не мешает жить, то это никакая не болезнь, а всего лишь особенность личности, мало ли у кого какие особенности, даже у светлых богов они есть, а у людей тем более. А мерить, у кого сколько странностей и что есть норма — дело божье, не человеческое. А по-человечески все просто: нет проблем — нет болезни, а есть пограничное состояние как максимум. Если человек не бегает голым по городу, не бросается с ножом на людей и не нарушает общественный порядок, пусть верит во что хочет, это его дело.
Госпожа Лайма имела оригинальную теорию насчет того, как Птааг избавил ее от пьянства. Она считала, что привычка к вину сосредоточена в одном из двух мозговых полушарий, Птааг ей это полушарие удалил, и с тех пор она стала здоровая и трезвая. При этом удалял больное полушарие Птааг руками Мюллера — наслал на Лайму иллюзию смерти, Мюллер поверил, что жена умерла, стал делать вскрытие, а когда поврежденная часть мозга оказалась в тазике, Птааг сотворил чудо и восстановил Лаймино тело заново. Внутренности, которые Мюллер успел удалить из супруги, сами собой впрыгнули обратно в тело, все разрезы в мгновение ока заросли, мышцы, сухожилия и все прочее срослось как было, а вместо свода черепа, про который Мюллер с Птаагом забыли, под скальпом выросли новые кости. Старый свод Лайминого черепа Мюллер приспособил было под плевательницу, но Лайма увидела и обиделась, и он его выбросил.
Эту историю Лайма рассказала двум психиатрам: господину Сурику и господину Элвису. Господин Сурик ничего определенного Лайме не сказал, а Мюллеру сказал, чтобы тот не давал жене трогать острые предметы, ибо безумие не за горами, предвестники налицо и до полной невменяемости ждать осталось недолго. А господин Элвис сказал, что одна-единственная бредовая конструкция, да еще ничем не отягощенная, внимания не заслуживает и в лечении не нуждается. Надо только каждый вечер заваривать и выпивать стакан конопляного экстракта вот по этому рецепту.
— Если каждый день употреблять коноплю, разве это поможет? — удивился Мюллер.
— Нет, — ответил Элвис. — Но это приятно.
Однажды какие-то проходимцы привезли в Палеополис керамический кинжал, которым Митра якобы зарезал того самого быка, рядом с которым его везде изображают. Образованные и здравомыслящие граждане поначалу только смеялись над глупым суеверием — это ж каким тупым надо быть, чтобы всерьез поверить, что керамический кинжал мог сохраниться столько лет, не сломавшись! А знаменитый историк господин Рух на вечеринке в императорской гостиной заявил во всеуслышание, что во времена Митры керамические кинжалы делать еще не умели. Но на следующий день стало не до смеха. Все столичное простонародье реально поверило, что это тот самый кинжал, и на площади перед храмом, где его выставили, собралась толпа, была жуткая давка, больше сотни трупов, короче, ужас. На третий день на место трагедии явился первосвященник и произнес проповедь, что вчерашняя давка — вовсе не отсев идиотов из городской популяции, а проявление горячей веры, и те несчастные, которых вчера затоптали, сегодня уже в раю. А когда первосвященник закончил, откуда ни возьмись появились двадцать высоких чиновников и двадцать деятелей культуры, их провели к кинжалу без очереди и дали помолиться каждому по минуте. Но на самом деле деятелей культуры было не двадцать, а девятнадцать, двадцатой была Лайма — приглашали Мюллера, но тот отказался, а Лайма обрадовалась и пошла вместо него. И потом была счастлива, как кошка, поевшая сметаны.
Однако достаточно о Лайме, поговорим о Мюллере. Как уже упоминалось, он теперь заведует больницей Всех Святых, той самой, в которой начинал свою карьеру. Великий трактат, на который Мюллер потратил больше десяти лет, дописан до конца, многократно переписан и перепечатан на новомодном книгопечатном станке. Говорят, его перевели на далалайский язык, но это ерунда, все знают, что обитатели архипелага поголовно тупые, а зачем тупому человеку читать медицинский трактат? Разве что как снотворное. Зато в империи каждый уважающий себя знахарь держит на книжной полке экземпляр Мюллерова трактата, а если кому книга не по средствам, тот заказывает имитацию из обшитого кожей деревянного бруска. Потому что знахарь, у кого на полке великого трактата нет — совсем конченый неудачник, к такому ни один дурак не пойдет лечиться. А в нижнем городе появилось поверье, что книга Мюллера обладает целебной силой, и если приложить ее к больному месту, это помогает без всякого камлания, и если даже приложить не саму книгу, а ее имитацию, это тоже помогает, хотя и с меньшей вероятностью. Последнее объясняется просто — боги ленивы, им не всегда хочется вникать в подробности дела, достоверно выяснять, настоящий ли священный предмет использован или подделка. Есть вероятность, что в каком-то конкретном случае бог всерьез заинтересуется этим вопросом, но не так уж и велика эта вероятность.
На личности Мюллера великая слава почти не отразилась. Обычный человек, когда достигает подобного успеха, становится чванливым и высокомерным, но Мюллеру, казалось, не было никакого дела до социального статуса. Обычный человек в торжественные дни нацепляет все дозволенные украшения, а Мюллер не носил ни перстни, ни золотую шейную цепь, ни шелковый галстук, а его камзол подошел бы обычному рядовому знахарю, но никак не светилу медицинской науки. Однажды кто-то спросил его, почему он допускает непотребство в одежде, а Мюллер ответил:
— Так это прикольно! Все вокруг в кружевах, бриллиантах, а я оборванец оборванцем, а обращаются почтительно, сразу видно — великий ученый.
Подобно Лайме, у Мюллера тоже была мания, но другая, направленная не в прошлое, а в будущее — он был убежден, что скоро наступит конец света. Это убеждение Мюллер держал при себе, ни с кем не делился им, только изредка оно прорывалось в разговоре, и поведение Мюллера в такие моменты не соответствовало его мрачной убежденности, особенно если учесть, что религиозным он не был, и ни в посмертное воздаяние, ни в реинкарнацию не верил. Если кто твердо уверовал в конец света, с таким человеком происходит одно из двух — либо ныряет с головой в запой, разгул и наркоманию, либо, наоборот, раздает имущество бедным и начинает молиться и поститься, пока не помрет от недоедания и нервного истощения. А Мюллеру было как будто без разницы, стоит мир на месте или уже вовсю уничтожается. Многие студенты думали, что профессор Мюллер так шутит, а то, что шутка кажется несмешной — это оттого, что ее не поняли, и это неудивительно — Мюллер вон какой умный. Но на самом деле Мюллер не шутил. Он выглядел равнодушным не из-за бесстрастия, а по другой причине — о грядущем конце света он знал давно и уже привык, что так будет. Но другие не знали, что он знает давно.
Из пятнадцати лет, отведенных Омену Разрушителю пророчеством, прошло четырнадцать с половиной. Это, однако, не означает, что мир простоит еще полгода, Мюллер давно понял, что пятилетний интервал между сверхъестественными событиями соблюдается не в точности, а приблизительно, будто Птааг тычет пальцем в воображаемую временную ось, старается попадать через каждые пять лет, но если промахнется на месяц-другой — ничего страшного, и так сойдет. Впрочем, почему «будто»? Так он и делает, не зря его зовут властелином времени, ничего удивительного тут нет. Удивительно другое — почему он так охотно отзывается на молитвы Мюллера? И отзовется ли он еще раз, если попросить отменить или отсрочить конец вселенной? Мюллер надеялся на это, но проверять боялся. Самым вероятным исходом Мюллеру казалось, что Птааг убедит его изменить молитву и попросить, наоборот, ускорить конец света. В классических легендах все пророчества с участием богов в итоге выворачиваются наизнанку, это единственный возможный исход ситуации, когда смертный пытается манипулировать богами. Люди, которым довелось поучаствовать в таких играх, всегда ведут себя как идиоты. Эдип, например, почему не принял обет никого не убивать и не трахать женщин старше себя? Иисус почему не запретил себе посещать Иерусалим? Один почему не придушил Локи в младенчестве? Раньше Мюллер не понимал, почему людям (да и богам тоже) выпадает такая незавидная доля, а теперь понял. Потому что Птааг — властелин времени. Если что-нибудь выходит не по его воле, он всегда может исправить задним числом, будто все изначально было, как ему хотелось. Фактически, Птааг — самый могущественный бог во вселенной, пожелал бы — заставил бы поклоняться себе всех людей до единого, а заодно зверей, птиц и гадов, и очень хорошо, что он такого пока не желает.
В детстве и юности Мюллер не умел предчувствовать встречи с Птаагом, чудеса приходили неожиданно. Но теперь Мюллер кое-чему научился. Кроме даты на календаре, есть и другие признаки, что приближается чудо. Прежде всего, мир становится более четким, глубоким и многогранным. В обычное время человек живет будто в полусне — что-то происходит, чем-то занят, но проходит месяц-другой, оглядываешься назад, а вспомнить нечего. Что-то точно происходило, а что именно — черт его припомнит. Можно попробовать обмануть природу, завести дневник, записывать в него все происходящее, но по жизни так не выходит, рано или поздно про дневник забываешь, и непонятно, отчего так вышло — сам забыл, Птааг подстроил или произошло что-то третье. Поэтому ощущение остроты и глубины, приходящее раз в пять лет, уловить непросто, надо заранее знать, чего ждать. Сейчас Мюллер знал, чего ждать, и знал, что вот-вот дождется, это ощущалось четко, как никогда.
Другой предвестник предстоящего чуда — в мире начинается что-то большое и масштабное, это верный признак, что Птааг только что поменял недавнее прошлое, согнул путь бытия, направил его к предстоящему чуду. Первый за несколько десятилетий набег степняков, первая за два столетия чума, первое с начала времен основание заморских колоний… даже не верится, что и это тоже устроил Птааг, что он перевернул всю историю мира, чтобы только убрать Кима из жизни Мюллера, пока они не перешли от подростковых шалостей к настоящей уголовщине. Или колонизация была предопределена по-любому, а бог просто воспользовался случаем? Или истина посередине?
Все современники признают, что живут в эпоху величайших перемен, какие знала история. На протяжении всего лишь одного поколения мир изменился до неузнаваемости. В детстве Мюллера воины сражались мечами и копьями, потом появились ружья и бронзовые пушки, а теперь пушки делают из стали, а наводят на цель не глазом и даже не зрительной трубой, а с помощью солдата-корректировщика, который сообщает по волшебному телефону, куда попал каждый выстреленный снаряд, в точности как Руби сообщала Киму, Мюллеру и Лайме, когда те швырялись говном в учителя. Может, Птааг подстроил ту историю, чтобы добавить новую страницу в воображаемую книгу военного искусства? Нет, так думать — мания величия, наверняка военные додумались до той же идеи независимо, они не настолько тупые, чтобы не додуматься. Кстати насчет дураков… Может, все эти смутные ощущения — просто предвестники мании? Может, Мюллер — обычный сумасшедший, а Птааг — его бред?
— Привет!
Мюллер вздрогнул, поднял глаза. Нет, это был не Птааг, слава светлым богам и да простят они невольный каламбур. Мюллер улыбнулся и сказал:
— Здравствуй, Ион, рад тебя видеть! Каким судьбами?
Улыбка, мелькнувшая на лице Иона, угасла.
— Все теми же, — сказал он. — Безумцев все больше с каждым днем. Прямо нашествие. Видел последнюю статистику?
«Статистику», мысленно повторил Мюллер. «В моей юности такого слова не знали, а теперь целая наука появилась на пустом месте. Неужели мир способен развиваться с такой скоростью сам по себе, без божьего вмешательства? Не доказательство ли это существования высших сил?»
Ион по-своему интерпретировал выражение лица собеседника.
— Вот и я о том же, — сказал он.
Сел в кресло, вздохнул и продолжил:
— Я подсчитал, что будет дальше, экстраполировал, как говорят математики. Рост получается даже не экспоненциальный, а гиперболический. Знаешь, что это такое?
— Понятия не имею, — пожал плечами Мюллер. — Никогда не понимал математику, особенно высшую.
— Я тебе объясню, — сказал Ион. — Статистика по безумцам считается каждый месяц, и с каждым месяцем их становится все больше.
— Это мягко сказано, — заметил Мюллер. — В последнее время началось что-то совсем невообразимое, ребятам приходится каждому второму отказывать в госпитализации. Год назад мы клали в отделение всех нуждающихся, теперь кладем только опасных, а что будет еще через год, я боюсь даже думать.
— Я тебе объясню, что будет через год, — сказал Ион. — Будет непредсказуемое. График упрется в вертикальную асимптоту. Знаешь, что это такое?
— Конец света? — предположил Мюллер.
— Гм, — сказал Ион и надолго замолчал.
Было видно, что раньше эта мысль не приходила ему в голову.
— Удивительно, — сказал Мюллер. — Никогда бы не подумал, что конец света придет оттого, что мир поработят сумасшедшие. Хотя…
— Что хотя? — спросил Ион.
— Растаманки, — сказал Мюллер. — Помнишь, пятнадцать лет назад была такая ересь среди женщин? Они практиковали зомбирование…
Ион побледнел и прошептал:
— Светлые боги… Неужели…
— Нет, — покачал головой Мюллер. — Я проверял, непохоже. И психиатров спрашивал, они все твердят в один голос, что психи нынче самые обычные, как были раньше, только теперь их больше. Но это не зомби. Обычные сумасшедшие.
— Думаешь, люди сходят с ума просто так? — спросил Ион. — В таком количестве — просто так?
— Не знаю, — пожал плечами Мюллер. — А ты думаешь, дело в телефонах? Я спрашивал магов из университета, они говорят, телефоны ни при чем. Колдовство там вредное, но дозы излучения маленькие, опасности нет. Нет, телефоны точно не при делах.
— А боги? — спросил Ион. — Я на днях почитал про Ктулху…
Мюллер рассмеялся.
— Пробудить Ктулху — это здорово, — сказал он. — У Птаага отличное чувство юмора.
— А при чем тут Птааг? — не понял Ион. — Птааг — он же светлый.
— Птааг — властелин времени, — сказал Мюллер.
— Разве? — удивился Ион. — Ах да, что-то такое припоминаю…
— Вот так оно и работает, — сказал Мюллер. — С точки зрения Птаага, время — просто дополнительное свойство пространства. Птааг меняет состояние вселенной в какой-то точке, а потом перемены распространяются в пространстве и времени. Или наоборот, Птааг ставит преграду, и какую-нибудь конкретную точку изменения обтекают, как вода обтекает опору моста. У меня много раз было, что что-то в стране происходит, а я узнаю только в последний момент…
— Ладно, забей, — прервал его Ион. — Все равно я ничего не понимаю в твоей философии. Но я сюда не понимать пришел, я тебя попросить хочу. Будь добр, помолись Птаагу.
— О чем? — спросил Мюллер.
— Как о чем? — удивился Ион. — О психах, конечно. Чтобы светлый бог остановил безумие. Я тут посчитал, представляешь, каждый сотый гражданин побывал в дурдоме хотя бы раз! А год назад был каждый десятитысячный! Надо ломать тенденцию, а то все с ума сойдем, ты все правильно сказал, конец света грядет!
— Что ты знаешь про конец света? — спросил Мюллер.
— А чего тут знать? — удивился Ион. — Свихнемся все до единого, вот тебе и конец света! Помолись Птаагу, будь добр, чего тебе стоит! Птааг тебя слушается, вон, Лайму оживил по твоему слову, от пьянства избавил, красоту вернул… он же тебе благоволит, надо совсем дураком быть, чтобы такой шанс упускать! Конец-то для всех, и для тебя в том числе тоже! О детях подумай!
Мюллер нахмурился и помрачнел. Ион понял, что нащупал уязвимое место, и надо развивать успех.
— Подумай о детях! — повторил он. — Думаешь, дети твои с ума не сойдут? Сойдут однозначно! И ты сам тоже сойдешь! Тоже примешься полоски на телефоне искать…
— Какие полоски? — не понял Мюллер.
— Да неважно, — отмахнулся Ион. — По дороге к тебе одного встретил, таскает с собой какую-то херню, говорит, что это телефон, а не работает потому, что полосок нет.
— Каких полосок? — повторил вопрос Мюллер.
— А я-то почем знаю? — развел руками Ион. — Хочешь — сходи в приемное, там его как раз принимают. А еще лучше — никуда не ходи, а помолись Птаагу.
— Хорошо, помолюсь, — неожиданно согласился Мюллер. — Как с тобой закончу, сразу помолюсь. Ты пришел только за этим?
Ион просиял лицом, вскочил на ноги, подскочил к Мюллеру, обнял, Мюллер подумал, что сейчас поцелует, но обошлось.
— Какой ты молодец! — воскликнул Ион. — Я всегда в тебя верил, знал, что не подведешь! Все, ухожу, не мешаю! Удачной молитвы!
Дверь закрылась, Мюллер остался один. Его лицо разгладилось, улыбка увяла, фальшивый энтузиазм растаял. Он вдруг подумал, что все предрешено, и чтобы он ни решил сейчас, конец будет по-любому один, и если даже Птааг убедится в полной бесперспективности своих планов, вернется назад во времени и отменит все, конец света все равно настанет. Нет смысла дергаться и суетиться. Что бы Мюллер сейчас ни предпринял, сегодняшний день по-любому станет последним. Странно, что Птааг выбрал такой необычный сценарий, но про богов не зря говорят, что их пути неисповедимы. А забавно — каких только катаклизмов ни сочиняли пророки, а что мир кончится банальным массовым психозом — такое никому в голову не пришло. А изящное решение, не придется думать, как воспримут конец бытия непосредственные свидетели. Большинство теологов полагают, что в финале вселенной боги уничтожат всех людей физически, а Птааг, видать, гуманист, решил обойтись без крайних мер. И действительно, незачем их убивать, если все дружно пойдут искать полоски на телефоне, как тот дурень, про которого говорил Ион…
Внезапно Мюллер понял, что Ион не просто так говорил про того дурня. В день чудес ничто не происходит просто так. Ну и слава богам. По крайней мере, стало понятно, как все закончится.
3
— Где он? — спросил Мюллер дежурного знахаря.
Сегодня дежурил молодой и румяный белобрысый парнишка, Мюллер смутно припомнил, что учил его на медфаке несколько лет назад. Но имя забыл напрочь, память на имена у Мюллера никакая. Птаагу в этом смысле повезло, ему почти не приходится переписывать имена, когда он переписываеи историю. А может, везение ни при чем, может, Птааг, наоборот, подправил память Мюллеру, чтобы потом не утруждаться?
— Кто, господин Мюллер? — спросил парнишка.
Мюллер посмотрел на него недоуменно.
— Я, — сказал Мюллер. — Господин Мюллер — это я. А что?
— Я не о том, господин Мюллер, — смутился парень. — Я хотел спросить, о ком вы спрашиваете?
— Ах да, — сказал Мюллер: — О ком спрашиваю… Тут был один сумасшедший, мужчина, его Ион привел прямо в приемное… у него что-то не так с телефоном было…
— Я понял, о ком вы! — радостно воскликнул знахарь. — Он на телефоне какие-то полоски не мог найти и расстраивался. Сейчас позову в смотровую.
— В смотровую не надо, — сказал Мюллер. — Я лучше прямо в палату пройду. Он в буйном или в тихом?
— В тихом, — ответил дежурный. — Пойдемте, я вас провожу.
— Я помню дорогу, — скзаал Мюллер. — Просто назови номер палаты.
— Тринадцать.
— Тринадцать, — повторил Мюллер и направился к лестнице на второй этаж.
Почему-то Мюллеру подумалось, что тринадцать — число несчастливое. А потом он подумал, почему именно тринадцать, и почему несчастливое, и как вообще число может быть счастливым или несчастливым, это каким идиотом надо быть, чтобы всерьез приписывать числу способность приносить удачу либо неудачу. Это все неспроста. Раньше Мюллер не думал, что суеверие может быть связано с числом, ему и в голову не приходило, что такие суеверия бывают, но теперь… Теперь он чувствовал приближение перемен остро как никогда. Прямо сейчас Птааг выглядывает из-за грани мира, искривляет пути вселенной, придает ткани бытия новые свойства, переставляет фишки на игровой доске, создает новые правила и отменяет старые…
Или нет? Предположим на минуту, что из всего происходящего реально только одно — Мюллер в дурдоме. Не зашел с коротким визитом по какой-то нелепой причине, которую и сам не вполне понимает, а находится здесь как пациент. Мания величия, нормальный такой псих в маниакальной фазе, мерещится ему, что великий медик, это немного странно, чаще безумцы воображают себя королями или пророками, но бывает и более нелепый бред, вот, помнится, одному мерещилось, что он громадная черепаха, на спине которой стоит мир, но не тот, в котором все живут, а другой, так тот бред был намного удивительнее, чем возомнить себя великим знахарем. А еще была женщина, с березами разговаривала, а мертвые души, заточенные в стволах, ей отвечали… Но достаточно отвлекаться, вернемся к исходному вопросу. Версия первая — Мюллер великий медик, каждые пять лет беседует с Птаагом, а тот по его просьбе творит чудеса, вон, однажды жену оживил и избавил от пьянства… И версия вторая — Мюллер заперт в психическом отделении в палате с решетками… нет, без решеток, он же не буйный… неважно… Так какая версия вероятнее? Господи… Нет-нет, стоять! Чуть было не помолился, а это нельзя, потом сам не заметишь, как все выйдет из-под контроля. Но если верна вторая альтернатива… а верна скорее всего она… Тогда от молитвы не должно быть ничего страшного… Но если верна первая?
— Господин Мюллер, с вами все в порядке? — спросил женский голос.
Мюллер вздрогнул и обернулся. Молодая рабыня подай-принеси, светлокожая, из долговых, не из черножопых, в больнице этих девчонок называют сестрами милосердия, дурацкое прозвище, непонятно, откуда взялось…
— Да, все в порядке, — услышал Мюллер собственный голос. — Задумался. Подскажи мне, подруга, у вас тут недавно одного психа приняли… у него что-то с телефоном было неправильно…
— А, этот, — улыбнулась рабыня. — Его господин Ион лично привел. Пойдемте, провожу.
Она провела Мюллера в тихое отделение, в предпоследнюю палату по левой стороне, с номером тринадцать на двери. Мюллер вошел внутрь и удивился. Он был уверен, что попадет в просторную горницу о трех окнах и шести кроватях, и будет здесь разить безумием так, что хоть топор вешай, обыватели не верят, но есть у безумия свой характерный запах, знающему человеку его ни с чем не перепутать. Будет в палате шестеро больных, и двум будет все равно, третий спрячется под одеяло с головой, четвертый примется бормотать невнятные бредни, пятый станет ему поддакивать и подхихикивать, а шестой, последний, застынет в нелепой позе, как статуя. Сколько Мюллер ни посещал тихое отделение, всегда происходило так, разве что с небольшими вариациями. Но не в этот раз.
Палата была двухместная, а в дальней ее стене была дверь, которая вела, как внезапно понял Мюллер, в туалет новомодной конструкции, с водяным сливом, там еще в той же каморке должен быть душ с горячей и холодной водой. Но почему в палате только один больной, а вторая кровать не занята? Разве бывает такое в наши тяжелые дни?
В коридоре зазвонил колокольчик, рабыня убежала на зов. Больной на кровати открыл глаза и сказал:
— Привет. Быстро ты добрался.
— И тебе привет, — отозвался Мюллер и сел на другую кровать. — А ты кто?
— Сигнет, — сказал псих. Понял по глазам Мюллера, что тот не понял, и пояснил: — Имя такое, на древнем языке означает «лебедь». Большая водоплавающая птица.
— Очень приятно, — сказал Мюллер. — А меня зовут Мюллер, на древнем языке означает «мельник». Это такой вид крестьянина.
— Я знаю, что такое Мюллер, — сказал Сигнет. — Странно, что ты не стал менять имя. Папаша, — он улыбнулся чему-то непонятному, как улыбаются безумцы, когда говорят невпопад, — Семнадцать мгновений любишь, да?
— Чего? — не понял Мюллер.
— Значит, нет, — сказал Сигнет. — Лучше бы назвался как-нибудь нейтрально, Тоби, например…
— Тоби? — переспросил Мюллер. — А что это значит на древнем языке?
— Не знаю, — сказал Сигнет.
Некоторое время они молчали. Затем Мюллер сказал:
— А ты не слишком похож на чокнутого. Зачем ты здесь?
— А я-то откуда знаю? — пожал плечами Сигнет. — Это твой бред, не мой.
— Бред? — переспросил Мюллер.
— Я сказал «мир», — сказал Сигнет. — Твой мир, не мой. А в какой мере это бред, кому лучше знать, как не автору?
Он рассмеялся.
— Ты как бы намекаешь, что я творец мира? — спросил Мюллер. — А почему я?
— А кто, если не ты? — улыбнулся Сигнет.
Мюллер не нашелся, как ответить на этот вопрос. Помолчал, затем спросил:
— А ты точно сумасшедший? Не забавляешься?
— Господин Ион меня сразу определил, с одного взгляда, — ответил Сигнет и снова улыбнулся.
— Господин Ион недостаточно компетентен, — заявил Мюллер. — Науку знает поверхностно, безумие понимает не в медицинском смысле, а в бытовом, о четырех формах безумия, например, вообще понятия не имеет.
— А разве этих форм только четыре? — удивился Сигнет. — А падучая к какой из них относится?
— А какое безумие в падучей? — удивился в свою очередь Мюллер. — Это просто судорога, на мозги не влияет… Хотя погоди… Намекаешь, что сопутствующие особенности — не простое совпадение?
— Я точно не знаю, я не психиатр, — сказал Сигнет.
— А кто? — спросил Мюллер.
— Менеджер, — ответил Сигнет. — Управляющий.
— Чем управляешь? — спросил Мюллер.
— Развлекательным комплексом, — ответил Сигнет. — Ты оплатил восемь дней фантазии с субъективным растяжением на сорок лет. Сегодня последний день. Будешь продлевать или достаточно?
— Гм, — сказал Мюллер. — Допустим, буду.
— Не получится, — сказал Сигнет и ехидно улыбнулся. — Ты оплачивал наличными, не кредиткой. Дополнительное время изнутри оплатить нельзя, а если вывести клиента из фантазии, обратно уже не введешь.
— Почему? — спросил Мюллер.
— Потому, — ответил Сигнет. — Фантазия каждый раз формируется заново, старое сохранить невозможно. В следующий раз плати кредиткой, тогда сможешь продлевать, пока не надоест. Или пока не сдохнешь от нервного истощения. Но это будет не наша вина.
— Оригинальный бред, — констатировал Мюллер. — А ты точно уверен, что я брежу, а не ты?
— Ты не бредишь, ты фантазируешь, — уточнил Сигнет.
— Хрен редьки не толще, — отмахнулся Мюллер. — Значит, я, по-твоему, не сижу в дурдоме на кровати… а что со мной сейчас происходит?
— Лежишь в дурдоме на кровати, — сказал Сигнет. — На голове у тебя особый шлем, он транслирует грезы прямо в голову.
— Шлем волшебный? — уточнил Мюллер.
Почему-то этот вопрос рассмешил Сигнета. Отсмеявшись, он сказал:
— Да, что-то вроде. Высокая технология неотличима от магии… неважно. Короче, продлевать фантазию ты не будешь.
— Это вопрос? — уточнил Мюллер.
— Это утверждение, — заявил Сигнет. — Положено спрашивать, вот я и спросил, а продлевать ты точно не будешь, потому что нельзя. Короче, так. У тебя на завершение дел осталось, — он бросил взгляд на нелепый стеклянно-металлический браслет на запястье, — полчаса. Рекомендую исполнить сокровенное желание.
— Какое желание? — не понял Мюллер.
— Сокровенное, — повторил Сигнет. — Какое конкретно — тебе виднее, оно у каждого свое. Обычно выбирают трахнуть кого-нибудь знаменитого или попробовать наркотик. Почему-то все думают, что в фантазии наркотики безопасны.
— А на самом деле? — спросил Мюллер.
— Мозг тот же самый, — сказал Сигнет.
Мюллер кивнул, как будто все понял. Хотя интуитивно понятно… нет, непонятно. Ну и ладно.
— Кто такой Птааг? — спросил Мюллер.
— А я откуда знаю? — пожал плечами Сигнет. — Это твоя фантазия, не моя.
— Птааг — светлый бог, — стал объяснять Мюллер. — Раз в пять лет он отвечает на одну мою молитву…
Сигнет неожиданно рассмеялся.
— А у тебя губа не дура! — сказал он. — Это ж надо так проинтерпретировать — светлый бог, ха-ха-ха! А о чем ты его просишь?
— Ну… о разном… — растерялся Мюллер.
— В последний раз о чем просил? — не унимался Сигнет.
— В последний раз… — Мюллер напряг память. — Ах да. У меня жена умерла, Птааг ее воскресил, вылечил и заодно избавил от пьянства.
Последние слова почему-то сильно восхитили Сигнета.
— Ну ты даешь! — воскликнул он. — Правильно, так им и надо! Пусть лохи балуются сексом и наркотиками, а ты властелин жизни и смерти! Расскажу ребятам, не поверят!
— Ты говоришь, будто знаешь, кто такой Птааг и почему он мне помогает, — сказал Мюллер.
Сигнет посмотрел на него, как на дурачка, и сказал:
— Птааг — ты сам. Твоя главная шизоидная компонента. Фантазия — она как шизофрения, только прет не напрямую, а через внешний думатель, а он параноические эффекты умножает и отчасти направляет. Вот дети, например, выдумывают себе воображаемых друзей…
— Я видел Птаага ясно, как тебя! — перебил его Мюллер. — Он не воображаемый!
— Видел — это ненормально, обычно у них только голоса слышны, — сказал Сигнет. — Когда вернешься в реальность, сходи к психиатру. Размах фантазии у тебя великоват, лучше заранее провериться, до манифестации.
— А что будет, если я прикажу Птаагу тебя прогнать? — спросил Мюллер. — Или вообще убить?
— Все нормально, вначале все злятся, — невпопад сказал Сигнет. — Потом начинают отрицать, потом торговаться, потом что-то еще, не помню…
Мюллер положил руку на рукоять церемониального кинжала в ножнах на поясе. В глазах Сигнета появился испуг.
— Эй, ты чего? — воскликнул он. — Это не сработает, в реальности ничего не будет, только больно и страшно…
— Больно и страшно — это хорошо, — кивнул Мюллер и вытащил кинжал.
— Ты что, совсем тупой?! — завопил Сигнет. — Ты в своей фантазии стал богом! Ты что угодно можешь пожелать, все исполнится! Такое можешь наворотить, а тратишь последние желания…
Мюллер сделал выпад и рассек горло Сигнета от уха до уха. Сигнет захрипел, забулькал и стал захлебываться. Мюллер отступил на шаг, чтобы не забрызгаться (но все равно забрызгался) и рассеянно пробормотал:
— На что хочу, на то и трачу.
Дождался, пока Сигнет перестанет дергаться, подошел, вытер кинжал о простынь, положил рядом с телом, так далекие предки клали в курган вождя убившее его оружие. И вдруг…
— Опаньки, — сказал Мюллер. — Либо меня глючит, либо одно из двух.
Мертвого тела на кровати больше не было, оно исчезло. Это случилось не плавно и постепенно, а мгновенно — только что было и вот уже нет. Прямо на глазах Мюллера. Если верить сказкам, в таких случаях должен послышаться хлопок, когда воздух заполнит пустоту, но никакого хлопка не было, странно. А еще более странно, что личные вещи Сигнета с прикроватной тумбочки исчезли, а кровавое пятно на простыне осталось.
— Надо чего-нибудь пожелать, — сказал Мюллер сам себе. — Чего-нибудь странного. Хочу, чтобы Ион стал черножопым, бу-га-га!
В коридоре послышались шаги. Дверь открылась, в нее просунулась конопатая мордашка давешней рабыни.
— Господин Мюллер, с вами все в порядке? Ой, божечки! Давайте, я перевяжу!
— Это не моя кровь, — сказал Мюллер.
— А чья? — удивилась рабыня-сестренка. — И что вы делаете в пустой палате? Это же тринадцатая.
— Я тут удивляюсь, — сказал Мюллер. — Почему в дурдоме в разгар эпидемии пустует палата?
— Наверное, кого-то выписали час назад, — предположила рабыня. — Давайте, пойдемте, проверим.
— Пойдем, проверим, — согласился Мюллер.
Они прошли на пост, Мюллер открыл журнал учета больных, стал изучать. Девка оказалась права, обоих больных из тринадцатой палаты выписали час назад. А пациент по имени Сигнет в отделение не поступал ни сегодня, ни вчера, ни позавчера. И господин Ион в обозримом прошлом никого лично не приводил. Но кровь на простынях — не галлюцинация, порезов нигде нет ни у Мюллера, ни у сестренки, а кровь свежая, откуда взялась — одним богам известно. Кстати о богах… Может, все-таки вызвать Птаага, попросить объяснить? Но осталось всего полчаса… уже меньше… И что, если Сигнет соврал, и спусковой механизм конца света не определяется по времени, а запускается той самой последней молитвой, как Мюллер думал раньше?
— О, вот ты где! — послышался голос Иона.
Мюллер повернул голову и остолбенел — Ион стал черножопым.
— Что такое? — настороженно спросил Ион. — Мюллер, на тебе лица нет!
— Я схожу с ума, — констатировал Мюллер. — Мне мерещится, что ты черножопый.
Ион улыбнулся.
— Я действительно черножопый, — сказал он. — Родился в диком лесу за южным морем, мальчишкой меня поймали пираты, привезли в Палеополис, подарили мэру как диковинку, стали учить по приколу грамоте и устному счету, а потом вдруг оказалось, что я умнее многих белых. Мэр купил мне место в университете… да ты должен помнить, я же на год раньше тебя учился!
Мюллер вспомнил. Точно, был такой студент, местная достопримечательность, на вид обезьяна обезьяной, но отличник, притом не зубрила, а правильный отличник, по жизни умный, не только за партой. Про него столько разных анекдотов ходило, как такое забыть? Но минуту назад Мюллер точно знал, что ничего подобного не было. Или было?
Нет, Ион точно был белым! И возраст у него был другой, раньше он Мюллеру в отцы годился! Когда он принимал Мюллера на работу, разница в возрасте у них точно была большая, а потом как-то незаметно стала сглаживаться… Боги, это ведь и вправду безумие…
— У меня ложные воспоминания, — констатировал Мюллер. — Я схожу с ума. Меня надо запереть, пока я никого не убил.
— Там в тринадцатой кровь на простынях, — подала голос сестричка. — Свежая.
Ион выглянул в коридор, щелкнул пальцами. Откуда ни возьмись, в комнате появились два охранника с мечами и копьями, тоже черножопые, как хозяин, в национальных трусах до колен не то из перьев, не то из неведомой травы. Стоп! Почему они в комнате? Только что они были на сестринском посту, а он прямо в коридоре, нет тут никакой комнаты…
— Мюллер, будь другом, покажи кинжал, — попросил Ион.
Мюллер вытащил кинжал из ножен, его тут же отобрали, а самому Мюллеру заломили руки за спину и вдвинули мордой в стол, хорошо, что с размаху не приложили, но это не от осторожности, так случайно получилось. Какие они сильные, эти черные твари…
— Смирилку на него и в буйное, — распорядился Ион. — И палата чтоб самая лучшая, великий медик все же! Амбопа, поди, поищи тело.
— Нет никакого тела, — прошипел Мюллер, морщась от боли в вывернутой руке. — Исчезло, пропало черт знает куда, одна кровища осталась.
— Эх, — вздохнул Ион. — Никого не щадит напасть, а ведь какой медик был…
На помощь охранникам подоспели больничные рабы, общими усилиями они затолкали Мюллера в смирительную рубашку. По ходу Мюллер заметил, что белые рабы теперь не проявляют к черножопым товарищам обычного презрения, относятся как к равным, не как в прежние времена. А были ли они вообще, прежние времена?
В поле зрения появился Ион. Кажется, собрался уходить.
— Ион, будь другом, не уходи! — окликнул его Мюллер. — Скажи, заморские колонии как давно основали?
Ион печально покачал головой, поцокал языком.
— Какой медик был, — повторил он. — Вколите ему беладонны, а то бредит. Колонии какие-то придумал…
— Колонии! — закричал Мюллер. — За морем, на больших кораблях с белыми парусами, у корабля три мачты, а то и четыре, паруса белые и прямые, а весел нет! Туда возят преступников, а обратно рабов, а потом рабы однажды закончились…
Он вдруг понял, как Ион воспринимает его монолог, и осекся.
— Совсем плохо с господином Мюллером, — сказал Ион и поцокал языком. — Нет за морями никаких колоний, а есть только край света.
— Какой край света?! — возмутился Мюллер. — Свет не имеет края! Земля круглая, мы живем на поверхности шара! Это легко доказать — когда смотришь на далекий уходящий корабль, сначала пропадает из виду корпус, потом паруса один за другим… Что, не так?
— Ты еще скажи, что солнце ходит по кругу, а не проявляется и гаснет в одной точке неба, — сказал Ион. — Или что существуют холмы выше ста локтей. Или что у свиней нет рогов. Ладно, чего уж там… Беладонну принесли? Так колите, чего ждете!
Чьи-то руки приспустили с Мюллера штаны, затем подштанники. Невидимая рука протерла ягодицу ваткой с винным экстрактом (слава богам, хоть это не изменилось), в мышцу вонзился шприц. Мелькнула мысль: душевные расстройства Мюллер рекомендовал лечить беладонной, а расстройства бывают разные, в том числе взаимно противоположные, и лечить их все одинаково не совсем разумно… хотя что осталось разумного в этом мире? Что-то, наверное, осталось, слава богам, он только что об этом думал… ах да, дезинфекция. Слава богам, богам, богам!
Сердце забилось чаще, голова закружилась, выступил пот.
— Не доставлю вам удовольствия, обойдетесь, — пробормотал Мюллер.
Напрягся, попытался замедлить бешеный стук сердца, но не осилил, все бессмысленно, вот и фигуры уже расплываются, а на обоях начали проявляться чудесные орнаменты, а промеж них морды невиданных зверей… да какого черта…
— Птааг, помоги! — закричал Мюллер во всю глотку.
Отпустило мгновенно. Морды и орнаменты исчезли, искаженное пространство выправилось. Сердце больше не билось как бешеное… оно совсем не билось.
— Я остановил время, — сообщил Птааг.
Мюллер посмотрел в лицо богу и почти не удивился, увидев свое отражение.
— Ты — это я, — констатировал Мюллер.
— Ага, — кивнул Птааг. — Строго говоря, все мы — ты.
— Фантазия, — сказал Мюллер. — Вышла из-под контроля и пошла вразнос. Хорошо, до конца недолго оставалось.
— Это обычное дело, — сказал Птааг. — Когда фантазия схлопывается, граничные условия смещаются, правила искажаются, так специально делают, чтобы подготовить клиента к возвращению в реальность. Чтобы не казалось, что реальный мир — говно.
— А иначе может показаться? — спросил Мюллер.
— Может, — кивнул Птааг. — Если не принять мер. А если меры принять, то тоже может, но с меньшей вероятностью. Ты, кстати, застрахован на большую сумму от смерти и безумия, резервную копию почему-то делать не стал, но это не очень нужно, технология хорошо отработана вероятность осложнений минимальна.
— Откуда ты знаешь все это? — спросил Мюллер. — Если ты — это я, мы должны знать одно и то же.
— Все правильно, память у нас общая, — согласился Птааг. — Но мы смотрим в нее с разных сторон. И еще на тебя влияет внешний думатель, он не до конца отключился, остаточные волны пока идут. Минут пять осталось.
— Это и есть конец света? — спросил Мюллер.
— Типа того, — кивнул Птааг. — Если твою фантазию можно считать светом. В принципе, можно, но с натяжкой.
— Погоди, — сказал Мюллер. — Лайма, дети, Ион, Константин, Ким… мама в богадельне, все это просто детали фантазии? Через пять минут они все исчезнут?
— Кое-что сохранится в твоей памяти, — уточнил Птааг. — При желании можно кого-то переместить в другую фантазию, так иногда делают, но это дорого и не очень честно. Потому что в другой фантазии персонаж станет другим. Никто не умеет вытягивать воспоминания с достаточной точностью, чтобы потом спроецировать тот же образ в другую обстановку. Зато можно на новом месте воспоминание подновить, чтобы оно не противоречило другим данным. Обычно человек ничего не замечает, некоторые умеют недолго сопротивляться, субъективно это видится как галлюцинация, причем невозможно понять, что именно нереально — прошлое или настоящее.
— А что нереально на самом деле? — спросил Мюллер.
— Все, — ответил Птааг. — В реальности ты лежишь на кровати в дурдоме, на голове у тебя шлем, он навевает грезы. Никакой ты не великий медик, а обычный лошара из среднего класса, накопил социального кредита и теперь оттопыриваешься. А может, не лошара, может, нормальный человек, с моей стороны трудно разобрать, плохо видно.
— Погоди, — сказал Мюллер. — У тебя получается, что вся моя жизни — иллюзия. Но тогда сложность иллюзии получается неимоверная, ни одному богу такое не под силу!
— Распространенное заблуждение, — покачал головой Птааг. — Для глупого человека нет разницы между миллионом или миллиардом, ни то, ни другое в голове не укладывается. А человек высокоразвитый подберет подходящий образ для сравнения, и все станет понятно. Так и тебе что одна сотня петабайт, что десять в сотой степени — все едино. А по жизни объем памяти в мозге не так уж и велик, обычный бытовой думатель справляется запросто, если ничем другим не загружать.
— Не верю, — сказал Мюллер. — Весь мир вокруг не может быть придуманным!
— Зря не веришь, — сказал Птааг. — Сам подумай, разве могло человеческое общество пройти такой огромный путь всего за одно поколение? От копий и стрел к пушкам, от первобытных шаманских погремушек к магическим телефонам, да как ни строй модель, все равно не меньше тысячи лет понадобится! А сколько социальных потрясений на твоей памяти случилось! Вначале заморские колонии, ты их, правда, отменил минуту назад, но мы-то помним, что они в предыдущей реальности были, потом растаманская ересь, буржуазная революция на пустом месте, без всяких предпосылок, это вообще немыслимо! Это как если бы… ну, например, одна мировая война, потом вторая, а потом две великие державы балансируют полвека на грани войны, а войны не происходит, а потом одна держава мирно коллапсирует, а войны все равно нет… Или как если бы люди прилетели на луну и увидели бы, что там такая же земля, как везде, только, например, без воздуха и воды, а тяготение в шесть раз меньше…
— Хватит кривляться, — перебил его Мюллер. — Наша история не такая дурная, как твои примеры. И еще одну вещь ты упустил. Я знаю только то, что знаю, для меня история одна, та, что была, другой нет.
— Другая скоро будет, — заметил Птааг. — Ты вот-вот откроешь всю нашу общую память. Блокада держится на одних нейролептиках, это временная мера, так специально делают, чтобы на выходе из фантазии крыша не отъезжала…
— Я не хочу открывать твою память! — закричал Мюллер. — Не хочу убивать мир! Я люблю жену, детей, Иона тоже в каком-то смысле, не хочу, чтобы они стали иллюзиями! Ты сучара, Птааг, гондон штопаный…
— Возвращаются ругательства, хороший признак, — улыбнулся Птааг.
— … уродище мохножопое, — продолжал Мюллер. — Да чтобы ты сам себя… стоп…
Внезапно Мюллер понял, что следует сделать.
— Мы с тобой одной крови, Птааг! — провозгласил он. — Я тоже властелин времени! Хочу вернуть время в самое начало этого мира!
Птааг протяжно свистнул и произнес с восхищением:
— Ну ты даешь!
А потом Птааг исчез, и комната, в которой они провели последние минуты (ничем не примечательная комната без каких-либо особенностей, Мюллер даже не заметил, как и когда она сформировалась), тоже исчезла, а Мюллер понял, что идет по коридору средневекового замка, одет в средневековую одежду, а на руках у него маленький мальчик, завернутый в средневековое одеяло. А в конце коридора стоит коренастая женщина с нелепыми пегими волосами, похожая на матушку Ксю, только меньше, чем та, не такая огромная… понятно, почему…
— Господи, — выдохнула матушка и упала на колени.
Мюллер (или все же Птааг? Нет, пусть будет Мюллер) протянул ей руку, хотел помочь встать, но кулек с ребенком угрожающе накренился, и Мюллер вернул руку обратно. Просто сказал голосом:
— Да на кой черт мне все эти почести… Встань, Ксю, не унижайся.
Она встала, но голову не подняла, смотрела вниз.
— Возьми этого мальчишку, — приказал ей Мюллер. — Воспитай как положено.
Ксю подняла голову и посмотрела Мюллеру в глаза.
— Кто это? — спросила она.
— Я, — ответил Мюллер.
— Омен тоже ты? — спросила Ксю.
— Вроде да, — кивнул Мюллер. — И творец, по-моему, тоже.
Ксю посмотрела на него испытующе, вдохнула, задержала дызание, выдохнула, и наконец решилась.
— В чем смысл жизни? — спросила она.
И сразу чуть-чуть съежилась, как съеживается собака, ожидающая удара, только менее заметно, она все-таки очень храбрая женщина.
— Вот твой смысл, — сказал Мюллер и протянул ей младенца. — Возьми и отдай Ассоли, пусть воспитает как надо.
— Ассоли? — удивилась Ксю. — Есть другие, получше…
— Получше не надо, — прервал ее Мюллер. — Отдай Ассоли.
Ноги подкосились, он пошатнулся и упал на спину. На лице откуда ни возьмись образовалась маска, из открытого рта торчала трубка, другим концом она уходит в легкие… нет, уже не уходит, куда-то рассосалась. Удивительны чудеса твои, господи. Хотя нет, какие тут чудеса? С чего он взял, что это окончательная реальность, а не еще одна фантазия? Или в окончательной реальности магия совсем другая?
— Не магия, а нанотехнология, — сказал Сигнет.
Он встал с табуретки, на которой сидел, стал помогать Мюллеру стянуть маску с лица. Мюллер понял, что голый, а в локтевом сгибе левой руки торчит игла, а в игле трубка, а на другом конце трубки… ах да, капельница с внутривенным питанием, а где стимулирующий шлем?
— Ну как, возвращается память? — спросил Сигнет.
— Да, помаленьку, — ответил Мюллер. — А нехило вштырило!
— Реакция на височную стимуляцию чуть-чуть выходят за грань нормы, — сообщил Сигнет. — В целом это хорошо, удовольствия даже больше, но лучше посетить психиатра, а то мало ли что…
— Мало ли что — это шизофрения? — уточнил Мюллер.
— Скорее эпилепсия, — ответил Сигнет. — Точно не аутизм и не биполярка, они бы давно уже проявились… Ничего страшного я не вижу, признаков психоза нет, но я обязан сообщать о всех выходах за норму, так что не обессудьте. На выходе придется подписаться, что получили предупреждение.
— А если откажусь? — спросил Мюллер.
— Тогда подпишетесь, что отказались подписаться, — не моргнув глазом ответил Сигнет. — А если и это откажетесь, отказ засвидетельствуют три свидетеля, это дает юридическую силу.
— Извините, — сказал Мюллер. — Я не хотел грубить, сам не знаю, что на меня нашло.
— Я не обиделся, все нормально, — заверил его Сигнет. — Бывает, требуют вернуть обратно в фантазию, даже заложников пытаются, один пидор вообще изнасиловать пытался…
— У меня с мышцами что-то не то, — сказал Мюллер. — Какие-то вялые, как после невесомости.
— Это пройдет, — сказал Сигнет. — Перед выходом из фантазии вливают релаксант, чтобы в случае психоза… ну…
— Никого не поубивал чтобы? — подсказал Мюллер.
— Ну да, типа того, — кивнул Сигнет. — Попробуйте встать.
Мюллер спустил ноги с кровати и встал. Вроде не шатает. Сигнет указал на одежду на стуле: трусы странного фасона, хотя нет, не странного, стоило на них один раз взглянуть, как сразу подтянулась старая память, трусы стали обычными, это раньше они казались странными. Интересно, откуда такая фантазия, что мужские трусы должны быть с кружавчиками вдоль резинки? Нет ли тут каких скрытых отклонений? Сказать психиатру или ну его к черту?
Теперь надеть вторые трусы, верхние, они называются шорты, потом майка она же футболка и сандалии. Прикольно, эта одежда не больничная и даже не домашняя, а универсальная. В окончательной реальности платье не разделяется на повседневное и парадно-выходное, тут вообще ни сословий, ни церемоний… а неплохой мир! Лайму бы сюда…
В этот момент Мюллер вспомнил, что в окончательной реальности тоже женат, притом второй раз, с первой женой он развелся семь лет назад. Ее звали Лаймой, она сильно походила на Лайму из фантазии, и у нее тоже был период, когда она разжирела, не так сильно, как Лайма, фантазия на то и фантазия, чтобы все преувеличивать. А вторую жену зовут… дай бог памяти…
— Ну как, милый? — услышал Мюллер и сразу вспомнил, что вторую жену зовут Гретхен, она еврейка из эфиопского колена, но по коже очень светлая, не как кондовые негритянки. Она тоже побывала в фантазии, в роли Лайминой подружки, как ее там звали… Титька, что ли…
— Я тебе снилась? — спросила Гретхен.
— Вроде да, — сказал Мюллер и неуверенно кивнул. — Но точно не помню, все очень смутно. Вроде была одна колдунья, на тебя похожая.
— Трахнул ее? — спросила Гретхен.
Мюллер вспомнил, что в окончательной реальности половую жизнь принято обсуждать без стеснения. И общественные сортиры уже полвека как совместные, любопытно.
— Вроде нет, — сказал Мюллер. — Не помню. Приколись, я Лайме вскрытие делал!
— Чего? — не поняла Гретхен.
— Вскрытие, — повторил Мюллер. — Я там был средневековым доктором, а Лайма была ведьмой, померла от сердечного приступа, я потом ее тело резал скальпелем… Да нет, хороший приход был, просто отличный! Так много интересного, вначале средневековье, такое все из себя кондовое, с мечами, лошадьми, кольчугами, а потом типа капитализм, революция, а я типа гениальный медик…
— Здорово вштырило, — сказала Гретхен. — Ты точно химию не глотал? Жалко, что вместе фантазировать нельзя, а то я бы с удовольствием посмотрела, как оно у тебя.
— В будущем году обещают открыть бета-тест, — подал голос Сигнет. — До четырех клиентов в одной фантазии одновременно. Базовый сценарий — боевая игра с убийствами, но можно вносить индивидуальные изменения…
Гретхен заинтересовалась было, но при последних словах резко потеряла интерес, вся сморщилась, будто лимон случайно укусила.
— Да это будет стоить как Мону Лизу в спальне повесить! — возмутилась она. — Знаю я, сколько вы берете за индивидуальный сценарий… А кстати! — она снова повернулась к мужу. — На продление прямо изнутри они тебя не раскручивали?
— Пытались, — кивнул Мюллер. — Вот этот хрен как раз.
— Так положено, я обязан так делать! — воскликнул Сигнет. — Я знаю, что это как бы… но… меня уволят, если я не предложу…
Мюллер неожиданно рассмеялся.
— Приколись, я ему после этого горло перерезал, — сказал он жене. — Он мне, типа, не желаете ли продлить удовольствие, а я ему хренак ножом по шеяке…
— Было больно и страшно, — насупился Сигнет.
— А ты не спамь, — посоветовала ему Гретхен. — Пойдем, милый, ты вроде уже очухался.
— Пойдем, — согласился Мюллер.
— Не забудьте подписать, что я вам говорил, — бросил им вслед Сигнет.
Они вышли из комнаты, Мюллер сделал два шага и вдруг застыл столбом.
— Что такое? — спросила Гретхен.
— Та комната, — напряженно проговорил Мюллер. — Это была просто комната, без окон, без картин на стенах, без рисунка на обоях. Помнишь, какие там были стулья?
— А какие? — переспросила Гретхен. — Стулья как стулья, чего их помнить?
— Ничего, — кивнул Мюллер. — Знаешь, когда я выходил из фантазии, я заметил, что некоторые вещи строятся как бы по умолчанию, а потом подумаешь о такой вещи, она как бы расцветает новыми красками, прорастает в прошлое, приобретает историю…
— Пойдем-ка к психиатру, — прервала его Гретхен. — Вштырит что надо, станешь, как новенький.
— Меня уже вштырили полчаса назад, — сказал Мюллер. — Там. Так я сюда выпал.
— Отсюда ты никуда не выпадешь, — заверила его Гретхен. — Эта реальность окончательная. И никуда я тебя не отпущу.
Они обнялись и поцеловались.
«Лайма в ее возрасте была красивее и целовалась лучше», подумал Мюллер.
«Надо потом пошутить, что эта реальность не окончательеая», подумала Гретхен. «Как на прошлое первое апреля, когда в доме Кима перекрасили все лампочки в синий цвет, он потом в вену не попадал».
А потом Гретхен подумала, что когда ты внутри хорошей фантазии, отличать ее от реальности трудно даже умному парню, типа Мюллера. И если его заглючит всерьез, что настоящая реальность как бы не настоящая, отличить этот бред от здравых рассуждений невозможно, и если представить себе на минуту… Нет, лучше не представлять, а то так во все что угодно можно поверить. Например, что птица может летать сама по себе, а не только когда пульнешь из рогатки.
Психиатр вштырил Мюллеру какой-то препарат, тот повеселел и к вечеру стал нормальным. Гретхен тоже избавилась от дурных мыслей. Они сидели на балконе, смотрели, как солнце превращается в луну, и наслаждались жизнью.

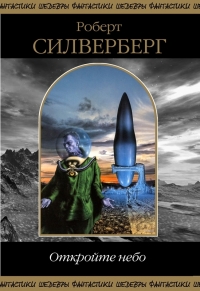

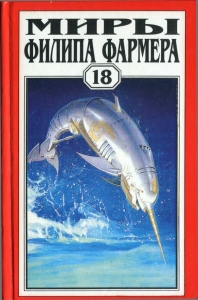
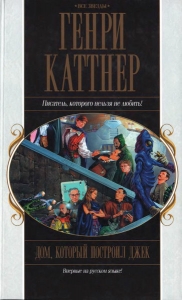


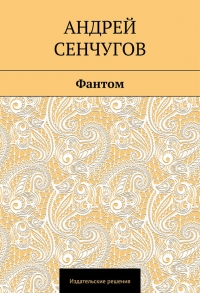
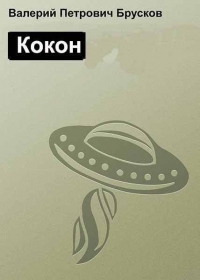
Комментарии к книге «Восемь дней Мюллера», Вадим Геннадьевич Проскурин
Всего 0 комментариев